Меч для кольского щита
 В Основных направлениях развития нашей страны изучение строения, состава и эволюции Земли выделено как одна из важнейших научно-технических программ, в рамках которой планируется бурение серии сверхглубоких скважин.
В Основных направлениях развития нашей страны изучение строения, состава и эволюции Земли выделено как одна из важнейших научно-технических программ, в рамках которой планируется бурение серии сверхглубоких скважин.
Усилиями многих поколении ученых — геофизиков, географов, геологов — человек уверенно опустился на горизонты в несколько километров — там нефть, уголь, руда. И ныне у нас все, кроме, пожалуй, пищи и одежды, от земных глубин.
А что там, глубже? Практика подгоняла любознательность. Тонкая кожура земного «яблока» оказалась не беспредельной по запасам полезных ископаемых. Наконец, там, в глубинах, разгадка причин, быть может, самого страшного по сей день стихийного бедствия — землетрясений... Так формировалась идея сверхглубокого бурения. Практика же начиналась с дискуссий — время ли бурить? Готовы ли мы технически к этому? И если нет — пока «собирать камни» с поверхности и глубин реальных, а о желанных сверхглубинах ограничиться до поры информацией опосредованной, той, что давали методы геофизического зондирования.
То были шестидесятые годы. Время выдающееся в истории цивилизации. Стремительного выхода земной науки в космос. И выхода идеи сверхглубоких скважин из тишины академических кабинетов. Как ни покажется странным, первое ускорило общественное «созревание» второго события.
Мы начали терять счет эпохальным космическим достижениям. Восхищенно умолкали перед фотографиями Венеры и Марса, в земные лаборатории доставлялись лунные камни и метровые керны подповерхностных пород ближайшей соседки Земли, автоматы за десятки миллионов километров сообщали характеристики слагающих планеты веществ. А у нас под ногами через считанные километры начиналось неведомое.
Видный советский геолог В. В. Белоусов писал, что создалось положение, когда далекое космическое пространство оказалось известным в некоторых отношениях даже лучше, чем собственная планета. И чем основательнее мы знакомились с околосолнечным пространством, тем чаще начинали задумываться о загадках и проблемах Земли. Почему она порой столь щедра на богатства, порой скупа? Почему неспокойна? То были вопросы общественно актуальные; и они не могли, разумеется, не ускорить практическое созревание идеи сверхглубоких.
Бурильный бум открыл американский проект «Мохол» в начале 60-х годов. Скважина прошла пять километров у берегов Калифорнии. Затем в Оклахоме заложили «Берту Роджерс». На отметке 9583 метра из-за прорыва расплавленной серы бурение пришлось остановить, и этот результат долгое время оставался рекордным, а для скептиков еще и аргументом в пользу бесполезности самой идеи. Но 6 июня 1979 года этот результат и «аргумент» перечеркнул коллектив рабочих и ученых на Кольской сверхглубокой.
В тот день родился, если применительна к состязанию с природой спортивная терминология, новый мировой рекорд — 9584 метра. И уже более двух лет советская наука и буровая техника торят дорогу в неведомое.
За несколько километров сопки открывают архитектурно безупречную белую громадину вышки, откуда ведется штурм Земли. Она появляется неожиданно в распадке безымянных сопок и в ожерелье таких же безымянных бесчисленных озерков и озер Кольской заполярной тундры. Похожих мест на нашем Севере много.
Это я замечаю вслух. И мой попутчик от Заполярного, где расположилась дирекция сверхглубокой, до самой буровой, ее бессменный начальник Давид Миронович Губерман не без усердия записывает что-то на листе бумаги и протягивает мне. Затем с улыбкой поясняет, что из этих двадцати трех букв состоит название озера, на берегу которого пятнадцать лет назад было окончательно выбрано место для скважины.
— Это я к тому,— добавляет Давид Миронович,— что, по сути, вы правы. Озера эти все близнецы. Букву изменил, а новое такое же. Но геологически выбор места для сверхглубокой вообще и, в частности, для нашей именно здесь, в Печенгском районе Мурманской области, очень важен.
— Об этом стоит сказать подробнее!
— Что ж, историю выбора, пожалуй, можно сравнить с искусно проведенной шахматной партией. Победили не просто знания и расчет. И интуиция, и оправданный риск в принятии решения. Доводы тех, кто стеной стоял за Кольскую, ныне подтвердились по всем статьям.
Научная цель проектов сверхглубоких — как можно ближе подойти к границе раздела гранитного и базальтового слоев в земной коре. Из этой зоны в верхнюю кору поступает рудное вещество. В ней сокрыты ключи к познанию механизма и закономерностей вулканизма и землетрясений.
Гранитный слой отделен от базальтового резкой сейсмической границей — здесь скачкообразно изменяются свойства среды (возрастают скорости сейсмических волн, плотность вещества и т. д.). Эта граница раздела называется границей Конрада, а удалена она от поверхности неравномерно. Под океанами, с учетом толщи воды, подходит к поверхности дна, а на континентах располагается значительно глубже. Наша земная кора большей частью покрыта еще слоем так называемых осадочных пород, геологически самых молодых образований. Но на планете имеются места, лишенные этого покрова. Они наиболее удобны для достижения базальтовых глубин. Таков наш Кольский, точнее, некоторые его районы, где на поверхность выходит древняя кристаллическая кора, под которой, как предполагали ученые, на глубине 1—1,5 километра можно «вскрыть» базальтовый слой. Породы здесь древнейшие, докембрийские, и камешки возрастом в полтора миллиарда лет то и дело попадают под ноги.
Так Кольский щит оказался главным претендентом для будущей отечественной сверхглубокой. Спорным оказался вопрос, где именно на Кольском ставить направленный к центру Земли исследовательский «меч»?
Кола — одно из богатейших мест в мире по запасам минерального сырья. В россыпи его минералов отразилась всеми гранями фантазия природы. В громадной и такой геологически разной нашей стране за годы Советской власти найдено 150 новых видов минералов, и почти половина приходится на Кольский Север. А сколько еще таят Кольские недра! Здесь ценна любая разведочная скважина. Почему бы в таком случае не совместить интересы большой науки с интересами практической геологии? Скажем, выбрать для сверхглубокой район пересечения выхода самых древних архейских пород со знаменитым цветным поясом Ферсмана, в котором обнаружены медно-никелевые руды. А если ошибка и граница с базальтами расположена на недоступной глубине? Потратишь время, силы, но не достигнешь ее — задача-то ведь не поисковая, а фундаментальная!
Непросто было принять окончательное решение. Согласились в конце концов со сторонниками первого предложения — назову лишь две фамилии: академика Владимира Ивановича Смирнова и члена-корреспондента АН СССР Григория Ивановича Горбунова,— и не ошиблись. Поэтому, прежде чем рассказать о чисто научных результатах, упомяну и о другом — о народнохозяйственном аспекте бурения: одной-единственной скважиной на глубине около 1,7 километра удалось «подсечь» значительные месторождения сульфидных медно-никелевых руд.
— Событие это, прямо скажем, редкое,— говорит кандидат геолого-минералогических наук Ю. П. Яковлев.— Именно в нем и проявились точный прогноз и интуиция при выборе места бурения.
Для специалистов главная неожиданность не в этом. А в том, что даже на больших глубинах образование руд, по-видимому, происходит так же, как и в приповерхностных слоях. Такие же процессы наблюдались учеными до глубины семи километров.
С сотрудником Геологического института Кольского филиала АН СССР Ю. Н. Яковлевым я беседовал уже в Апатитах, столице Кольской науки. Местные представители академической школы — одни из активных участников эксперимента на сверхглубокой. Кроме геологов, минералогов, получаемые результаты анализируют и практики-горняки из Кольского филиала АН СССР.
— Истощение месторождений, расположенных практически на всей земной поверхности,— рассказывает кандидат технических наук, сотрудник Горного института Кольского филиала АН СССР Ф. Ф. Горбацевич,— вызывает общую тенденцию понижения разрабатываемого горизонта горных пород. И в этом смысле невозможно переоценить данные, получаемые с нашей сверхглубокой. Сегодня предельные глубины, на которых ведет работы человек, уже перешагнули три с половиной километра. Пока эти работы, опасные и тяжелые (с глубиной растут горное давление, температура, возможны выбросы газов), ведутся на золотодобывающих рудниках Индии и ЮАР, но завтра и другим странам придется идти на эти горизонты. И создать безопасные условия добычи полезных ископаемых на подобных глубинах позволят данные, получаемые на сверхглубокой.
Беседы с местными учеными были позднее, после встреч на буровой. Это уже в Апатитах я почувствовал, сколь практична работа по своим результатам на самой сверхглубокой. А тогда, в первые дни знакомства с нею, жил я в непередаваемом ощущении нереальности виденного. И когда хаживал вдоль длиннющего склада со штабелями бурильных труб. И когда осматривал и поглаживал бесчисленные керны, поднятые с разных глубин. И все силился представить себе, что же там, в глубине?
Вспомнилось, как нас, журналистов, пригласили в Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского АН СССР на осмотр только что вскрытого керна с лунным грунтом, доставленного очередной нашей «Луной». Он лежал на лотке под колпаком в нейтральной атмосфере. Колдовали над ним прямо-таки не геохимики, а «хирурги». Все стерильно, не дай бог, молекула кислорода попадет! Да и к самому защитному колпаку, помнится, подошел, затаив дыхание. А здесь на любой вкус — и по цвету, по рисунку — тысячи кернов с глубин не менее тяжелых. Клад!
Я все это говорю не к тому, что важнее. Разумеется, и то и то. Но еще раз хочется сказать: «Впервые в истории! 9584 метра. Затем 10 тысяч. Сейчас 11 тысяч!» Пожалуй, этот научный подвит не менее значителен, чем подвиг космический.
Бесспорно, сродни камню лунному керны с Кольской сверхглубокой. Особо рады им сами бурильщики. А ученые гордятся надежностью бурильной установки, созданной машиностроителями «Уралмаша». Постепенно начинаешь понимать, почему эти невзрачные на вид, диаметром чуть больше металлического рубля каменные диски, поднятые с недоступных ранее глубин, дороже самого дорогого минерала, пусть и редкого, но сформированного вблизи земной поверхности. В этом одна из принципиальных сложностей для коллектива «измеренцев» — специалистов, обеспечивающих точными измерениями ход эксперимента. Ученым важно знать истинные условия в земных глубинах, и в первую очередь величины давлений, температур, концентрацию газовых фракций, наконец, саму структуру пород в естественном залегании. На поверхности же керн, подобно глубоководной рыбе, безнадежно деформируется внутренним гигантским давлением. И одной из принципиальных удач отечественной измерительной техники можно считать решение этой проблемы.
Измерения непосредственно в ходе бурения обеспечиваются 26 геофизическими и 6 геохимическими методами. У геофизиков измерение непосредственно в условиях естественного залегания обозначается латинским in situ
(Изнутри, в естественном состоянии)
. С просьбой подробно рассказать об этом я обратился к руководителю измерительной программы на Кольской сверхглубокой, генеральному директору объединения Нефтегеофизика Министерства геологии СССР, доктору физико-математических наук Е. В. Карусу.
— Более всего меня поражает тот факт, что с глубиной устойчиво наблюдается... разуплотнение пород. На глубине 4,5 километра приборы зафиксировали скачкообразное уменьшение плотности, скоростей упругих волн в породе, и при этом увеличилась их пористость, проницаемость, неоднородность. Подобная картина отмечена и на границе с древнейшим архейским слоем — 6800 метров. Причем ожидалось, что ниже границы резкого изменения скоростей распространения сейсмических волн, под так называемой поверхностью Конрада, базальт сменит гранит. Ничего подобного. Пока конца гранитному слою не видно.
С глубиной, естественно, растут давление и температура. Изменения последней детально прослежены вплоть до отметки 10,6 километра. Приборы засекли существенно больший, чем ожидалось, градиент (изменение) температуры с глубиной. До трех километров согласно прогнозу она росла на один градус на каждые 100 метров. Глубже — в 2,5 раза интенсивнее. И на глубине 10 километров вместо ожидавшихся 100 градусов датчики зафиксировали 180. Такого рода аномалия для древних кристаллических щитов обнаруживается впервые.
Такая она ныне, земная кора, лишь на глубине первого десятка километров. Температура под 200 градусов и давление в 300 атмосфер! Немудрено, что она считалась до недавнего времени мертвой. Или почти мертвой. При ее возрасте в 2,8 миллиарда лет (такова датировка пород на глубине в 10781 метр) в ней оказалось много окаменевших остатков живых организмов прошлых эпох...
Уже с первых шагов бурения стало ясно, что возраст совсем не помеха для геохимической жизни земного вещества. Скопления различных газов и потоки вод, циркулирующих по мощным разломам, встречаются почти на каждом пройденном горизонте. Причем эти, так сказать, трещинные воды высокоминерализованы солями брома, йода, тяжелых металлов. А на глубине шесть километров бур буквально «плюхнулся» в родник рассола. В воду, последний раз «видевшую» солнце два миллиарда лет назад! Не та ли это «правода», породившая жизнь? Ответить однозначно пока трудно. Но вот другой, не менее поразительный факт. Известно, что древнюю землю Колы сложили извержения мощного и длительного по действию вулкана. Так вот, оказалось, что сами эти наслоения не только вулканической, но и... морской природы. В них обнаружены микроорганизмы, существовавшие в эпоху протерозоя! Десятки видов, древнейший из которых специалисты датируют возрастом свыше двух миллиардов лет. А ведь до сих пор господствовало мнение, что жизнь на Земле зародилась не ранее 1,5 миллиарда лет назад...
— К нам в руки попал бесценный материал, во многом проясняющий таинственный процесс эволюции живой материи на планете,— комментирует это открытие доктор геолого-минералогических наук Б. В. Тимофеев из Института геологии и геохронологии докембрия АН СССР.— Исследовались керны, поднятые с различных глубин, вплоть до семи километров. Возраст их старше двух миллиардов лет, в них встречаются остатки простейших микроорганизмов — микрофоссилий. Они лишь оболочки, «шкурки» из углерода и азота, известного науке и ныне здравствующего фитопланктона. Но сами оболочки этих первых «жителей» планеты обладают удивительным свойством не подвергаться минерализации, не изменять своей первичной структуры под действием времени, чудовищных давлений, высоких температур. Найдены сотни форм микрофоссилий 24 видов, 12 родов. Естественно, чем глубже древнее заложение, тем проще, беднее сама организация живых существ. Добытые результаты вместе с другими данными последнего времени позволяют уверенно опустить границу начала жизни на Земле «глубже» двух миллиардов лет.
Представим себе... Покрытая вулканическими «порами» планета то в одном, то в другом месте успокаивается от своего огненного безумства, покрывается водной гладью первого «праморя», и тут же в нем зарождается «пражизнь». Оно не успевает набрать силу, как вновь оживают вулканы и хоронят ее. И так раз за разом идет борьба огня и жизни, и ныне эта картина наконец открывается нам.
Прошел по плесу от морей Археозоя.
Постиг вулканов рев и магмы лавопад,
Нашел комки белковых тел в воде Протерозоя,
Отверг ненайденный таинственный Конрад.
Вдохновенно, со знанием дела написана старшим геологом Кольской геологоразведочной экспедиции, кандидатом геолого-минералогических наук Юрием Смирновым эта маленькая ода. И посвящена она первому свидетелю глубокоземных таинств — турбобуру, участнику грандиозной эстафеты в глубь Земли.
Он неповторим, наш турбобур, и по замыслу, и по исполнению. Вращается при бурении не вся громадина из бурильных труб с долотом на конце, а лишь несколько метров самого бурильного механизма. А как трудно даются крошечные, 5—6-метровые «этапы», видно по стесанным до основания шарошкам каждого отработавшего долота. Будто это не сверхкрепкие сплавы, а легкий и податливый алюминий. Впрочем, велика доля в общем успехе и специального алюминиевого сплава, из которого изготавливаются сами бурильные трубы.
Так случилось, что последним моим гидом на сверхглубокой оказался ее главный геолог В. С. Ланев. Со своим по-настоящему бесценным хозяйством — образцами кернов с разных глубин — он знакомил, как показалось, более сдержанно, чем с техническими особенностями самой установки.
— Прекрасная техника, не правда ли? А какие мастера работают на ней! — Я еле успевал за ним по цехам и переходам этого бурильного завода.— Уверен, с таким коллективом мы непременно одолеем проектные пятнадцать километров. Что потом? Так вы посмотрите, какие дела развертываются в стране по сверхглубоким...
Действительно, Кольская лишь первенец серии отечественных сверхглубоких, активная работа над которыми ведется под руководством специального Межведомственного научного совета ГКНТ, возглавляемого министром геологии СССР, профессором Е. А. Козловским.
Уже пошла наверх научная «продукция» Саатлинской сверхглубокой (Азербайджанская ССР). Готовится техника для скважин в Западной Сибири и на Урале. На очереди Украина, Тянь-Шань и другие районы страны. Усилия, разумеется, нужны немалые, но ведь и дело, еще по убеждению Михаила Васильевича Ломоносова, «велико есть... во глубину земную разумом»!
Немалая пища для разума уже добыта, а сколько еще ждет неведомого и парадоксального, подтверждающего идеи ученых и опровергающего их, там, на новых глубинах! Что же они таят, эти новые горизонты?
Александр Малинов
п-ов Кольский — Мурманск
(обратно)
Фотографии не сохранились…

Несколько лет назад я оказался в Благоевграде и узнал об Иване Валчуке — советском офицере, национальном герое Болгарии, павшем в бою с фашистами. Время шло, но бегущие в прошлое годы как-то не позволяли рассказать об услышанном: хотелось собрать недостающие сведения, узнать новые факты. Со временем факты появились. И вот я возвращаюсь к памятной теме...
Отель «Бор» стоит высоко над Благоевградом — в хвойном лесу. Гостиница словно вырастает из крутого склона горы и поднимается над вершинами деревьев. Из каждого окна виден город, лежащий внизу, в долине реки Бистрицы. Когда восходит солнце, на улицах лежит густая тень, и лишь зубцы новостроек — многоэтажных белоснежных башен — выхвачены первыми лучами зари. Сверху кажется, что высоченные дома заряжены солнечной энергией и испускают свет сами по себе, разгоняя последний ночной мрак...
Встреча была назначена на восемь часов утра в небольшом кафе в центре Благоевграда. Узкий длинный стол стоял в глубокой нише, отгороженной от зала панелями из темного полированного дерева. В кафе сумеречно и прохладно, а за столом, озаренные теплым оранжевым сиянием чугунных светильников, сидели трое пожилых мужчин. Их лица были строги и торжественны, как на групповой фотографии многолетней давности.
Завидев нас, мужчины заулыбались и долго пожимали руки. Затем все чинно рассаживались, словно и порядок, кто как сидит, был тоже важен: казалось, сейчас должен явиться деловитый фотограф и, зафиксировав сидящих, щелкнуть затвором.
Может быть, то, о чем я хочу рассказать, и есть групповая фотография, только внешность человека, который должен быть помещен в центре, человека, из-за которого мы и собрались, мне трудно описать. Внешность эту хранят в памяти трое пожилых мужчин, с которыми я встречался в Благоевграде. Они, трое, помнили Ванюшу живым...
Рассказ Дончо Лисейского
Во время войны наша компартия была, разумеется, в подполье, но организации ее существовали почти во всех районных центрах Болгарии. Я тогда состоял членом областного комитета комсомола. Трудно отделить подпольное движение от партизанского; фашисты были повсюду. Разница в том, что мы оставались в городе, а партизаны действовали в горах — пять отрядов насчитывалось в нашем Горно-Джумайском крае.
В 1943 году стали появляться у нас группы советских военнопленных, которых гнали с собой проходящие на юг и на запад немецкие части. В конце сентября сорок третьего мы прознали, что в Горну Джумаю — так тогда назывался Благоевград — доставили 11 советских военнопленных. Немедленно решили помочь им бежать. Этот шанс нам, городским подпольщикам, никак нельзя было упустить. Военнопленные и сами искали контактов с партизанами. Связь установили через нашего подпольщика Иордана Ичкова, в его же доме организовали явку. Там мы и познакомились с Иваном Валчуком — Ванюшей, как впоследствии звали его партизаны.
Отправились как-то к Иордану несколько комсомольцев... Вошли в дом и... обомлели: сидит Ичков за столом и беседует с какими-то личностями в немецком обмундировании. Прислушались, а разговор-то на русском языке идет, точнее, на смешанном русско-болгарском.
Разговорились. Лучше всего беседа с Валчуком пошла — он очень быстро болгарский язык усваивал. Оказалось, Ванюша был круглым сиротой — родители умерли рано. Воспитывался у тетки, закончил техникум, учился в офицерской школе. Попал он в плен где-то на Дону. Его контузило при взрыве снаряда, а очнулся уже у немцев. Комсомольский билет удалось спрятать. Попал в Берлин, затем его увезли с группой пленных в Варшаву, дальше Румыния, а потом у нас оказался.
Но как же организовать побег? Разумеется, делать это надо с наступлением темноты, после проверки: пленных немного было, и каждый день их по нескольку раз пересчитывали.
Наступил назначенный день. Шел дождь, и это было на руку. Когда мы добрались до дома, где размещались пленные, на условный сигнал первым вышел Ванюша — повезло: охрана то ли менялась, то ли отлучилась куда-то, спасаясь от ливня. А вот остальным уйти не удалось: считанные минуты длилось наше везение. В бой же вступать было неразумно — силы неравные, да и пленных под удар подставлять нельзя.
Под утро часть комсомольцев вернулась в город, а я проводил Ванюшу в горы.
Пока мы шли к партизанам в ту самую первую ночь, а для меня это была и последняя ночь, когда я видел Валчука, я все расспрашивал его о жизни. Говорил он мало. Запомнилось: было Ванюше то ли двадцать, то ли двадцать три года, а родом он откуда-то из-под Житомира. Несколько лет назад мы обращались в Житомирский краеведческий музей, но никаких следов Валчука не нашли...
Дончо Лисейский смягчал русское имя, и выходило — «Ванюща», что было не искажением имени, а какой-то ласковой его формой. Как будто отец вспоминал давно умершего сына. По возрасту Лисейского — нынешнему — и возрасту Валчука — военному — так все и получалось, но в октябре сорок третьего они встретились ровесниками, расстались братьями. Не старшинство одного и молодость другого разделяли их сейчас, а временная пропасть, и жестокой «машиной времени», определившей эту участь, была война...
Официантка давно уже принесла нам кофе в облитых глазурью керамических чашечках. Человек, сидевший по соседству с седовласым Лисейским, крепкий смуглолицый мужчина с внимательными быстрыми глазами, сделал несколько маленьких неторопливых глотков и заговорил.
Рассказ Васила Крекманского
В нашем партизанском отряде почти у всех бойцов были клички. Меня, например, звали то Васко, то Пугачев, уж забылось, откуда последнее прозвище пошло, в шутку, наверное, придумали. Командир звался Кочо, Асен Дерменжиев, руководитель второй группы отряда,— Юли. А вот у Ивана клички не было. С первого дня — Ванюша и только Ванюша. Иные и фамилии-то его не знали: зачем?
Прекрасно помню, как Валчук пришел в отряд. Мы тогда разбили лагерь на левом берегу реки Славово. День был яркий, солнечный. Партизаны собрались вокруг костра, где в большом котле варилось мясо к обеду. Вдруг сигнал караульного. Смотрим: поднимается к нам Асен Дерменджиев — он ходил на связь с городскими комсомольцами — да не один. Ведет с собой «языка» — пленного немца в форме. Все всполошились — не каждый день в лагерь фашистов доставляли. И лишь командир наш угадал в «немце» своего: подбежал к нему, обнял и расцеловал. Не подвело командира чутье. Оказалось — советский офицер, бежавший из плена, Ванюша Валчук. Среднего роста, русый, лицо круглое, синие глаза, плотная коренастая фигура. По земле шагал твердо, чуть враскачку, как матрос, хотя моряком никогда не был. Даже что-то медвежье проступало а нем — в хорошем смысле: добродушие, основательность и сила.
В деятельность отряда Валчук включился сразу. Чем бы мы ни занимались, он везде был в первых рядах — в боях, в любых рейдах. По горам быстро распространилась весть: у партизан «живой» русский. Преданные нам крестьяне сами приходили в лагерь. Расспрашивали Ванюшу, как в Советском Союзе живут люди, как воюют советские солдаты. То же он рассказывал и на наших собраниях, и рассказы его поднимали боевой дух, сплачивали партизан. К тому времени в отряде числилось пятьдесят бойцов. Люди разные, а действовать должны как один человек.
Ванюшу любили все: и местные жители, и партизаны. Отношение к нему было особое: понимали бойцы, что воюет этот парень на чужой земле, берегли его, пытались отстранить от опасных рейдов. Но куда там! Ванюша в ответ: «Здесь, сражаясь бок о бок с болгарскими партизанами, я воюю за свою Родину!» — и точка. Это его подлинные слова.
Двадцать пятого ноября наш отряд разделился. Часть должна была идти на запад, к хребту Влахина, и попытаться создать там новый отряд. Валчука поначалу в ударную группу не взяли: риск большой. Ваня настоял на своем, а командир Арсо Пандурский не смог ему отказать.
Выбрали двенадцать человек (впоследствии к ним присоединились еще двое). Тяжелым было прощание. Построились лицом друг к другу две шеренги: базовый отряд и ударная группа. Постояли молча и разошлись. Больше я Ванюшу не видел...
На следующий день я побывал в музее революционной истории Благоевграда. На стенах залов висели диаграммы, схемы и карты, показывающие передвижения партизанских отрядов, места и даты сражений. По музею меня водил уже знакомый мне Васко Крекманский — добрейший и теплый душой человек, хотя, когда разговор заходил о сражениях, становилось ясно: он так и не смог растопить в себе лед войны. От него узнал я, что в Болгарии в те времена было 12 оперативных партизанских, или повстанческих, зон. Горно-Джумайская шла под четвертым номером, командовал ею Никола Парапунов — легендарная личность. Изображения Парапунова сохранились, я видел их в музее и, слушая пояснения Васила Крекманского, разглядывал многочисленные документальные фотографии, развешанные на стенах,— все надеялся отыскать прижизненный снимок Ивана Валчука. Увы, снимка не было. Фотографий Ванюши вообще не сохранилось — не полагалось отряду ни фотографа, ни фотографической техники. Документы же бойцы, разумеется, с собой не носили: партизанская война строится на конспирации, и личность удостоверяют не бумажные корочки, а поведение в бою.
И все-таки два документа, относящиеся к Валчуку, я увидел в городском музее. Один горестный и мучительный: полицейский снимок обезображенного трупа Ванюши, что был доставлен в Горну Джумаю после последнего боя маленького отряда. Второй — фотография рисованного портрета Валчука, сделанного после войны по воспоминаниям партизан.
...Пришла пора вступить в разговор третьему из сидевших за столиком кафе мужчин. Выглядел он молодо, пожилым совсем не казался, про таких говорят: «Человек средних лет». Если бы я не знал точно, что Борису Манову под шестьдесят, а молодость его пришлась как раз на военные годы, ни за что бы этому не поверил.
Рассказ Бориса Макова
Мы двинулись к селу Градево на реке Предел на выполнение боевого задания. По нашим сведениям, в селе было всего четыре полицейских, а кметом — старостой — там состоял пренеприятнейший тип, завербованный фашистами. От нас требовалось ликвидировать полицейских, сжечь сельский архив, кмету же сделать последнее предупреждение: еще один проступок, и расправа будет короткой — партизанская казнь.
К Градеву вышли в пять утра. Расположились на крутом склоне и принялись наблюдать за селом. Что такое? Не верим глазам. Суета, полиции намного больше, чем мы предполагали. Насчитали человек тридцать — все на мотоциклах, с пулеметами. Стали думать-гадать: как поступить? Мы с Валчуком настаивали, что в любом случае надо давать бой. С одной стороны, маловато нас, а с другой — если учесть внезапность нападения, риск оправдан. Но командир принял другое решение: в бой не ввязываться, подождать до вечера. Вечером же он вовсе отменил приказ: полиция осталась в селе, а временем — ждать, пока она уберется,— мы не располагали.
Дальнейший маршрут наш был такой: от Градева до Поповой Горы, далее село Струмско на реке Бистрица. Затем следовало переправиться через полноводную ледяную Струму и идти дальше на запад. Трудный это был поход: постоянное напряжение, нехватка продуктов, горы — вверх-вниз, вверх-вниз. А Ванюше хуже всех приходилось: равнинный он человек, к горам не приученный.
Месяца два всего-то и были мы знакомы с Ванюшей. Скажете, мало, чтобы человека узнать? На мой взгляд, вполне достаточно. Он был весь как на ладони — открытый, душевный. И песни пел — заслушаешься!..
Словом, через Струму мы переправились, и вот там, на правом берегу, в деревне Покровник, пришлось мне с ребятами проститься: захворал.
Оставили меня на лечение местным жителям, и мы расстались. Конечно же, планы строили, рассчитывали встретиться ранней весной, но... не дано было этому случиться. Из оставшихся тринадцати человек только один выжил — Славе Чимев. Он умер уже в мирное время, не так давно. Чимев до самой смерти вспоминал, как во время одного из боев выручил его Ванюша. Славе промочил ноги, и Валчук отдал ему свои шерстяные носки — джурабы, толстой вязки, теплые, подарок крестьянки. А сам Ванюша ходил в ботинках на босу ногу. Ведь есть выражение: «Последнюю рубашку отдать» — так? Я скажу, что отдать последние носки — зимой в горах! — это та же «рубашка».
21 января 1944 года полиция раскрыла лагерь группы. Партизанам пришлось сниматься с места, но куда денешься: весь район оцеплен, повсюду каратели, население напугано, хлеба и того порой не найдешь. Палатки ставили, где застанет ночь, чем выше в горах, тем лучше, спали на снегу.
Первый тяжелый бой состоялся близ деревни Дреново. Группа в тот день разделилась: шестеро искали пропитание, а семь человек, в том числе и Ванюша, вынуждены были схватиться с шестью десятками полицейских. Выстояли. Даже раненых у партизан не было, хотя полицаев полегло немало.
Через неделю второй бой. Погибли трое. И командир отдал приказ пробиваться к своим, искать базовый отряд. Но на пути снова та же Струма — горная сноровистая река. Все мосты и переправы тщательнейшим образом охраняются. Единственное «слабое» место там, где в Струму вливается речка Рилска, у деревни Лисия. Добрались девять изможденных бойцов до деревни (Чимева с ними уже не было, тоже больной лежал у крестьян) и решили ночь переждать, а уж на следующий день со свежими силами перебираться на левый берег реки. Хотя какие там «свежие силы» — название одно!
И надо же, нашлась темная душа, подлый человек в Лисий. Успел за ночь обернуться предатель, сообщил фашистам, и наутро каратели взяли деревню в кольцо. Собралось их там 600 человек — немцы, полицейские верхами и на мотоциклах. Шестьсот человек против девяти оборванных, измученных, полуобмороженных партизан.
Бой длился два часа. Долгие, кроваво долгие сто двадцать минут (а может, сто или сто пятьдесят, кто считал?) оборонялись наши бойцы до последнего патрона. Первым погиб Ванюша. Потом убили остальных. Фашисты долго еще измывались над телами: протыкали штыками лицо, грудь, живот. Неприкрытые трупы повезли для устрашения непокорных в Горну Джумаю. Было это 29 января 1944 года, и до освобождения, до 9 сентября, оставалось лишь семь с небольшим месяцев.
В отряде не сразу узнали о гибели героев — весть шла от селения к селению, пока не добралась до зимнего лагеря партизан. Страшная это была весть: пали испытанные бойцы, пал русский, одно лишь присутствие которого в отряде было событием для всего края. И на торжественном траурном собрании партизаны дали клятву: бороться до конца. Отомстить...
Борис Манов замолк. Переглянулся с товарищами, посмотрел на часы и заторопился. Мы вышли на яркую, солнечную улицу. Шагали молча. На перекрестке Манов остановился и добавил:
— Весть о гибели наших принес в отряд дядо Чилю. Был такой старик в помощниках у командира — простой честный человек, немало доброго сделавший для партизан. Спустился в землянку и долгое время не мог произнести ни слова. Даже «Доброе утро!» вымолвить язык не поворачивался. Наконец разжал губы. «Братья погибли...» — сказал. И заплакал...
...Прошло время. Я не забывал об этой встрече в Благоевграде и собирал новые сведения об Иване Валчуке — факты, может быть, и не добавляли нового, но это были факты памяти о герое. 22 августа 1979 года в бюллетене Болгарского телеграфного агентства (БТА) появился материал, посвященный боевому содружеству советских воинов и болгарских партизан в годы второй мировой войны. Там были такие строки: «Не дождался свободы советский лейтенант Ванюша Валчук, партизан из Горно-Джумайского отряда. Его имя высечено на белом мраморе памятника в Благоевградском парке». Памятник погибшему отряду поставлен и около деревни Лисия — в том месте, где горстка партизан приняла свой последний бой.
А совсем недавно я узнал, что в Софии живет и работает известный скульптор Крум Дерменджиев — брат того самого Асена Дерменджиева, который был одним из руководителей партизанского отряда, принявшего Ванюшу Валчука. В семье Дерменджиевых три брата — в том числе и Асен — погибли, сражаясь в рядах партизан. А Крум — ныне пожилой заслуженный человек — еще в 30-х годах был в числе политзаключенных, содержавшихся в Стара-Загорской тюрьме, и принимал участие в движении «корчагинцев». Тогда в тюрьму попала книга Николая Островского «Как закалялась сталь», и узники, переведя ее, от руки переписывали текст, тайком отправляли рукописи друзьям и родственникам на волю, и бессмертная книга распространялась по Болгарии.
Крум Дерменджиев верно хранит память о Ванюше Валчуке. Он мечтает изваять монумент, где были бы запечатлены два героя — названые братья Иван Валчук и Асен Дерменджиев. Есть и еще один замысел: поставить памятник самому Ванюше на месте его гибели. Так, наверное, в скором времени и будет...
Виталий Бабенко
(обратно)
Лоа служат «леопардам»

Сначала появились черные вершины, а потом из моря выросла «Страна высоких гор». На языках индейцев сибонеев и таино, населявших остров до прихода испанцев, это название звучало как «Хаити», «Гаити». Так и ныне именуется страна, которая делит вместе с Доминиканской Республикой остров Гаити в группе Больших Антил.
Громада горы Кенскофф возвышается над Порт-о-Пренсом. Столица расположилась у подковообразного подножия так, что с моря из-за прибрежных пальм и кустарников города и не видно. На рейде наш корабль встречают лодки-плоскодонки. Гребцы изо всех сил работают веслами, словно того, кто первым приблизится к судну, ожидает большой приз. Может быть, это торговцы сувенирами, спешащие продать туристам кораллы, ракушки, циновки из пальмовых листьев? Нет. Лодки гаитян пусты. В глазах гребцов — мольба и отчаяние. Жестами и криками они просят бросить монету или что-нибудь из съестного и ловко подхватывают все, что летит вниз с пассажирских палуб. Если монета падает в воду, лодочники ныряют и достают ее с глубины. Западные туристы специально кидают «серебро» подальше от плоскодонок, превращая акт подаяния в безжалостный аттракцион.
Наконец нам разрешено спуститься на берег. На набережной лавируют между машинами впряженные в тяжелые тележки рикши. На черных лицах блестят струйки пота. Тощий старик в дырявой соломенной шляпе застрял на мостовой с тележкой, груженной ящиками и мешками: пытается освободить колесо, попавшее в трещину на асфальте. Под чахлой пальмой на обочине — мусорная куча. В ней роются дети, рядом грызутся собаки. Калека выставил трясущуюся культю, на которую нанизаны ярко-красные ожерелья. В тени пальм и невысоких зданий застыли фигуры упитанных полицейских.
В центре площади на набережной возвышается статуя Христофора Колумба, открывшего в декабре 1492 года «Страну высоких гор» и назвавшего ее Эспаньолой. «Здешние люди так приветливы, так кротки и миролюбивы, что, поверьте, ваше величество, во всем мире нет лучшего народа, лучшей страны... а деревья здесь достигают до небес, и не может быть под солнцем земли плодороднее с обилием хорошей и чистой воды...» — отчитывался мореплаватель перед королем Испании.
«Ветры либерализации»
Тех «кротких и миролюбивых» людей давно истребили конкистадоры, остров заселили неграми-невольниками из Африки. Триста лет длилась эпоха рабства на Эспаньоле. Наконец невольники объединились, свергли колонизаторов, провозгласили в 1804 году независимость страны и восстановили индейское название острова.
Деревьев, «достигающих до небес», в окрестностях Порт-о-Пренса я что-то не заметил. Горы лысые. Зелень буйствует в лощинах, на пустынных склонах лишь кое-где видны рощицы.
— Еще четверть века назад деревья росли повсюду,— пояснил мне гаитянский лоцман, когда мы шли к столице проливом Гонав.— Голой земли почти не было. Недавно я вел судно, где были американцы из компании «Уэнделл Филипс ойл», получившей концессию на разведку и добычу нефти на трети нашей страны. Оказывается, эксперты компании уже обследовали территорию Гаити и пришли к выводу, что сейчас она покрыта лесами лишь на девять процентов. Дерево ушло в огонь. У большинства наших крестьян другого топлива нет...
— Но ведь не крестьяне же все сожгли! — оторвавшись от бинокля, возразил пассажир из Мексики Хосе Диего.
Лоцман пожал плечами, извинился и покинул нас, сославшись на необходимость срочной корректировки курса корабля.
— Я понимаю его,— сказал мне Хосе Диего.— Ни один гаитянин на государственной службе не станет говорить то, что думает, если дорожит своим местом. Но я и так знаю, почему Гаити превратилась в полупустыню...
Хосе Диего — молодой креол с живыми умными глазами, смоляными курчавыми волосами — сел на теплоход в Кингстоне на Ямайке и разместился в соседней каюте. Хосе — специалист по гаитянскому фольклору. Он давно изучает культ воду, и интерес этот не случаен. Его отец — эмигрант из Гаити, мать — мексиканка.
— Власти Порт-о-Пренса не знают, что в моих жилах течет гаитянская кровь,— продолжал Хосе Диего,— и не препятствуют ездить по стране. То, что я видел, дает мне право сказать, что в исчезновении лесов виновны не столько крестьяне, сколько американцы. Компании по добыче бокситов принадлежит 150 тысяч гектаров земли. Во владениях американо-канадского меднодобывающего консорциума 115 тысяч гектаров. А если учесть все те огромные территории, которые отхватили себе еще полтораста американских компаний, обосновавшихся на Гаити за последние десять лет, то станет ясно, почему редеют гаитянские леса. Их пилят, конечно, не на дрова. Высокие, стройные сосны — отличный строительный материал. Помню, еще лет пять назад близ города Шардоньера был прекрасный сосновый бор. В прошлом году вместо сосен я увидел там одни пни.
А крестьяне... Что ж, несколько лет назад именно крестьяне протестовали против решения «Гаитиэн-америкэн дивелопмент компани» свести густые заросли лиственных деревьев, чтобы расчистить земли под плантации агавы для производства сизаля. Вы думаете, в Порт-о-Пренсе к ним прислушались? Ничего подобного!..
Стоя на набережной возле статуи Христофора Колумба, я думал о том, как не соответствуют нынешней действительности слова великого мореплавателя о лесных богатствах, плодородии почв и обилии чистой воды на острове.
Сведение лесов повлекло за собой катастрофическую эрозию некогда плодородных почв. Не случайно Гаити — сельскохозяйственная страна — давно уже импортирует продовольствие. В 1980 году на ввоз продуктов питания, включая рис, сахар и даже маис, истратили 40 миллионов долларов — это треть расходов по импорту...
Тропическое солнце припекает все сильнее. Я ищу какую-нибудь тень, где можно сесть, развернуть только что купленные местные газеты и познакомиться с новостями. Увы, это мне не удается. Зловонным запахом пронизаны все близлежащие кварталы. Ни фонтана, ни питьевой колонки. С водой в городе плохо, ее не бывает месяцами, да и исправный водопровод здесь редкость. Поблизости расположены два рынка — продовольственный и ремесленный — Фуд Маркет и Айрон Маркет. Кучи отбросов — кажется, их не убирают годами, вьются мириады мух и насекомых — разносчиков заразы...
Семьдесят процентов территории Гаити объявлены малярийной зоной, свирепствуют туберкулез, квашиоркор, ришта, лейшманиозы. Средняя продолжительность жизни около пятидесяти лет, из тысячи новорожденных 170 умирают сразу.
Впрочем, любого побывавшего на Фуд Маркете эти цифры не удивят. Удивляет другая статистика: в подобных условиях на каждые 15 тысяч жителей приходится... всего один медработник. Да что цифры — достаточно взглянуть на крестьян, пришедших из деревень, облаченных в лохмотья мальчишек, подрабатывающих на рынке, на их темные лица, руки и ноги с тяжелыми трофическими язвами. У некоторых раны кровоточат и гноятся, но люди не обращают внимания. Лечить некому...
Что же это за район, в котором я оказался? Не найду ни скверика, ни парка, ни даже прохладного переулка. Куда ни глянь, полуразрушенные, словно после воздушного налета, дома. Тротуары разбиты, сточные колодцы засорены, оконные проемы без стекол, во дворах сушатся застиранные лохмотья. На скамейке негритянка кормит грудью малыша, мальчишки жуют кусочки сахарного тростника, старуха с иссеченным морщинами лицом развешивает белье. Уличные торговки, сидящие на тротуаре на корточках, предлагают прохожим сладости, лепешки, порцию маисовой каши...
Мое внимание привлекает зеленая лужайка перед старым домом в
викторианском стиле с мансардами, слуховыми окнами, причудливыми башенками. На лужайке большая толпа — парни в выцветших красных и синих рубахах. Здесь идут петушиные бои. Одна группа поставила несколько гурдов на роскошного красно-бело-золотого кочета. Другая — числом поменьше — на потрепанного черного петуха, но именно он, кажется, и побеждал.
— Сэр, не хотите ли поставить доллар на черного? — обратился ко мне один из болельщиков.
Мы вместе дождались исхода боя, завершившегося позорным поражением царственного златоперого петуха.
— Символическая победа, не правда ли?! — торжествуя, воскликнул гаитянин.— Нищий богатого побил!
— А что, у вас уже не опасны высказывания такого рода? — поинтересовался я.
— Опасны, но вас мне бояться нечего. Во-первых, вы не гаитянин. Во-вторых, не американец, потому что пеший, да и акцент выдает — вы, очевидно, из Европы. В-третьих, я уже больше двух лет в списках неблагонадежных — с тех пор, как запретили нашу газету...
— Так вы журналист?
— Да. Учился журналистике во Франции, но здесь служил корректором. Это меня и спасло. А репортеров из моей газеты «Жён пресс» посадили за решетку...
— Что же случилось с вашей газетой?
— Не только с ней. Последние два года власти идут войной на печать. То та, то другая газета становятся жертвой «либерализации». Поверив в обещанную президентом свободу слова, они нет-нет да опубликуют критический материал. Сперва президент пригрозил: «Ветры либерализации создаю я, и пусть никто не воображает, будто может дуть сильнее!» Затем издал указ: за критику в газете на автора налагается штраф от 600 до 1000 долларов. Нашу газету, например, погубили выборы...
— Вы имеете в виду выборы в Национальное собрание в феврале 1979 года?
— Так вы об этом знаете? — удивился мой собеседник.
О фарсе с выборами писала вся пресса мира, даже правые английские и французские газеты высмеяли их как политический спектакль, устроенный в угоду американцам. Затея «поиграть в демократию» лопнула, как мыльный пузырь. Еще до выборов гаитянские журналисты узнали, что все 58 кандидатов в высший законодательный орган подобраны президентом из числа своих приближенных и лично им утверждены. Министр информации вызвал к себе редакторов газет и запретил публикацию подобных сведений. Редактор «Жён пресс» отнесся к словам министра как к пожеланию и выпустил газету с неугодным правительству сообщением. Его вместе с группой журналистов бросили в тюрьму, газету закрыли. Той же участи подверглись редакторы некоторых других печатных изданий. А в декабре 1980 года опять аресты журналистов, новые конфискации и закрытия газет.
— Как же в этих условиях продолжает издаваться «Ле Пти Самди Суар?» — Я показал безработному журналисту свежий номер еженедельника.
— О, его редактор держит ухо востро. Он тоже был вызван к министру, но спас свое издание и себя тем, что самолично сжег, все девять тысяч экземпляров газеты...
Мы пролистали еженедельник. Радужные перспективы. На каждой странице — «сенсация»! Сообщения о том, что страна вышла на первое место в мире по производству бейсбольных мячей. Решение президента построить сахарный завод стоимостью 45 миллионов долларов. Проект закупки рыболовецких судов на 10 миллионов долларов. Статистика: всего лишь за два года — с 1975-го по 1977-й — в стране построено 60 новых фабрик: на 10 объектов больше, чем за 25 лет правления Франсуа Дювалье.
— Выглядит как хорошие новости! — воскликнул я.
— Грустные новости! — возразил мой собеседник.— Фабрики-то не гаитянские, а американские: по сборке электронного оборудования, производству игрушек, спортивных товаров... Только рабочие руки наши: они стоят американским монополистам около 600 долларов в год, почти даровой труд. Сырье и полуфабрикаты тоже американские, почти вся продукция беспошлинно вывозится в США. За возможность беззастенчиво эксплуатировать рабочий класс Гаити Жан Клод Дювалье получает от Вашингтона именные подарки, «помощь», которая оседает в «президентском фонде», идет на личное обогащение диктатора и его семейства.
Фабрика по производству бейсбольных мячей, которая «оказывает честь» Гаити, тоже американская. Из 230 промышленных предприятий 150 полностью принадлежат американцам, а в остальных вместе с американским участвуют канадский, западногерманский, английский, французский капиталы. Национальной буржуазии принадлежит лишь небольшое число предприятий, да и те постепенно переходят в руки американцев. Совсем недавно и галантерейные фабрики оказались под контролем компании по производству бейсбольных мячей, американцы прибрали национальную спичечную фабрику «Шада».
Что касается сахарного завода, то газеты пытались в свое время поместить статью гаитянских экономистов о нецелесообразности его постройки. Разумеется, цензура не пропустила «крамольный» материал. Суть дела в том, что все производство сахара в стране контролирует «Гаитиэн-америкэн шугар компани». Рано или поздно завод полностью перейдет к американцам, тем более что все удобные для произрастания сахарного тростника земли уже закуплены монополиями США...
Петьонвиль и Ла-Салина
С бывшим корректором «Жён пресс» — по понятным причинам он не назвал мне своего имени — мы выпили по чашке очень крепкого гаитянского кофе в лавке под навесом, прошли еще с полкилометра вместе по улицам Порто-Пренса, затем я поймал свободное такси, и мы расстались.
Вез меня негр лет пятидесяти, угрюмый и на первый взгляд замкнутый человек. Пока машина колесит по лабиринту однообразных узких улочек, я заглядываю в свежий номер газеты «Ле Мати». На первой полосе — портрет мулатки с ниспадающими на плечи волосами. Подпись: «Дар Первой леди республики жителям Петьонвиля». В заметке говорится об открытии школы в этом пригороде Порт-о-Пренса, где живет гаитянская буржуазия. Школа считается даром супруги диктатора.
— Мишель Дювалье настолько щедра, что может строить и дарить школы? — спросил я таксиста, заметив, что он покосился на фотографию в газете.
Мариус Жюмель — так я назову водителя — бросил взгляд на снимок, усмехнулся и вместо ответа осведомился:
— Вы из Америки?
— Из Европы.
Жюмель помолчал немного, выруливая на асфальтированную дорогу, обсаженную пальмами и цветущими бугенвиллеями, и переспросил:
 Крестьяне из внутренних районов страны вынуждены совершать многокилометровые пешие переходы, чтобы продать плоды своего труда на рынке. Многие жители деревень бегут в города, но и там крайне трудно найти работу. Эта семья, забредшая в поисках лучшей доли в приморский городок Сен-Марк, осталась без гроша в кармане и без крова над головой.
Крестьяне из внутренних районов страны вынуждены совершать многокилометровые пешие переходы, чтобы продать плоды своего труда на рынке. Многие жители деревень бегут в города, но и там крайне трудно найти работу. Эта семья, забредшая в поисках лучшей доли в приморский городок Сен-Марк, осталась без гроша в кармане и без крова над головой.
— Мишель Дювалье? Богатая? Конечно...— Он махнул рукой в сторону разбросанных по склонам особняков:
— Тут все богатые...
На холмах, в ложбинах и седловинах из густой зелени выглядывают виллы богачей, стилизованные под негритянские хижины. Это Петьонвиль. Тут живут политики, землевладельцы, промышленники, торговцы, спекулянты — опора диктатуры Дювалье. Они составляют меньше одного процента населения Гаити, но присваивают себе почти половину национального дохода.
Самый верхний этаж имущественной пирамиды занимает семейство Дювалье. Состояние диктатора оценивается в 200 миллионов долларов, не меньше и у его сестры Мари-Дениз, и у вдовы Франсуа Дювалье, «мамаши Симон»: огромные вклады в швейцарских банках, виллы в Европе, яхты, самолеты, автомобили... Семейство переводит на личные счета около 40 процентов всех государственных поступлений, плюс половину из ежегодных 150 миллионов долларов, «впрыскиваемых» в Гаити странами Запада, плюс доходы от продажи гаитянских рабочих в соседнюю Доминиканскую Республику по 800 долларов за «голову».
Так формируется «президентский фонд», или, как его именуют заглазно, «королевская казна», из которой Дювалье раздает милости своим приближенным. А если в кои-то веки из этих денег и выделяется сумма на строительство школы или больницы для богатых, то Дювалье спешат объявить это своим «даром» народу.
...Асфальтированная дорога оборвалась, и машина снова затряслась на ухабах. Исчезла за поворотом последняя вилла, машина круто пошла вниз — туда, где распростерлось лоскутное покрывало пальмовых крыш бедняцкого района Ла-Салина. Вновь потянуло гнилью и дымом.
На последней странице газеты — рубрика «Полицейская хроника». «В минувшее воскресенье в районе Ла-Салина полиция нашла задушенного ребенка. Мать призналась, что умертвила его из жалости, чтобы избавить от страданий в жизни. У нее семь детей...»
Еще в Петьонвиле после обмена короткими замечаниями исчезла настороженность Жюмеля, водитель окончательно убедился, что его пассажир не «янки».
Мариус без удивления воспринял «полицейскую хронику»:
— Такие случаи у нас каждый день — то мертвые новорожденные, то задушенные подростки... Найденные ночью трупы — обычное явление. Вы думаете, газета сообщила об этом из жалости? Ничего подобного! Из стремления похвалить полицейских... А власти, кажется, вполне удовлетворены, что люди мрут как мухи: население растет, а кормить его нечем.
— Я читал,— говорю водителю,— что через двадцать лет население Гаити удвоится и составит 12 миллионов, а производство сельскохозяйственной продукции падает. Но ведь не случайно же американское агентство по международному развитию помогает Гаити осуществлять контроль за рождаемостью?..
— Да? Вы так думаете? Зачем же им бороться с рождаемостью? — зло спросил таксист.— Одни и так дохнут от голода, другие бегут из страны, третьи прощаются с жизнью, не выдержав пыток...
— Три месяца назад,— помолчав, добавил Жюмель,— две семьи из деревни, где я родился, решили бежать на лодках. В трех километрах от берега их настиг морской патруль. Одну лодку со взрослыми и детьми потопили, другую вернули, пятерых беглецов бросили в тюрьму, пожалели только восьмилетнего мальчика. На той неделе двух арестованных выпустили, что бывает редко, а вчера оба скончались от побоев. Они успели рассказать родным, как их пытали электричеством и били дубинками...
Паутина воду
Мы снова в плену узких улочек — глинобитные стены, лачуги из фанеры, картона, железа... Жюмель сворачивает на вытоптанную лужайку, обнесенную низкой оградой из ржавых железных прутьев. В центре шалаш, крытый пальмовыми листьями, перед ним навес. Это «умфро», водуистский храм,— цель моей поездки. Через полчаса здесь начнется религиозный обряд. Люди уже подходят, есть и европейцы. К нам направляется группа гаитян, среди них знакомые Жюмеля. С меня берут доллар и выдают бумажку с каким-то сложным орнаментом — входной билет.
В ожидании зрелища я беседую с молодыми людьми. Лишь один из них — Гийом, бывший студент юридического факультета, исключенный из университета Порт-о-Пренса после ареста брата в прошлом году,— знает английский язык.
— Ваш водитель сказал, что вы были на Кубе, расскажите о жизни наших соседей,— тихо просит он.
На Кубе мне приходилось бывать не раз, и я с удовольствием рассказываю о революционных преобразованиях в стране, расположенной лишь в ста километрах от Гаити, о горах Сьерра-Маэстра, где разгоралось пламя народной борьбы.
Глаза креола вспыхивают, но огонек тут же гаснет, и Гийом с тоскливой безысходностью говорит:
— У нас тоже есть высокие горы, но нет лесов. Вы понимаете, о чем я говорю? Да и таких вот умфро,— он кивнул в сторону шалаша,— у нас тысячи, настоящая паутина. Вы не можете представить, как воду тормозит социальный прогресс! Этот умфро да еще несколько в Порт-о-Пренсе — зрелище для туристов, остальные же «работают» на тех, кто живет в Петьонвиле...
Само слово «воду» означает «дух», «божество». Оно пришло на Гаити вместе с черными невольниками из Дагомеи, и боги древней Африки стали богами гаитянской земли. Ныне девять десятых населения страны — водуисты, несмотря на господствующую католическую религию. Они верят в черную магию, колдовство и злых духов. У них множество богов — «лоа», которые, по поверью, могут вселяться в людей и руководить их поступками. В каждом умфро есть центральный столб — «митан» — канал входа и выхода лоа. Возле митана приносят в жертву коз, быков или петухов. Если жертва достаточна, то лоа через митан вселяется в одного из участников обряда, и тот начинает биться в конвульсиях, показывая, что дух обуял его. Окружающие в это время плясками и песнопением просят у бога милости.
— ...Внешне культ воду экзотический и красочный,— говорил мне еще на корабле знаток гаитянской религии Хосе Диего,— но главный его порок в том, что водуисты считают, будто добро и зло — дело рук лоа, а не людей. Любое зло — нищета, болезни, войны, преступления, казни — это месть лоа людям за их грехи. Только обильные жертвы богам, только воздаяния священникам — «унганам» или колдунам — «бокарам» могут избавить от зла. Вот в чем страшная сила воду.
Помню, я возразил Хосе Диего:
— Но ведь когда-то вера в лоа поднимала народ и на борьбу. Вспомним восстание рабов, которое возглавил Туссен-Лувертюр, а в книге гаитянского писателя Жака Стефена Алексиса «Деревья-музыканты» показана сила воду в деле сплочения народа...
— С помощью лоа,— с жаром прервал мои рассуждения Хосе Диего,— гаитяне объединялись и восставали только против белых. К сожалению, древние дагомейские духи оказались бессильны в борьбе с предателями гаитянского народа. Когда я думаю о Франсуа Дювалье,— продолжал мексиканец,— то меня не покидает ощущение какого-то страшного и подлого обмана, уникального в истории. Этот преступник использовал главный догмат воду: веру, что лоа могут вселяться в людей и руководить их поступками. Он объявил, будто в него вселился сам глава богов мертвых Папа Геде, и назвал себя Папа Док. Что только он не вытворял, чтобы «обожествить» себя! В присутствии верующих носил черный смокинг, ходил медленно, вытянув трубкой губы и закатив глаза. С застывшей, зловещей полуулыбкой на лице он и впрямь казался богом царства мертвецов. Заставил всех унганов во всех умфро повесить на митаны свои портреты. Колдуна Захари Делву назначил своим апостолом, шефом «тонтон-макутов» — оборотней. Облаченные в черные одеяния, в черных очках, они наводили ужас на людей.
Да, лоа сегодня не поднимают народ на борьбу, как было когда-то, они держат его в узде. Именно это имел в виду и Гийом, называя культ воду «тормозом социального прогресса».
Хосе Диего закончил нашу беседу о воду так:
— Если гаитяне научатся читать и писать, если в деревнях загорится электричество, то мрак невежества уйдет из хижин и лоа умрут. Только тогда свободный от предрассудков народ увидит подлинных виновников своих страданий — династию Дювалье, американский капитал. Это хорошо знал Франсуа, и это хорошо знает его сын Жан Клод. Именно поэтому и тот и другой предпочитают держать народ в невежестве...
Барабанный бой возвестил о начале обряда. К шалашу медленно направился высокий бритоголовый негр в ярко-красной рубахе и в клетчатых штанах. Он держал живого петуха, размахивая им словно кадилом. Метрах в двух от навеса негр остановился.
Гийом провел меня в умфро. Вместе с другими зрителями мы разместились на скамейках вдоль стен шалаша.
Вокруг столба-митана низкий жертвенник из камня. На нем свечи в бутылках, глиняные сосуды, тыква, увешанная бусами. На циновках разместились три барабанщика.
— Центральный шест, украшенный змеевидным орнаментом,— шептал мне Гийом,— посвящен Папе Дамбалле, величайшему и влиятельнейшему лоа. Его символ — змея.
В умфро вошел бритоголовый негр с петухом.
— Это унган,— пояснил Гийом.— Тыква на жертвеннике — символ его власти.
С тыквой в одной руке и петухом в другой унган обходит умфро и освящает его углы. Затем, пританцовывая в такт барабанам, начинает заклинание.
— Он должен епеть три священные песни,— сказал Гийом,— первая посвящена Папе Легбе, вторая — Папе Дамбалле, третья — тому лоа, которого унган вызывает в данный момент...
Снова застучали барабаны. В умфро вошла группа женщин в длинных белых платьях. Они начали раскачиваться, затем пустились в пляс, к ним присоединились парни.
Один из танцоров вдруг рухнул на землю и забился в конвульсиях. Барабаны зазвучали сильнее, водуисты призывно и громко запели, танец возобновился...
Оборотни переодеваются...
Пляска продолжалась, песнопенье набирало новую силу, когда мы с Жюмелем выбирались из узких улочек Ла-Салины. Все меньше прохожих, машина медленно плывет вдоль трех-четырехэтажных домов. Таксист нервозен, опасливо озирается, заглядывая в переулки.
На пустынной площади несколько женщин с кувшинами и корзинами на головах, согнувшись, призрачно скользят вдоль высокой железной ограды. За нею белое здание: президентский дворец. Из-за кустов роз на лужайке торчат стволы пулеметов. Справа от дворца — тоже за железной оградой — приземистое дискообразное сооружение — мавзолей Франсуа Дювалье. Вот уже более десяти лет, как умер диктатор, но страх суеверных гаитян перед ним не исчезает: бесноватый Франсуа за годы своей тирании постоянно внушал водуистам, будто он «нематериален» и «вездесущ», будто после его физической смерти дух останется жить, он перейдет к сыну.
Жана Клода Дювалье приближенные величают «беби Доком», утверждая его «божественное» происхождение. И недоучившегося юриста это вполне устраивает:
— Воля отца — легальная основа моего правления. Ему власть дал бог, бог и волен отнять ее у меня. Не понимаю, зачем нужны выборы.
Английских журналистов он сражает «железным» аргументом:
— Ведь ваш народ не избирает королеву Англии! Я очень хорошо натаскан в политике лучшим профессором в этом деле — моим отцом.
Он брал у Папы Дока уроки в подвалах белого дворца, где истязали политзаключенных. В 14 лет отпрыск сдал первый экзамен на жестокость, застрелив в упор офицера президентской гвардии. Он и сейчас не расстается с пистолетом, число загубленных им душ растет. Каждый год в канун 22 сентября, когда династия Дювалье отмечает годовщину прихода к власти, Жан Клод Дювалье отдает в руки тайной полиции список с фамилиями неугодных и резолюцией: «От них я хотел бы избавиться». В 1979 году список включал 400 фамилий.
Дювалье-младший не только душит соотечественников руками тайной полиции, но и давит их колесами своих «роллс-ройсов» и «ягуаров», когда вихрем проносится по улицам Порт-о-Прен-са.
...Из-за стальной ограды за мной (Жюмель не рискнул выйти из машины) внимательно наблюдают здоровяки в пятнистой униформе цвета хаки с огромными пистолетами на бедрах. Я делаю несколько снимков. И спешу в машину. Жюмель облегченно вздыхает. За этой оградой здание корпуса сил безопасности. Это те же «тонтон-макуты», оборотни, с теми же карательными функциями, только их переодели из черного в зеленое и назвали «леопардами». Вид у них теперь не столь демонический, но они лучше вооружены. Жан Клод Дювалье повысил «леопардам» жалованье.
— Вы — рычаг моего правительства, главная сила, на которую я опираюсь,— говорит диктатор, благословляя охрану на «подвиги».
Но опирается он не только и не столько на «леопардов», сколько на американских покровителей. Напуганный брожением умов в народе, активизацией борьбы гаитянской эмиграции за освобождение родины, диктатор поспешил заключить в июне 1980 года соглашение с США о возможном вводе на Гаити иностранных войск. В тексте соглашения говорится: «Гаитянское и американское правительства предлагают правительству и вооруженным силам Доминиканской Республики в случае возникновения на Гаити реального партизанского фронта осуществить прямое вмешательство на Гаити, чтобы стать главной боевой, силой в борьбе против гаитянских партизан».
Соглашение тут же стало претворяться в жизнь. Командующий вооруженными силами Доминиканской Республики генерал-лейтенант Марио Имберт Макгрегор объявил о создании еще 12 военных лагерей вдоль границы с Гаити. Отдано распоряжение о строительстве новых казарм для воинских частей, увеличении гарнизонов в Элиас-Пинья и других пограничных городах. Вслед за этим по указке из Вашингтона армия Доминиканской Республики провела учение под кодовым названием «Пограничное братство». А летом прошлого года стало известна о решении Жана Клода Дювалье продать США остров Тортю под военную базу для Пентагона. США хотят приблизить свои корабли и самолеты к территории Гаити...
Нелегкая, очень нелегкая борьба за свободу предстоит гаитянскому народу. Но силы борцов растут. В стране все чаще протестуют крестьяне и студенты, бастуют рабочие, ассоциации художников, писателей и учителей выступают за просвещение своего народа, доходят сообщения о вооруженных столкновениях между «леопардами» и партизанскими группами. Объединяет свои силы гаитянская эмиграция, растёт влияние Объединенной партии гаитянских коммунистов (ОПГК) и организации Молодежь ОПГК. Работа коммунистов в Гаити чрезвычайно «ложна и опасна, ибо по закону 1969 года в стране введена смертная казнь «за коммунистические убеждения и пропаганду марксистских идей».
...День угасал. Небо покрылось позолоченными по краям свинцовыми тучами. Вершины, обведенные оранжевой каймой, потемнели. И снова за кормой чайки. Уходит в море черная гора Кенскофф...
Рано или поздно борьба гаитянского народа увенчается успехом. Но нужно, чтобы мир знал о трагедии Гаити, ибо то, что делают династия Дювалье и американцы в «Стране высоких гор»,— преступление против человечества.
Р. Гладких
Порт-о-Пренс — Москва
(обратно)
Вся закарпатская вода...

Дорога спускалась с перевала. На повороте к кемпингу, перед мостом, в русле реки ворочался ярко-оранжевый бульдозер. Глухо рыча, он скатывался в воду с правого берега и, утопая по капот, грыз ложе стремительного потока стальным ножом. Натужно воя, вылезал на левый берег, толкал перед собой груду булыжников и громоздил их к каменной подпорной стенке. Не разворачиваясь, задним ходом пятился в реку, перебредал ее, карабкался на правый берег, снова двигался вперед и с каждым разом утопал все глубже... Мы посмотрели и невольно улыбнулись: бульдозер словно купался в речке и даже вроде бы пофыркивал от удовольствия. Но в общем-то ничего забавного в этом не было: шла обыденная pat.юта. Бульдозер расчищал и углублял речное русло, чтобы талые и ливневые воды не скапливались у моста, а проносились вниз свободно, не выходя из берегов, не заливая стоящих в пойме зданий кемпинга.
Потом мы видели, как одинокий экскаватор в поле копал траншею, уходившую за горизонт,— строился новый оросительный или, возможно, осушительный канал.
На гребне земляного вала, отгородившего мутную Тису от окраины города Тячева, работал автокран. Монтажники в защитных касках укладывали на откос квадратные железобетонные плиты, каждая из которых весила добрую сотню килограммов. Строилась новая водозащитная дамба — облицованный участок ее, сужаясь в перспективе, напоминал накренившееся шоссе. Полоса берега от подножия дамбы до кромки воды выстилалась габионными тюфяками: чехлом такому тюфяку служит стальная оцинкованная сетка, а набивкой — бутовый камень из горных карьеров.
По дороге на озеро Синевир мы задержались в верховьях Теребли, возле устья одного из ее притоков. Здесь стучали, поблескивая на солнце, гуцульские топоры, белела россыпью смолистая щепа. Бригада» плотников рубила подпорную бревенчатую стенку для укрепления участка берега, подмытого стремительным течением.
В пойме Латорицы высаживали молодые ивовые деревца — создавались водозащитные лесные полосы: корни деревьев, прошивая почву, предохраняют берега от разрушения буйными водами, берущими разбег с Карпатских гор...
Негромкое, но непрерывное строительство шло в Закарпатье повсеместно. Водохозяйственники строили везде, где текут реки, а в Закарпатье трудно найти место, где не течет река или ручей. В области 9421 река — около двадцати тысяч километров голубых артерий, и на каждый квадратный километр территории приходится полтора километра речного русла.
В Закарпатье на редкость плодородная земля, много воды и много солнца. На взгляд приезжего, у здешних земледельцев нет никаких проблем. Ведь про такие земли говорят: воткни оглоблю— вырастет телега... А между тем проблемы есть — и весьма серьезные.
Начнем с земли. Земля, конечно, плодородна. Но, к сожалению, ее не так уж много: четыре пятых территории области вздыблены горными хребтами и предгорьями. И лишь около двух с половиной тысяч квадратных километров занимает всхолмленная местами равнина, пригодная под пашни и плантации, бахчи и огороды. Поэтому к земле здесь отношение особое — ее лелеют и оберегают неусыпно. И главным образом, как это ни парадоксально, от воды. Впрочем, парадоксально, может быть, для Средней Азии. Для Закарпатья же вполне естественно. Ибо излишнее обилие воды столь же пагубно, как и ее нехватка.
Горный рельеф издревле вынуждал закарпатцев осваивать долины рек и заселять их берега. Этот процесс привел к тому, что в наше время почти все сельскохозяйственные угодья области расположены на пойменных землях, то есть в зоне возможного затопления паводковыми водами.
Паводки, бурные и скоротечные, повторяющиеся в иные годы до десяти-двенадцати раз и поднимающие уровень воды в Тисе и некоторых ее притоках на восемь-десять метров,— извечная беда закарпатских земледельцев, причина многих неприятностей, забот, тревог и горестных утрат. Это посевы, гибнущие на затопленных полях, размытые дороги и снесенные мосты, разрушенные дома и хозяйственные постройки, избыточное переувлажнение и заболачивание плодороднейших земель.

Разливы закарпатских рек не приурочены к определенному сезону и не желают следовать календарю. Самые грозные из них приходят не весной, когда их ждут во всеоружии, а когда люди, техника и транспорт заняты на работах, с паводком не связанных, когда в долинах пашут землю, сеют хлеб или готовятся к уборке урожая. Паводок, вызванный ливнями в верховьях рек, может накатить в разгар лета, может прийти с унылыми осенними дождями. Даже зимой, если наступит неожиданная оттепель и разразится редкая, но все-таки возможная зимняя гроза.
Вода, текущая с Карпатских гор, несет с собой не только жизнь, не только радость и цветение... Здесь за водой приходится присматривать, бороться с ней и защищаться от нее.
— Прежде всего договоримся о терминологии,— предложил заместитель начальника Закарпатского управления мелиорации и водного хозяйства Николай Дмитриевич Литвинов, в кабинете которого мы вели разговор.— Борьба с паводками и защита от паводков — вещи разные. О чем мы будем говорить?
— Ну... о борьбе.— Я предпочел более динамичный, на мой взгляд, аспект проблемы.
Литвинов выдвинул ящик стола, достал газету:
— Вот очень коротко самая суть понятия «борьбы».
Это был номер «Закарпатской правды» двенадцатилетней давности — за 28 мая 1970 года. Я пробежал глазами обведенную карандашом заметку:
«Несколько дней не прекращались дожди... Разбушевавшаяся вода на перегоне Королево — Рокосово размыла железнодорожное полотно протяженностью до 200 метров; на этом месте образовалась пятиметровая воронка. Несколько суток не уходили отсюда люди. Они отстаивали путь от размыва, а когда вода отошла, начали восстанавливать железнодорожное полотно...»
— Дело, как видите, нелегкое, а зачастую и опасное,— сказал Литвинов.— Легче всю жизнь защищаться от паводков, чем один день бороться с ними.
— А что конкретно называется защитой?
— То, что мы делаем изо дня в день и круглый год... А конкретно — строительство и эксплуатация водозащитных и противопаводковых сооружений.
— Вы не могли бы рассказать подробнее?
— Я вам, пожалуй, лучше покажу. Каким вы временем располагаете?
Вопрос, как выяснилось тут же, не был праздным. Ибо в хозяйстве управления — весь грандиозный лабиринт больших и малых рек бассейна Тисы и десятки озер, среди которых знаменитый памятник природы Синевир. И еще сеть каналов протяженностью почти в пять тысяч километров, и одиннадцать искусственных водохранилищ... То есть практически вся закарпатская вода — наземная, подземная и даже та, что в облаках, клубящихся над горными вершинами, поскольку может хлынуть ливнями и вызвать паводок.
Есть и земля, ее сравнительно немного, но труд в нее вложен большой — около ста пятидесяти тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий на осушенных и орошаемых площадях.
И наконец, инженерные сооружения: сотни километров водозащитных дамб, береговых и русловых укреплений, десять мощных насосных станций, которые во время паводка перекачивают полую воду с затопленных полей обратно в реки, несколько тысяч самых разных гидротехнических устройств — шлюзов, плотин, водозаборов и т. д.
— Времени, думаю, достаточно,— неосторожно сказал я.— Целая неделя.
— Тогда поехали.— Литвинов встал из-за стола.
И мы поехали. Ехали день, ехали два, останавливались, шли пешком по песку и траве, поднимались по лестницам и карабкались по откосам, продирались сквозь заросли прибрежных кустарников, прыгали по болотным кочкам и балансировали на скользких валунах, омываемых прозрачными струями... Литвинов, судя по всему, задался целью показать все существующие в Закарпатье устройства и приспособления для управления водой и укрощения ее во время паводков. Замысел вряд ли был осуществим. Но для Литвинова вполне логичен. Как же иначе мог он показать размах работ людей своей профессии и результаты вековых трудов, начатых еще в те времена, когда какой-то закарпатский пахарь провел сохой первую борозду в пойме реки, засеял ниву и понял, что она нуждается не столь в поливе, сколь в защите от воды?
Словом, Литвинов знал, что делал. Однако неспециалисту не так-то просто было правильно оценить все то, что ему показывали...
Да, он видел насосные станции, сверкавшие на солнце стеклянными сквозными стенами, словно огромные аквариумы. Видел бетонные и каменные шлюзы. Видел железные заслонки-водовыпуски, многие из которых установлены еще в прошлом столетии.
Но голубые длинные каналы с оплывшими травянистыми берегами отличались от речек лишь прямизной, а водохранилища походили на озера. Дамбы казались прибрежными валами, намытыми рекой и поросшими цветистым разнотравьем. Береговые лесонасаждения выглядели обычными рощицами и перелесками.
Береговые укрепления, собранные из бревен, отшлифованных водой, подпорные стенки, выложенные из «рваного» карпатского камня, откосы, облицованные бетонными плитами и разлинованные в клетку строчками травы, пробивающейся через стыки,— все это было очень красиво и напоминало не инженерные сооружения, а декоративные элементы, врезанные в пейзаж талантливыми архитекторами.
Секрет такого восприятия кроется, видимо, в высокой производственной квалификации здешних водохозяйственников и мелиораторов, в их искренней любви к природе. Их работа не искажает естественного ландшафта. А посему не только не бросается в глаза, но зачастую вовсе незаметна — неопытному взгляду, разумеется.
Масштабность деятельности закарпатских водохозяйственников и, что самое главное, жизненную необходимость ее можно по-настоящему прочувствовать и осознать лишь в тех местах, где работа еще не сделана и где разрушительная сила воды проявляет себя беспрепятственно. Проезжая по Закарпатью, мы видели эти места: заболоченные паводками и еще не осушенные поля, на которых растут бурьян да осока, а могла бы колоситься пшеница; подмытый и обрушившийся берег горной речки; язва ветвистого оврага, разъедающего голый склон; оползень, как ножом обрезавший дорогу; покинутый хозяевами домик, к крыльцу которого вплотную подошла вода...
Литвинов был неутомимым и эрудированным гидом. Он знал всю область как свою квартиру. Но видел все, что проносилось мимо нас в окне машины, сквозь призму профессиональных интересов. Казалось, его оставляли равнодушным зеленые шпалеры виноградников под полыхающим в зените солнцем и полумрак горных лесов, переливы радуги над водопадами, петли дорог на уходящих в небо склонах и стены древних крепостей...
— Изящная церквушка,— замечал я иногда.
— Да-да,— подхватывал Литвинов и тут же добавлял: — Этой весной ее по паперть затопило.
И так он комментировал все окружающее. Мы подъезжали, например, к автодорожному мосту, легко и плавно вознесшемуся над рекой. Литвинов тронул меня за плечо:
— Смотрите, это новый мост. Старый в прошлом году снесло паводком...
На деревенской улице, похожей на музей сельской архитектуры, Литвинов говорил:
— Эту деревню в семьдесят четвертом залило по окна. Тогда в области пришлось эвакуировать четыре тысячи двести человек...
На полпути из Хуста в Тячев он неожиданно сказал шоферу:
— Тормозни! — выскочил из машины и показал на асфальт перед бампером: — Вот тут, на этом самом месте, во время паводка семидесятого года мы взорвали шоссе. Оно работало как дамба и подпирало воду. А не взорвали бы, вода пошла бы в село Вышково. Вон оно, видите?
Но вдруг Литвинов приоткрылся с иной стороны:
— Смотрите, слева Черный Мочар. По-русски — Черное Болото.
Я взглянул и увидел: на «болоте» зелеными волнами до горизонта переливались под ветром колосящиеся зерновые.
— Двадцать лет назад здесь действительно было болото,— сказал Литвинов.
Для Закарпатья это был большой массив — десять с половиной тысяч гектаров. Росла на нем болотная трава да водились лягушки, которыми кормились аисты, слетавшиеся из окрестных деревень.
В шестидесятых годах Закарпатское управление мелиорации и водного хозяйства, где тогда еще молодым инженером работал Литвинов, руководило осушением Черного Мочара. После того как часть земель была осушена, вспахана и засеяна, Литвинов, часто здесь бывавший, нашел неподалеку от межи трех мертвых аистов. Птицы, как выяснилось, отравились минеральными удобрениями, которые еще до них отведали лягушки. Вернувшись в Ужгород, Литвинов побеседовал с председателем областного общества охраны природы, профессором биологического факультета Ужгородского университета Василием Ивановичем Комендаром. И в то же лето экспедиция студентов-биологов обследовала места кормежки аистов на Черном Мочаре.
Предстоял еще один разговор — самый трудный, как казалось Литвинову. Но председатель колхоза «Пограничник» Петр Иванович Кляп понял его без долгих объяснений. Вскоре правление колхоза вынесло решение: не осушать сорок гектаров Черного Мочара, оставить аистам их кормовую базу.
Малозначительный, казалось бы, но интересный, по сути, факт. Специалист-мелиоратор, целью профессии которого было сделать всю землю, сколько ее есть, пригодной для сельскохозяйственных угодий, и колхозники, для которых при закарпатском малоземелье лишние сорок гектаров пашни были отнюдь не лишними,— а между тем никого не понадобилось убеждать в том, что аисты — равноправные члены биологического сообщества Земли и что им, как и людям, нужно есть, строить гнезда и выращивать детей.
...В городе Тячеве Литвинов попросил остановить машину у небольшого сквера, где в тени густых крон темнел памятник в форме угла обвалившегося дома. На черном камне тусклым золотом светилась надпись. Борис Семенович Косенко и Куно Рейнгольдович Шеля награждены орденами «Знак Почета» за спасение людей при наводнении. Награждены посмертно.
Это был паводок 1970 года — один из тех, что по теории должны случаться раз в сто лет. Воды Тисы, протекающей рядом с Тячевом, размыли дамбу, ворвались в город и понеслись по улицам грозными мутными потоками. Два тракториста, Косенко и Шеля, на колесном тракторе «Беларусь» вывозили в безопасное место людей, забиравшихся от воды на деревья и крыши. Два рейса сделали они по превратившейся в бурную реку Киевской улице и двадцати двум людям спасли жизнь. В третий рейс им не следовало бы отправляться — поднимавшаяся вода уже заливала кабину и подбиралась к двигателю, трактор качало на волне и разворачивало боком к бешеному течению. Но там, на улице, кричали: «Помогите!..»
Вечерами мы возвращались из разъездов по области в Ужгород. И в тихом номере гостиницы вновь начинались разговоры о защите и борьбе. Увлекшийся Литвинов выкладывал на стол вороха всевозможных брошюр, газетных вырезок, машинописных документов и засиживался до полуночи.
Он говорил о том, что борьба с паводками в Закарпатье имеет давние традиции — в архивах сохранились описания катастрофических паводков прошлого столетия, а в фольклоре бытуют легенды о наводнениях-потопах, когда приходилось спасаться на горных вершинах.
— Но о какой борьбе, если всерьез, могли думать водохозяйственники в те годы?—горячился Литвинов.— Что тогда можно было противопоставить паводку? Лопату и телегу? Нет, старики мыслили правильно, делая основной упор на защитные сооружения. И работали, надо сказать, на совесть. Шлюз на канале Чаронда видели? Ему почти сто лет и простоит еще двести...
В наши дни борьба с паводками в Закарпатье начинается задолго до возможного бедствия. И речь идет не о защитных мерах — строительстве противопаводковых сооружений, а именно о борьбе. Точнее, о подготовке к ней. В области создана противопаводковая комиссия, и такие же комиссии есть в каждом районе — на них лежит ответственность за организованную встречу стихийного бедствия.
В один из вечеров Литвинов вынул из портфеля документ, на титульном листе которого было написано: «План мероприятий по безаварийному пропуску через гидротехнические сооружения паводков 1981 года».
На дворе стоял май этого самого 1981 года. Паводками в Закарпатье пока еще и не пахло. А план их встречи был уже готов — и какой план! По нему сумел бы встретить паводок, пожалуй, даже инопланетянин, если бы знал русский язык,— так исчерпывающе и четко была изложена программа действий тысяч людей в аварийной ситуации.
Я перелистывал страницы плана и представлял себе, как в грозовую ночь люди, разбуженные стуком в дверь или тревожными звонками телефона, срываются с постелей, ощупью одеваются и выбегают из домашнего тепла под хлещущие струи ливня; как в темных окнах зажигаются огни, хлопают двери, торопливо чавкают по грязи сапоги, лязгают гусеницы тракторов, ревут моторы и режут тьму лучи слепящих фар; как открываются, скрипя, ворота складов, где заготовлены на этот случай лопаты, кирки, доски, колья, мешки с песком, и люди быстро, по-солдатски, разбирают нехитрый аварийный инструмент; как у невидимого в темноте прорыва дамбы мечутся светлячки карманных фонарей, движутся смутные фигуры, перекликаясь хриплыми спросонья голосами, звенит металл, грохочет камень — то самосвалы, задирая кузова, ссыпают свой тяжелый груз в черную, бешено несущуюся воду, чтобы не допустить ее к полям, где зреет хлеб, к домам, где в этот поздний час не спят дети...
В плане, естественно, всего этого не было. В нем были перечни гидрологических постов и наиболее возможных мест прорыва дамбы, сборных пунктов противопаводковых бригад и складов аварийных материалов, списки бульдозеров, тракторов, экскаваторов, автомашин и даже конных подвод с указанием районов сосредоточения, фамилии сотен людей с их адресами, номерами телефонов и очень точные инструкции о действиях с учетом обстановки. Однако весь этот сухой служебный текст был от начала до конца пронизан духом напряженной, чуть ли не воинской готовности людей в любой момент вступить в отчаянную схватку со стихией...
— Именно так и только так,— сказал Литвинов.— С нашими паводками миром не поладишь.
— Но не всегда же паводок катастрофический? Есть же какая-то закономерность в чередовании больших и малых паводков?
— Чисто теоретическая. А на практике за одно лишь последнее десятилетие мы пережили три таких высоких паводка, каким положено случаться раз в сто лет. И пожалуй, они стали более бурными...
— Почему?
— Мы в свое время вырубили много леса и оголили склоны гор. Снег на безлесном склоне тает быстро, вода несется вниз со страшной скоростью. И талая и дождевая. Ей просто негде задержаться, не во что впитаться — нет лесной подстилки... Кроме того, мы стали больше строить, больше осваивать земель. Оттого и ущерб от паводков больше.
— Какой же выход?
— Выход один: строить и строить,— сказал Литвинов и показал мне черновик письма в Совет Министров Украинской ССР.
Письмо начиналось словами: «Закарпатское управление мелиорации и водного хозяйства просит рассмотреть возможность включения в план одиннадцатой пятилетки проведение следующих противопаводковых работ в бассейне реки Тисы и других рек области...»
Л. Филимонов
Ужгород
(обратно)
Саркофаг без тайн

Широкое асфальтовое шоссе вырывается наконец из тесноты и сутолоки жилых кварталов Вилья-Эрмосы
(Вилья-Эрмоса — столица мексиканского штата Табаско)
и, минуя мост, переброшенный через мутную от недавних дождей величественную Грихальву, идет строго на юго-восток. Вокруг плоская болотистая равнина с бесчисленным множеством рек, озер и ручьев. Лишь изредка мелькнет за окном автомобиля одинокая усадьба земледельца или бензоколонка с красочными вывесками реклам. Огненный шар тропического солнца лениво ползет вверх по небосклону, заливая все вокруг слепящим белесым светом. Повсюду царит сонный покой.
Но уже через 30—40 километров пути картина резко меняется. Местность становится выше. Исчезают болота. Чаще встречаются аккуратные домики селений, укрытые в зелени садов. А затем справа, у самой линии горизонта, возникает из знойной дымки темная гряда лесистых холмов — предгорья Чьяпасской Сьерры. Наш путь лежит именно туда, в горы. Мы едем в Паленке — одну из самых блестящих столиц цивилизации древних майя.
Я давно мечтал побывать здесь, и не только потому, что архитектурные памятники и скульптура Паленке отличаются особым изяществом и красотой. Меня как профессионального археолога интересовал прежде всего тот природный фон, та естественная среда, на основе которой вырос некогда столь многолюдный и процветающий город. Правда, была и еще одна веская причина посетить эти заповедные руины, но о ней я скажу позже.
Дорога пошла вверх, завиваясь в причудливые спирали, и через несколько минут наша машина стояла уже на краю широкой зеленой площадки, перед входом в археологическую зону Паленке.
Древние
майя выбрали для строительства города удивительно удачное место. Основная его часть расположена на платформе-плато, возвышающейся над окружающей равниной почти на 60 метров, и на склонах окружающих гор. С юга город защищен стеной скалистых горных хребтов, где берут начало многочисленные реки и ручьи с кристально чистой водой. Древние строения с поразительной гармоничностью вписываются в складки горного пейзажа. А буйная зелень леса служит для них необычайно эффектным фоном.
В самом центре, где был когда-то «священный квартал» с храмами богов и жилищами царей, и сейчас еще можно видеть целое созвездие архитектурных шедевров — святилищ и дворцов. Пепельно-серые, с каким-то неясным фиолетовым оттенком, они словно застыли в вековом сне под бездонным голубым небом. И кажется, что время не властно над ними. Вот сейчас опять зашумит толпа на городской площади, взовьется душистый дымок сжигаемых на алтарях благовоний, и из дверей главного дворца покажется торжественная процессия сановников и жрецов, сверкая яркими красками одежд и головных уборов из перьев диковинных птиц.
Но жизнь давно ушла отсюда, не оставив после себя никаких осязаемых следов, если не считать этих седых руин. «Какой же народ построил Паленке? — спрашивал в 1840 году один из первооткрывателей города, американский путешественник Джон Ллойд Стефенс. — ...Архитектура, скульптура и живопись, все виды искусства, которые украшают жизнь, процветали когда-то среди пышно разросшегося леса. Ораторы, воины и государственные деятели; красота, честолюбие и слава жили и умирали здесь, и никто ничего не знал о существовании подобных вещей и не мог рассказать об их прошлом».
Ученые не располагают пока какими-либо историческими данными о Паленке в виде свидетельств из летописей, преданий и хроник. Мы не знаем до сих пор даже подлинного названия древнего города.
Слово, которое впервые употребили для обозначения этих забытых руин испанцы в конце XVIII века — «Паленке», переводится с испанского как «палисад», «деревянная ограда», «укрепление». С другой стороны, индейское название местного ручья Отулум можно перевести как «укрепленные дома». В таком случае испанский термин «Паленке» был, видимо, прямым переводом старого майяского названия города. Есть также предположение, что в далеком прошлом Паленке называли «Начан», или «Город змей». Вместе с тем следует помнить, что все эти названия появились сравнительно недавно, не раньше XVII века, и были даны людьми, не знавшими ничего реального о жизни давно погибшего города и его обитателях...
Купив билеты у строгого сторожа-индейца, мы попадаем наконец на территорию Паленке. Древнейшие археологические находки, обнаруженные здесь, относятся к концу I тысячелетия до н.э. А расцвет города приходится лишь на VII—VIII века н.э. Его правители не раз покрывали себя славой на полях сражений. Его архитекторы воздвигали величественные дворцы и храмы. Его жрецы терпеливо изучали небесный свод, проникнув в глубокие тайны мироздания, а художники и скульпторы воплотили в камне и алебастре свои гуманистические идеалы. Но в IX веке Паленке переживает глубокий упадок. Внутренние неурядицы и особенно нашествие воинственных племен тотонаков и нахуа с побережья Мексиканского залива подорвали его жизненные силы, и город затем погиб, а безмолвные руины были надежно спрятаны природой в непроходимой лесной чаще.
Паленке пришлось открывать заново уже в наши дни. И сделали это путешественники и ученые из многих стран Европы и Америки: Антонио Дель Рио, Г. Дюпе, Ж. Вальдёк, Дж. Ллойд Стефенс и Ф. Казервуд, А. Моудсли. Но самый значительный вклад в исследование города внес мексиканский археолог Альберто Рус Луилье.
...Посыпанная гравием дорожка выводит нас на главную площадь Паленке. Справа — покрытые буйной зеленью уступы горных хребтов. Слева — торжественные руины погибшего города.
Впереди все выше вырастает серая громада дворца с его странной квадратной башней, похожей на колокольню средневекового собора. Но что это? Я останавливаюсь. У самой дороги, в каких-нибудь 50 метрах от парадной лестницы дворца, видна невысокая железная оградка. Внутри скромный белокаменный памятник, сделанный в виде уменьшенной копии древнемайяского храма. На боковой стороне монумента четкая надпись: «Альберто Рус Луилье. 1906—1979».
Здесь покоится прах главного исследователя Паленке. Он умер внезапно, от сердечного приступа, в далекой Канаде, во время подготовки очередного Международного конгресса ученых-американистов, и согласно завещанию был похоронен там, где провел столько трудных, но счастливых лет.
Всегда нелегко примириться с мыслью, что нет больше человека, которого ты хорошо знал и которому многим обязан. Но здесь горечь утраты обжигала вдвойне. Ведь именно Альберто Рус шесть лет назад, в 1976 году, настойчиво убеждал меня посетить Паленке. Именно он своим живым и страстным рассказом быстро ввел в круг решенных и неясных проблем местной археологии.
Шумят разноязыкие толпы туристов. Поют невидимые в лесной чаще птицы. Древний Паленке и в этот жаркий апрельский день живет своей обычной суетной жизнью. И, отвлекшись от грустных воспоминаний, я двинулся к манящим руинам города.
Архитектурное «лицо» Паленке определяет прежде всего царский дворец — причудливый лабиринт из галерей, комнат, внутренних двориков и подземелий.
В одном из его дворов рядами установлены каменные плиты с рельефами, изображающими пленников или представителей покоренных городов. В другом — плиты с гигантскими резными иероглифами, пока никем, увы, не прочитанные. Над массивным четырехугольником дворца возвышается квадратная башня — уникальная деталь, не отмеченная больше ни в одном другом городе древних майя. Скорее всего это сторожевая вышка. Но иероглиф планеты Венера, высеченный на одной из лестниц внутри постройки, дает право предполагать, что она использовалась и для астрономических наблюдений. Когда-то стены дворца (снаружи и изнутри), его колонны и крыша были оштукатурены, расписаны яркими красками и сплошь покрыты затейливой и тонкой резьбой. Эти изящные барельефы, частично сохранившиеся и до наших дней, наглядно передают дух и нравы своей эпохи: сложные ритуалы в честь богов, чванливость победоносных правителей и своеобразные философские концепции майяских звездочетов о строении вселенной.
К востоку от дворца высятся три изящных и хорошо сохранившихся храма: «Храм Солнца», «Храм Креста» и «Храм Лиственного Креста». Все они были построены в середине VII века н.э. по более или менее единому плану. Каждый стоит на ступенчатой платформе-фундаменте. У каждого наверху, на крыше, высокий прорезной гребень. Внутри единственной комнаты в задней стене сделана ниша, образующая как бы еще одно миниатюрное святилище. В этой крохотной «часовенке» стоит алебастровая плита с резными изображениями и надписями. В «Храме Солнца» на подобной плите высечены маска бога солнца и два скрещенных копья. В двух других храмах — «мировое дерево», или «древо жизни», похожее на крест, но не имеющее ничего общего с символом христианской религии. Согласно представлениям древних майя на пяти таких «деревьях», стоявших по углам и в центре прямоугольной земли, покоился небесный свод. Там же обитали боги ветра и дождя — Чаки, посылающие благодатную влагу на поля земледельцев.
Но, несмотря на красоту и величие описанных памятников, ни один из людей, посещающих Паленке, не ощутит полного удовлетворения до тех пор, пока не побывает в «Храме Надписей» и не увидит скрытой под каменной толщей таинственной «гробницы Пакаля».
Город до сих пор поражает археологов удивительными и неожиданными находками. Однако они не идут ни в какое сравнение с замечательным открытием, сделанным А. Русом в июне 1952 года в «Храме Надписей». Храм стоит на плоской 23-метровой ступенчатой пирамиде — выше всех зданий. К нему ведет узкая каменная лестница с необыкновенно крутыми ступеньками. На стенах храма, снаружи и изнутри, археологи нашли множество иероглифов, в общей сложности до 620 знаков. Это и дало повод назвать все сооружение «Храмом Надписей».
После первого же осмотра А. Рус заметил, что пол трехкомнатного здания в отличие от других храмов Паленке сложен из больших каменных плит, одна из которых имела по краям несколько отверстий, заткнутых каменными же пробками. Видимо, отверстия предназначались для поднимания и опускания плиты на свое место.
И действительно, подняв плиту и начав раскопки, ученый вскоре обнаружил начало туннеля и несколько ступенек каменной лестницы, ведущей вниз, в глубину гигантской пирамиды. Но и туннель и лестница были плотно забиты громадными глыбами камня, щебнем и землей. Для того чтобы преодолеть эту неожиданную преграду, потребовалось целых четыре сезона тяжелого и мучительного труда. В конце концов коридор уперся в какую-то подземную камеру, вход в которую преграждала необычная, но вполне надежная «дверь» — гигантский треугольный камень весом более тонны. У входа в камеру, в некоем подобии гробницы, лежали плохо сохранившиеся скелеты пяти юношей и одной девушки, погибших насильственной смертью. Искусственно деформированная лобная часть черепа и следы инкрустаций на зубах говорили о том, что это не рабы, а представители знатных майяских фамилий, принесенные в жертву по какому-то особенно важному и торжественному случаю. Только теперь Русу стало наконец ясно, что все потраченные усилия не были напрасны. 15 июня 1952 года рабочие сдвинули с места массивную треугольную «дверь», и ученый с волнением вошел под своды какого-то подземного помещения. «Я вошел в эту таинственную комнату,— вспоминает А. Рус,— со странным чувством, естественным для того, кто впервые переступает порог тысячелетий. Я попытался увидеть все это глазами жрецов Паленке, когда они покидали склеп. Мне хотелось услышать под этими тяжелыми сводами последний звук человеческого голоса. Я стремился понять то загадочное послание, которое оставили нам люди столь далекой эпохи».
Гробница имела девять метров в длину и четыре в ширину. Посередине ее стоял массивный каменный саркофаг, закрытый сверху огромной плитой с резными изображениями и надписями. Внутри находились останки рослого мужчины средних лет, буквально засыпанного массой драгоценных нефритовых украшений. На лицевой части черепа лежала изящная маска из кусочков нефрита и раковин в натуральную величину, видимо воспроизводящая внешний облик умершего.
Скульптурная каменная плита, служившая верхней крышкой саркофага, сплошь покрыта резьбой. На боковых ее гранях вырезана полоса из иероглифических знаков, среди которых есть и несколько календарных дат, относящихся к VII веку н.э. На плоской наружной поверхности плиты резцом древнего мастера запечатлена какая-то глубоко символичная сцена. В нижней части мы видим страшную маску, одним своим видом напоминающую уже о разрушении и смерти: лишенные тканей и мышц челюсти и нос, большие клыки, огромные пустые глазницы. Это не что иное, как стилизованное изображение чудовища земли. У большинства народов доколумбовой Мексики оно выступало как некое страшилище, питающееся живыми существами, поскольку все живое, умирая, возвращается в конце концов в землю.
На маске чудовища сидит, слегка откинувшись назад, красивый юноша в богатой одежде и с драгоценными украшениями. Тело юноши обвивают побеги фантастического растения, выходящие из пасти чудовища. Он пристально глядит вверх, на странный крестообразный предмет, означавший у древних майя «древо жизни», или, точнее, «источник жизни» — символ маиса и всей растительности.
Альберто Рус после тщательного изучения всех имевшихся в его распоряжении источников дал следующее истолкование этим скульптурным мотивам:
«Юноша, сидящий на маске чудовища земли, вероятно, одновременно олицетворяет собой и человека, которому суждено в один прекрасный день вернуться в лоно земли, и маис, зерно которого, чтобы прорасти, прежде должно быть погребено в землю. «Крест», на который так пристально смотрит этот человек, опять-таки символизирует маис — растение, появляющееся из земли на свет с помощью человека и природы, чтобы служить затем, в свою очередь, пищей для людей. С идеей ежегодного прорастания (воскресения) маиса у майя была тесно связана и идея собственного воскресения человека... Судьба уже вынесла человеку приговор. Его должна поглотить земля, на которой он сейчас полулежит. Но, надеясь на бессмертие, он пристально смотрит на крест — символ маиса и, следовательно, самой жизни».
Эти верования, свойственные земледельческим народам, связаны с обожествлением сил природы и поклонением им. Подобно тому как Осирис — египетский бог пшеницы и растительности — заново рождается каждый год благодаря оплодотворяющему землю Нилу, куда хоронят его рассеченное на куски тело, так и у майя юный бог маиса возвращается к жизни в каждом урожае благодаря солнцу и дождю...
Колоссальный вес — 20 тонн — и общие размеры каменного саркофага, конечно, совершенно исключали возможность его доставки вниз по узкой внутренней лесенке после завершения строительства храма. Следовательно, саркофаг и гробница в этом комплексе главный элемент, а пирамида и храм — подчиненный. Они были выстроены над уже готовой гробницей, чтобы защитить ее от разрушения, скрыть от непрошеных взоров и, наконец, для отправления культа погребенного внутри человека. Торжественные черты погребального ритуала, человеческие жертвы и неимоверно большие затраты общественного труда для сооружения этого гигантского мавзолея со всей очевидностью показывают: здесь захоронен царь или правитель.
Открытие царской гробницы в Паленке, помимо чисто внешнего эффекта, стало крупным научным событием. Впервые на территории майя нашли погребение в каменном саркофаге с великолепными скульптурными украшениями. Кроме того, удалось доказать, что древнеамериканские пирамиды использовались не только как основания для храмовых зданий, но и для размещения внутри них гробниц наиболее знатных и почитаемых членов общества.
А сейчас время сказать и об упомянутой в самом начале веской причине, также заставившей меня поторопиться с поездкой в древний город майя...
По своей общеисторической значимости исследование Паленке вполне сопоставимо с такими крупнейшими археологическими сенсациями XX века, как находка нетронутой гробницы фараона Тутанхамона в Египте или же раскопки некрополя шумерских царей в Уре (Ирак). Стоит ли удивляться, что яркий памятник древнеамериканской культуры вскоре привлек пристальное внимание не только ученых-американистов, но и более широкой публики. Не прошло и десяти лет со дня выхода в свет первых статей А. Руса о царской гробнице в Паленке, как появились люди, взявшие на себя смелость по-своему «интерпретировать» необычную находку в «Храме Надписей». Так, например, появилась версия, будто какой-то европейский мореплаватель пересек Атлантический океан задолго до Колумба и принес аборигенам Америки свет высокой культуры, управляя в Паленке в качестве обожествленного монарха. Основанием для этого послужил лишь один факт — необычайно высокий для индейцев майя рост погребенного в саркофаге человека — 1,73 метра.
Рождению подобных гипотез во многом способствовали и уже порядком забытые, но все-таки не исчезнувшие совершенно из обихода дилетантов работы некоторых горе-археологов XIX века среди руин Паленке. Таков был, например, граф Жан-Фредерик де Вальдек — немного археолог, немного художник и... авантюрист. Результаты своего кратковременного пребывания в древнем городе он изложил в книге «Живописное и археологическое путешествие по провинции Юкатан», появившейся в Париже в 1838 году. Как выяснилось впоследствии, он вовсе не был графом, и под стать громкому титулу оказались и многие его рисунки скульптур из Паленке, намеренно стилизованные под римские и греческие образцы. Одного из правителей древних майя Вальдек изобразил во фригийском колпаке, а чисто американских хищных животных ягуаров превратил... в слонов.
Именно на почве подобных «фактов» пышно расцветали когда-то красочные гипотезы о далеких трансокеанских плаваниях цивилизованных жителей древнего Средиземноморья в «дикую» Америку и о зарождении там очагов высокой культуры под благотворным влиянием извне (Г. Э. Смит, Ф. Перри и др.). Стоит ли говорить, что все эти гипотезы абсолютно безосновательны. Наука не располагает пока какими-либо реальными доказательствами трансатлантических связей населения Средиземноморья и Нового Света в доколумбову эпоху.
Однако еще более поразительные измышления по поводу царской гробницы в Паленке появились буквально несколько лет назад. В 1971 году небезызвестный швейцарский «писатель» и археолог-дилетант Эрих фон Дэникен в своем нашумевшем бестселлере «Воспоминание о будущем» (по которому в ФРГ был позднее снят одноименный фильм) изложил свою точку зрения на содержание скульптурных изображений с крышки саркофага в «Храме Надписей».
«В 1953 году в Паленке...— утверждает автор,— найден каменный рельеф... Мы видим на нем человека, сидящего наклонившись вперед в позе жокея или гонщика; в его экипаже любой нынешний ребенок узнает ракету. Она заострена спереди, снабжена странно изогнутыми выступами, похожими на всасывающие дюзы, а потом расширяется и заканчивается языками пламени. Человек, наклонившись вперед, обеими руками орудует множеством непонятных контрольных приборов, а левой пяткой нажимает на какую-то педаль. Он одет целесообразно: в короткие клетчатые штаны с широким поясом, в куртку с модным сейчас японским воротом и с плотно охватывающими манжетами... Активна не только поза у столь отчетливо изображенного космонавта: перед лицом у него висит какой-то прибор, и он следит за ним пристально и внимательно».
Но если от чистых эмоций обратиться к реальным фактам, то они будут отнюдь не в пользу сторонников «космических» гипотез.
Начнем с того, что в книге Дэникена прорисовка изображения на каменной плите — крышке саркофага из «Храма Надписей» — преподнесена в сильно искаженном виде. Обширные пространства резной поверхности плиты залиты черной краской, многие характерные детали смазаны, а отдельные части картины (в действительности никогда не связанные) соединены сплошной линией. Но главное — ракурс, в котором изображена крышка саркофага: чтобы придать своему «космонавту» более естественную позу (наклон вперед и т.д.), автор намеренно поместил все изображение в неверном, поперечном положении, тогда как на плиту нужно смотреть продольно, стоя у нижней, торцевой ее части. В результате подобного искажения многие детали скульптурной композиции — птица-кецаль, маска чудовища земли и все остальное — предстают перед зрителем в совершенно неестественном виде: вниз головой или боком.
Если же смотреть на рельеф саркофага правильно, непосредственно от входа в гробницу правителя, то мы увидим, что изображенный там юноша сидит, заметно откинувшись назад, на спину, и пристально смотрит вверх — на крестообразный предмет. Юноша облачен отнюдь не в «клетчатые штаны», как пишет Дэникен,— их майя, увы, не знали, так же, впрочем, как греки и римляне,— и не в японскую куртку с манжетами, а всего лишь в набедренную повязку. Тело, руки и ноги юноши обнажены, хотя и украшены браслетами и бусами из нефритовых пластинок.
Наконец, все основные элементы изображения с крышки саркофага из «Храма Надписей» — крест («древо жизни») с птицей наверху, маска чудовища земли и т.д.— представлены в разных вариациях и в ряде других храмов Паленке. В этих случаях, видимо, даже самое горячее воображение не прозрит контуров космической ракеты в причудливых изгибах майяского «креста» — символа маиса, символа жизни, символа плодородия.
Не успели утихнуть страсти по поводу «космических пришельцев» в стране майя, как у первооткрывателя гробницы в Паленке появился еще более грозный противник. В погоне за дешевой популярностью некоторые профессиональные ученые США поспешили выдвинуть столь экстравагантную гипотезу об умершем правителе древнего города, что перед нею меркнут даже «откровения» Эриха фон Дэникена.
В 1975 году на страницах журнала «Нэшнл джиогрэфик» два известных специалиста по культуре и искусству древних майя — Дэвид Келли и Мерл Грин Робертсон — после анализа изображения на верхней плите саркофага и «прочтения» иероглифических надписей на ней публично объявили о рождении новой научной сенсации. Оказывается, в гробнице «Храма Надписей» был похоронен ветхий старик в возрасте свыше 80 лет. Его имя «читается» якобы как «Пакаль» (по-майяски — «щит») на том основании, что знак щита встречается иногда в надписях на саркофаге. Далее, сославшись на некоторые календарные даты, высеченные на крышке саркофага, М. Робертсон и Д. Келли утверждали, будто Пакаль был правителем Паленке с 615 по 683 год н.э. Центральную фигуру, запечатленную на верхней скульптурной плите царского захоронения, они стали считать точным портретом умершего. И, найдя какие-то незначительные искривления на правой ступне изображенного там персонажа, американские археологи объявили Пакаля лицом, страдающим от патологической деформации ног, что было связано якобы с практикой кровосмесительных браков внутри правящей династии Паленке. Они утверждали также (на основе весьма вольной трактовки некоторых иероглифических надписей), что Пакаль был женат уже с 12-летнего возраста — сначала на своей матери, а потом на родной сестре. При жизни Пакаль был, по словам М. Робертсон и Д. Келли, человеком небольшого, почти карликового роста, что якобы свидетельствовало о физическом вырождении царского рода.
Падкие на сенсацию телевизионные компании, пресса США и некоторых стран Латинской Америки поспешили разнести пикантные откровения американских ученых по всему свету. И почивший почти 13 веков назад правитель Паленке вновь оказался в центре внимания широкой публики и специалистов.
А. Рус Луилье, до глубины души возмущенный свистопляской, которая развернулась вокруг многострадальной гробницы из «Храма Надписей», выступил в одном из мексиканских журналов со специальной статьей-опровержением, дав достойный ответ фальсификаторам науки.
Еще раз тщательно изучив все имевшиеся в его распоряжении факты, А. Рус установил, что персонаж, погребенный под пирамидой «Храма Надписей», был одним из наиболее выдающихся правителей Паленке во второй половине VII в. н.э.; он родился в 655-м и умер в 694 году, то есть в возрасте 39 лет.
Полное имя умершего властителя или же его характерное прозвище пока остаются неизвестными. Однако нет никаких оснований называть его «Пакалем» («Щитом»). «В действительности,— подчеркивает А. Рус,— щит (обычно с маской солнечного божества) служил символом власти, который имели многие персонажи, изображенные на стелах и рельефах во многих городах древних майя, включая и Паленке... В качестве иероглифа щит известен в надписях из многих майяских центров и употребляется в самых разных значениях».
Повторное изучение скелета правителя мексиканскими антропологами подтвердило, что умерший был рослым (1,73 метра) и крепким мужчиной в возрасте около 40 лет без каких-либо следов патологических врожденных дефектов. «Предполагаемая деформация ступни,— говорит А. Рус,— в действительности вполне объяснима намерением древнего скульптора изобразить ее в заднем ракурсе, позади левой ступни, которая помещена на переднем плане». Не может также быть и речи о том, что великий правитель Паленке был хилым, сгорбленным карликом. Внушительный даже по современным стандартам рост в 1,73 метра должен был казаться древним обитателям города поистине гигантским, поскольку средний рост индейца майя составлял, по сведениям этнографов, не более 1,5—1,6 метра.
«Между этим предполагаемым «пришельцем из космоса»,— заключает А. Рус,— и «сеньором Пакалем»... практически нет никакой разницы. И та и другая точки зрения всецело являются продуктами фантазии. Их создатели, хотя и по разным причинам, абсолютно одинаковы в разгуле своего воображения, в чрезмерной погоне за сенсацией и в искажении данных науки».
Жизнь любой сенсации недолговечна. Быстро увядают и мертворожденные цветы беспочвенных фантазий и гипотез. Только подлинно научные открытия и факты способны выдержать беспощадную проверку временем. Именно на этой основе был заложен фундамент и возведено грандиозное здание современной науки, в котором по праву заняла свое место археология. И среди тех, кто оставил после себя заметный след, в истории американской археологии, находится, безусловно, и выдающийся мексиканский ученый Альберто Рус Луилье. Его имя навсегда связано теперь с изучением культуры древних майя, с Паленке и знаменитой гробницей в «Храме Надписей». А его богатое научное наследие — многочисленные книги и статьи, раскопанные скульптуры и реставрированные храмы — еще долго будет служить людям, помогая познавать красоту давно исчезнувших цивилизаций и отличать подлинные ценности от мнимых.
Валерий Гуляев, доктор исторических наук
Мехико — Москва
(обратно)
Безвыигрышная лотерея

В течение многих веков на большей части земель нынешних американских штатов Юта, Невада, Аризона жизнь зависела от щедрости реки Колорадо и ее притоков, которые, меняя русла, то облагораживали песчаные земли, то, уходя, превращали их в безжизненную и унылую пустыню.
«Пустыня не бесплодна,— говорили местные индейцы,— плюнь — и вырастет цветок». На границе Аризоны и Невады воздвигли огромную плотину. В начале тридцатых годов, во времена экономического кризиса, президент Франклин Рузвельт приложил большие усилия, чтобы убедить десятки тысяч американцев вложить средства и силы в строительство плотины имени Гувера. В октябре 1935 года ее закончили. Почти две тысячи километров бежит Колорадо, а затем, «споткнувшись» о плотину, расплескивает свои воды, орошая сто тысяч гектаров земли.
И все же большая часть Невады — полупустыня. Сколько хватает глаз, сизое туманное покрывало окутывает землю до самого горизонта. В трех-четырех метрах от раскаленной бетонной полосы начинается царство полыни, ковыля и прочих степных трав. Многие городки и поселки здесь так и не изменили свой облик за последние пятьдесят лет, словно не разливалось огромное озеро Мид выше города Боулдер-Сити.
Лас-Вегас избежал подобной участи. С завершением строительства сюда пришла вода Колорадо. Если бы не плотина, городок по-прежнему оставался бы маленьким, заброшенным и пыльным местечком, в котором и деревья выживали нечасто.
Теперь американцы называют Лас-Вегас «столицей сверхновых удовольствий»: это город бизнеса, построенного на азартных играх. На улицах нет живого места от рекламы. Она цветиста и изобретательна. Реклама бьет в глаза и... по карману, заманивая приезжих во множество баров, кафе, ресторанов, игорных домов, гостиниц, где тысячи автоматов — «слот-машинз» — ждут своей пищи — долларов. Опустил в щель монету («слот» и означает «щель», «прорезь»), дернул рукоятку игорного автомата — и проигрыш. Выигрыш бывает редко. Но ведь бывает! Реклама утверждает, что выигрывает каждый третий. Вот и тянутся женщины и мужчины, бедные и богатые, подростки и старики к рукояткам «одноруких бандитов». Кому не хочется испытать судьбу?!
Мы тоже попробовали. Нас было пятеро. Первый «раунд» проиграли, второй, третий, четвертый — тоже... Наконец один из моих спутников выиграл. Скормил «однорукому бандиту» очередной «квортер» — монету в двадцать пять центов — и в двадцатый раз дернул рукоятку. Автомат заурчал. Внутри его звякнули колокольчики, и наверху загорелся разноцветный маячок, показывающий на четыре стороны цифру 10 — выигрыш в десять долларов. А все вместе мы загнали в чрево «щель-машины» не меньше тридцати. Подошедшая на звон колокольчиков служащая сообщила счастливчику, что он получит восемь долларов, так как двадцать процентов выигрыша взимаются в качестве налога.
Лас-Вегас местные жители называют «ночным Вавилоном». Сумасшедшая реклама взрывается, скачет и извивается, крутится каруселью вокруг казино и баров. Одна из центральных гостиниц города — со всеми своими игорными заведениями, ресторанами, барами, варьете, прачечными, химчистками, рекламой — пожирает за сутки столько электроэнергии, сколько ее требуется городу с населением в сорок тысяч жителей.
Энергию «игорной.столице» дает та самая плотина имени Гувера, которую американцы с таким напряжением сил строили в годы Великой Депрессии...
Лас-вегасские игорные дома, каких не знает и Монако, доступны богатым людям. Внутри казино большие и малые залы, в холлах ряды разноцветных и разновеликих «слот-машинз». Особое место отведено картежным столам, обтянутым зеленым сукном. Над ними низко подвешены яркие светильники. Крутятся колеса рулеток, шелестят карты. Снуют официанты и официантки, толкая перед собой тележки с напитками и едой.
Играют здесь сидя и стоя, играют с утра до вечера, с вечера до утра. Круглые сутки полгорода не спит: к 70 тысячам коренных жителей ежедневно присоединяются 25—30 тысяч туристов — ловцов счастья, развлечений и... горьких разочарований.
Лас-Вегас расположен на самом юге Невады. На западе штата, близ границы с Калифорнией, есть еще один подобный город-котел, где кипит азарт, пьяный угар, купеческий размах и ковбойская удаль Дикого Запада. Это Рино. Как и Лас-Вегас, он живет игорным бизнесом. Оба города безразлично относятся и к счастливчикам, и к неудачникам, ибо итог один: выигравший в конце концов обязательно проиграет. По словам служащего казино «Европа» Роджера Барнеса, логика проста и неумолима: выиграв немного, клиент становится увереннее в себе, идет на более крупные ставки, но... Но, даже уйдя из казино с каким-то выигрышем, туристы, как правило, все равно расстаются с деньгами в ближайших магазинах.
Туристы и азартные игры — залог процветания Невады. Доходы штата от азартных игр превышают миллиард долларов в год. Экономика Невады находится в прямой зависимости от клацания «одноруких бандитов», шелеста игральных карт и жужжания рулетки.
«Приглашение в азарт» в Лас-Вегасе и Рино начинается с малого. В номере любого отеля вы всегда найдете десятка два «никелей» — пятицентовых монет — для начала игры, для «затравки». Нередко рядом лежат и бесплатные талоны на выпивку. Как же тут не поиграть и не выпить на дармовщину? Ну а если никели кончились и наличные деньги тоже, к вашим услугам целая сеть ломбардов, которые никогда не пустуют. Сюда сдают все: от ручных часов и очков до верхней одежды и обуви...
Недалеко от Рино лежит большое живописное озеро Тахо. На западном берегу его расположен город Тахо-Сити, тоже центр развлечений, но гораздо меньшего масштаба, чем Лас-Вегас или Рино. Впрочем, здешнее казино «Сахара» широко известно и в Неваде и в Калифорнии. Поездка на озеро Тахо в мои планы не входила, но вдруг подвернулся случай.
В сан-францисском клубе журналистов я познакомился с Джеймсом Холденом — рослым, широкоплечим человеком средних лет, с пышными бакенбардами и длинными густыми волосами, спадающими на плечи. Холден журналист. Но бывший. Года три уже как не работает: не послушался издателя газеты. Теперь жалеет, очень жалеет.
В клуб журналистов он приходит, чтобы поесть. Во время ленча здесь бывает «шведский стол»: платишь три доллара — и ешь сколько хочешь.
— К сожалению,— признался Холден,— я не всегда могу сюда попасть. Здесь обедают в основном те, кто хорошо зарабатывает и регулярно платит взносы. Но знакомый швейцар все же пускает меня иногда. Между прочим, завтра я собираюсь поехать в Тахо-Сити. Вы не бывали в казино «Сахара»? Тогда предлагаю составить мне компанию. Для меня эта поездка важна, а вам будет полезна и поучительна...
...Субботний день на исходе. Мы ожидаем автобуса, отправляющегося на озеро Тахо. Путешествие начинается около вокзала Саутерн-Пасифик в Сан-Франциско. Автобус подбирает пассажиров еще в Окленде и Сакраменто. Херб, водитель автобуса, работает на этой линии много лет и утверждает, что больше всего в его занятии ему нравятся дорожные встречи. Хербу пятьдесят лет, у него седые волосы, форма стального цвета прекрасно отутюжена, туфли начищены до блеска. На отвороте пиджака — маленький значок «Двадцать лет работы на транспорте».
— Люблю знакомиться с людьми. Сколько интересных типов! Среди пассажиров много таких, что ездят в казино регулярно, каждый месяц.— Херб пожимает плечами: — Чудаки! Выбрасывают столько денег на ветер...— Он сам не играет никогда.
...Одиннадцать часов вечера. Завидев огни приближающегося города, пассажиры зашевелились. Я ощущаю, как воздух в автобусе наполняется ожиданием, предчувствиями, надеждами. Разговоры:
— Я никогда не беру с собой больше, чем могу позволить себе проиграть... (Полуложь.)
— Со мной только сто долларов... (Явная ложь.)
— Сегодня обязательно проиграюсь! (Не фатализм, а боязнь сглазить.)
Конечно, о проигрыше никто не думает, каждый в душе надеется, что уж сегодня-то наверняка — День Удачи.
Билет в «Сахару» стоит одиннадцать долларов. Впрочем, у входа в казино клиентам возвращают шесть долларов в десятицентовых монетах. Это приманка.
Получив кучу монет, ловцы счастья из нашего автобуса расходятся: углубляются в коридоры казино, в лабиринты игорных машин, стремясь найти ту заветную, которая их обогатит.
Мы с Джеймсом подошли к столу, где играли в «кено». Здесь уже горячился Джино, итальянец, сидевший впереди нас в автобусе.
Кено — простая игра типа лото. На доске обозначены числа от 1 до 80. В каждый кон можно ставить только на двадцать из них. Требуется угадать, какие числа появятся. Вы платите определенную сумму, выбираете, скажем, восемь чисел и, если все они выпадают, выигрываете десять тысяч долларов.
— О, я не такой дурак, чтобы верить в случай. У меня есть ПЛАН! — возбужденно шепчет нам Джино.— Систему мне, конечно, не перехитрить, но мой секрет дает много шансов на успех.
Джино показывает девять стодолларовых бумажек и обещает, что к концу ночи они превратятся в две тысячи. Он одновременно играет по десяти билетам, попеременно загадывая числа от 60 до 80. Билет стоит сорок центов, таким образом, каждый кон обходится в четыре доллара. Мы наблюдаем за Джино. Зажигаются двадцать чисел. Не выиграв ничего, он вскакивает и, обращаясь к крупье, кричит зычным голосом: «Играю те же цифры снова!»
«Секрет» Джино состоит в том, чтобы все время ставить на одни и те же цифры, никогда не менять их. Игра повторяется и повторяется, итальянец неизменно проигрывает. Билет Джеймса тоже проиграл, и он направляется к игорным автоматам. Мы желаем Джино удачи, но он нас не слышит. Снова доносится его голос: «Играю те же цифры!»
В зале встречаемся с другой нашей попутчицей, Альвиной Ленон. Она сидит на высоком табурете, скармливая десятицентовики «щель-машине». Спина напряжена, руки дрожат, время от времени женщина оборачивается и горящим взором опасливо окидывает окружающих. Сразу видно, что она уже успела выпить. Альвина начинает раскачиваться на табурете. Джеймс спрашивает, выиграла ли она. Не оглядываясь, женщина мгновенно отвечает: «Иду ровно». Это значит — ни выигрыша, ни проигрыша. Обычный ответ. Его здесь слышишь постоянно. «Иду ровно»,— единственное, что можно говорить окружающим, даже если проигрываешь. Второй смысл фразы: «не привязывайся», «отстань», «какое тебе до меня дело?..»
Альвина — бывшая учительница. Два года без работы. У нее парализованная мать, которая получает от «Бэнк оф Америка», где работала раньше кассиром, небольшое ежемесячное вспомоществование. Альвина — тайком от матери — каждую субботу ездит в «Сахару», надеясь выиграть, выиграть, выиграть...
— Вашу школу закрыли? — спрашиваю я Альвину Ленон.
— Нет, я сама ушла.
— Почему?
— Надоело, устала. Меня избили, потом преследовали...— Женщина помолчала.— Но теперь понимаю: лучше муки в школе, чем безработица... Лучше язва желудка, мигрень, даже побои, чем вот так...
Джеймс давно знает Альвину. Это он берет ее с собой в «Сахару». Неудобно ведь женщине одной ехать в такую даль, да и небезопасно. К тому же Джеймс хоть немного, но подрабатывает, пишет за других, редактирует. Когда есть деньги, приглашает Альвину на плотный обед.
— Если она не найдет работу,— сказал Холден,— того и гляди сойдет с ума. Или сопьется. Или покончит с жизнью...
Для многих учителей в американских школах, где процветают насилие, воинствующее невежество, вопрос о том, не бросить ли свою профессию и заняться чем-то другим, стал «эмоциональной необходимостью». Появился даже такой феномен, как педагогическое истощение, психологическое состояние, которое может привести к депрессии, тяжелым неврозам, самоубийству... Как и многие, Ленон не вынесла педагогического истощения. Теперь ее единственное утешение — субботняя поездка в казино «Сахара», а еще два раза в неделю она сидит с малышом соседки, отдыхая душой и получая за вечер восемь долларов.
В казино «Сахара», в живописном месте на озере Тахо, я видел людей с трясущимися руками, с лихорадочно блестящими глазами. Их души раздирал на части азарт: что лучше — сыграть в кено, в лото, на автомате, в карты? Где повезет, где удача, где те доллары, на которые можно прожить завтра, неделю, месяц, снова ехать сюда? Шум, гам, клацанье автоматов, густые облака табачного дыма...
Часа через два я снова увидел бывшую учительницу. Лицо ее набрякло, под глазами мешки. Она по-прежнему «охраняла» свой игорный автомат. Джеймс встает за соседнюю машину, начинает играть. Пяти долларов как не бывало.
В соседнем зале играют в лото. Это тоже игра для мелкой сошки, но и здесь страсти накалены до предела. Тот, кто окончит игру первым, выигрывает пятнадцать долларов, а счастливчик, закрывший карточку меньше чем за пятьдесят ходов, может сорвать даже сто долларов, но таких нет.
В четыре утра идем в бар — надо перекусить. Там встречаем Джино. Вытащив из кармана девять стодолларовых бумажек, он с восторгом восклицает:
— Смотрите! Выиграл! Я знал, что мой план сработает! Начал с полусотни, а теперь у меня девятьсот!
Никто не напомнил ему, что эти же девять бумажек он показывал в начале игры: зачем расстраивать человека? Хорошо, что он хотя бы остался при своих. Это уже удача.
...Автобус подходит вовремя, ровно в семь. Херб, хорошо отдохнувший, свежий, выбритый, улыбается нам и спрашивает:
— Ну как, все в выигрыше?
Пассажиры утвердительно кивают — таков этикет.
В автобусе Джино машет своими купюрами перед носом какой-то пожилой женщины:
— Видите? Выиграл!
Женщина явно ему завидует.
— Рулетка? — спрашивает она.
— Играю только в карты! — нахально врет Джино.— Это единственный способ выиграть.
— Но я не умею играть в карты...
— Никто не умеет играть в карты,— убежденно говорит итальянец.— Если кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что умеет,— не верьте. Тут нужна интуиция, нюх — вот как у меня. А во что играли вы?
— В кено, на игорных автоматах...-— еле слышно отвечает женщина.
— Ну, в таком случае мне вас даже не жаль. Вы были обязаны проиграть, если тратите деньги на это!
Проходит час. Кроме меня и Джеймса, все спят. Альвина улыбается во сне. Наверное, она переживает сейчас самый большой свой выигрыш, который перевернет всю ее жизнь.
Лицо Джино и во сне сохраняет выражение «бывалого игрока».
Мы с Джеймсом шепотом переговариваемся.
— Конечно,— говорит он,— в таких казино бывают и тузы, «денежные мешки». Им все равно — выиграют они или проиграют. Они развлекаются. Но больше таких, как я или Альвина. Мы надеемся на удачу, у нас нет работы. Я однажды выиграл пятьсот долларов, потом два раза по десять. И меня затянуло: вдруг еще выиграю?
— А сегодня вы много проиграли? — спрашиваю я и тут же с запозданием спохватываюсь: такие вопросы задавать не принято.
— Шел ровно,— бесцветным голосом отвечает Джеймс и, отодвигаясь, закрывает глаза...
Григорий Резниченко
Лас-Вегас — Сан-Франциско — Москва
(обратно)
Встречь байкальского ветра
 Древнее темя Азии
Древнее темя Азии
Случай заставил меня по-иному взглянуть на карту Байкала. Тот же случай стал причиной незабываемого путешествия... Изучая судьбы участников поиска «Земли Андреева», я встретил фамилию Алексея Пушкарева. Это он вместе с «геодезии прапорщиками» И. Лысовым и И. Леонтьевым обследовал ледяную пустыню к северу от Медвежьих островов в 1769—1771 годах. В карте, составленной геодезистами, Ф. Врангель даже спустя много лет, в 1821 году, не нашел погрешностей. И немудрено. Пушкарева и его товарищей направил сибирский губернатор Д. И. Чичерин «как состоянием их надежных, так и довольно геодезии знающих». Тот же Пушкарев семью годами раньше был послан на Байкал-море. Работал он в экспедиции Ивана Ивановича Георги, этнографа и натуралиста. Подштурман Пушкарев на лодке обошел весь Байкал и составил первую гидрографическую карту озера на инструментальной основе. Его «карта плоская, специальная Байкальского моря» впервые дала верный контур гигантского водоема. И главное, была первой морской картой Байкала. Мне захотелось подробнее узнать об истории открытия озера. И началось...
Пришлось прочитать немало книг, чтобы найти подробности истории картирования озера и участия моряков в этой работе. Все оказалось для меня откровением, но рассказать об этом что-то мешало. Знать о том, как делалась карта, и не иметь представления о способе плавания! Выдумывать подробности опасного путешествия? Нет, так не годится. Но где же выход? Побродить по берегу Байкала, сотворив эффект личного участия? Нет, не то. А может, прокатиться на корабле или на моторке? А как же XVIII век? Утлый дощаник, тяжелые весла, изматывающая гребля вдоль крутых берегов «славного моря»?! Но едва ли удастся там, на озере, найти легкую гребную лодку. Это я уже знал, когда несколько лет назад с экскурсией приехал в Листвянку, чтобы «из-за угла» взглянуть на сибирское диво... В лучшем случае можно достать тяжелый кунгас у рыбаков в их «мертвый сезон». Но далеко ли уйдешь на нем? И что делать с ним, когда случится ненастье? Кажется, выхода нет. Нужно либо в байдарку садиться, либо... строить не что близкое к стружку или дощанику, на котором пустился в плавание подштурман. Уже начал вразброс пролистывать журнал «Катера и яхты», ничего толком не решив, и вдруг вижу на маленькой схеме прерывистый путь лодки «Мах-4» Евгения Смургиса, которая из Карского моря
нырнула в устье Енисея. Звоню в редакцию журнала.
— Что было дальше?
— От Дудинки вверх по Енисею пошел два года назад. Сами ждем от него материал...
Осталось написать письмо Смургису и надеяться, что еще не опоздал. Одно утешало: все-таки против течения. Енисей что море — широк, и течение быстрое. Куда он за отпуск уйдет от Дудинки? В лучшем случае до Енисейска. Из Дудинки туда 1583 километра. Из Енисейска до Байкала еще 1800 километров. То, что я знал о лодке, меня устраивало: только на веслах. Узнал еще, что идет Смургис по рекам во Владивосток. Но каков в точности маршрут: северный, по Лене, или южный, через Байкал к Амуру,— не знал...
Потом телеграмма: «Лодка в Иркутске, иду через Байкал. Об остальном при встрече в Москве». Вот так просто написано в телеграмме: «Иду через Байкал». Будто за грибами на тот берег реки... А эти сумасшедшие километры? Как он их преодолел?
Потом встреча в Москве. Кажется, мой послужной список в гребле Смургиса не смущает. Он лишь замечает вскользь, что на «резинке» да по течению — это совсем не то.
— Но мы идем,— сказал Смургис.
Мы идем, мы идем, мы идем. Так я повторяю до тех пор, пока до меня не доходит, что это и я тоже на веслах пойду через Байкал подобно первопроходцам...
Уже через месяц, прохаживаясь среди тополей в Читинском аэропорту и ожидая вылета в Москву, я снова и снова переживал наше плавание и размышлял о тех, кто открывал Байкал. О казаках и моряках, дерзнувших плавать в «священном море» будто где-нибудь на Волге, или Дону, или в Маркизовой луже — на Балтике. О людях, для которых не существовало трудностей, потому что их заменяла необходимость. О Евгении Смургисе... Думал о том, как он, взявшись за весла, невозможное сделал необходимым. По крайней мере, для себя. И о том небрежении к трудностям, которых так много на воде, когда идешь вопреки и навстречу потоку. Ловлю себя на том, что заговорил стихами Державина: «Спасет ли нас компас, руль, снасти? Нет! Сила в том, чтоб дух пылал...»
Когда самолет выпрямился и по проходу засновали люди, мой сосед заметил, показывая открывшийся внизу вздыбленный горизонт:
— Вот оно, древнее темя Азии.
С геофизиком из управления Чита-геология, моим давним знакомым Пермяковым Валентином Степановичем мы успели о многом поговорить еще под читинскими тополями. Тогда-то я и услышал, что геологическая история Байкала тоже принесла сибирскому феномену мировую известность.
— В геологии начала нашего века господствовали взгляды австрийского геолога Эдуарда Зюсса. Его книга «Лик Земли», удостоенная медали имени П. П. Семенова от Российского географического общества, оказала заметное влияние на развитие представлений в геологии. Теперь его концепция о соотношениях складчатости в региональной геологии устарела, а зюссовский регион «древнее темя Азии» заменен «Байкальской системой рифтов»...
За бортом с высоты 11 тысяч метров отороченный снегом хребет Хамар-Дабан все еще скрывал от нас Байкал. Менялся угол зрения — и внушительные хребты сникали на глазах. Среди отрогов Яблонового хребта уже мирно струились ленты рек, синие от безоблачного неба. Рифты для меня были не совсем понятны, но древнее темя на огромном черепе Азии со шрамом Байкала... это звучало.
Валентин Степанович, примяв седую шевелюру, повернулся ко мне и продолжил:
— Глубокая тектоническая впадина, в которой лежит озеро, не имеет себе равных в мире. 1164 метра! Такого разлома на суше нет нигде. Байкальская складчатость тоже оригинальное явление и именуется «байкалид». Складки такого типа есть и в Азии и в Европе, но имя им от Байкала. С конца XVIII века стала популярной теория, что озеро возникло «насильственным способом, может быть, в связи со страшным землетрясением в виде провала». Так говорил в 1772 году академик Георги, шеф Алексея Пушкарева... Позднее в популярных изданиях озеро именовали «Ангарским провалом», поддерживая жуткую картину катаклизмов. Конечно, доля истины в этом есть, хотя причины возникновения озера — процессы горообразования, происходившие миллионы лет назад. Обычный срок жизни озера — десятки тысяч лет. А Байкалу — миллионы. Тоже феномен. Вот видишь — показалось «море». Какие хребты его окружают! Они и были причиной еще одной уникальности водоема: о нем узнали позднее, чем о других, довольно неприметных географических объектах. Но это уже история...
— Да, это уже история,— повторил я, думая совсем о другом.
Внизу разворачивалась панорама Байкала. Мы летели словно над гигантской картой, и с волнением я узнавал все виденное раньше... Неясная в розовом мареве стена Приморского хребта приближалась, и я, кажется, ощутил густой настой хвои, стекающий с крутых обрывов. Вскоре хребет стал просто острым срезом с яркой желтизной береговой черты в полукружьях бухт. Потом все вдруг исчезло: мощная облачность закрыла надвигавшийся горизонт, и лишь позади за краем облачного трамплина нестерпимо ярко синел Байкал.
Вид озера незабываем, но вернуться назад и снова все увидеть уже невозможно. Возвратиться в прошлое? Возможно ли такое?..
Гребной марафон Евгения Смургиса
Давно осталась позади плотина Иркутской ГЭС. Ангара, а точнее, Иркутское водохранилище разливалось перед нами все шире и шире. Прижавшись к правобережью, мы плыли у глинистых заиленных берегов, где торчали полусгнившие деревья. Вдоль уреза тянулись кущи берез, перемежавшихся с темной зеленью сосен и кедров; они оживляли пейзаж и манили к себе, но, подходя к берегу, мы снова натыкались на черные топляки и мутную зеленоватую воду.
— Надо идти к левому, там, кажется, есть осыпи.— Смургис всматривается в обрывистый левый берег. Весла ушли под борт, лодка развернулась — и яркое, слепящее солнце высветило атлетическую фигуру Евгения.— Пожалуй, самое время искупаться, а ты заступай на вахту.
— А как же купание в Байкале?
— А разве здесь не байкальская вода? Да и будет ли там так жарко?..— И Женя, словно освобождая место гребца, исчез за бортом, но через минуту сидел на крыше кокпита и тянулся к термометру в нише чуть пониже ватерлинии.
— Плюс одиннадцать. Но надо.— Похожий на команду призыв означал ускорить ритуал погружения, ибо надо спешить. Мне показалось, что я был в воде еще меньше...
Левый берег, густо поросший лесом, притягивал уютными бухтами. В них под каменными осыпями зеленели кусты черемухи с черными, уже созревшими ягодами, рдели шиповник и смородина. Вершина одной из бухт желтела пляжем, зыбкая струйка ключика бежала откуда-то сверху, и в тишине его звон ранил, как воспоминание детства.
— Здесь и станем.— Женя поднялся, высматривая проход. Нос лодки ткнулся в песок. Через две минуты, потрескивая и скручиваясь, густо задымила береста под щепками из сосны. Потом я приладил над костром два еще не закопченных котелка и наконец взглянул на Ангару, неслышно уносящую байкальскую воду. Солнце, покинувшее нашу гавань, сверкало на воде, но борт лодки уже подсвечивался пламенем костра. Я оглянулся и только теперь понял, что бухта наша в глубоком ущелье.
— Ну что ж, открытие одиннадцатого сезона состоялось, и по традиции первые сутки пойдем без остановок.
— А как же ночь?
— Ты сам рассчитал, что луна появится в полночь. Вот при луне и двинемся дальше. Сколько у нас варева?
— Варева хватит,— отвечаю я, прикидывая, что завтра к полудню будем в истоке Ангары. И добавляю: — Восемьдесят километров за два дня — неплохо.
— Дальше будет хуже.— Женя взял мою правую ладонь и посмотрел на набухшие бугры мозолей.
И мне представилась карта перехода, тщательно вычерченная еще в Москве. Одиннадцатый маршрут Смургиса выглядел так: от Иркутска по Ангаре, Байкалу и Селенге. Затем переход в правый приток Селенги — Хилок и плавание по нему до города того же названия. Всего около тысячи километров. Но каких? За исключением 120 километров по Байкалу и «тихих» участков Иркутского водохранилища весь путь против течения. А Селенга полноводна и коварна, да и Хилок знаменит своими мелями и меандрами... Но путь этот испытанный и пройденный до нас. Таким маршрутом впервые прошли казаки Петра Бекетова «с товарищи» в 1652— 1653 годах. Позднее в «Чертеж всей Сибири, сбиранный в Тобольске» попало описание этого пути. Правда, «график» маршрута был не столь скорый, как у Бекетова: «А от Иркутского острогу вверх по Ангаре реке до Байкала озера доходят в неделю. А Байкал озеро пробегают парусом до Селенги реки дни в три... А ходу от Байкала озера до устья Хилки реки 13 дней, а вверх по Хилке реке от устья до Иргенского острогу ходу 14 недель...»
Составляя маршрут и график движения, мы с уважением оглядывались на предков и постоянно помнили о том, что были они хорошими гребцами, умели бурлачить и волочить суда. Мы тоже это умели… Но над ними не довлел технический прогресс, и они «вкалывали», не оглядываясь и не соизмеряя свой ход с бегом моторок, поездов или автомобилей. А Смургис, похоже, соизмерял — и наш поход обещал стать настоящей гонкой, в которой мы не собирались считаться с временем суток, погодой, капризами половодья или обмеления...
Сумерки над нами стремительно сгущались или мы сами не замечали бега времени — и вдруг оказались в темноте. Под выворотом сосны завозились и со свистом пробежали бурундучки в поисках чего-нибудь съестного на площадке с кострищем. Евгений поправил полено, и вспыхнувшее пламя осветило его профиль с крепко сжатыми губами и круто очерченным подбородком. Свой рассказ Евгений начал с лодки.
Еще в Иркутске, где мы готовили лодку к плаванию, он объяснил, откуда у нее такое странное название. Четыре академических весла (раньше были вальковые) для четырех машущих рук. Вот и «Мах-4». Восемь метров в длину, чуть более метра в ширину. Осадка с грузом — немногим больше двадцати сантиметров. Основа конструкции — широкая доска из кедра, образующая слегка выпуклое днище лодки. Прочный форштевень из ели, частые шпангоуты и набойные борта из еловых досок; закрытые толстой фанерой носовая выгородка и кокпит. Главный и единственный двигатель — весла. Скорость при одном гребце — семь километров в час. Два гребца «дают» скорость до двенадцати, и это обеспечивает преодоление встречного потока на шиверах и порожистых участках. При движении против течения приходится применять и волок, двигаться «бечевником» или с шестом...
Начало гребного марафона Евгения Смургиса теряется на небольшой таежной речке Колве — притоке Вишеры, что на самом севере Пермской области. Случай помог Евгению, работавшему здесь лесорубом, решиться на сверхдальнее плавание. Как-то, охотясь на рябчиков, Евгений шел вдоль Колвы и вдруг увидел лодку. Ею с помощью шеста и весел управляла женщина лет шестидесяти. Легко преодолев встречный поток, лодка скрылась за поворотом. Это произвело на Евгения впечатление, тем более что лодка была довольно вместительной. Через два года, в 1967-м, перед ледоходом Смургис готовился к первому переходу на своей лодке. Легкое, быстроходное и изящное судно сработал для Евгения 78-летний Андрей Павлович Миков из деревни Русиново.
Когда подошло время отпуска, Смургис и Валерий Лютиков, электрик леспромхоза, отправились по Каме, Волге, Дону, Воронежу в Липецк, где жили родители Смургиса. Лодка прошла испытания на капризной волне волжских водохранилищ, и Евгений понял, что ему по плечу задуманный им переход через всю страну от Риги до Владивостока. Познав вкус физического труда и на лесосеке, и в отпуске, Евгений переезжает жить в Приморье, становится охотником-промысловиком. Новая работа сулила продолжительный отпуск и средства для походов. Так и пошло. Летние перелеты на запад, туда, где оставлена на зимовку лодка, и путешествия один-два месяца. Изучив основы судовождения, Евгений плавает в одиночку и с «сезонными» попутчиками. Кроме участника трех марафонов — Лютикова, Евгению в разные годы помогали: преподаватель из Актюбинска Виктор Попов, инженеры из Липецка Вячеслав Лыков и Николай Писляк, фотогравер из Донецка Леонид Микула.
Вскоре маршруты «Мах-4» выходят к морям. Сначала Балтика, затем Черное и Азовское. Удивительно остойчивая лодка блестяще сдает экзамен на переходе Херсон — Одесса — Севастополь — Керчь — Жданов — Ростов. А потом было и арктическое море. Полторы тысячи полярных километров с выходом через Обскую губу в Карское море до устья Енисея стали настоящим спортивным подвигом Смургиса. Многие из тех, кто почитает полузабытую народную греблю, увидели в плавании «Мах-4» пример гребного марафона. Того самого, место которого, к сожалению, заняли сегодня дальние походы моторных судов. Моторы с десятками «лошадей», синяя гарь выхлопов и дикий рев заполонили многие наши реки. Состязания по скоростному сжиганию топлива и распугиванию всего живого на водоемах процветают...
А между тем в нашей стране, богатой реками и водоемами, гребные гонки на дальние дистанции, казалось бы, дарованы самой природой и народными традициями состязаний в силе, ловкости, выносливости...
Плавания Смургиса обрели общественный интерес. Конструкция простой деревянной лодки, прошедшей за 11 походов свыше 27 тысяч километров, может стать прототипом судна для гребных марафонов. Лодку Смургиса, одинаково пригодную для любых рек и водохранилищ, открывали для себя сотни людей, которых и удивляли и покоряли ее возможности. В последние годы число энтузиастов безмоторного марафона, похоже, выросло. Очень интересными были плавания Роберта Ряйккенена на полимаране «Спрут». Свое детище Роберт испытал в труднейших плаваниях в Азовском, Аральском, Японском, Баренцевом и Белом морях. В этом году готовится экспедиция «Комсомольской правды» на полимаране последней конструкции Ряйккенена. Через несколько месяцев «Старт» (так назвали судно, которое строят энтузиасты Московского судостроительного завода и студенты нескольких вузов) поднимет паруса. Для десяти гребцов сделаны отменные весла, а на Таллинской экспериментальной верфи уже сшиты паруса... О гостеприимстве на маршруте, об особом внимании на спасательных и водных станциях, где «Мах-4» встречали люди, понимающие толк и в лодках и в проблемах, с ними связанных, Смургис говорил с особой теплотой. В этом и я убедился на спасательной станции на реке Иркут. Радушные хозяева сделали все, чтобы наш выход прошел без задержек. Помню, старт состоялся к вечеру, когда косые лучи солнца высвечивали рябь на Иркуте и буйною зелень островка, где уютно и привольно раскинулись постройки станции.
— Евгений Павлович, можно, я попробую грести до моста?
Саша Рудиевский, молодой матрос со станции и горячий поклонник моторного плавания, кажется, не надеется на успех своей просьбы.
— Отчего же, давай садись. Но только не пищать. Будем идти до городского моста часа два.
Лодка в Ангаре. Слева набережная Иркутска, а впереди путь против течения к плотине Иркутской ГЭС. Вот и мост. Короткое прощание. Саша доволен и, хоть смущен крупными водяными мозолями на руках, смеется.
— Вот не ожидал, вроде не белоручка.
— Ничего, привыкай. Мотор заглохнет — пригодится. А мозоли заживут.— Смургис треплет Сашино плечо.— Весло — это надежно, удобно и выгодно.
— Ага, да,— чисто по-сибирски приговаривает Саша,— это выгодно. Вот с вами прошел, считай, семь литров бензина сэкономил...
В бликах кострового пламени слабо светится пластиковый тент над кормовой частью лодки. Кажется, уже с нетерпением жду часа, когда вытянусь в «каюте» и под мерный шелест волн и мощные рывки весел встречу утро и увижу, как лабиринт реки превратится в открытый горизонт чистой воды, а это будет означать, что...
— Смотри,— прерывает мои мечтания о сне и горизонтах Евгений.— Луна восходит. Какой там у нее возраст на сегодня?
Я включаю фонарик и выискиваю в блокноте записи.
— Вот 4 августа. Всего четыре дня.
— Не густо. Но лунная дорожка есть. Это в ночном плавании по водоему уже дает ориентировку...
Засыпая, я мучительно размышляю: сон это или в самом деле мне надо непременно решить ребус? Мнемоническое правило для тех, кто хочет отличить молодую луну от старой, общеизвестно. Серпик, похожий на округлость буквы «р», как сегодня, соответствует слову «родилась». Луна в последней четверти похожа на букву «с» — «старая». А как у англичан, к примеру, или у немцев? Вспоминая соответствующие английские и немецкие слова, я, наверно, уснул и увидел себя на мостике какого-то из моих прежних кораблей. Глухой голос вахтенного («Наверно, плотный туман»,— успел подумать) затрубил совсем рядом: «Очередной смене на вахту». Перевернулся на другой бок, но теперь уже наяву услышал шелест тента и ощутил сырость, подступившую к самому лицу. «Подъем, Хамар-Дабан на горизонте...»
 Картографы и путешественники
Картографы и путешественники
До истока осталось каких-то три-четыре часа хода, но Ангара обрела свой истинно речной облик и стремительно неслась среди поднявшихся берегов. Теперь лодка идет почти у самого берега, где течение заметно слабее. Каждый раз на очередном изгибе реки мы ожидаем увидеть ширь озера. Пока оно говорит о себе отрогами заснеженного Хамар-Дабана, основание которого опирается не на желанный горизонт озера, а на волнистую приречную гряду сопок. Наконец, вырулив из-за очередного мыса, мы увидели горизонт, за которым, как будто отдаляясь от нас, парил Хамар-Дабан, а над ним вопреки всяким прогнозам и обещаниям иркутян вместо синего неба висела серая хмарь, сулившая дождь. Но видение байкальского горизонта, какой бы хмурой ни была погода,— одно из тех событий, которое останется в памяти навсегда и будет потом спустя многие годы сентиментально увлажнять глаза и может заставить, бросив все, собраться в дорогу...
И вот теперь все прочитанное, как по команде, выстраивается в ряд — от самых первых слухов о Байкале до института озероведения, кажется, единственного в своем роде.
О Байкале европейской цивилизации стало известно из записок Марко Поло, но сведения эти были неконкретны и расплывчаты. Топонимия озера противоречива, и все гипотезы о происхождении его названия научно обоснованы недостаточно. Монгольское «Байгал» («богатый олень»), тюркское «Байкуль» («богатое озеро»), китайское «Пехай» («северное море»), бурят-монгольское «Даланор» («святое озеро»), наконец, тунгусское «Лама», то есть море...
Братский острог, основанный русскими в 1631 году и названный по племени «братов» (бурятов), обитавших в тех местах, стал отправным пунктом многих походов к озеру. Но все же первые сведения о нем получены по расспросам в верховьях Лены...
Первым картографом Байкала, несомненно, был Курбат Иванов.
В октябре 1640 года десять служилых людей, в том числе Курбат Иванов, под командой пятидесятника Василия Витязева получили команду узнать, «...много ли брацких людей в верх Лены и на Байкал и Тунгуске реке... и откуда к ним братам серебро и камки приходят». На санях дошел Курбат Иванов лишь до устья Куленги, впадающей в Лену, составил чертеж и роспись к нему. «Да я ж, Ивашко, по государеву указу и по наказной памяти стольников и воевод Петра Петровича Головина с товарищи чертил чертеж великую Лену реку... и Байкал и в Байкал падучим рекам...» — писал сам автор чертежа в «Росписи службам Курбата Иванова». Эти документы были представлены якутскому воеводе П. П. Головину в феврале 1641 года. Чертеж не сохранился на долгом пути к Москве, а «Роспись против чертежу от Куты реки вверх по Лене...» впервые упомянула о Ламе — Байкале.
В другой «Чертежной росписи притоков реки Лены» есть любопытные данные о, может быть, самых первых плаваниях русских по Ламе: «Да у того ж князца Можеуля был тунгус Чилкагирского роду с Ламы и хотел нас, Курбатка Иванова, Федьку Степанова, убить. А сказывал — в прошлом де 148-м году (1640-м.— В. Г.) летом ходят по Ламе в судах русские люди казаки… а отколева те казаки пришли и давно ли по Ламе ходят, того не ведают... а Ламу называют брацкие люди Байкалом озером... А вода в Ламе стоячая, пресная, а рыба в ней всякая и зверь морской. А где пролива той Ламы в море, того те тунгусы не ведают». Слухи о море и о том, что оно, может, соединяется с «большим» морем, породили своего рода судостроительный бум: наряду с разведкой «пашенных землиц» казакам приказывалось «вынять лесу на государевы суды». Боярский сын Василий Власьев четко докладывает о ходе работ: «И те плотники и рядовые казаки выняли лес судовой дольной ис кокоры на 15 дощаников да на 4 лодьи». Можно не сомневаться, что плавания казаков по Байкалу происходили задолго до 1640 года...
Зимой 1642/43 года Курбат Иванов снова отправляется в поход. Якутский воевода помнил о своем одном из немногих грамотных казаков. Еще до ленских походов Курбат в полку воеводы исполнял обязанности целовальника, ведавшего учетом полкового имущества и продовольствия. Успех первого рас-спросного чертежа надолго определил деятельность Курбата как способного картографа. В эту зиму Курбат совершил уже поход на Байкал. Вернувшись, он составил новый «Чертеж Байкалу и в Байкал падучим рекам», который отправил П. П. Головину в сентябре 1643 года. Весна 1645 года была еще более беспокойной. Ожидался приезд новых воевод Якутска В. Н. Пушкина и К. О. Супонева, для которых Курбат составляет новый, более точный чертеж «реке Лене и в нее падучим рекам и Байкалу и в Байкал падучим рекам». За заслуги, в первую очередь в. картографии, в 1651 году Курбат Иванов поверстан был в сыновья боярские, много путешествовал по сибирским рекам, а в 1657 году был направлен воеводой в Анадырь на смену Семену Дежневу...
В 1661—1662 годах, когда были заложены Иркутский и Нерчинский остроги, завершено присоединение Забайкалья к России, дорога через озеро становится оживленной. Появляются описания байкальских чудес. Блестящее и едва ли не первое литературное описание пути через Байкал дал в своем «Житии» протопоп Аввакум. «Первые мы в тех странах с женою и детьми учинились от патриарха, в такой пагубной, паче же хорошей ссылке»,— писал Аввакум, «первый ссыльный Забайкалья». Каким же было сильным впечатление от путешествия! Ведь строки об озере были написаны спустя 15 лет после первого и 10 лет спустя после второго плавания по Байкалу.
Енисейский воевода Афанасий Пашков, с отрядом которого плыл к месту ссылки Аввакум, не баловал протопопа вниманием. Более того, он ему «укорачивал жизнь», всячески издеваясь над ним. Протопоп жалуется в «Житии»: «На Байкалове море паки тонул. По Хилке по реке заставил меня лямку тянуть: зело нужен ход ею был. На том же Хилке в третье тонул. Барку от берега оторвало водою,— людские стоят, а мою ухватило да и понесло...» Через пять лет, возвращаясь из ссылки, Аввакум, видимо, поднаторел в мореплавании. «Лотку починя и парус скропав, чрез море пошли. Погода окинула на море, и мы гребми перегреблись: не больно в том месте широко — или со сто, или с осьмдесят верст. Егда к берегу пристали, востала буря ветренная, и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево (Байкала.— В. Г.) горы высокие, утесы каменные и зело высоки...»
Не менее интересное свидетельство о плавании по Байкалу оставил Н. Г. Спафарий-Милеску. В 1675—1676 годах он возглавил миссию в Китай и написал о путешествии книгу. Считая, видимо, себя первым летописцем озера, он пишет в книге «Сибирь и Китай»: «Байкальское море неведомое есть ни у старых, ни у нынешних земноописателей, потому что иные мелкие озера и болота описуют, а про Байкал, который толикая великая пучина есть, никакого упоминания нет».
Но мореходы, с которыми шел Спафарий, знали свое дело. Через озеро вожи на дощаниках «бежали парусом» и матицей (компасом) пользовались, а когда «за ветрами идти было страшно», учиняли ворот и тянули на берег с моря дощаник...
Любопытны сведения о массовых «переездах» через Байкал в связи с волнениями во многих острогах в конце XVII века. В 1696 году восстали служилые, посадские и пашенные крестьяне и ясачные буряты в Братском остроге. В это же время служилые люди Забайкалья заключили договор, чтобы бороться «за одно вместе» против самоуправства «начальных людей», за право войскового совета «чинить управу при всяких неправдах». В мае 1696 года отряд забайкальцев (свыше 200 человек) под предлогом получения жалованья переправился через Байкал и подошел к Иркутску. «Заглянуть за пазуху» тем, кто заперся в Иркутске, забайкальцы не решились без поддержки иркутян и пошли назад, разгромив по дороге заимки «детей боярских» и зажиточных казаков. Снова скрип уключин многих дощаников раздался в истоке Ангары: необычная флотилия направилась восвояси...
В конце XVII и начале XVIII века по Байкалу плавают уже «многие торговые люди» в Даурию и Китай, перевозят переселенцев и ссыльных на новые земли. В это же время начинается первый этап научного познания Байкала. С целью его исследования прибыл в Сибирь по заданию Петра I Д. Г. Мессершмидт; коллекции, собранные этим ученым, не потеряли своего значения и сегодня.
В 1733 году натуралист И. Г. Гмелин, академик Петербургской академии наук, сделал первое научное описание Байкала. Финн Лаксман, «минералогический путешественник при императорском Кабинете», ставший русским академиком, открыл многие минералы и в их числе байкалит. Большой вклад в изучение флоры и фауны озера внес русский академик И. И. Георги и подштурман Алексей Пушкарев, о котором уже шла речь и с которого, собственно, начался мой «байкальский» поиск...
Второй этап научного познания Байкала приходится на середину XIX века, когда в изучение озера активно включается сибирский отдел Русского географического общества. Вот лишь краткое упоминание важных исследований:
— 1810 год. В экспедиции Н. X. Ахте создана новая карта озера, основанная на серии астрономических наблюдений.
— 1857 год. Натуралист Г. И. Радде совершает на лодке круговой объезд Байкала. Радде наряду с Палласом и Георги считается зачинателем научного байкаловедения.
— 1866—1890 годы. Неоценимый вклад в изучение Байкала вносят ссыльные революционеры. И. Д. Черский совершает на лодке очередной объезд озера и создает геологическую карту береговой полосы. Карта Иркутской губернии А. Л. Чекановского удостоена медали на выставке в Париже. Работы Б. Дыбовского и его помощника Б. Годлевского по гидрологии озера были отмечены Малой золотой медалью географического общества.
— 1888 год. Озеро исследует В. Обручев, получивший уникальную должность первого государственного геолога Сибири к востоку от Енисея.
— На рубеже XX века экспедиция Гидрографического управления под руководством Ф. Дриженко создает атлас и лоцию Байкала.
Третий этап в изучении Байкала — это создание в 1916 году Комиссии по изучению озера, реорганизованной впоследствии в лимнологическую станцию, которая с 1961 года становится Институтом Сибирского отделения АН СССР.
Нельзя не сказать еще о нескольких моряках, которые, подобно Пушкареву, причастны к освоению и картированию Байкала. Как известно, регулярное плавание по озеру под командою ведомства штурманов существовало с конца XVIII века. Два небольших судна, «гальиотами называемые», ходили от Листвянки до Посольской гавани. «Партикулярные же суда разной величины и названий во множестве плавают по всему Байкалу».
Участник кругосветного плавания Корпуса флотских штурманов капитан Е. А. Клочков плавал в 1812—1815 годах на Байкале, командуя транспортом «Александр». Декабрист М. К. Кюхельбекер, родной брат известного декабриста Вильгельма Кюхельбекера,— тоже кругосветный мореплаватель — после разгрома восстания был на поселении в Баргузине. Он также занимался гидрографическими исследованиями...
В начале XIX века губернатор Иркутска, бывший воспитанник Морского корпуса А. М. Корнилов предложил построить на Байкале маяки и упорядочить движение по озеру. Для этого он считал необходимым заменить плоскодонные галиоты килевыми судами по образцу балтийских. Такое судно было построено, и под командой лейтенанта флота Дениса Бабаева «без всякого затруднения с лавировкой при любых ветрах» за пять часов пересекало Байкал в самом узком месте — от реки Багульдейки до Селенги. «В этом случае,— мечтал губернатор,— кругоморская дорога через хребет Хамар-Дабан... не будет нужна». Тот же Корнилов создал новый вариант морской меркаторской карты Байкала взамен той, которая осталась в наследство от Пушкарева и, конечно, к тому времени устарела.
Пересекая Байкал
Гранитный берег навис над нами, поросший кое-где по расщелинам хилыми березками. Иногда попадались витиевато выложенные каменные трубы водостоков и старые рельсы на редких осыпях — следы Кругоморской железной дороги начала века.
— Вот и приехали.— Смургис садится за весла, а я готовлю фотоаппараты.— Идем к Шаману.— Евгений наваливается на весла. Мы всего в километре от истока, поражающего своей мощью: каждую секунду на наших глазах Байкал покидает почти 2 тысячи кубометров воды. На пути этого грандиозного вала некогда был мощный порог, от которого теперь осталось два обломка. Это и есть Шаманский камень. На него, по преданию, буряты в старину высаживали преступников, чтобы помочь им раскаяться...
— Ничего особенного.— Евгений перегребает течение с завидной легкостью, и я делаю несколько снимков.
Камень, как водится, «украшен» надписями-автографами и изящно повязан «галстуком» — обрывком пенькового троса, который используют для швартовки местные рыбаки. Все же был он похож на бычка, сорвавшегося с привязи и укрывшегося на быстрой протоке от хозяина, тщетно ждущего его на берегу...
— Пошли к берегу,— говорю я и вижу, как надвигается мыс у истока Ангары. На нем — ухоженный участок шоссе, туристские автобусы и фонари на высоких столбах. Потом я нервно бегаю по пятачку пляжа, делаю снимки с видом на «море», и на порт Байкал, и на красный буй, который стоит чуть выше Шамана в самом центре истока: отсюда виден наклон буя и словно чувствуется неимоверное натяжение буйрепа, удерживающего его на воде. Пока Евгений осушает лодку, я поднимаюсь по деревянной лестнице, ведущей к метеостанции «Листвянка». Через полчаса с листком прогноза останавливаюсь на верхней площадке. «Хорошее место для обзора»,— подумалось мне, и, оглянувшись, увидел за зданием метеостанции площадку, где стояло несколько машин и автобусов. Из «Волги» кто-то выскочил и по неухоженному склону спустился вниз к самой воде. Чувствовалось, что человек, да это девушка, здесь впервые. Она приблизилась к воде в том месте, где как бы стоячая, похожая на зеркало, гладь байкальской воды сменялась быстро текущим потоком. Она наклонилась, набрала воды в какую-то флягу и, приложившись к ней, сделала несколько глотков. Потом, подняв флягу, показала ее своим спутникам там, наверху.
Чуть левее среди нагромождения камней стояла «Мах-4»; Евгений возился в лодке, что-то перекладывая, а я вдруг ощутил в ушах какой-то непонятный звон или стон и никак не мог понять происхождение странных звуков, заполнивших, кажется, все видимое пространство. Потом взгляд скользнул вправо к входному бую и Шаману — и все сразу стало ясно. Да это же моторки! Внизу завывание моторов было приглушено плеском волн, наконец, разговорами и хлопотами с лодкой. Здесь же этот стон словно повис в воздухе. Вид Ангары и величественной глади озера с пышными украшениями из гор, облаков и прорвавшегося где-то над Култуком луча солнца, бросившего яркий блик на поверхность воды, не вязался с этими звуками. И мне показалось чрезвычайно важным, чтобы первые гребки нашего байкальского путешествия были сделаны в полной тишине, как в те далекие времена, когда в безвестное плавание отправлялся подштурман Алексей Пушкарев...
— Вот.— Я протянул листок Смургису.
— Прочти.— Евгений прилаживается к первому на Байкале гребку, а я думаю: что бы сейчас он ни услышал — мы пойдем.
— Прогноз погоды от Байкал-метео, средняя и южная часть. С 15 до 20 часов 4 августа. Ветер северо-восточный, 6—9 метров в секунду, в Голоустном до 10—11. Высота волны до одного метра; на востоке до полутора метров, зыбь.
— Неплохо, но тент придется соорудить.— Евгений поднял голову.— Дождь будет.— И сделал тот самый байкальский гребок, который я подстерегал с фотокамерой в руках...
В мою первую вахту на озере лодку накрыл дождь. Туча спустилась с гор, и я едва успел накинуть капюшон рыбацкой штормовки, как послышался удар грома, а следом неутихающий шум водяного потока. Только шлепки весел да скрип сиденья говорили о движении вперед. Потом темень от туч, сбегающих с гор, слилась с чернотой ночи. Смургис, сменив меня в один из немногих просветов в потоке дождя, греб бесконечно долго, и где-то в третьем часу ночи наконец загремела якорь-цепь, и мы, похоже, приткнулись к галечной косе...
На следующий день в поселке Голоустное делаем остановку, чтобы узнать прогноз. Не повезло: связи не было, и прогноза мы не получили. А Голоустное — это последний пункт, где можно по телефону справиться о погоде...
Снова в путь. После провала в хребте, образованного долиной реки, горы снова вздыбились. Я гребу от мыса к мысу вдоль высоких, временами отвесных скал. Но всюду, вопреки предсказаниям иркутян, после каждого мыса уютная бухта с песком и с непременно свалившейся сверху сосной словно специально для костра.
— Остановимся? — Я подруливаю ближе к берегу.
С противоположной стороны озера выглянуло солнце, и облака, висевшие над хребтом, стали туманом. Прямо на глазах белая пелена скатилась вниз, раздробившись, клочьями повисла над каменистыми осыпями-курумами, редкие сосны выплыли из тумана и блеснули золотистой корой, словно отражая поток оранжевых лучей.
— Сегодня ночью форсируем Байкал, остановимся перед бухтой Песчаной,— Евгений озабоченно посматривает и на карту и на небо.— Не нравится мне эта перемена погоды, надо спешить.
Уже час, как мы готовимся, чтобы пересечь Байкал. На севере в сгущающихся сумерках темным камнем, похожим на колокол, выдает себя бухта Песчаная. Левее «колокола» редкая россыпь огней.
— Вот по ним и придется ориентироваться.— Смургис укладывает инструмент и отпихивает нос лодки. Во все времена Байкал пересекали днем и ориентировались по берегам, которые видны на сто с лишним километров. Ночью даже обычные огни поселка видны за десять-пятнадцать километров. Вот лишь в тумане — хочешь не хочешь — надо смотреть или на небо, если видны звезды, или на компас. Я вижу: наш маленький школьный компас на месте...
Очертания берега пропали уже через полчаса, я включаю фонарь и отмечаю время: 01.20. Ощущаю толчки сердца и всматриваюсь вперед, различаю слабые точки огней. Евгений словно почувствовал мое состояние, поднял весла — и я услышал, как с лопастей стекает вода.
— Ты чего?
— Буксирные огни прямо по курсу.— Похоже, я докладываю как заправский впередсмотрящий.
— Похоже, плоты гонят в Голоустное.— Евгений опускает весла в воду. Потом поднимает голову. «Наверно, Полярную ищет»,— думаю я.
Через два часа я сажусь на место гребца.
— По-прежнему курс ост,— пытается острить Смургис,— да ты, я вижу, не спал.
— Не спал,— признаюсь я и думаю, что и раньше не спал в тревожные и важные минуты.
— В космонавты тебя не возьмут.— Евгений прячется под навесом.— Больше правым греби, нос к ветру приводится: что-то от Селенги тянет ветерок.
Ровно через два часа легкий ветерок окреп, и Евгений сменяет меня с безответственным в данной ситуации заявлением.
— Эй, баргузин, пошевеливай вал...
— Накличешь ты верховик.— Я прячусь под навес и твердо знаю, что не для сна, а чтобы отдохнуть в самом сухом месте.
Утром, около семи часов, в дымке возникли очертания дальних гор, а близкого берега не было и в помине. Волны хлестали по навесу, перекатываясь на другой борт. А в открытой части... Я выглянул и увидел, что Женя работает крышкой от большого термоса, отливая воду.
— Где берег?
— Берег вот он, рядом. Только в сор мы попали.
Справа я и в самом деле различил низкие глинистые берега и обрадовался им больше, чем следовало бы. Сразу вспомнил Спафария: «Где Селенга и впадает в море устьем, оно насилу познавается только по картам, потому что везде озера да болота до самой материшной земли. Потому без вожа сыскать устье Селенги реки зело трудно...» Пугает нас Спафарий, как и все, кого мы накануне встречали. Лихие моторки, как правило, стопорили ход, люди здоровались, некоторые узнавали «Мах-4». «Через Байкал? Без мотора? Опасно! Баргузин! Верховик! Ангара!» — только и слышали явно смакуемые названия местных ветров...
А теперь все позади. Шли мы, как говорили раньше, «встречь байкальского ветра...».
Я ощутил касание грунта и выскочил, чтобы бурлачить. Кажется, часов шесть мы бродили среди бесчисленных проток, натыкаясь на копны сена среди безлюдных, залитых водой луговин. Тащились, раздвигая камыши, бросали щепки, пытаясь уловить движение воды. Наконец узкая извилистая полоса воды привела нас к протоке, где течение было быстрым.
Я сидел на корме и обрадованно рассматривал признаки близкого жилья. Наблюдая, как Евгений сражается с течением, прикинул, что двести километров мы наверняка прошли. Какая-то тысяча впереди. Я незаметно и со стыдом (только начали, а ты уже о доме!) подумал: как хорошо, когда у тебя есть дом, место, где проводишь большую и, может, самую лучшую часть жизни. И невольно с тысячей оставшихся километров я связал те двадцать дней, которые отделяют меня от дома...
— Да ты ложись, поспи, чего мучаешься.— Евгений толкнул меня.
Я и в самом деле, наверно, задремал. В этот раз я не медлил, как обычно, оттягивая минуты расставания с миром, который за столько верст пришел познавать. Селенга усыпила меня мгновенно. Я лишь успел повторить про себя фразу, которую надо было записать в дневник: пересекая Байкал, держали Полярную на траверзе левого борта.
Василий Галенко, штурман дальнего плавания
Ангара — Байкал — Селенга
(обратно)
Бой в устье

Всякий раз, когда Паулино вспоминал эту историю, речь его становилась отрывистой и громкой, он принимался размахивать руками, и тогда отличить правду от вымысла было трудно.
Паулино сидел по левую руку от меня в кабине «лендровера» и резко крутил баранку, объезжая камни и канавки на узкой проселочной дороге. По бокам машину хлестал сухой капим, трехметровая желтая трава. Чуть повернув голову в мою сторону, не отрывая глаз от дороги, Паулино говорил о работе, о том, что в Нампуле живут его жена и дети, что он учится на курсах и хочет стать геологом.
До нашего знакомства в поселке Муйане (мозамбикская провинция Замбезия), где группа советских геологов-консультантов подсчитывала запасы пегматитового месторождения, Паулино работал водителем в Шинде, небольшом городке в устье Замбези. Было ему тогда восемнадцать лет. Жил он у родителей и каждый день гонял машину вдоль берега — от города до ближайшей автомастерской.
— Был июнь, жары не чувствовалось,— рассказывал Паулино. — Близился вечер, солнце опускалось к лесу, и поверхность воды блестела как серебро. В тот день я специально поехал по узкой дороге, которая вплотную подходила к берегу. Здесь река поворачивала перед тем, как выйти к океану. Очень хотелось купаться. Я остановил машину у самой воды, сбросил одежду и вошел в реку. Но так и не окунулся. Тут началось такое...
— Погоди, Паулино. Говори медленнее и не маши руками.
Мне становилось трудно понимать его: возбуждаясь, парень стал примешивать к португальскому слова родного суахили.
— Вода начала сильно бурлить... Вообще-то, глубина там начинается у самого берега... И вот гляжу — несколько крокодилов плывут бок о бок, как лодки, а навстречу им два или три, не помню уже, плавника — острые как ножи. Наверное, акулы. И ка-а-ак столкнулись лоб в лоб! — Паулино ударил кулаком правой руки в ладонь и подпрыгнул на сиденье...
«Наверное, нужно объяснить, кто такой крокодил?—помню, беспокоился он,— ведь у вас в Москве нет крокодилов...
В схватке участвовало, видимо, десятка полтора крокодилов и пять-шесть акул. Серые, с острыми двойными спинными плавниками и красноватыми глазами, они сновали в воде, вгрызаясь в бока крокодилам. Те клацали челюстями, пытаясь поймать плавник или тело у хвоста. Одному удалось схватить акулу за нижнюю челюсть, когда гигантская рыба открыла пасть. Обнажились ряды острых пилообразных зубов. Все завертелось в чудовищном водовороте, они ушли в глубину...
Схватка морских и пресноводных хищников на границе их владений! Ничего подобного я никогда не слышал. Знал, что акулы заходят в реки и опустошают сети рыбаков, а иногда даже нападают на купающихся людей. Крокодилы нередко пускаются в отважные путешествия через морские проливы к островам, лежащим вдоль побережья Восточной Африки. Иначе как объяснить то, что они встречаются в озерах и реках Коморских или Сейшельских островов?
А Паулино продолжал:
— Замерев, я стоял на берегу и глядел на этот жуткий бой. У кромки воды появилась розовая пена. Стемнело. Когда я взялся за руль, у меня руки дрожали.
Сначала Паулино сомневался, что ему поверят. Однако желание рассказать об этом случае знакомым пересилило страх быть поднятым на смех. И действительно, мало кто ему поверил. Честно говоря, и у меня в те дни тоже были сомнения.
Но Паулино знал и любил природу. Я видел, как по утрам он кормил из рук двух полудиких кабанов на нашей усадьбе. Гладил павлина, мангустов, обезьяну, сажал за пазуху неядовитых змей.
И я, как только появилась возможность, попытался собрать информацию, которая могла бы пролить хоть какой-то свет на эту историю.
В книгах об акулах и крокодилах — а таких изданий за последнее десятилетие в мире выпущено немало — масса сведений об их поведении. Есть данные о случаях нападения на человека и животных, есть сведения о пресноводных акулах в Южной Америке и Южной Азии, о крокодилах, живущих в морской воде у берегов Австралии и ее островов.
Но чтобы акулы нападали на крокодилов?.. Ни в солидном труде «Последние из крупных рептилий», вышедшем в Нью-Йорке в 1971 году, ни в книге «Акула. Легенда об одном убийце», ни в других трудах нет ничего похожего на эту историю. Не знали об этом — хотя и предполагали подобное — и зоологи в самом Мозамбике, к которым позже я обращался за советом.
Единственная зацепка возникла при перечитывании дневниковых записей тех дней: ведь Паулино говорил о двойных спинных плавниках и шилообразных зубах. Эти два признака, как выяснилось после изучения справочников по рыбам Индийского океана, определяют песчаных акул — обитателей теплых вод. Они достигают четырех метров в длину и опасны для человека.
Может быть, и для крокодилов тоже?
Н. Непомнящий
Случай, вполне допустимый...
Каждому, наверное, приходилось наблюдать, как дворовый пес охраняет порученную ему территорию.
Человек умело использовал здесь свойство, присущее всем хищникам,— охрану своего охотничьего участка от вторжения конкурента. В то же время хищники, охотящиеся на различных жертв, могут жить в непосредственной близости друг от друга и не реагировать на присутствие постороннего на своем охотничьем участке — ведь они не являются конкурентами.
Случай, описанный Паулино, можно расценивать как реакцию «хозяев» участка (крокодилов) на вторжение «чужого» хищника (акул). Если же вспомнить, что эти хищники принадлежат к разным классам, а вторжение акул произошло на акваторию, для них не типичную, то этот случай представляется редким, даже исключительным. Но вполне допустимым. Дело в том, что границы ареалов этих двух видов соприкасаются, и заход одного из хищников во владение другого вероятен.
Несомненно, в рассказе имеются преувеличения. Сделаем скидку на молодость и увлеченность рассказчика.
В. А. Земсков, доктор биологических наук
(обратно)
Уязвимое большое чудо

Остров Майклмас — песчаная отмель в Коралловом море — совсем невелик. В самом широком месте — метров восемьдесят, в длину — меньше двухсот. Отмель становится больше во время отлива, когда еще несколько сот квадратных метров кораллового песка возникает над океанской гладью. Там, куда прилив не доходит даже в бурю, гнездятся птицы. Этот островок в 60 километрах от материка один из множества составляющих Большой Барьерный риф. Пароход сюда заходит раз в неделю и бросает якорь далеко от берега, на подветренной стороне. Частным яхтам и парусникам не позволено подходить ближе чем на сто метров. Тут нет ни деревца, ни кустика, нещадно палит солнце. От материка на яхте ходу пять часов, но островок стоит путешествия.
Десятки, а может быть, сотни тысяч морских птиц избрали его местом гнездования. На мили вокруг разносится адский гвалт чаек, темных крачек, морских ласточек, бакланов. Гнезда впритык. Самцы и самочки беспрестанно поднимаются с гнезд и летят в море за провизией. Запах гуано при сорока градусах жары почти нестерпим.

Наш проводник, сотрудник заповедника, разрешает ходить лишь по кромке острова и наблюдать издали. Неуклюжие серенькие пятнистые птенцы темных крачек, только что вылупившиеся, топчутся возле ямок, пушок обсыхает на жарком солнце прямо на глазах. Крики, писк, мельтешение счастливых родителей, на первый взгляд — птичий сумасшедший дом. Но довольно скоро можно заметить, что здесь царят строгие законы. Каждая наседка охраняет свой, пусть крошечный, надел, наказывая нарушителей и опекая потомство.
Прогретый тропическим солнцем Майклмас — песчинка в дуге у восточного и северо-восточного побережья Австралии.
«Сберечь Большой Барьерный риф!» Впервые этот призыв защитников природы прозвучал в конце 60-х годов. В 1980 году ЮНЕСКО объявило это удивительное природное образование международным природным резерватом. К сожалению, это отнюдь не значит, что риф теперь в безопасности.
Гидрологи, картографы насчитывают здесь 2500 островов и островков, отмелей, дюн и морских утесов. Впрочем, точной цифры так и нет. В отлив море обнажает еще тысячи отмелей и рифов. Несколькими часами позже их вновь скрывают воды Тихого океана. Такие, как Майклмас, то увеличивают, то сокращают свою площадь. По примерным подсчетам, площадь суши Барьерного рифа 210 тысяч квадратных километров. По сей день не существует подробной карты Барьера, по сей день рыбаки и моряки, идущие от континента в открытое море, руководствуются опытом предков, которые отыскали некогда между рифами проливы, ведущие на морской простор.
Где-то здесь, в 160 километрах от Кэрнса, потерпела кораблекрушение «Индевор» — «Попытка» капитана Кука. Коралловый мыс, распоровший дно трехмачтового корабля, носит теперь имя капитана. Чтобы снять «Индевор», пришлось сбросить тонны груза, включая пушки. Они пролежали на дне моря двести лет. В 1969 году американская научная экспедиция подняла с глубин некоторые предметы, принадлежавшие великому мореплавателю. Теперь эти находки выставлены в местном музейчике, организованном любителями старины. Одну из пушек установили на острове Грин.
Список потерпевших кораблекрушение на Большом Барьерном рифе бесконечен. В наши дни на нем зарегистрировано около пятисот обломков, среди них и корабль капитана Флиндерса, одного из исследователей Австралии. Флиндерс был первым, кто попытался составить карту кораллового чуда. Его корабль разбился в 1803 году.
В 1970 году потонул первый танкер, нагруженный нефтью. Под угрозой оказался и сам риф, и его обитатели. Берега возле Кэрнса усыпаны обломками кораблей, которым удалось добраться до земли и здесь закончить свое путешествие по просторам морей и океанов.
Лозунг «Сбережем Большой Барьерный риф!» я увидел впервые за две тысячи километров отсюда, в Сиднее.
Висел он в комнате Майка Уильямса, геолога по образованию. Студентом в экспедициях он встретился с первозданной австралийской природой. Когда я познакомился с ним в Сиднее, он работал в управлении государственных парков и резерватов. Мы оказались соседями и часами спорили об охране природы, о системе резерватов и национальных парков. Майк рассказал мне о гостинице «Тропической» в Кэрнсе, где собираются люди, любящие природу, и откуда раз в неделю организуют путешествия к малоизвестным островкам.
Хотя у австралийских национальных парков столетняя история, движение в защиту природы приобрело силу лишь в последние двадцать лет. Когда люди наконец поняли, что даже огромным континентом надо пользоваться ответственно.
Против создания парков и резерватов выступили, однако, фермеры. Их овцы веками уничтожали, как саранча, траву и вообще всякую растительность. Фермерам требовались под пастбища новые и новые участки земли, и они сводили даже леса. И хотя слой гумуса во многих местах континента еще очень толст, без лесов и растительности земля высыхает или ее вымывают сильные ливни. Вдобавок чрезмерная вырубка лесов нарушает природный баланс.
Австралия изолирована от остального мира, и благодаря этому австралийская природа очень хрупка.
Вмешательство человека в природу часто приводит к непредсказуемым последствиям. Экологическое равновесие создавалось десятки тысяч лет, а нарушить его можно единственным шагом.
Всем известный пример — австралийские кролики.
Грустная история приключилась и с сахарным тростником. Это нетребовательное растение сажают в тропических и субтропических районах континента. С 1979 года, когда на мировых рынках начали расти цены на сахар, производство его стало весьма важным для австралийского экспорта. Решили расширить плантации сахарного тростника. Но корням и стволам тростника угрожали грибки-вредители. Откуда-то из Южной Америки привезли здоровенную проворную жабу, которая этими грибками питается, можно сказать, видит в их уничтожении смысл своей жизни. Но вот беда: жаба настолько окрепла, уничтожая вкусные болячки на тростнике, что стала производить потомство в масштабах, доселе невиданных. А поскольку она на Австралийском континенте новичок, у нее здесь нет естественных врагов, которые могли бы ограничить размножение. К несчастью, жаба оказалась еще и ядовитой. И теперь с грибком борются с помощью пожаров.
Я видел такой пожар в Квинсленде на пораженном грибком участке. Гул, треск и рев разносились на километры. Дым и пепел поднимались высоко в небо. Все вокруг было засыпано черной жирной сажей, местность несколько недель была покрыта мраком, дым затмевал солнце. Никто не берется подсчитать, какой ущерб наносят пожары. Поджигают тростник, конечно, не только из-за американской жабы, но и из-за того, что тростниковые грибки очень легко распространяются.
Пожар нередко выходит из-под контроля человека и перекидывается на лес и кустарник. Этот ущерб австралийцы даже в расчет не берут. Когда летишь над материком, видишь десятки пожаров, пожирающих растительность. При малой плотности населения, нехватке воды, время, когда начнут тушить пожары в буше, придет не скоро. Пока здесь ждут дождей или смены ветра, чтобы пожар потух сам собой.
На Большом Барьерном рифе о пожаре думать не приходится. Но и здесь экологические проблемы не менее серьезны.
Наша яхта «Морская звезда», на которую я попал благодаря Майку, снялась с якоря у острова Майклмас и направилась на восток к банке Квинсленд.
Вдали от материка сильно качает. На внешней стороне Барьера всегда ветер и сильные волны. Капитан осторожно обходит рифовые ловушки, скрытые сейчас приливом. Он всю жизнь провел на море. О Большом Барьерном рифе знает, кажется, все. От него я узнаю, что в этих водах обитает почти полторы тысячи видов рыб. Камбала здесь достигает двух с половиной метров в длину, иная весит килограммов двести. Таких гигантских рыб, как здесь, в наши дни можно встретить всего в нескольких местах на Земле. В теплом течении у берегов Кубы и Флориды, у Юкатана, возле Акапулько.
Живут здесь и гигантские черепахи, и очень редкая птица морской орлан. Перелетные птицы устраивают на пустынных рифах гнездовья, отдыхают во время своих путешествий. На некоторых утесах растут пальмы: их орехи выбрасывает на берег море.
Вот в этих-то «райских местах» разгорелся несколько лет назад пожар политического скандала. Квинслендский премьер-министр, ультраконсерватор Бьелке-Петерсен дал тогда разрешение бурить морское дно для промысловой разведки залежей железа, урана и газа. Выяснилось, что господин премьер — один из акционеров компании, которой он разрешил поиск ископаемых, и что его вовсе не заботят проблемы охраны среды.
Движение в защиту Большого Барьерного рифа добилось приостановления бурения морского дна. Надолго?
Но прибрежных фермеров никто не может заставить контролировать сток насыщенных отходами вод. Удобрения, яды, ДДТ попадают с материка в море, отравляют воду в районе рифа и губят уникальную флору и фауну. Сточные воды городов тоже не делают море чище. И наконец, последнюю каплю в чашу бед коралловых рифов добавляют туристы. Они уничтожают рыбу, губят птиц, ломают живые кораллы и отрывают умершие, собирают устриц. А ведь и умершие кораллы, и ракушки — это тоже часть рифа, в них находят убежище и пищу мельчайшие живые организмы, необходимые для жизни Большого Барьера.
На риф Гастингса — это часть подводного плато Квинсленд — прибываем около двух часов дня. Время низкой воды. Натягиваю маску, надеваю ласты, прикрепляю баллон с кислородом. Яхта держится в стороне. Это необходимая предосторожность. Края у рифа очень острые и в то же время хрупкие. А на расстоянии не пострадает ни судно, ни творение природы.
Никакие цветные фото, никакие фильмы не могут передать красоту этих мест, царства тишины, красок и солнца. На глубине десяти метров кораллы горят красками, которым есть лишь одно название — фантастические. Насчитал восемь оттенков зеленого, пять фиолетового, десять красного — от нежно-розового до карминового, черный, желтый, коричневый, горчичный и белый. Гигантская двухметровая тридакна с волнистыми краями закрывается при легком прикосновении. Подумаешь, что нечаянно попадешь в нее ногой, и становится не по себе. Сколько же разных тварей обитает в этих кораллах, и сколько здесь движения! Может, это только кажется, просто игра солнца в воде?
Возле меня плывет наш проводник, сотрудник Национального заповедника, он показывает морскую звезду «терновый венец» со множеством лучей. Я уже знаю, что это самая страшная угроза рифу за последние годы. Впервые этот вид, принесенный течением из южной части Тихого океана, заметили здесь в 1960 году. «Терновый венец» закрепился на кораллах — живых организмах, которые растут и размножаются. Каждую неделю одна звезда поедает квадратный метр кораллового рифа. За прошедшие двадцать лет она так расплодилась, что на некоторых участках съедены километры кораллов.
Наученные историями с кроликами и жабами, исследователи не решаются отыскивать и вселять на кораллы какого-нибудь ее природного врага. Неизвестны последствия от такого вмешательства: сожрет враг звезду, а что дальше? Не годится и химия.
Против нее выступают все. Проводник перед погружением проинструктировал нас, как оторвать звезду от рифа, как ее уничтожить. Большим шприцем нужно впустить в середину звезды рыбий яд. Отравленная звезда оторвется от кораллов и утонет в море.
Мне трудно подсчитать, сколько звезд я уничтожил. Наверное, не так уж много — ведь это был один лишь единственный день. Но все-таки у меня возникает чувство гордости, когда вспоминаю, что я хоть чем-то помог выстоять такому уязвимому Большому Барьерному рифу.
Алеш Бенда, чехословацкий журналист
Перевела с чешского Т. Федотова
(обратно)
Остров Навек. Патрик Смит, американский писатель
 Читателям журнала «Вокруг света»
Есть в США на юге Флориды край под названием Эверглейдс — с ним граничат на севере Большие Кипарисовые болота. Этот край занимал около 30 миллионов акров, простираясь от южного берега озера Окичоби до Ки-Ларго и мыса Сейбл. Но так было раньше, пока на равнине Эверглейдс не началось так называемое «освоение земель».
Несколько лет назад в местных газетах стали все чаще попадаться сообщения о том, что освоение земель грозит гибелью Большим Кипарисовым болотам, которые, по сути дела, играют для всей равнины Эверглейдс роль естественного водосбора. В сообщениях утверждалось, что, если Большие Кипарисовые погибнут и прекратится ток воды, неминуема и гибель Эверглейдс.
Печально и даже трагично прозвучали для меня эти тревожные голоса, ибо Эверглейдс — явление едва ли не единственное в своем роде, притом это один из последних уголков девственной природы, какие еще сохранились в Северной Америке. И если допустить, чтобы этот край пал жертвой неразумного, безответственного «освоения», что станется тогда с живой природой, какая судьба постигнет индейцев-семинолов? Ведь для многих из них она и ныне, как 150 лет назад, служит источником существования.
Чтобы написать в романе правду, нужно было прежде всего пожить в этих местах.
И вот в течение года я стал проводить среди семинолов все свободное время, жил среди них порой по нескольку недель кряду.
А когда, наконец, сел за пишущую машинку, то родилась повесть, и я назвал ее «Остров Навек». На ее страницах вновь ожил этот край, а герои, их чувства, души, мысли — плод того, что я узнал и полюбил людей, которых называют семинолами.
«Остров Навек» — это трагический и правдивый рассказ о бездушной жестокости человека к человеку, о том, как на место живой земли, населенной зверьем, птицей и рыбой, приходят в нашей стране асфальтовые пустыни и строения из бетона. Нехитрая повесть о том, как боролся за жизнь старый индеец-семинол по имени Чарли Прыгун тронула сердца многих: недаром книга «Остров Навек» издана уже в двадцати шести странах.
Патрик Смит
Читателям журнала «Вокруг света»
Есть в США на юге Флориды край под названием Эверглейдс — с ним граничат на севере Большие Кипарисовые болота. Этот край занимал около 30 миллионов акров, простираясь от южного берега озера Окичоби до Ки-Ларго и мыса Сейбл. Но так было раньше, пока на равнине Эверглейдс не началось так называемое «освоение земель».
Несколько лет назад в местных газетах стали все чаще попадаться сообщения о том, что освоение земель грозит гибелью Большим Кипарисовым болотам, которые, по сути дела, играют для всей равнины Эверглейдс роль естественного водосбора. В сообщениях утверждалось, что, если Большие Кипарисовые погибнут и прекратится ток воды, неминуема и гибель Эверглейдс.
Печально и даже трагично прозвучали для меня эти тревожные голоса, ибо Эверглейдс — явление едва ли не единственное в своем роде, притом это один из последних уголков девственной природы, какие еще сохранились в Северной Америке. И если допустить, чтобы этот край пал жертвой неразумного, безответственного «освоения», что станется тогда с живой природой, какая судьба постигнет индейцев-семинолов? Ведь для многих из них она и ныне, как 150 лет назад, служит источником существования.
Чтобы написать в романе правду, нужно было прежде всего пожить в этих местах.
И вот в течение года я стал проводить среди семинолов все свободное время, жил среди них порой по нескольку недель кряду.
А когда, наконец, сел за пишущую машинку, то родилась повесть, и я назвал ее «Остров Навек». На ее страницах вновь ожил этот край, а герои, их чувства, души, мысли — плод того, что я узнал и полюбил людей, которых называют семинолами.
«Остров Навек» — это трагический и правдивый рассказ о бездушной жестокости человека к человеку, о том, как на место живой земли, населенной зверьем, птицей и рыбой, приходят в нашей стране асфальтовые пустыни и строения из бетона. Нехитрая повесть о том, как боролся за жизнь старый индеец-семинол по имени Чарли Прыгун тронула сердца многих: недаром книга «Остров Навек» издана уже в двадцати шести странах.
Патрик Смит
Чарли Прыгун завел долбленый челн в заводь и стал, вглядываясь в черную воду, пока из гущи сердцелистника не показалась рыбина. Он взял острогу и подождал, когда панцирная щука подойдет ближе. Улучив наконец нужное мгновение, старик вонзил острогу ей в бок. Шмякнул рыбу на дно каноэ, положил острогу и, отталкиваясь шестом, направился к соседней чащобе водорослей.
— Сегодня надо бы еще одну,— бормотал он себе под нос.— Оголодал, поди, Фитюлька Джордж.
Высоко над головой с громким карканьем потянулась через болото на восток стая ворон. Старик выпрямился и застыл, не отрывая глаз от недвижной воды — и вот вновь метнулась вниз острога, и в долбленку, забрызгав кровью кипарисовое днище, шлепнулся еще один панцирник. Проворно орудуя шестом, старик опять тронулся дальше, и вслед челноку, веером расходясь к корням кипарисов, заплескалась с журчанием мелкая волна.
Он уходил в глубь болота; солнце, канув в пущу виргинских дубов, карликовых кипарисов, капустных пальм, густо оплетенных лианами, разлилось по воде, по деревьям желтоватым мягким сиянием. Впереди, уступая дорогу лодке, плавно взмыла с кромки воды белая цапля, юркнули в прибрежную осоку водяные курочки и пастушки.
За поворотом узкая протока раздалась вширь, берега отступили, теряясь в болотной поросли; в этом месте старик взял вправо и завилял по илистой воде меж карликовых кипарисов. Обычно, судя по отметинам на деревьях, здесь было два фута глубины, но вода сошла, теперь ее оставалось дюймов восемь. Каждый ствол облепили эпифиты; там и сям торчали кустики головоцвета и сердцелистника.
Полмили прошел старик, рассекая зеленоватую гладь, потом свернул в протоку, сплошь затканную водяными лилиями. Протока переходила в широкий затон, а дальше снова простиралась глухая топь, и только южный край затона сменялся илистой отмелью. Челнок заскользил туда и футах в тридцати от берега остановился.
На высокой части отмели, полуувязнув в илистой жиже, растянулся во всю длину — самое малое восемнадцать футов — исполинский аллигатор. Такого сразу отличишь среди других, а у этого великана была к тому же особая отметина: по голове у него тянулся наискось шрам. На месте правого глаза безобразным наростом топорщился рубец. Человек и аллигатор, два глаза и один, скрестились взглядами словно бы в приветствии, и старик сказал:
— Сейчас ты у меня поешь, Фитюлька Джордж. Двух панцирников притащил тебе, хороши рыбки.
Когда старик бросил за борт рыбу, аллигатор сполз с отмели и, мощно работая хвостом, двинулся к челноку. Коротко лязгнули тяжелые челюсти, и с первым панцирником было покончено; та же участь постигла второго. Расправясь с рыбой, аллигатор помедлил, выжидая, не кинут ли ему еще чего-нибудь с долбленки, потом поплыл назад, выбрался на отмель и снова вперился единственным глазом в глаза человека.
— Хе-хе,— посмеивался старик,— ублажили тебя, Фитюлька Джордж. В другой раз прихвачу тебе на закуску болотного кролика. Прощай пока, а на днях свидимся опять.
Старик развернул свою лодчонку и пустился в обратный путь через затон на болота, а аллигатор все провожал его взглядом.
Чарли Прыгун, индеец-семинол, восьмидесяти шести лет от роду, жил на Больших Кипарисовых болотах, которыми открывается с севера заболоченная низменность Эверглейдс в штате Флорида. Жилистый, ростом всего пять футов девять дюймов, он за долгие годы так прокалился на флоридском солнце, что его темно-коричневая кожа стала напоминать кору кипарисового дерева. И только голову, некогда черноволосую, крепко хватило инеем.
Седьмой десяток лет пошел, как Чарли Прыгун обосновался на берегу Сусликова ручья. Когда-то, помнилось ему, он жил на травянистом болотце в глубине Больших Кипарисовых, а до того на одном из островов Трава-реки, но дальше память ему изменяла. Так, например, он не мог с уверенностью сказать, где родился, зато знал, что к началу века вступал уже в пору мужания; и тогда выходило, что ему не восемьдесят шесть, как он утверждал, а больше.
Жил старый индеец теперь вдвоем с женой, Лилли Пумой, а в миле от него жил со своим семейством их младший сын, Билли Джо. Двадцать два года назад Билли Джо отправился в Иммокали к агенту по недвижимости узнать, нельзя ли купить в здешних местах землю и обрабатывать ее. Ему сказали, что земля не продается, но предложили сдать в аренду участок, какой он облюбует, и честь по чести подписали договор на десять акров с арендной платой десять долларов в год за акр. Два акра он расчистил под овощное хозяйство, на остальных разводил свиней и пас коров.
Билли Джо поставил и каркасный дом в миле от того места, где обитал его отец, только отец не пожелал к нему переселиться. Много раз заводил сын об этом разговор и в конце концов смирился с мыслью, что никогда отец не покинет обжитое становище на берегу Сусликова ручья.
На празднике Зеленого початка Билли Джо сыграл свадьбу с Уотси Кипарисовой Веткой. Теперь у них двое детей: Люси пошел двадцатый год, Тимми исполнилось двенадцать. Самому Билли Джо минуло сорок два, Уотси была на пять лет его моложе.
Еще трех сыновей родила Лилли Чарли Прыгуну. Одного схоронили на островке, затерянном посреди топкой равнины, два других подались в Оклахому поступать в ремесленное училище, открытое для индейцев, да так и не вернулись.
В своей приверженности к старому укладу Чарли Прыгун был неодинок. По лесистым островкам, какими усеяны равнины Эверглейдс, по глухим углам Больших Кипарисовых немало еще ютилось семинольских шалашей-чики. Потребности у этих людей нехитрые, вся жизнь их связана со зверьем, с водой, с землей. Чарли Прыгун не мыслил для себя иного обиталища, кроме тех чики, которые построил на Сусликовом ручье,— в его сознании болота пребывали извечно и нерушимо.
Достигнув становища, Чарли вытащил на берег долбленку и принялся потрошить черного окуня, которого добыл по дороге домой. Лилли сидела в открытой кухонке за швейной машиной, поставленной на узкий дощатый помост.
Три шалаша-чики жались друг к другу на становище Прыгунов — в одном спали, в другом стряпали и ели, в третьем держали снасть и скарб. Остовом такому шалашу служат кипарисовые шесты, островерхая крыша крыта пальметтовым листом. В спальном шалаше из кипарисовых досок настлан помост в три фута высотой, такой же в кладовой. В кухне пол был земляной, и только с северной стороны возведена узкая площадка, на которой Лилли занималась шитьем. Кладовую с трех сторон закрывали стенки из пальметтового листа, два других чики были со всех четырех сторон открыты.
Посредине кухни на двух подставках, сложенных из известняка, покоилась широкая железная решетка, на ней стояли два котелка да чугунная жаровня. Под свесом крыши Чарли соорудил полки для разных горшков и сковородок, там же хранилось самое необходимое из продовольствия: кофе, сахар, соль, пшеничная и кукурузная мука и небогатый набор консервов, закупаемых в Коуплендской лавке.
Чики располагались у подножия могучего дуба на лесной прогалине, а вокруг теснились магнолии, карликовые кипарисы, капустные пальмы, восковые мирты. Особняком росли бананы, посаженные Чарли Прыгуном, неподалеку он разбил огородик, где выращивал кукурузу, помидоры, бобы, тыкву, бататы, картофель и огурцы. По прогалине озабоченно сновали куры, но свиной хлев, построенный на дальнем краю, теперь пустовал.
Лилли все свободное от стряпни время проводила за ножной швейной машиной, которую пятьдесят лет назад получила в подарок от белой женщины, открывшей в городке Эверглейдс-Сити миссию для индейцев. Шила Лилли яркие семинольские куртки, юбки, кофты, а Билли Джо сбывал их потом владельцам сувенирных киосков на Тамиамской тропе. За ее вещи всегда хорошо платили, потому что, кроме нее, уже мало кто из семинольских женщин умел выткать вручную на спине узор с точным изображением древесной улитки, почти вымершей в наши дни.
Чарли главным образом проводил время, скитаясь по болотам в поисках рыбы, черепах, высматривал белок и кроликов, подстерегал индеек, уток. Редко когда случалось ему теперь охотиться на быстроногого оленя или медведя. Еще он собирал гуавы, ежевику и голубику, рвал дикий виноград, сливы, апельсины и обихаживал овощи у себя на огороде.
В одежде он изменил стародавним традициям и носил хлопчатобумажную робу, но Лилли оставалась верна старине. Длинное, по щиколотки, яркое платье скрывало ее худощавую фигуру, на плечах в любую погоду красовалась цветная накидка. Волосы, скрученные в пучок на макушке, она убирала под сетку, в ушах носила серебряные висячие серьги, доходящие до шеи, увитой в несколько рядов нитками стеклянных бус. Неслышная, точно мышь, очень застенчивая, Лилли не решалась слово проронить при постороннем человеке, хотя бы в ответ на вопрос. Даже мужу и сыну редко удавалось услышать от нее больше двух-трех фраз, и то лишь по необходимости, а рассмешить ее умел один только внучек Тимми.
Чарли дочищал рыбу, когда объявился неожиданный помощник: толстый енот вскочил к нему на плечо и отчаянно заскреб его когтями по голове.
— Эй, Гамбо, нельзя озоровать. Тебе и так всегда перепадает от меня кусок рыбки, правильно? Что ж, трудно потерпеть? Получишь свою долю, не беспокойся.
Енот Гамбо жил при нем не первый год и чувствовал себя на становище полноправным хозяином. Сплошь да рядом он ел с людьми за одним столом, а случалось, из той же плошки, что и Чарли. Мать этого зверька подстрелил охотник, да так и не удосужился подобрать, а малыша Чарли назвал Гамбо, потому что снял его с ветки деревца гамбо-лимбо — мексиканской лаванды... Енот, не унимаясь, царапал Чарли по голове, покуда не получил рыбу, но есть стал не сразу, а сначала покрутил в лапах.
У мужа и жены не было определенного времени для трапез — ели, когда придет охота. На железной решетке постоянно что-нибудь варилось, вот и теперь Чарли Прыгуну защекотало ноздри благоухание черепаховой похлебки. Он зашел на кухню, бросил очищенного окуня на сковородку и налил себе в миску похлебки. Только он взялся за еду, как с дороги послышался грохот автомобиля по гравию. На узкую тропку, ведущую к прогалине, свернул старенький «форд»-пикап, модель 1960 года, и остановился. Из машины вылез Билли Джо Прыгун и зашагал к шалашу; по пятам за ним семенил Тимми.
— Добрый день, пап,— сказал Билли Джо, садясь на пенек капустной пальмы, стоящей на кухоньке вместо табуретки.
— Есть хочешь? В аккурат поспел черепаховый суп.
— Не, пап, спасибо. Я сыт.
— Дедушка, а дедушка, возьмешь меня с собой рыбу удить? — возбужденно затараторил Тимми. Он любил ходить со стариком на болота в долбленом челноке и, попадая на становище, уже минуты не мог усидеть спокойно.
— Это как отец скажет,— отозвался Чарли.— Спросись сперва у него.
— Пусть остается, я не против,— сказал Билли Джо.— Мне еще пилить в Иммокали с арендной платой. Заглянул узнать, не надо ли вам купить чего в лавке.
— Мне нужна штука синей материи и три катушки красных ниток,— сказала Лилли.— Вот тебе деньги.— Она поднялась из-за швейной машины, достала с верхней полки банку из-под консервов и протянула Билли Джо свернутые в трубочку деньги.
Билли Джо встал и оглянулся на сына.
— Смотри, Тимми, слушайся деда. Бабушке не надоедай, понятно? И чтобы Гамбо не дергал за хвост. К вечерку заеду за тобой.
Приехав в Иммокали, Билли Джо прежде всего наведался в низенькое строение из бетонных блоков, где помещалось агентство по недвижимости, носящее имя его владельца Райлза. Секретарша приняла от него арендную плату, стала выписывать квитанцию, и в это время в контору вошел Кеннет Райлз. Это был молодой человек лет под тридцать; дело по продаже недвижимости досталось ему в наследство пять лет назад, когда умер его отец.
— А, Билли Джо,— сказал он, протягивая пачку бумаг секретарше.— Ну как дела?
— Засуха душит, прямо караул кричи.
— Да, что правда, то правда. Дождичка нам сейчас ох как не хватает. Кстати, Билли Джо, я тут как раз получил уведомление, что продана часть земель, принадлежащих фирме «Поттер Истейт» в Майами,— десять тысяч акров. В том числе и участок, на котором живете вы. Не думаю, чтобы это повлекло за собой какие-либо перемены в арендной плате, но в случае чего я вам сообщу. Пока платите, как платили, а там видно будет, какие планы у нового владельца.
— Хорошо, мистер Райлз. Так уж вы, если поднимут плату, известите меня сразу же, будьте так добры.
Из агентства Билли Джо поехал в редакцию «Эверглейдской газеты», которую издавал Альберт Лайкс. По профессии Лайкс был адвокатом, но в последние годы совсем забросил практику. Когда ему перевалило за пятьдесят, он стал почти все время отдавать своей еженедельной газетке.
Когда Билли Джо покупал в Нейплсе подержанный пикап, с него, под видом подоходного налога, содрали двести долларов лишку. Прослышав об этом, Лайкс добился, чтобы деньги вернули назад, и отказался получить за это с Билли вознаграждение. Недаром среди семинолов шла слава об адвокате, который уладит дело, а денег не возьмет, и многих в этих краях он по праву считал друзьями. Билли Джо, собираясь в Иммокали, никогда не забывал захватить для него гостинец.
Билли Джо переступил порог тесной комнатенки, именуемой редакцией; Альберт Лайкс среди неописуемого беспорядка сидел и работал за письменным столом. Он не сразу обратил внимание на вошедшего; таких, как этот,— в джинсах и джинсовой линялой рубашке, в тяжелых башмаках, в ковбойской шляпе,— здесь, в центре скотоводческого края, десятками встретишь на любом перекрестке, в любом служебном помещении. Наконец он все-таки узнал гостя и, отодвинув бумаги, заулыбался.
— Ба, да это Билли Джо! Здравствуй, присаживайся. Рассказывай, как делишки.
— Вот привез вам бобов, окры привез,— сказал Билли Джо, кладя на стол мешок из плотной коричневой бумаги.— Маловато, вы уж не взыщите. Засуха. Что посадил, посеял, все, считай, на корню посохло.
— Это ты верно, куда ни поглядишь — беда. На юге пожары, выжгло тысячи акров, есть места, где торф горит на такой глубине, что, говорят, годы пройдут, пока заглохнет. Дождь! Великий потоп нам сейчас нужен, а не дождь.
— Хоть бы только на Кипарисовых пронесло. Как там вообще тушить пожар, не представляю...— Билли Джо придвинул к себе стул.— Мистер Лайкс, мне сейчас сказали в агентстве у Райлза, что в наших местах продано десять тысяч акров земли и мой участок тоже. Для чего бы покупать столько на самых болотах? Кипарис-то у нас давным-давно свели чуть не дочиста.
— Кто тебе сказал? — встрепенулся Лайкс.
— Да мистер Райлз и сказал. Как, говорит, теперь будет насчет арендной платы — не знаю, но услышу про какие перемены, сообщу. Только бы не повысили. И без того урожай спалила засуха, откуда я тогда наскребу еще денег— непонятно.
— Действительно, кому могла понадобиться земля в ваших краях? Не знаю, Билли Джо, разве что замышляют спекуляцию. Глушь, ни подойти, ни подъехать... Если выведаю что-нибудь, дам тебе знать.
— Сделайте такое одолжение, мистер Лайкс. Да приезжайте к нам погостить. На рыбалку вас свезем.
— Спасибо за гостинец,— сказал Лайкс.— Как случится еще быть в городе — непременно заходи.
Билли Джо выехал на Двадцать девятое шоссе и покатил домой, но всю дорогу его тревожило известие о продаже земли. Никак он не мог взять в толк, чего ради кто-то позарился на эдакую землицу?..
Не успел отец отъехать от становища, как Тимми запустил в котелок с черепаховым варевом чистую миску и жадно набросился на еду, хотя еще недавно, за завтраком, отдал должное и жареной ветчине, и мамалыге, и горячим коржикам. Когда речь шла о таких вкусных вещах, как дичь и черепаха, его мать никак не могла тягаться в кулинарном искусстве с Лилли, и Тимми частенько норовил удрать из дому и в неурочное время полакомиться чем-нибудь у бабки. Кукурузный хлеб она выпекала высокий, пышный, и Тимми, отломив себе дымящуюся горбушку, обмакнул ее в черепаховый бульон. Нежное черепашье мясо таяло во рту, и мальчик смаковал каждый кусок, поминутно облизывая пальцы.
Первые минуты Чарли наблюдал за внуком молча, потом сказал:
— Расправляешься с едой не хуже голодной пумы. Это тебе на пользу. Вырастешь большой и сильный.
Семинольскими чертами лица Тимми пошел в отца и деда — те же широкие скулы, кожа цвета темной бронзы, те же цепкие, чуть раскосые глаза. Только у деда глаза усталые, с прищуром, а у внука — любопытные, настежь распахнутые от возбуждения.
Миску с похлебкой он очистил в два счета.
— Двинули на болота, а, дедушка?
— Я еще не доел. Если тебе так не терпится, поди нарой червей для наживки.
Вскочив на ноги, Тимми метнулся в кладовую, схватил лопату и помчался на тот край прогалины, где стоял заброшенный свинарник. Вскоре он уже бежал назад, держа в руке консервную жестянку, полную червей, и, взяв две тростниковые удочки, отнес это все в лодку. К тростниковому удилищу была прилажена той же длины леска с индюшиным перышком, на конце лески маленький крючок. Чарли брал удочки с собой, только отправляясь с Тимми удить окуней. Панцирную щуку он бил острогой.
Спустя немного дед и внук уже плыли по Сусликову ручью; Тимми устроился в носовой части и наблюдал, как Чарли быстро ведет челнок по воде. Он не сводил с деда глаз, подмечая малейший поворот шеста у него в руках. Всякое дело, даже самое, казалось бы, немудрящее, таило в себе очарование, когда его делал дед — снимал ли он панцирь с черепахи, потрошил рыбу или вырезал из кипарисовой чурки миску для еды. Тимми в нем души не чаял и мечтал, когда вырастет, стать таким же.
Наконец он нарушил молчание:
— Дедушка, мы куда?
— На Выдрин бочаг, окуней удить.
— А к большому дереву нам не по дороге?
— Сначала проведаем дерево, на обратном пути поудим.
Внезапно они очутились на открытом болоте, поросшем карликовым кипарисом, том самом, откуда сегодня утром,
направляясь на свидание к великану аллигатору, Чарли свернул вправо. На этот раз они продолжали путь по прямой, пока на дальнем краю болотной прогалины не обнаружилась протока, ведущая в самые дебри болот.
Еще миля пути, и протока раздвинула берега, разлив свои черные воды во всю окрестную ширь — перед ними, уходя ввысь на полторы сотни футов, величаво вознесся к небу болотный кипарис, гигант, уцелевший от пилы несколько десятилетий назад, когда на болота, неся с собою опустошение, явились лесорубы.
Чарли, отталкиваясь шестом, подвел челнок ближе к подножию дерева; Тимми закинул голову, и ему почудилось, будто ствол исполина упирается прямо в облака, теряясь там из виду. У основания — верных футов пятьдесят, а то и больше в обхвате — корни разрослись так густо, что челноку было не пройти.
— Можно, я залезу? — обмирая от волнения, спросил Тимми.— Пожалуйста, дедушка, хоть сегодня разреши. Ты же сам обещал, что когда-нибудь позволишь мне взобраться на это дерево.
Много лет назад Чарли смастерил на стволе дерева ступеньки до вершины. Оттуда, красиво выгибаясь, расходились кверху и по сторонам ветки. Какие дали открывались отсюда! Поверх других деревьев, над зеленым кровом болот, минуя черту, где неожиданно кончались деревья и волновалось необозримое море тростника и осоки; через Трава-реку, усеянную хохолками лесистых островов, и дальше, сколько хватал глаз, до самого горизонта...
Он поразмыслил немного.
— В другой раз,— сказал он Тимми.— Влезешь, дай только срок. Поднаберешься силенок, а не то, гляди-ка, руки откажут, пока будешь карабкаться к вершине.
— А Остров Навек видно оттуда?
— Нет, Остров Навек и оттуда не видать. Только путь туда виден, а сам Остров чересчур далеко. На много миль южнее.
Тимми опять сел на дно лодки, и старый индеец повел ее в западном направлении. Они выбрались из болота по другой протоке и вскоре подошли к бочагу, кое-где поросшему карликовым кипарисом и сердцелистником. В одном месте, где заросло погуще, Чарли остановился.
— Поглядим, водятся ли тут окуни, ты только, главное, сиди тихо. Скажешь громкое слово — можешь считать, что распугал рыбу.
Тимми насадил на крючок червя, укрепил индюшиное перышко на глубину два фута и забросил удочку невдалеке от гущи водорослей. Не успел крючок затонуть, как перышко чиркнуло книзу и леска туго натянулась. Тимми вытащил жирного окуня и, сняв его с крючка, бросил на дно лодки. Каждый раз, едва крючок касался воды, происходило то же самое, и очень скоро на дне челнока уже ворочалась добрая дюжина окуней.
Чарли снова намотал леску на удилище и положил на дно челнока.
— Поудили, и будет. Больше рыбы тебе не съесть.
Тимми опрокинулся навзничь и загляделся в вышину, на деревья, на небо, а дед работал шестом, подгоняя челнок домой. Наверху проплывали ветки, обмотанные лианами, проплывали облака, журчала волна за кормой ветхого суденышка, рассекающего болотную воду, и от всего этого кружилась голова. Стая белых ибисов показалась в воздухе, замахала крыльями, держа путь на юг, к топкой низине; где-то слышался хриплый крик большой голубой цапли, хотя самой птицы не было видно. Тимми свесил босую ногу за борт, ощущая, как упруго вихрится под нею вода. Через две минуты он уже спал и пробудился, только когда почувствовал, что мерное покачивание челнока прекратилось.
Он поднялся на локтях и увидел, что деда нет. На мгновение мальчик оторопел; он огляделся и увидел, что Чарли стоит в мелкой заводи — нагнется, схватит что-то со дна и сунет в карман.
— Раки,— объявил старик, шагнув в лодку.— Это я для Гамбо. Ему раки все равно что тебе леденцы. Дашь корзину, и все будет мало.
Они уже тронулись было дальше, как вдруг Чарли снова остановил челнок и вернулся на прежнее место. Он пригляделся — да, на стволе дерева белела свежая зарубка. Старый индеец прошел вброд немного дальше: от края заводи по деревьям уходила в глубь болот вереница зарубок, и конца ей не было видно. Минуту он постоял в раздумье, потом повернулся и побрел к внуку...
...Челнок еще не коснулся носом берега, на котором стояли чики, а енот Гамбо был уже тут как тут. Он обнюхал рыбу на днище каноэ, взобрался к Чарли на плечо и заскреб когтями по его голове.
— Это не тебе, Гамбо,— сказал старик.— Рыбу получит Тимми. А тебе я привез вот что.— От вытащил из кармана раков и положил на землю.
Енот тоненько взвизгнул от радости совсем по-ребячьи и, ухватив рака, принялся крутить его в лапах.
* * *
Лагерь «Сетов приют рыболова» был расположен на Сусликовом ручье в двух милях к востоку от становища Чарли.
Эти десять акров земли Сетов отец в 1890 году приобрел заочно, по объявлению; продал свою маленькую ферму в Джорджии и тронулся на юг, во Флориду, где, если верить объявлению, молочные реки текут в кисельных берегах. В рекламном проспекте расписывались помидоры весом в пять фунтов, двухфутовой длины окра, сахарный тростник в четыре человеческих роста и почва, до того плодородная, что воткнешь палку — и назавтра же зазеленеет деревце.
Полгода спустя Джон Томпсон очутился южнее озера Окичоби с воловьей упряжкой, на которой вез свои топоры, плуги и свои мечты, и чем дальше к югу он продвигался, тем глубже становилась под ногами вода и непролазней трясина. Кончилось тем, что он бросил волов и поклажу и с одним лишь ружьем да топором достиг своей латифундии. Год он валялся по ночам в жидкой грязи, миллионами шлепал комаров и строил себе хибару, благо в его владения входила девственная роща болотных кипарисов. Болота кормили его, верней, не давали помереть с голоду: дичь шла на еду, а шкурки — на продажу.
Сколько раз его одолевал соблазн послать все это к чертям и сквитаться с мошенниками из агентства по недвижимости, которые провели его и обобрали, и все-таки он оставался и мало-помалу отвоевал у джунглей клочок земли, скупо родящей помидорчики весом в шесть унций да трехдюймовую окру.
В 1906 году, съездив в городок Окичоби, он женился на дочке местного рыбака и привез ее к себе на болота, в кипарисовую хибару. Здесь жена его прожила ровно столько, сколько потребовалось, чтобы произвести на свет Сета, и после этого покинула болота, а заодно и мужа с сыном — только ее и видел Джон Томпсон.
В отношениях между Сетом и его озлобленным на весь мир папашей не ощущалось родственного тепла; Джон Томпсон с большим удовольствием пришлепнул бы отпрыска, точно назойливого комара, если б только не страх перед законом. Он терпел мальчонку подле себя тринадцать лет, потом Сет сбежал из дома и подался на рыбный промысел добывать зубатку.
Время от времени он приезжал домой подбросить отцу деньжат, сколько удавалось скопить, и постепенно Джон Томпсон начал ласковей глядеть на сына. Однажды в 1931 году, приехав по обыкновению ненадолго домой, Сет застал отца бездыханным на грядке с чахлыми помидорами. Он отвез тело на Коуплендское кладбище и там предал земле.
Вскоре он вернулся, и не один, а с молодой женой из Мор-Хейвена, и повторилась та же история, какую некогда пережил его отец. На сей раз достаточно оказалось одной недели в кипарисовой развалюхе среди комариных болот: на восьмое утро Сет проснулся и обнаружил, что молодая жена исчезла. Только он в отличие от отца не ожесточился. Готовить женщина не умела, отказывалась колоть дрова и свежевать добычу, а стало быть, уехала — и с плеч долой.
К этому времени промысел зубатки на озере Окичоби, пережив бурный расцвет, захирел, а спрос на рыбу все не падал, и Сет начал рыбачить то по ручьям и заводям на болотах, то на Тернер-ривер, протекающей поблизости. С годами он утратил вкус к тяжелому труду по многу часов кряду, прикупил лодок для сдачи напрокат и стал предлагать свои услуги в качестве проводника; мало-помалу «Сетов приют рыболова» приобрел известность среди любителей рыбной ловли в Кольер-каунти. Теперь Сет промышлял рыбу на продажу, только когда приходилось туго с деньгами.
Старый дом его, каким был в 1890 году, когда его построили, таким и остался: покосившееся крыльцо, пол из толстых, грубо отесанных досок, кровля из самодельной дранки. Слева от дома стояли «форд»-пикап и болотный вездеход с огромными самолетными покрышками. Ближе к ручью Сет поставил сарайчик и открыл в нем лавку. Здесь можно было купить рыболовные снасти, пиво, содовую воду, сладости, сигареты — правда, пиво хозяин не столько продавал, сколько употреблял самолично. По берегу ручья лежало штук десять плоскодонок, которые Сет сдавал напрокат, а кругом по всей поляне валялись верши и сети.
К немногим современным удобствам, какими Сет пополнил свое обзаведение, относились электрический свет, охладитель для пива и содовой, холодильник и большая вывеска над входом в лавку с рекламой кока-колы и надписью: «Сетов приют рыболова». Стряпал он по-прежнему на открытой решетке у крыльца или же на дровяной плите в кухне. Уборная стояла в лесочке за домом, а ванной служила большая деревянная кадка на заднем крыльце. Зато воду в дом, а также к прилавку на дальнем конце вырубки, где чистили рыбу, подавал электрический насос.
Был у Сета помощник по кличке Тощий — долговязый мужчина лет сорока, который забрел сюда лет десять назад, попросил поесть, да так и прибился к лагерю. Откуда явился Тощий, куда держал путь, было ли у него человеческое имя, Сет не знал и никогда не допытывался. Тощий служил ему верой и правдой, ел мало, делал без лишних разговоров все, что велят,— чего же еще? Жил он в каморке, которую Сет для него пристроил к лавке с задней стороны, и по всем признакам никуда отсюда не собирался.
Во владениях Сета имелась достопримечательность, какую нигде больше не сыщешь на болотах: лагерь окружали девять акров девственного, нетронутого леса, в котором
рос болотный кипарис. Здесь никогда не производили порубку, не считая того акра, который Джон Томпсон когда-то расчистил под огород, пустив деревья на постройку дома и сараюшек. И теперь сумрачные великаны поднимали высоко к небесам кроны такой густоты, что ни единому лучику солнца сквозь них не пробиться; по земле громоздились корни самых невообразимых очертаний, а между ними горделиво раскинули листья высокие папоротники и ковром стлались сфагновые пышные мхи. Там озерко, покрытое водяными лилиями, тут густая чаща сабаля-пальметто, россыпи диких орхидей — и тишь, нерушимая тишина. Часто люди ехали сюда только ради того, чтобы побродить по такому лесу.
К шестидесяти пяти годам Сет Томпсон раздобрел, округлился — штука ли, двести восемьдесят фунтов веса при росте пять футов одиннадцать дюймов — эдакий современный Фальстаф, неизменно улыбчивый, неизменно одетый в один и тот же выцветший комбинезон. Даже уезжая в Нейплс, Эверглейдс-Сити или Форт-Майерс продавать рыбу или покупать товар, он не надевал ни рубахи, ни ботинок, а если бы надел, люди, привыкшие к нему за столько лет, не узнали бы его. И завсегдатаи лагеря, и местные жители, с которыми он общался в городках и поселках, принимали его таким, как есть; он возбуждал в них не больше любопытства, чем любой другой белый или индеец, кому Большие Кипарисовые болота были родимым домом.
Сет смолил днище одной из плоскодонок, когда в берег уткнулся носом долбленый челнок Прыгуна. Из каноэ первым выскочил Гамбо, оглашая всю вырубку грохотом погремушки, сделанной из маленькой тыквы.
Сет поднял голову.
— А-а, Чарли, привет. Пивка не желаешь ли?
Он всегда предлагал старому семинолу промочить горло, и случалось, что Чарли не отказывался. Вкус холодного пива был восхитителен, и все же он редко отваживался выпивать больше одной банки, опасаясь, как бы хмель не ударил ему в голову.
Сет поставил на землю жестянку со смолой и гаркнул:
— Эй, тощий! Подай нам сюда пару холодненького!
Долговязый помощник неторопливо отделился от лавки, неся две банки пива. Одет он был в точности как Сет, с той только разницей, что на ногах у него болтались огромные, явно не по размеру, башмаки. Он подал пиво Сету и сказал:
— Здорово, Чарли. Как семейство?
— В порядке,— отозвался индеец, принимая из рук Сета банку.
Чарли и Сет перешли в холодок, к раскидистому, увешанному косматым мхом дубу, под ветвями которого прятался дом. Там они присели на корточки лицом друг к другу; Сетово объемистое чрево легло ему на колени, скрыв от взгляда босые ноги.
— Ну и жарища, ну и сушь! — Сет истово приложился к своей банке.— На два фута упала водица-матушка, а где и поболе — по бухтам, спасибо, если пяток дюймов наберется. Эх, кабы дождя сейчас, да проливного!
— Рыбачишь, поди, сам-то?
— Э-э, промышляю помалу, зубатку таскаю на Тернер-ривер, кефаль. В сушь да зной кто сунется в лагерь—воды почитай что нету, лодки простаивают. Еще одну банку? На одной ножке далеко ли доскачешь?
— Большое спасибо, но мне пора. Надо нарубить кипарисовых чурок.
Сет поднялся и проводил Чарли к ручью.
— И для какой же надобности тебе кипарисовые полешки?
— Вытешу лодочки, выдолблю и сбуду торговцам сувенирами на Тамиамской тропе.
— Это что еще за новости? — Сет фыркнул и подтолкнул старика локтем в бок.— Уж не зазноба ли завелась на стороне да тянет денежки?
— Кто на меня, на старого пса, польстится, хотя бы и ради денег? — отвечал индеец.— У Билли Джо дочка, Люси, выходит замуж за Фрэнка Уилли, и Билли Джо хотел им подарить на свадьбу телевизор. А теперь боится, не сможет, урожай-то весь спалила засуха. Вот я и помогу, и Лилли подсобит, а Билли Джо мы пока не скажем, деньги соберем сначала. За долбленые челноки можно получить прилично.
— Убей меня бог, раз уж такая у тебя забота, то и я тоже пособлю. Первое, наберем мы с тобой кипарисовых корней, за них тоже хорошо дают, второе, мне известен магазинчик в Майами, туда сколько ни приволоки змеиных шкур — все заберут, а потом давай наловим лягушек, ножки продадим. Провалиться мне, за лягушачьи за эти ноги цену заламывают выше крыши. Особых делов у меня сейчас по лагерю нету. Ты мне только дай знать, как время подойдет браться за дело.
— Скажу, Сет. Добрая ты душа. И спасибо тебе за пиво.— Чарли шагнул уже к лодке, но снова остановился.— Ты по болотам следы на деревьях, часом, не оставлял?
Сет в недоумении выкатил глаза.
— Ты это насчет чего?
— Метины не ставил топором на стволах?
— Да боже упаси! Делать мне, что ли, больше нечего? А почему ты спрашиваешь?
— Так, ничего. Наткнулся на свежие зарубки как-то на этих днях — видать, кто-нибудь из охотников струхнул, как бы не заблудиться.
— Откуда об эту пору взяться охотникам в наших краях — разве сам не знаешь? Не пойму только, какому дурню взбрело в голову шастать по лесам да уродовать деревья?
Чарли водворил Гамбо в челнок и столкнул утлое суденышко на воду.
— Значит, до скорого, Сет.
— Заезжай, Чарли, в любое время. Да смотри дай знать, когда срок настанет собирать деньги на телевизор.
* * *
В один прекрасный день на следующей неделе Кеннет Райлз, покинув агентство по недвижимости, нанес визит в редакцию «Эверглейдской газеты». Альберт Лайкс сидел за столом, читая гранки очередного номера. Кивком он указал гостю на стул.
Райлз молча подождал, пока Лайкс дочитал столбец и отложил листок в сторону.
— Ну-с, чем могу быть полезен, Кен?
— Да вот, принес вам свежий материал для газеты.— В голосе Райлза слышалось воодушевление.
— Какой же именно?
— Я получил уведомление, что десять тысяч акров Поттеровской земли, что были проданы на Больших Кипарисовых, перешли в руки строительной корпорации «Прибой», которая намерена их освоить и превратить в новый жилой район. Особняки, многоквартирные дома, зона отдыха и спортивный комплекс с площадкой для гольфа, короче — цивилизация! Уже и название есть: «Эверглейдские виллы». Прибавьте к этому те двадцать тысяч акров, на которых развернула работы компания «Транспасифик», и вот вам одновременное освоение тридцати тысяч акров земли. Размах! Если так дальше пойдет, заткнем за пояс Форт-Лодердейл и Майами.
Лайкс откинулся на спинку стула. Он и сам подозревал, что надвигается нечто в этом роде, но подтверждение все же потрясло его.
— Расцвет,— проговорил он наконец недружелюбно.— Этот ваш расцвет означает, что все полетит в тартарары. Неужели вам не ясно, что он с собой принесет?
— Он привлечет сюда людей,— веско произнес Райлз.— Он принесет работу, рост предпринимательства, новые средства от налогов в казну округа, новый приток денег в обращение. Он принесет с собой прогресс.
Лайкс покачал головой.
— Он принесет с собой новые дренажные каналы, новые улицы, кучи отбросов, которые нужно куда-то свозить. Потоки сточных вод хлынут на юг, дальше отступят птица и зверь. Это вы называете прогрессом?
Такого поворота Райлз не ожидал и начинал злиться.
— Мать честная, Ал, велика ли важность — болото! Этого добра, слава богу, хватает!
— Ой ли? Двадцать тысяч акров долой вчера, десять тысяч — сегодня, а завтра, может статься, еще тридцать тысяч? Когда же остановка, Кен? Когда ничего не останется?
— Ну а на что Эверглейдский национальный парк? — С лица Райлза стерлись последние следы воодушевления.— Не довольно ли, чтобы просто любоваться?
— Много ли толку в парке, когда в нем ничего не растет и вымерло все живое? Кто захочет им любоваться? Погибнут Большие Кипарисовые, погибнет и парк. Уж это точно.
Райлз встал со стула.
— Я не спорить пришел сюда, Ал. Думал, вы проявите интерес, вот и все. Но, судя по вашему отношению, я сказал бы, что у вас шоры на глазах, вы в принципе против всяких новшеств — точно так же, в штыки, вы приняли деятельность «Транспасифик», строительство Аллеи Аллигаторов. Вы просто-напросто не приемлете перемен.
Лайкс подался вперед.
— Нет, отчего же, Кен, интерес я как раз проявляю. Но позвольте задать вам вопрос. Вы лично никак не связаны с тем, что проектирует «Прибой»?
— Допустим,— запальчиво сказал Райлз.— Имею контракт как агент по продаже участков.
— Я так и думал,— печально протянул Лайкс.
— Какая разница? Мои деловые контакты с корпорацией «Прибой» тут ни при чем. Я сторонник прогресса и тех, кто насаждает его в нашем округе. Впрочем,— прибавил он безучастно,— как я уже сказал, я не затем сюда пришел, чтобы вести споры. Если вам будет интересно узнать подробности, вы найдете меня в агентстве.
Райлз пошел к двери, но голос Лайкса остановил его:
— А Билли Джо Прыгун слышал об этом? И другие, кто живет в тех местах?
— Нет еще. Но я поставлю их в известность, как только дойдут руки.
— Не завидую вам.— Лайкс снова откинулся на спинку стула.
— Слушайте, когда люди селятся на чужой земле, у них нет оснований рассчитывать, что это навек.
— Тут вы, пожалуй, правы. Чтобы навек — такого, пожалуй, уж вообще не осталось.
Райлз ушел, а Лайкс еще несколько минут сидел неподвижно, возвращаясь мыслями к тем временам, когда это самое освоение только начиналось. Он был немолод и застал край от Больших Кипарисовых до озера Окичоби еще почти нетронутыми, когда эта площадь являла собой естественный водосбор, питающий кипарисовые болота и низинные эверглейдские трясины. Вновь встали перед ним тропические буйные рощи, чистые озера и прозрачные родники, леса, изобилующие зверьем и птицей. Потом болото прорезали дренажные каналы и засосали воду, отводя ее на запад, в Мексиканский залив, и на восток, в Атлантический океан, застопорив этим естественный ток воды, дарующей жизнь сотням квадратных миль на юге, потом дамба преградила воде путь на юг с озера Окичоби — а там опять дренажные каналы и снова дамбы, и тысячи, тысячи овощных плантаций, и что ни плантация, то своя дамбочка и своя дренажная канава; а когда дождь, то дождевая вода, стекая в канавы с плантаций, несла с собой и пестициды, и химические удобрения, и фосфаты, и стоки с тысяч и тысяч отстойников, постепенно проникая в дренажные каналы и отравляя землю. Огромные площади осушенных земель пересохли дотла, ил по низинным топям высыхал слой за слоем, и ветер сдувал его, обнажая голое известняковое ложе; на торфяниках площадью в сотни тысяч акров бушевали пожары, кое-где огонь забивался в глубину и тлел там годами, губя эту землю — прибежище для птиц, пресмыкающихся, четвероногих и для людей, которые вели на ней трудное существование; а после новые покорители дебрей теснили от Хомстёда на север, от Майами и Холливуда, Форт-Лодердейла и Уэст-Палм-Бич на запад, осушали и строили, перли до самой Травы-реки, нажимали с запада, от Форт-Майерса, и вот теперь надвигаются на болота с севера...
Лайкс рывком подался вперед и придвинул к себе стопку чистой бумаги. Он знал, что для него есть лишь один способ вступить в борьбу с планами, которые вынашивает «Прибой»,— это обратить против них общественное мнение, воззвав к нему со страниц своей газетки. Вероятно, эти усилия ни к чему не приведут, но он, по крайней мере, попробует.
Он взял лист чистой бумаги и заправил его в свою разбитую машинку.
* * *
На смену маю пришел июнь, а дождя все не было. В лесах, примыкающих к Аллее Аллигаторов, всего в шестнадцати милях на север от восточной оконечности Сусликова ручья, вспыхнул пожар, и лесники, присланные Лесной службой штата Флорида, боролись с огнем трое суток, пока сумели его укротить. До сих пор еще по болотам стлался дым от дотлевающих деревьев, пней и торфяников.
Билли Джо подрядился рубить кустарник и выкашивать траву вдоль Двадцать девятого шоссе, и Тимми лишился возможности то и дело бегать на становище к деду. У него появились обязанности: кормить кур и свиней и поливать те немногие грядки, на которых Билли Джо выращивал овощи для домашних нужд. Все остальное на его огородах посохло и сгорело на корню.
Сет с Чарли три раза совершали ночные вылазки на болота, добывая лягушек; Лилли внесла свою лепту, сшив еще несколько кофт, Чарли вытесал несколько лодочек, и, когда подсчитали выручку, оказалось, что тайный фонд на покупку телевизора возрос до ста восьмидесяти долларов.
На сегодня у Чарли и Сета была намечена во второй половине дня еще одна прибыльная затея: поход на восточное болото за кипарисовыми корнями, а утром Чарли опять собирался съездить нарубить мелких кипарисов для изготовления челночков. Он обещал, что возьмет с собой Тимми, и теперь ждал, когда внук справится с делами по хозяйству и прибежит на становище.
Но вот по тропинке затопали босые ноги, и Тимми рысцой выбежал на мостки, где его дожидался дед. Чарли положил в долбленку топор и оттолкнулся от берега.
На этот раз он решил отправиться за кипарисовыми чурками на другое место, куда путь вел по самым глубоким заводям, потому что уровень воды повсюду упал еще ниже. На том участке, где протока раздавалась вширь по болоту, он взял влево, держа на юг, за Мускатную заводь. Он никогда раньше не брал с собой Тимми на этот край болота; и каждое озерко, каждый островок сердцелистника, проплывающий мимо, были для мальчика волнующим открытием.
Впереди отлого поднимался из воды зеленый бережок, и Чарли пристал к нему. Они высадились; вокруг буйствовали кудрявые папоротники, босые ноги тонули в ковре бархатистого мха. К стволу огромного виргинского дуба нежно льнул золотистый фикус, обвивая его ветви своими плетьми. Пройдет время, и могучее дерево задохнется в тесных объятиях, рухнет на землю.
Вдруг Тимми стал как вкопанный.
— Дедушка, я чую запах скунса. Айда скорей назад!
Чарли усмехнулся.
— Это не скунс, сынок. Это гвоздичное дерево. Дунет ветер с его стороны и приносит вонь, как от скунса, только скунсова липнет к тебе, а эта улетучивается. Возможно, дерево не любит, когда его беспокоят, вот и говорит нам — держитесь подальше.
Под ногами захлюпало, и они вышли на мелкий прудик, поросший карликовым кипарисом; Чарли срубил три деревца и понес обратно в лодку. Отсюда они двинулись дальше на юг, к той черте, где болота кончаются и их сменяет необозримое море осоки.
Здесь Чарли опять остановил каноэ.
— Сейчас я тебе покажу одну вещь, ты такого не видел.
Дед и внук вышли на площадку, где, пронзая шатер болотных зарослей, тут и там уходили в вышину обнаженные стволы величественных королевских пальм. Чарли подвел мальчика к одной, до того древней, что на ней уже не росли листья, а омертвелый ствол изрешетили дупла, выдолбленные клювом дятла. В сердцевине ствола, у основания, застряло старинное мачете — древесина на черенке прогнила дочерна, но заржавелое лезвие не утратило прочности.
Тимми немедленно ухватился за рукоятку, стараясь выдернуть мачете, но оказалось, что нож намертво сросся со стволом пальмы.
— Откуда оно взялось? — спросил он деда, возбужденно блестя глазами.
— Сам не знаю. Нашел я его здесь давным-давно, когда был маленький, но и тогда оно уже вросло в дерево. Наверное, осталось здесь со времен первой войны белых людей с семинолами. Видно, задумал кто-то срубить эту пальму — белый солдат или путешественник,— и не хватило сил вытащить.
— Можно, дедушка, оно будет мое? Давай топором вырубим, и я его заберу домой.
— Дерево отняло его у человека, значит, дереву им и владеть. Оно не наше.
— Но ведь дерево умерло, дедушка.
— И человек тоже. Пускай мачете остается здесь, Тимми. Оно принадлежит времени, которое ушло навсегда.
Тимми нехотя кивнул головой; они вернулись к лодке и двинулись в сторону Сусликова ручья.
Вскоре после полудня Чарли оттолкнулся шестом от причала и поплыл к соседу, чтобы вместе отправиться за кипарисовыми корнями. Сет говорил, что знает на болоте место, где сохранилась нетронутой рощица болотных кипарисов, и корней там тьма. Корни водились в избытке и на его земле, но эти ему спиливать не хотелось.
Индеец сошел на берег, и Сет встретил его своим обычным:
— Пивка не желаешь ли?
Чарли отказался, и они взобрались на вездеход. Сет запустил двигатель, включил передачу, нажал на педаль газа и отпустил сцепление. Несуразная колымага не сразу стронулась с места — сперва непомерные задние баллоны бешено завращались вхолостую, буксуя по рыхлой земле, потом ее подбросило
фута на три, и она рванула вперед, с треском ломая кусты.
Чарли вцепился в поручень, да так и повис на нем, а Сет, забыв отпустить газ и не разбирая дороги, погнал по болотам на юго-восток. Их со всех сторон обдавало грязью, они крушили кусты, врезались в мелкий кипарисник, фонтаном взметая из-под колес куски коры и обломки сучьев. Озерко подвернется — зачем объезжать, проще махнуть напрямик, подминая листья водяных лилий и оставляя на их месте две полосы взбаламученной жижи. Один раз Чарли оглянулся назад.
— По-моему, аллигатора переехали! — крикнул он.
— Ты, главное дело, не волнуйся,— добродушно отозвался Сет.— Эту телегу аллигатору не сломать.
Где подпрыгивая, где проваливаясь, где юзом, они проехали пять миль, и вдруг Сет разом выжал сцепление и нажал на тормоз. Машина завертелась на месте, стукнулась задом о дерево и стала. Чарли сорвало с сиденья, выбросило наружу, и он, пролетев футов десять, навзничь шлепнулся на землю.
Первую минуту ему было страшно пошевелиться. У него перехватило дыхание, он не сомневался, что переломал себе все кости.
— Что, досталось? Ха-ха! — услышал он зычный голос Сета.— То-то!
Чарли с опаской поднялся на ноги и удостоверился, что кости целы, только штаны сзади заляпаны грязью. Он с укоризной взглянул на Сета.
— Я уж подумал — дух из меня вон. Ты, что всегда так водишь машину?
— Зачем? — веселился Сет.— Обыкновенно норовишь сберечь время, ну а поскольку ты со мной, я не поспешал.
— Посади на свое место аллигатора, он лучше поведет,— ворчал Чарли, тщетно стараясь счистить грязь и только сильней ее размазывая.— Можно объехать — нет, лезет напролом. Пойду-ка я лучше назад пешочком.
— Это ты зря. Хочешь — сам веди, я не против.
— Я эту штуку водить не умею, ты знаешь.
— Да, тогда тебе ничего не остается, кроме как ехать со мной либо плестись пешком.— Он опять прыснул.— Ладно, назад будем ехать полегоньку. Это я дурака валял.
Они достали из вездехода ножовки и пошли спиливать корневые выросты, торчащие вокруг небольшой — стволов шесть или семь — рощицы болотных кипарисов. Каких только форм и размеров не попадались им корни — одни, похожие на человеческий череп, другие напоминали животных, был такой, что ни дать ни взять танцоры на сцене; кривые, перекрученные — самых причудливых очертаний. Всего набралось двадцать пять штук.
Обратно Сет вел машину куда тише и другой дорогой. Заметив на стволе встречного дерева свежую зарубину, он остановился. На юг отсюда вела череда таких же зарубок; на запад по безлесной травянистой низине убегали колышки с красными матерчатыми флажками, прибитыми на концах.
— Вот они, зарубки,— сказал Чарли.— Я такие встречал в двух местах на южном конце Сусликова ручья.
— Это вешки,— сказал Сет.— Кто-то здесь межует участки. С какой бы только радости — как думаешь?
— Не знаю, но два раза я их встречал. Людей, правда, за такой работой не видел.
— Непонятно,— проговорил Сет, слезая с вездехода.— А что, если ты да я маленько их собьем? Возьму-ка я топор и проложу на восток по деревьям свою межу, а ты выдергивай столбики и переставляй ярдов на двести к северу от того места, где их понатыкали.
— Беды себе не наживем?
— Помилуй бог, откуда? Никто и не увидит. Да и потом — подумаешь, позабавились, и все дела. Что в этом худого?
— Тогда я пошел переставлять колышки, а ты ступай метить деревья.
Через полчаса, исполнив, что задумали, они снова сошлись у машины. Собираясь запустить мотор, Сет сказал:
— Где увидишь по южным болотам такие отметины, сейчас намечай -топором межу в другую сторону. И я тоже буду смотреть, нет ли новых. А то ишь учудили — болота межевать, ну и мы тогда почудим над ними, что мы, хуже?
Не успели они добраться до лагеря, как Сет первым делом зашел в лавку и вынес две банки пива. Теперь Чарли и не подумал отказываться. Он облегченно вздохнул, когда благополучно спрыгнул на землю, решив про себя, что на такой машине он больше по болоту не ходок.
Сет взял один из корней и повертел в руках.
— Самое лучшее — пропарить перво-наперво, легче сойдет кора. У меня стоит чан на заднем крыльце, так что здесь будет способней. Обдерем кору и отполируем до глянца. Нынче такие редко где найдешь, доллара по два обязательно должны дать.
Туристы их хватают за милую душу. Расквохчутся над деревяшкой, можно подумать, в жизни не видели.
— Я утром приеду, помогу тебе снимать кору,— сказал Чарли.— А сейчас я домой, мыться в ручье. Грязищи полны штаны.
Всю дорогу от лагеря долбленку, урча, сопровождал далекий гром. С юга нагнало темных туч с белыми краями; мох, повисший на дубовых ветвях, отдувало к северу. Суетливей обычного мельтешили птахи по берегам ручья, ветер дышал в лицо влагой и свежестью.
Дождик пошел сразу, как стемнело. Тихий и редкий, вовсе не похожий на проливень, который был нужен позарез; но все же он принес на болота прохладу и смыл с крыш чики известняковую пыль.
Продолжение следует
Перевела с английского М. Кан
(обратно)
Послушный «чонар-даш»

Вайса Ажиевна Аракчаа сидела за невысоким столом, заваленным стамесками, рашпилями, ножовками, и рассматривала большой кусок желтоватого камня. Она поднимала его, переворачивала, откладывала в сторону, снова брала в руки, пытаясь что-то разглядеть в этом непрозрачном камне. Потом резким ударом молотка отколола от него краешек и снова начала вглядываться. На первый взгляд — бросовый, бесформенный кусок породы, но ей, художнику-камнерезу, видимо, были понятны прожилки, цвет и даже бесформенность материала, с которым предстояло работать...
В горах Бай-Тайги, на западе Тувы, немалые залежи агальматолита — камня, мимо которого пройдешь и не обратишь внимания. И все оттого, что не горят его грани драгоценным блеском, да и цветом его природа вроде бы обделила. Но когда к нему прикасается художник, камень превращается в дикого зверя, в таежную птицу, а то и в чудище из детской сказки. За послушность, за податливость агальматолит называют «чонар-даш» — камень, который можно резать.
На западе Тувы жители давно занимались камнерезным промыслом. До сих пор почти в каждой юрте можно увидеть немудреный инструмент резчика. А у ребятишек — каменных верблюдов, сарлыков, козерогов. Потомственные охотники и скотоводы, мастера вырезали то, что хорошо знали,— животных, которых так много в горах и степях Тувы. Агальматолит резали мужчины.
Раиса Ажиевна Аракчаа стала первой в Туве женщиной-камнерезом. Увлечение резьбой пришло к ней давно, еще когда училась в школе. Она подолгу смотрела, как работали известные мастера Монгуш Черзи, Байынди Баир, жившие с ней по соседству. Ее поражало перевоплощение «чонар-даша»: на глазах он расцветал, менял оттенки и становился то красавцем-оленем, то летящей лошадкой с развевающейся по ветру гривой.
Казалось, возьми кусок камня, ударь по нему молотком раз, другой, третий, подпили углы — и появится косолапый мишка. Но это только казалось. Не было еще у Раисы ни умения, ни силы. Она не могла точно с размаху стукнуть молотком, не могла крепко держать пилу, ловко полировать. Послушный «чонар-даш» не поддавался девочке.
Прежде чем понять камень, нужно было научиться вырезать из дерева. Будущая мастерица брала расколотое полено и небольшим ножом строгала его, потом что-то подрезала, делала дырочки, зарубки, подтачивала, но и дерево не хотело ей покоряться. Не выходил у нее задуманный сарлык, он был похож на какого-то непонятного зверя — с разными ногами, с маленькой головой, даже рога и те были некрасивые — куцые. Она упорно исправляла ошибки, старалась на бумаге более точно нарисовать то, что хотела вырезать, подолгу советовалась с мастерами-резчиками. Наконец ее звери начали оживать.
Своих зверей и птиц Раиса раздавала малышам. Они радовались подаркам и без ошибки узнавали животных. Это было приятно — значит, у нее получается то, что она задумала.
Когда пришел навык и окрепли руки, Раиса Аракчаа стала работать с агальматолитом. Нет, она не изменила дереву, просто камень стал чаще появляться на ее рабочем столе...
Сейчас Аракчаа уже признанный мастер, ее известность давно перешагнула границы Тувы. Но, несмотря на опыт, всякий раз, прежде чем взяться за инструмент, Раиса Ажиевна подолгу разглядывает невзрачный агальматолит, пытаясь угадать в нем насторожившегося соболя или скользящего среди облаков орла.
Художница должна почувствовать все оттенки камня, спрятанные внутри. Они бывают темными, как пасмурная ночь над Саянами. Могут засверкать, заискриться, словно утреннее солнце над рекой Азас. А то вдруг будто прикоснется к камню мороз — и не сосчитать всех узоров.
— Я должна без ошибки убрать из куска все лишнее,— говорит художница.— Молотком делаю лишь приблизительную форму, над которой потом долго работаю. По карандашному контуру ножовками, напильниками, рашпилями освобождаю зверя из камня и стараюсь его оживить. А это случится тогда, когда загорятся у него глаза, зазвенят копыта и полетит по ветру шелковистая грива...
Игорь Константинов
Фото автора
Тува, Кызыл
(обратно)
Секретный вояж сержанта Андреева
История эта началась поздней осенью 1760 года, когда подполковник Якутского полка Федор Христианович Плениснер не без трепета вошел в кабинет всесильного губернатора Сибири Федора Ивановича Соймонова...
В бурной судьбе губернатора как в зеркале отразился весь калейдоскоп царствований первой половины XVIII века. Карьеру начал он при Петре I, составляя карты Каспийского моря; в сорок с небольшим лет, в царствование Анны Иоанновны,— он уже обер-прокурор сената, участвует в организации Великой Северной и Камчатских экспедиций Беринга; в мрачные времена бироновщины сменяет блестящий мундир вице-президента Адмиралтейской коллегии на рубище каторжника в Охотске, а вот теперь, с воцарением Елизаветы Петровны, извлечен из забвения и назначен правителем огромного края. В нынешней должности бывший навигатор и гидрограф — надо отдать ему должное — мало походил на традиционного царского сатрапа. Улучшил управление вверенных его попечению территорий, во многом искоренил лихоимство и злоупотребления чиновников. Являясь к тому же и руководителем «Секретной и о заграничных обращениях комиссии», наметил несколько важных морских и сухопутных экспедиций, которые решил поручить своему протеже Плениснеру.
Плениснер считался способным офицером. Тридцать лет назад он приехал в Петербург попытать счастья. «За живописца капрал» (нечто вроде корабельного чертежника.— Авт.) отправился во вторую Камчатскую экспедицию Беринга и ходил с командором к берегам Америки на пакетботе «Св. Петр». После крушения судна пережил тяжелую зимовку на острове и остался служить в Сибири. И вот близка к осуществлению его честолюбивая мечта: стать командиром Анадырского острога, а значит, и хозяином всего северо-востока Азии.
— Федор Христианович, сенат утвердил ваше назначение,— от этих губернаторских слов у Плениснера даже перехватило дыхание.— Я распорядился, чтобы вы немедленно получили все необходимое и с ротой солдат из Селенгинска и Тобольска без промедления выступили. В канцелярии вам вручат инструкцию, коей надлежит в дальнейшем руководствоваться...
...Долог путь до Анадырской крепости-острога. Из Тобольска по весенней распутице не один месяц, и времени для размышлений у Плениснера было предостаточно.
Интерес к изысканиям на северовосточной окраине России все еще большой. Особенно там, в Петербурге. Говорят, сама императрица внимательно читает рапорты и донесения экспедиций.
Об островах, которые тянутся вдоль всего северного берега Азии, слухи ходят уже давно. Про этот «остров-пояс» сообщал еще в 1647 году казак Михаиле Стадухин. Разноречивые сведения непрерывно поступают и от других землепроходцев, оседают в архивах сибирских канцелярий. Во всем этом предстояло разобраться, «учинить» описание новых земель, положить их точно на карту и тем самым присовокупить к территории Российской империи.
Прибыв в Анадырский острог, Плениснер развил бурную деятельность. Чукчу Николая Дауркина направил для «проведывания неизвестных островов, около Чукотского носу лежащих, и о положении Америки», а сам с небольшой командой солдат отправился в Нижнеколымский острог. Потребовал рапорты и «скаски» промышленников и казаков. Местные власти услужливо представили ему казака Ф. Татаринова и юкагира Е. Коновалова, и те показали «по самой справедливости и присяжной должности», что в 1756 году охотились на островах «супротив устья Ковымы-реки» (Колымы.— Примеч. авт.). Видели там много медвежьих следов и «заведенную незнаемыми людьми» крепость. А к северу от островов якобы имеется еще и «большая земля, на которой и стоячего всякого лесу весьма довольно». Важные сведения требовали тщательной проверки: многое хитрые охотники могли просто присочинить.
Знающих геодезистов в этой глухомани, естественно, не оказалось. С казаками надо послать надежного человека, решил Плениснер. В его команде как раз есть такой — сержант не из дворян Степан Андреев.
— Дело это государственной важности.— Подполковник плотно прикрыл дверь и повернулся к сержанту.— С казаков взять подписки, чтобы оную секретную поездку содержали в тайне. За ними следить неусыпно, я им не доверяю. И запомни: будущность твоя зависит от твоего усердия.
В то далекое время географические открытия делались в основном людьми неучеными, но смелыми и предприимчивыми. Появлялись они так же внезапно, как и исчезали, сделав небольшое, но нужное дело. Одним из таких землепроходцев был и Степан Андреев. Не сохранилось даже его биографии. Где он родился и умер, из каких мест попал на Чукотку — об этом архивы умалчивают. Был грамотен, но не умел пользоваться компасом, копировал карты, но так и не освоил геодезической премудрости. Вот почти и все, что о нем известно.
Приказ есть приказ, и в марте 1763 года Андреев отправился в «секретный вояж» на указанные казаками острова, которые позже Плениснер назвал Медвежьими. На самом восточном из них, «взошед на верх горы», увидел «влево накосо севера в южную сторону» на горизонте «синь». Но что это было — «земля или полое место моря» — определить не смог.
В мае Андреев уже был в Нижнеколымском остроге. Немного оправился от похода, засел за донесение Плениснеру. «И за долговремянным осмотром островов и за одержимыми в море пургами весьма сделалась собачьими кормами скудность,— писал он, тщательно расставляя каждую букву,— однакож... усердно и ревнительно желал и принуждал команду ехать далее в море, токмо команда единогласно стали говорить, что далее следовать в море оставить...»
Рапорт сержанта привел Плениснера в ярость. На островах тот побывал и даже описал их, но «по незнанию наук, какое положение они имеют на карте изъяснить не мог». Нерешенным остался и главный вопрос — о «Большой земле». Победная реляция в Петербург откладывалась на неопределенное время.
В апреле следующего года Андреев с пятью казаками вновь очутился на Четырехстолбовом острове. Назван он был так потому, что стояли там кекуры — высокие природные каменные столбы. В ясный солнечный день узрели прошлогоднюю «синь» и «дались на усмотренное место». Бежали на собаках по льду с небольшими перерывами пять суток. Ночевали у «великих» торосов. А на шестые сутки, рано утром, увидели... «остров весьма немал. Гор и стоячего лесу на нем не видно, низменной, одним концом на восток, а другим — на запад, а в длину так, например, быть имеет верст восемьдесят». Направились к «западной изголовье» острова, но наехали «на незнаемых людей свежие следы», пришли в «некоторой страх» и поворотили обратно.
Свои интересы Плениснер умел блюсти с немецкой тщательностью. Разослал копии путевого журнала Андреева сразу в несколько адресов: новому губернатору Чичерину, в Академию наук и личный Кабинет императрицы Екатерины II. Не позабыл приложить и собственный рапорт — образец мудрого руководства, усердия и распорядительности. Долгожданная награда — чин полковника — не заставила себя ждать. Не обошли и Андреева: «за понесенные двугодичные труды» того произвели в подпоручики.
Новые земли Плениснер непременно хотел видеть на «своих» картах. И вот уже умчался в Петербург фельдъегерь с кипой чертежей Чукотской земли, «сочиненных» — именно так выразился сам полковник — из туманных рассказов чукчей, «скасок» промышленников и рапортов Андреева и Дауркина. На удивительных картах с непонятным масштабом впервые появились Медвежьи острова, остров Андреева, невероятные очертания «Американской матерой со стоячим лесом земли» и таинственной земли Китеген, на которой жили «оленные люди хрохай».
В столице карты произвели должное впечатление. Новоиспеченному полковнику предложили срочно снарядить большую экспедицию под командованием теперь уже подпоручика Андреева для установления контактов с «оленными людьми» и непременно включить в оную опытных геодезистов. Прошло пять лет, прежде чем прапорщики-геодезисты Леонтьев, Лысов и Пушкарев отправились в далекий путь. Отправились одни, без Андреева. С этого момента он вообще больше не упоминается в рапортах и донесениях. Однако авторы, работая недавно в Центральном государственном архиве древних актов, выяснили ранее совершенно неизвестный этап биографии сержанта Степана Андреева. Оказалось, что в 1766 году он был назначен командиром небольшой Тигильской крепости на Камчатке. В этой должности, командуя 78 солдатами, он пробыл пять лет ив 1771 году был сменен прапорщиком Петром Икангриным. Затем следы Андреева теряются. И на этот раз, кажется, навсегда.
Три года в недоумении бродили геодезисты с картами Плениснера по торосам Ледовитого океана для «отыску показанного подпоручиком Андреевым шестова острова, или матерой Американской земли». Но кругом были только бескрайние ледяные поля и бесконечные полыньи. Картографические недоразумения, помноженные на неудачи трех геодезистов, дали результат на первый взгляд неожиданный, но закономерный: спустя двадцать лет андреевский остров уже никто не вспоминал. А вот легендарная земля Китеген со временем перекочевала на другие карты и как-то незаметно превратилась в Землю Андреева, пополнив антологию географических заблуждений.
Поручение найти Землю Андреева в новом ее качестве было дано в 1785 году русской полярной экспедиции Биллингса. Спустя двадцать пять лет ее разыскивал известный исследователь Новосибирских островов Михаил Геденштром, а в 1821—1823 годах — лейтенант Фердинанд Врангель и лицейский товарищ А. С. Пушкина мичман Федор Матюшкин. Предпринимались такие поиски и в дальнейшем...
За все неудачи этих экспедиций в трудах и выводах будущих историков расплачиваться пришлось исключительно Степану Андрееву. Двести с лишним лет он являлся весьма удобной мишенью для всевозможных нападок и обвинений, большей частью несправедливых и голословных.
Первый камень бросили в него прапорщики-геодезисты. Однажды с «пристрастием» допросили они Татаринова и Коновалова, и те показали, что «де мы вышеупомянутый шестой остров, так и незнаемых людей следов не видели» и что говорить неправду их принудил Андреев, дабы «получить монаршую милость».
Лейтенант Врангель — одна из многочисленных жертв картографической иллюзии,— раздраженный бесплодными поездками по льдам, первый печатно заявил, что «андреевского открытия не существует и потому оно не заслуживает ни места на картах, ни вообще упоминания...». Но, несмотря на все уничтожающие и «окончательные» приговоры, проблема Земли Андреева осталась.
Невероятное переплетение фактов, легенд, картографических ошибок, людской зависти, честолюбий и интриг составляет неповторимую загадку Арктики.
Так, еще в 1707 году голландский капитан Джиллес заметил к северо-востоку от Шпицбергена обрывистые берега неизвестной земли. Он зарисовал ее и нанес на карту. Земля Джиллеса — это теперешний Белый остров. Впоследствии по ошибке реальный остров переместили на полтораста километров севернее и назвали Землей Джиллиса — небольшое изменение имени породило мифического двойника капитана. Остров-призрак просуществовал на многих картах до 30-х годов нашего столетия вопреки недоумению многочисленных исследователей, тщетно пытавшихся его обнаружить.
Со второй половины XIX века в Арктику хлынул поток путешественников. За каких-нибудь десять лет здесь побывало сорок экспедиций. Были открыты новые острова-призраки. Американцы Роберт Пири и Фредерик Кук — непримиримые конкуренты в битве за достижение Северного полюса — единодушно утверждали, что видели в высоких широтах Землю Крокера и Землю Бредли. В море Бофорта эскимос Такпук из канадской экспедиции Вильямура Стефанссона нашел в 1911 году остров, на который даже высаживался. Некоторое время просуществовала Земля Полярников острова Генриетта. Ее заметил в 1937 году начальник полярной станции Л. Ф. Муханов в Восточно-Сибирском море. Поиски Земли Санникова стоили жизни русскому полярному исследователю Эдуарду Толлю и трем его спутникам.
Эти земли, разбросанные по всей территории Арктики, объединяла странная особенность: обнаружить их вторично не удавалось. Причина же всех неудач крылась вовсе не в игре человеческого воображения или оптических обманах. О землях рассказывали и писали в дневниках авторитетные полярники, подозревать которых в недобросовестности или склонности к преувеличениям оснований нет. Вывод напрашивался один: загадочные острова какое-то время существовали, но затем ускользали от взоров полярных мореплавателей и путешественников в силу каких-то закономерных причин.
С начала нашего столетия началось методичное научное освоение Арктики. На смену полярным рекордсменам, вроде Роберта Пири, пришли гидрографы, гидрологи, гляциологи. Возродился интерес и к загадочным землям, но теперь уже на новом, фактологическом, уровне.
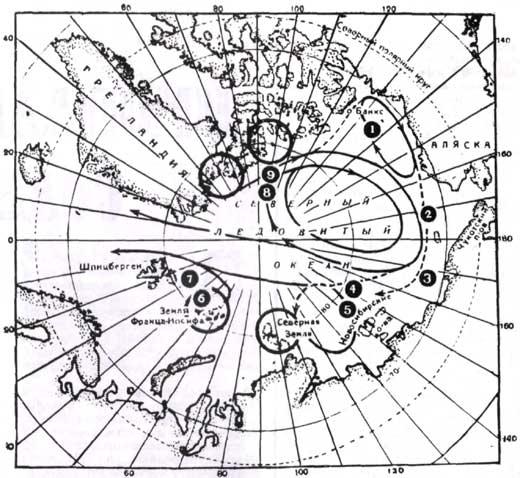 Загадочные земли Арктики
1 — эскимоса Такпука
2 — остров «Крестьянка»
3— сержанта Андреева
4 — полярников о. Генриетта
5 — Якова Санникова
6—Петермана
7 — Джиллиса
8 — Брэдли
9 — Крокера
Загадочные земли Арктики
1 — эскимоса Такпука
2 — остров «Крестьянка»
3— сержанта Андреева
4 — полярников о. Генриетта
5 — Якова Санникова
6—Петермана
7 — Джиллиса
8 — Брэдли
9 — Крокера
Земли Андреева и Санникова существовали, заявил на II Всесоюзном географическом съезде в 1947 году советский ученый В. Степанов. Существовали и исчезли в недалеком прошлом. Парадоксальная на первый взгляд гипотеза основывалась на четких положениях: земли, замеченные сержантом Андреевым в 1764 году и промышленником Яковом Саннико-вым в 1811 году, состояли из ископаемых льдов. Затем они растаяли, а основания островов ныне лежат на небольшой глубине мелководного Восточно-Сибирского моря. Из таких ископаемых льдов в основном сложены Новосибирские острова. Быстрота их разрушения — лучшее подтверждение «неуловимости» многих исторических таинственных земель. Так, остров Семеновский — классический пример острова-призрака. В 1834 году, когда его обнаружили, он был длиной пятнадцать километров, а ныне исчез с поверхности моря. Другую, не менее интересную версию происхождения загадочных земель подсказали полярные авиаторы.
В 50-х годах советские летчики В. М. Перов и И. П. Мазурук, совершая полеты над центральной частью Арктического бассейна, нанесли на карты десятки ледяных островов, которые с трудом можно было отличить от настоящих. Площадь некоторых достигала почти тысячи квадратных километров. В дальнейшем выяснилось, что эти острова, получившие название дрейфующих, движутся годами по определенным, иногда замкнутым маршрутам и, подобно «Летучему голландцу», могут повстречаться в самых отдаленных уголках Арктики. Таинственные Земли Крокера, Бредли, эскимоса Такпука и Полярников острова Генриетта, по-видимому, из семейства таких арктических «бродяг», образовавшихся, как полагают, где-то в районе Канадского архипелага.
Высказывались предположения, что и Земля Андреева была ледяной. Но дрейфующие острова имеют большую «осадку», и им не так-то просто попасть в мелководное Восточно-Сибирское море. По той же самой причине и торосистые льды часто садятся здесь «на мель» и с годами создаются мощные образования, которые промышленники во времена Андреева называли «древним» льдом или «адамовщиной». Как утверждают летчики, такие ледяные острова сверху с трудом можно отличить от тундры, и на них охотно садятся птицы. И. П. Фильков, сотрудник полярной станции на острове Четырехстолбовом (отсюда отправлялся в свой поход сержант Андреев), наблюдал в 1940 году на северо-востоке далекую землю. К ней тянулись косяки перелетных птиц.
Рассказ о загадочных землях Арктики мы начали со злоключений Земли Джиллеса. На открытие голландского капитана в течение ста пятидесяти лет никто не обращал внимания, и остров перестали изображать на картах. В XIX веке даже видные географы и картографы уже не могли договориться относительно «истинного» его положения. В 1872 году английское Адмиралтейство выпустило карту с участием немецкого знатока полярных стран Августа Петермана, на которой впервые оказалось сразу две Земли Джиллеса.
Нечто подобное произошло и с островом Андреева. С той только разницей, что он-то попал на карту Плениснера. Сомнения в ее достоверности выражали уже проницательные современники полковника. Астроном Румовский считал невероятным, «чтобы земля, за Америку почитаемая, протянулась на запад даже до реки Ковыма, и в сем месте так близка была к Медвежьим островам». Пять Медвежьих островов были нанесены с ошибкой в... 400 верст, по «скаске» Татаринова и Коновалова. И это после того, как прапорщики-геодезисты сообщили полковнику точное их положение и размеры. Подобные мелочи полковника нисколько не смущали. Однако коррективы в свою карту, опубликованную в «Месяцеслове Историческом и Географическом» на 1780 год, он все же внес: изъял... остров Андреева.
Об острове Андреева вновь заговорили только в 50-х годах, когда известный полярник Константин Бадигин и историк Михаил Белов почти одновременно обнаружили в архивах копии путевого журнала последнего путешествия сержанта. Лишь теперь стало понятным недоумение прапорщиков-геодезистов: сам маршрут Андреева представлял такую же загадку, как и его остров.
Исследователи столкнулись с уникальной в истории
полярных путешествий задачей: как расшифровать — другого слова просто невозможно подобрать — те записи в путевом журнале Андреева, в которых указывались направления суточных переходов. По неизвестным причинам он не воспользовался компасом. Почему-то больше доверял солнцу и опыту своих спутников — казаков. Для описания направлений употреблял понятные только ему термины, составленные из поморских и простонародных выражений. Так, «синь» с Четырехстолбового острова Андреев увидел «в полуношник в леву руку». Путь по льдам держал сначала «поворотя влево под самой север», а потом «под западной полуношник». Возвращался «смотря по сонцу и держась правой руки на полдень». На одной из стоянок во льдах заметил «в полуденной стороне вправе близь встоку» далекое азиатское побережье.
Поморский «полуношник» (ветер северо-восточной четверти) и «меж востоком и севером», «в полуденной стороне» и «в южной стороне» — у кого угодно появятся сомнения в эквивалентности этих выражений. Какой смысл вложил Андреев в странную фразу «под западной полуношник» (буквально «под западный северо-восток»)? А таких вот важных ключевых фраз набирается в путевом журнале с добрый десяток.
Разгадка маршрута Андреева лежит на вершине Четырехстолбового острова, откуда «влево, к восточной стороне», ему открылась далекая «синь». Ее-то, во всяком случае, заметил Андреев не на северо-востоке, так как стоял лицом к югу. Он отправился не на северо-восток, а на северо-запад и увидел издали остров... Новая Сибирь, открытый только в 1806 году, заявили в 1951 году профессор Н. Зубов и К. Бадигин. Книга этих исследователей так и называлась: «Разгадка тайны Земли Андреева». Однако это утверждение было, пожалуй, слишком категоричным. Обосновывалось оно хотя и остроумными, но не вполне убедительными положениями, что «влево» и «вправо» у Андреева всегда означало «к западу», «полуношник» — северо-запад, а выражение «смотря по сонцу и держась правой руки на полдень бежали» — юго-восточное направление. Остались непонятными и причины, побудившие Андреева отправиться к Новой Сибири с самого... восточного из Медвежьих островов.
Доктор Л. Старокадомский, участник экспедиции на ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр» в 1909—1915 годах, был убежден, что Андреев видел остров Врангеля на восемьдесят пять лет ранее английского капитана Келлета. Нельзя утверждать, что Андреев заметил остров Врангеля с вершины Четырехстолбового острова. Но он мог знать о его существовании. В прошлом, возможно еще в XVIII веке, остров Врангеля был обитаем. Лейтенанту Врангелю, который путешествовал в этих местах спустя всего шестьдесят лет после сержанта Андреева, чукчи рассказывали о народе онкилонов. Спасаясь от преследования кочевников-оленеводов, те вместе со своим вождем Крехаем удалились в «незнаемую землю, в ясные дни видную с мыса Якан». «Незнаемая земля» — остров Врангеля. Эту же легенду, несомненно, слышали Андреев, Дауркин и Плениснер: на своей карте полковник изобразил землю «Китеген» и заселил ее «хрохаями» — потомками вождя Крехая.
Остров Врангеля лежит на северо-северо-восток от острова Четырехстолбового. Определенные места путевого журнала Андреева, не допускающие противоречивых толкований, подтверждают, что шел он именно в этом направлении. Так, 18 апреля, на третий день своего похода, Андреев записал: «...в правую руку к востоку оказалось черни обширностью немалой и которую признали от нашей стороны земли, и надобно быть тут Шелагинскому мысу». А вот выдержка из дневника Врангеля, который оказался в этом же районе 22 апреля 1822 года: «...на южной части горизонта ясно очертились черные острые скалы Шелагского мыса, ...от нас 87 версты». Значит, можно утверждать, что Андреев и его спутники находились примерно в ста верстах от этого мыса и в 240 верстах на восток-северо-восток от Четырехстолбового острова.
Между островами Врангеля и Четырехстолбовым около шестисот километров. В сутки проезжал Андреев в среднем по 80 километров. Если нанести на карту гипотетический маршрут его похода, то утром 22 апреля, на шестые сутки пути, он мог оказаться примерно в 170 километрах от северо-западной оконечности острова Врангеля. С такого расстояния увидеть остров вполне возможно, если учесть при этом, что в ясные дни его видно с побережья почти за 160 километров. А из истории полярных путешествий известны случаи, когда земли более низменные, чем остров Врангеля, наблюдались с расстояний куда больших.
Если сравнить позднейшие описания острова Врангеля с записями в журнале сержанта, то между ними обнаруживается определенное сходство. Остров Врангеля вытянут в направлении восток — запад почти на 120 километров. «Для рассмотрения означенного острова» отряд Андреева направился к его «западной изголовье». Эта запись лишний раз подтверждает, что сержант приближался к острову с северо-запада или юго-запада и поэтому не мог оценить его ширины.
Многих озадачивают скорости передвижения отряда Андреева на собачьих упряжках. Обратный путь к Четырехстолбовому острову он проделал всего за трое суток. Но эта цифра не представляется столь уж фантастической, если ее сопоставить со скоростью передвижения экспедиций Врангеля и прапорщиков-геодезистов. «По старому следу собаки бегут охотнее»,— отмечал Врангель. «Хорошо выдержанные собаки,— утверждал Геденштром,— в случае надобности пробегают в сутки 200 верст». Отряд Врангеля в иные дни передвигался по ровным льдам со скоростью до 70 верст в сутки в тех местах, где мог проходить и путь Андреева, и это никого не удивляло. Не нужно забывать, что путешествие сержанта проходило при облегченных условиях: он не тратил время на астрономические и прочие измерения, его группа была очень небольшой, мобильной и не имела иных целей, кроме движения вперед.
Остается снять с сержанта последнее обвинение: его частенько упрекали в том, что он завышал пройденные расстояния и вообще был не в ладах с цифрами. Большие ошибки в определении Медвежьих островов якобы на его совести. А посему нельзя верить ни единому его слову. Кропотливых измерений Медвежьих островов Андреев не проводил, да и не мог провести, по очень простой причине: не было у него необходимых знаний и инструментов — подобных хотя бы простой мерной цепи, которой пользовались три прапорщика-геодезиста. Поэтому Андреев переписал размеры Медвежьих островов в свой журнал из «скаски» Татаринова и Коновалова, поверив им на слово.
Что же все-таки видел Степан Андреев? Остров Врангеля или Новая Сибирь? Дрейфующий или ископаемый остров? Скудные факты не дают однозначного ответа на все эти вопросы. Но, в сущности, это не так уж и важно. Главное то, что по следам Андреева прошли многие исследователи Арктики.
Д. Алексеев, П. Новокшонов
(обратно)
Инопланетный солерос

Живую дриаду я видел только раз в жизни. Встреча эта была короткой и романтической. И произошла она при двойном свете: над рекой Олангой, что на севере Карелии, играло северное сияние; я же до трех ночи жег костер. Ночь в августе здесь уже зябкая, ведь недалеко Полярный круг.
Северное сияние раскатывало и скатывало свои световые рулоны; блики от костра плясали на скалах, высвечивая на них лики и маски, а я с помощью маленького походного секстана определял по Полярной звезде широту места. На Полярную то накатывали аметистовые сполохи, то снова открывали ее, оттого блеск звезды казался переменчивым. И вдруг при яркой вспышке сияния я увидел на скале огромный белый цветок! Мой взгляд случайно упал на него. Странно, что я не заметил цветка раньше — он рос очень близко от костра. Быть может, его лепестки только-только раскрылись, уловив теплые волны?
Я сразу догадался: дриада! Да, это был легендарный цветок Севера. Он словно зарядился игрой ночных сполохов и казался самосветящимся, фосфоресцирующим. Так это и врезалось в память: иглистые снопы северного сияния — а под ними белый-белый цветок, бесстрашно глядящий в звездную бесконечность.
У дриады восемь лепестков. Редчайшая симметрия! Почему цветок делит свой маленький окоем именно на восемь частей? Словно свою топографию он хочет привести в соответствие со шкалой компаса. Потому северные путешественники видели в дриаде розу ветров. Она напоминала им о всеохвате и широте бытия. Однако один лепесток был указующим: на север, на север!
У дриады стелющийся стебель. Из него пучками выходят листья — продолговатые, волнистые по краю. Сверху они темно-зеленые, а снизу словно гагачьим пухом подбиты: ведь северная земля дышит на них вечной остудой.
Не решился я срывать дриаду. Хотя очень хотелось украсить ею гербарий. Прощаясь утром с цветком, уже издалека навел на него бинокль. И увидел: мрачные скалы, таящие в себе столько фантасмагорий, а на них светоносный огромный цветок. Словно вторая Полярная звезда.
На фоне утреннего инея увидел я и другую редкость горного Севера. Небольшое ползучее растение поднимало вверх чешуйчатые веточки. Прикоснулся к ним осторожно, будто к зеленой ящерице. Такие они холодные и одновременно живые, дышащие. Это и пальцами ощутишь! Листики шли по стеблю в четыре ряда. Внимательно изучив их с лупой, убедился в странной особенности — они были прижаты к стеблю верхней стороной, а нижней обращены наружу. Укладка листьев впечатляла совершенством, невольно напоминая плотно пригнанную черепицу на крыше домов в Скандинавии.
Раздвигая зеленую черепицу, тянутся ввысь маленькие цветоножки— они расположены в пазухах верхних листьев; на одной веточке их может быть одна-две. Цветоножка переходит в зеленую чашечку. А к чашечке прикреплен изжелта-матовый венчик. Что-то в нем есть от колокольца ландыша, но только отгибов пять, а не шесть.
Как удалось этому цветку так тонко выразить дух Севера? Он словно пропитался туманами Приполярья — у них ведь очень похожий желтовато-серебристый оттенок. Я не удивлюсь, если из этого венчика польется музыка Грига: тут есть стилевое единство, не передаваемое в словах.
Загадочное растеньице я узнал не сразу. Со мной был определитель растений Карелии, составленный М. Л. Раменской. Это очень полная и авторитетная книга. Но в ней чешуйчатая травка не значилась. Весь ее облик говорил о принадлежности к семейству вересковых. Пришлось напрягать память, вспоминая его представителей. И помогло мне не знание ботаники, а одна полузабытая страничка Гамсуна. Отчетливо вспомнилось: его героиня собирает в норвежских горах цветы Кассиопеи.
Потом уже свое интуитивное определение я проверил по справочникам. Да, это была Кассиопея!
Тогда на радостях от встречи с этим поэтичнейшим растением я решил заночевать возле него. Низко над северным горизонтом ходили неяркие оборки полярного сияния. Но в целом небо было прозрачнейшим. На северо-востоке восходило созвездие Кассиопеи — как не узнать знакомые с детства зигзагообразные очертания? Фонариком я осветил чешуйчатые веточки его земной соименницы. И удивился: цветы располагались так, что повторяли расположение звезд Кассиопеи. Случайное совпадение? Может быть. Но все равно оно полно для меня глубокого поэтического смысла.
Знаю за Кемью одну скалу. Мысом она вдается в Белое море. Когда подплываешь к ней, то вспоминаешь Чюрлениса: на его знаменитой картине «Покой» изображен очень похожий скальный мыс. Я даже однажды зажег костры, чтоб усилить сходство с картиной...
Так вот, на этой скале растет родиола, золотой корень. В облике растения угадывается сходство и с заячьей капустой, и с очитком. С этими травами родиола в прямом родстве — все они входят в семейство толстянковых. Но все-таки на золотом корне лежит печать избранничества. Трудно сказать, в чем это выражается. Просто интуитивно ощущаешь что-то особое в его осанке, в его запахе...
Стебли золотого корня никогда не ветвятся. Листья очередные, эллиптические — в них чувствуется сочность, плотность; они почти прилегают к стеблю. Наверху зонтик желтых цветов.
Родиола — двудомное растение. Рискованно таким травам отправляться в дальние странствия. Ведь есть опасность разминуться, разлучиться двум формам — мужской и женской. Но у родиолы их водой не разольешь! Всегда вместе, всегда рядом. Потому эта трава совершила небывалое путешествие. От Саян до Арктики: таков ее гигантский ареал.
Корни у родиолы деревянистые и крупные: если их подсушить, они становятся легкими как пробка. Настой из них действует на человека укрепляюще. Не случайно золотой корень часто и справедливо сравнивают с женьшенем. Травознаи едут за ним на Алтай. А между тем это довольно обычное растение для скал Беломорского побережья.
Флора Карелии вообще богата неожиданностями: как в узел, сюда стягиваются разные линии — скандинавская, арктическая, сибирская...
Как-то я собирал на мелководье Белого моря домики панцирных рачков. Вышел с находками на песчаный берег и замер от удивления: среди сырых стеблей фукуса, выброшенных прибоем, высилось причудливое растение. Поражала не только его экология — здесь ведь зона затопления: все до отказа напитано и насыщено морской солью. Ошеломляла прежде всего форма растения. Не из космоса ли упали его семена?
Растение безлистое. Стебель членистый, как бы суставчатый. Косо вверх от него отходят попарно расположенные веточки. Ниже середины они постепенно утолщаются как бенгальские свечи; это начинается соцветие — цилиндрическое, колосовидное. И бесконечно странное, парадоксальное! Собранные по три, цветы как бы затоплены в мясистых тканях соцветия...
Солерос наиболее фантастическое растение мировой флоры. Он раскачивает стереотипы восприятия... Вспомнилась гипотеза известного ученого Г. Тихова: в земной биосфере можно найти формы, являющиеся возможными аналогами инопланетных растений. Может быть, солерос и подтверждает эту идею?
Интересно идти от одного поморского села к другому, не минуя окрестных деревенек: тропы на земле как рисунок кроны. Ведь людские поселения чем-то подобны растениям — они дают ответвления, от них отпочковываются новые деревни и села. И вот эти пути жизни как бы передает маленькая травка лужайник. Она сопровождала меня по всему Беломорскому побережью. Как начинаются иловатые отмели — так ожидай появления лужайника.
У травы этой нет стебля. Из одной точки выходит розетка листьев на довольно длинных черешках. Они раскидываются радиусами небольшого крута. В его центре — цветоножки: на высоту в три-пять сантиметров они поднимают розоватые колокольца.
Но это не весь портрет растения. Тут нужна очень широкая рама... Дело в том, что лужайник дает пазушные побеги: укореняясь, они образуют новую розетку; из нее снова выходит отводок — и опять образуется круг листьев! Круг за кругом, круг за крутом. Вот так и продвигается лужайник на север. Как бы тянет к Полярному кругу одну нить, один провод.
Исследуя куличьи гнездовья под Лувозером, я шел по краю болота, внимательно осматривая каждую кочку. Вот гнездо турухтана. Делаю шаг к нему — и останавливаюсь на полпути. Мое внимание привлекают фиолетовые цветы. На голых высоких ножках они поднимаются из купы плотных листьев, стянутых в узел у самого корня, и чуть поникают...
Таинствен фиолетовый окрас венчика. Как растение нашло такой цвет? Космически глубокий, волнующий... Кажется: приложи ухо к раструбу венчика — и услышишь звучание пифагорейских сфер. И оно прозвучит очень естественно здесь, на северных болотах, с их невыразимо прекрасными зорями.
Внимательно разглядываю цветок, уже понимая, что набрел на жирянку. Травка редчайшая. Но славу ей составил все же не цветок. Это насекомоядное растение: ловчая его снасть — клейкие листья. Видите? — все они в махоньких железках. Оттуда и выделяется самый что ни на есть настоящий клей. Он действует намертво: сядет поденка на блестящий лист — и завязнет. Края листа начинают немедля сворачиваться: движение это хотя и быстрое, но вполне уследимое.
Конечно же, действия жирянки поражают воображение. Но удивительно и другое: полное сходство с охотничьей стратегией росянки. А ведь эти травы не имеют и далекого родства между собой! В системе растений их отделяет друг от друга огромное расстояние. Вот уникальный случай параллелизма: очень разные растения нашли одинаковые способы охоты.
Среди кукушкина льна жирянка смотрится живописно. Венчик ее как оповещающий рупор: он сзывает к себе насекомых-опылителей. Но не дай им бог опуститься на ее листья!
Не раз встречал я в северных карельских лесах дерен шведский.
Белый цветок с четырьмя лепестками. Что в нем особенного? Бросишь взгляд — и пройдешь мимо. А ведь перед тобой растение-артист, и его пластический дар уникален. То, что ты принял за венчик, лишь искуснейшая имитация цветка...
Цветы у дерена наимельчайшие, исчерна-фиолетовые, собранные как бы в щепотку. Чтобы сделать их заметными, четыре листа преобразились: они уподобились белым лепесткам, сыграли их роль.
Посмотрим на эти листья: они овальные, сидячие, идут по стеблю попарно. Вроде бы самые обыкновенные. Но это же они перекрасились в белое и сложились крестообразной подставкой, чтобы привлечь внимание к цветам! Белый маячок хорошо заметен в лесных зарослях... Можно ли говорить о взаимопомощи в рамках одного растения? Выдающийся ботаник Александр Браун считал: растение — это сложный индивид, состоящий из индивидуальностей более низкого порядка. Увлекательная точка зрения! Если Браун прав, то одни индивиды внутри растения могут приходить на помощь другим. Как это произошло у дерена: листья пришли на выручку незаметным цветам. Эта этика близка духу Севера. Здесь без взаимоподдержки пропадешь.
Юрий Линник
Карелия
(обратно)
Путешествие на озеро Туркана
 Львиный рык
Львиный рык
В следующем году мы выехали, по всем расчетам, задолго до наступления периода дождей. В нашей команде, выражаясь спортивной терминологией, произошли замены. Географа, путешествовавшего по югу Африки, заменил Корреспондент, мой старый московский знакомый, с которым когда-то вместе трудились на журналистской ниве. Болгарских друзей по-прежнему оставалось двое, но это были уже другие люди — Любомир с пятнадцатилетним сыном Володей. Овиди, который ожидал очередного прибавления семейства, заменил другой африканец, Джон Омоло, рекомендованный нам как отличный шофер, гид и знаток языков нилотских племен севера Кении. На сей раз мы решили не открывать новые пути к озеру Рудольфа и двинулись «классическим» маршрутом через Томсон-Фолс и Маралал.
Немного не доехав до Барагоя, остановились на ночлег. Место попалось идеальное: рядом с дорогой ровная травянистая поляна, окруженная высоким густым кустарником. Убрана посуда после ужина, притушен газовый фонарь.
Наступили минуты молчаливых размышлений о прошедшем дне перед тем, как забраться в палатки. Почти черное небо, усыпанное яркими близкими звездами. В кустах угомонились на ночь птицы, лишь редкие неясные шорохи нарушают чуткую тишину. Внимательно всматриваясь в заросли, можно увидеть горящие зеленым светом глаза. Кто это? Лесная кошка? Нет, пожалуй, здесь слишком пустынные места для этого красивого зверя, похожего расцветкой на леопарда. Тогда шакалы? Возможно. Когда мы уберемся в палатки, они будут догладывать оставшиеся от ужина кости... И вдруг ночную тишину потряс рык льва. Это было так неожиданно, так жутко, что мы чуть не попадали с раскладных стульев; сердце замерло и, казалось, остановилось.
Вскоре по возвращении в Найроби мне довелось беседовать с всемирно известным ученым-зоологом Бернгардом Гржимеком. Я рассказал ему о поездке на озеро Рудольфа, о том, каких видел зверей. Поведал и о впечатлении, которое произвел на меня львиный рык. Гржимек рассмеялся и сказал, как удивительно иногда совпадают эмоции людей: «Я уже писал, что когда в Серенгети львы заревели, то мы чуть не попадали с постелей, хотя при благоприятных условиях погоды их «пение» можно услышать за восемь-девять километров. На меня оно действует подобно колокольному звону, настраивая на серьезный и торжественный лад. А вообще львиный рык считается великолепнейшим и наиболее впечатляющим звуком мироздания».
Утром, настроенные, подобно Гржимеку, на серьезный и торжественный лад, тронулись мы дальше на север. Насмотревшись на обилие диких животных в саваннах и буше Кенийского нагорья, путешественник будет немало удивлен богатством фауны на границе начинающейся полупустыни. Умиляют дик-дики — самые маленькие газели, которые выскакивали, кажется, из-под каждого куста. Размером с новорожденного козленка, они подпрыгивали в воздух упруго, словно теннисные мячи, только несравненно выше наших обычных козлят, и тут же уносились прочь. Часто можно было наблюдать, как антилопы геренуки, длинношеие, как жирафы, стоя на задних ногах, объедают верхушки кустарников, до которых человек среднего роста вряд ли дотянется рукой. Жирафа в этих местах тоже особенная: не пятнистая, чаще всего встречающаяся в центральных и южных районах страны, а сетчатая — на яркой светло-коричневой короткошерстной шкуре как бы нарисованы неуверенной детской рукой белилами квадраты, прямоугольники, ромбы.
Там, где трава позеленее и потучнее, пасутся зебры Греви, единственный вид, поддающийся приручению. Удивительно складные и, как правило, упитанные лошадки отличаются от своих сородичей узкими и четкими черными полосами на белой шкуре. И слоны здесь водятся самые крупные. Просто диву даешься, как эти великаны находят более ста килограммов зеленого корма и столько же литров воды в день в такой засушливой местности. Попалось нам несколько гигантов... белого цвета. Нет, это были не альбиносы: просто слоны приняли цвет окружающей почвы. В других местах можно увидеть красных и совсем черных гигантов. Дело в том, что принимать душ — излюбленное занятие слонов. Но когда нет воды, они, спасаясь от жары и насекомых, набирают в хобот почву или пыль и «обливаются». Поэтому-то и встречаются в природе разноцветные слоны, но только до первого хорошего дождя или до настоящего купания.
А вот и Барагой — предпоследний населенный пункт перед пустыней, примыкающий к озеру Рудольфа. Одна пыльная улочка, вдоль которой стоят два десятка глинобитных, покрытых ржавым железом домов; кучка любопытных голых ребятишек, моментально окруживших нас; несколько женщин, отправляющихся с корзинами, калебасами и ворохами белья на ручей, протекающий за околицей; «торговая точка» и рядом бензозаправка, возле которой застыл на солнцепеке полицейский «лендровер», вернувшийся накануне из района Рудольфа, где инспектор выплачивал зарплату немногочисленным стражам закона. Этот полицейский чин был для нас ценной находкой: как-никак последний человек, проехавший дорогой, по которой нам предстояло следовать. Добродушный толстяк из племени кикуйя охотно ответил на наши вопросы. «Да, дорога терпимая». «Развилки? Нет, развилок не было, заблудиться никак невозможно». «Жарко? Есть немножко. Лучше выезжать как можно раньше».
Корреспонденту пришлось свернуть свое социологическое исследование о роде занятий маленького, но довольно пестрого по составу населения поселка, а мне — разговор с владельцем лавки, оказавшимся, как повсюду в подобных местах, давним выходцем из Индии. Дискуссия у нас шла на весьма любопытную тему, а именно о преимуществах прямого обмена товаров по сравнению с денежным обращением. Сингх — так звали лавочника — утверждал, что большинство его клиентов из местного населения предпочитают формулу «товар — товар» формуле «товар — деньги — товар». В их головах не укладывается, что бумажка или монета с изображением президента, которого они не знают и никогда не видели, может стоить дороже козы, выращенной и выхоженной на скудных пастбищах, да еще и убереженной от голодного шакала.
В лавку вошла пожилая самбурка, закутанная в черный лоскут материи, достала козлиную шкуру, разложила на прилавке, любовно разгладила и что-то сказала продавцу.
— Она говорит, что это очень хорошая, мягкая шкура, она хочет получить за нее два пакета муки и пачку сахара,— перевел лавочник.— Шкура стоит того, но женщина давненько не была в лавке, цены уже вздорожали, и я могу предложить ей один пакет муки, пачку сахара и несколько центов сдачи.
Продавец долго объяснял самбурке ситуацию, та в конце концов поняла смысл, но от сдачи отказалась, попросив вместо нее бисера для невестки. Сделка состоялась, покупательница ушла, а лавочник торжествующе посмотрел на нас:
— Вот вы и убедились в преимуществах прямого обмена товаров. Без этого я давно бы разорился, не дождавшись, пока правительство ликвидирует неграмотность или хотя бы недоверие к деньгам, которые оно выпускает.
Слепой проводник
За Барагоем, где кончалась профилированная дорога и откуда, по нашим расчетам, оставалось рукой подать до Саут-Хорра, неожиданно встретилась развилка. Поругивая полицейского инспектора, еще раз углубились в карту. Развилки не должно быть! Откуда она взялась? Выбрали правую, более свежую колею, возможно, именно по ней возвращался вчера полицейский. Проходит час, другой, дорога почти исчезла. Явно какая-то неувязка, но куда же ехать? И — о счастье! — к нам приближаются трое африканцев: молодая женщина и двое мужчин. Женщина прямо-таки черная Афродита с классическими чертами, с доброй улыбкой, обнажавшей неописуемой белизны ровные крепкие зубы, которых, казалось, больше, чем должно быть. Длинная шея скрыта украшениями из бисера, на ногах и руках металлические браслеты, обнаженное тело прикрыто лишь «фиговым листком» — коротким, чуть шире ладони, кожаным, искусно вышитым бисером передником. Одежда высокорослых, хорошо сложенных мужчин состояла из коротких тог, закрепленных на одном плече. Они были вооружены копьями и ярко раскрашенными щитами из кожи буйвола.

Наш полиглот Джон быстро установил, что путники принадлежат к народности самбуру, навещали живущих южнее родственников и возвращаются в свое селение. От завтрака все трое решительно отказались, но мужчины с удовольствием выпили по банке пива. Они сказали, что надо было держаться левее, но утешили тем, что знают, как, не возвращаясь, попасть на нужную дорогу до Саут-Хорра, который совсем рядом. Джон поехал с мужчинами и через полчаса вернулся, вполне уверенный в дальнейшем пути. Прощаясь с добрыми самбуру, мы предложили им взять что-нибудь из наших съестных припасов. «Нет, нет, ничего не надо».— «Может быть, сахар?» Но врученная на всех пачка вызвала смущение. Джон догадался и разделил ее на три равные части. «Вот так хорошо»,— радостно заулыбались наши новые знакомые. Красавице, кроме того, предложили на выбор несколько монет. Перебирая их на ладони, она выбрала самую дешевую бронзовую денежку и показала, что прицепит ее к украшению на шее. «Но ведь белые серебряные шиллинги значительно дороже, на них можно купить много украшений»,— попробовал просветить женщину Джон. «Может быть, в городе это и так, но мы делаем украшения сами. Эта монета мне нравится больше»,— ответила самбурка.
В Саут-Хорре, где последний не пересыхающий ручей весело прыгал по каменистым плитам и где стиркой белья было занято, кажется, все женское население местечка и окрестных деревенек, Джон дотошно расспросил стариков о дороге на озеро Рудольфа. Все в один голос говорили об одной-единственной дороге, с которой сбиться никак нельзя. Однако после часа езды она... исчезла, пропала начисто. Мы буквально ползали по закаменевшему грунту, пытаясь найти ее следы, но их не было. А жара все усиливалась, подслеповатое в мареве солнце жгло нестерпимо. Видимо, пока не поздно, надо возвращаться, а утром брать проводника.
Вдруг Джон учуял запах дыма и повел машину в этом направлении. Вскоре показалась «бома» — огороженный сухими кустами колючек участок, по краям которого приткнулись две круглые хижины из прутьев, обмазанных глиной с навозом, да полуразвалившийся сараюшко. Круглый пятачок в центре участка, служивший ночным загоном для скота, был обильно унавожен козьими горошинами и верблюжьими лепешками. На сигналы наших автомашин из хижины появились девочка лет двенадцати, молодая женщина с грудным ребенком на руках и рослый мужчина со странно застывшими глазами. По тому, как женщина, поочередно разглядывая каждого из нас, что-то говорила мужчине, мы поняли, что он слепой. Вступивши в разговор, Джон не без труда выяснил, что это семья из племени сук. Да, мужчина полностью потерял зрение лет десять назад. Трахома! Но он сильный и красивый мужчина, у негр две жены и семеро детей. Старшая жена и двое сыновей отправились на верблюдах за водой, третий сын пасет коз, две девочки в поле. «Неужели здесь что-то родится?» — «Растет маниока, а если бывают дожди, то и сорго и кукуруза»,— отвечает хозяин. А еще у него пять верблюдов и сорок коз...
Джону удалось растолковать главе семьи, что мы едем на озеро Рудольфа, но сбились с пути. Спросил, могут ли жена или дочь вывести нас на дорогу. «Женщины хорошо знают только верблюжьи тропы»,— коротко ответил слепой. Затем что-то сказал жене, та передала малыша дочери и вместе с мужем села в переднюю машину. Джон, крутя баранку, стал переводить разговор мужа и жены.
— Скажи им, что нужно ехать до куста, где мы... ну, ты знаешь этот куст.
— Да, я вижу его.
— Доехали? Хорошо. Теперь скажи, чтобы повернули направо и держали путь на термитник, ты видишь его.
— Да, я вижу. Он рядом.
— Хорошо. Теперь влево, на красный камень.
— Мы у камня.
— Ну вот и хорошо, приехали. Выходи и покажи им дорогу, она теперь пойдет между камней до самого озера, и они не собьются, если даже злой дух захочет их попутать.
Все вышли из машин и отчетливо увидели дорогу. Да, с такого пути сбиться было невозможно: на обочинах так густо лежали камни, что машина не могла свернуть ни влево, ни вправо. Джон поблагодарил супружескую пару и вызвался «подбросить» их до дому. Но хозяин решительно отказался, предупредив, что нам надо поторапливаться, если не хотим ночевать в машинах. Мы тронулись, а когда африканская пара повернулась и направилась к дому, остановились и провожали их глазами, пока они не скрылись из виду, Мужчина шагал уверенно, жена не поддерживала его, а шла немного позади. Володя вдруг воскликнул:
— А ведь он идет без палки, не как все слепые!
И правда, как-то никто из нас раньше не заметил этого. Мужчина вел себя так, будто совсем не нуждался в поводыре. Неужели можно настолько запомнить все вокруг, что, не видя, знать, куда идти, где ступить? Или мир, в котором живет семья, настолько мал, что мужчине известен каждый куст, каждый камень, каждая пядь земли? А возможно, у слепого африканца из племени сук, как у саламандры, есть третий «глаз», позволяющий ему различать солнечный свет?
— Разве можно так жить? — задумчиво произнес Володя.
— Что ты хочешь этим сказать? — отозвался Джон.
— Ну, одиночество, грязь, мухи.
— Мухи везде, где скотина живет рядом с людьми. В каждой деревне кочевников такая же картина — и у масаев и у самбуров. Да и властям пора бы уже позаботиться хоть о каком-то медицинском обслуживании населения северных районов. Одиночество? В ваших громадных европейских городах одиночества еще больше, об этом только и читаешь и смотришь в кино. А этот слепой и его жена вполне счастливы,— заключил Джон.
Что ж, счастье — вещь относительная. Возможно, Джон и прав. Но вот то, что подобную «жизнь на лоне природы» нельзя назвать идиллической, так это точно.
Нефритовое озеро
Тем временем местность принимала все более пустынный и суровый вид. Впереди, слева и справа, сколько мог охватить глаз, земля была покрыта черной лавой, ослепительно блестевшей на солнце, словно антрацит. Лава раскалена, и даже в туфлях-сафари на каучуковой подошве долго на одном месте не простоишь.
Поворот, еще поворот, и глазам открылась бирюзовая полоса озера. Добрались-таки! Но по дороге навстречу машинам, вытянувшись на добрый километр, двигался караван верблюдов, груженных огромными калебасами и бурдюками с водой. Важную поступь кораблей пустыни сопровождал низкий звук вырезанных из дерева колокольчиков. Возглавлял караван сухопарый, мускулистый африканец средних лет. Его наряд был весьма оригинален: сандалии из автомобильной покрышки, набедренная повязка из лоскута материи вылинявшего красного цвета, а на голове каким-то чудом держалась крошечная глиняная шапочка, увенчанная роскошным страусовым пером.
Преградив путь копьем, мужчина объяснил поспешившему навстречу Джону, что мы должны подождать, пока он выведет верблюдов на обочину дороги. Объехать караван мы не могли из-за камней. Тем временем подбежал, прыгая с камня на камень, замыкавший караван подросток. Вдвоем они осторожно стали «вытягивать» верблюдов с дороги. Процедура эта заняла чуть больше часа, показавшегося нам вечностью. Освободив дорогу, африканцы за руку поздоровались с каждым и расспросили Джона, кто мы и откуда. Сами они оказались людьми из племени рендилле. В сухой сезон раз в неделю погонщики приводят караван к озеру. Двое суток до озера, сутки там, двое суток обратно до деревни. И так почти круглый год. Можно представить, как рендилле ценят воду!
Наконец мы выехали на берег озера, и перед нами открылась спокойная гладь желтовато-зеленой воды с отчетливо различимым вдали черным островом, напоминающим очертаниями спящую женщину. В 1888 году венгерские исследователи Ш. Телеки и Л. Хенель первыми из европейцев обнаружили это озеро. Тогда же Хенель записал: «Долгое время мы смотрели в безмолвном восхищении; мы были ошеломлены прекрасной картиной, возникшей перед нами». Можно только удивляться, что эта ошеломляющая картина сохранилась до сих пор и озеро не испарилось от ежедневной работы солнца и иссушающего дыхания пустыни, а по-прежнему, хотя и заметно мелея и становясь все солонее, колышет свои зеленые воды в обрамлении черных берегов, давая жизнь племенам, обитающим в этих скудных и неласковых местах.
Вот и Лоиенгалани. От разграбленного кемпинга уцелело тростниковое бунгало, в котором вполне можно было укрыться. Присматривавший за помещением «по совместительству» настоятель католической миссии, единственный постоянно живущий в оазисе европеец, отец Полетт, охотно предоставил его в наше распоряжение: он уже пустил воду горного источника в сохранившийся небольшой бассейн. Через недолгое время чаша наполнилась до краев и засверкала голубизной под светом выкатившейся из-за горы Кулал полной луны.
Джордж Адамсон, в дни своей молодости безуспешно искавший золото по берегам Рудольфа, узнав, что я собираюсь на озеро, посоветовал «побыстрее работать обеденной ложкой».
— Надо бояться, что крокодилы перехватят еду? — пошутил я.
— Нет, ветер.
— Простите, Джордж, при чем тут ветер?
— Во время моего бродяжничества по берегам озера ветер свистел с такой силой, что пищу сдувало с тарелок раньше, чем мы успевали донести ложку до рта.
Я сразу поверил: уж если Джордж, обходящийся обычно скупыми «да», «нет», «хорошо», «плохо», произнес такую длинную фразу, значит, так оно и есть — ветра надо опасаться. И действительно, каждую ночь где-то ближе к рассвету поднимался ветер и дул с такой бешеной силой, что сносил в озеро все, что плохо лежит. Но мы устроились надежно: сзади довольно высокий берег, а под ним истерзанная ветрами полоска пальмовой рощи, среди которой и притулилось бунгало. Ветер безжалостно трепал деревья и крышу хижины, и не сразу можно было привыкнуть к неумолчному шуму, напоминавшему что-то родное и близкое и в то же время отличное от привычных с детства звуков.
Выживет ли племя эльмоло?
В первое же утро в Лоиенгалани познакомились с единственными постоянными обитателями восточного берега озера — людьми из племени эльмоло, чьи тростниковые хижины больше похожи на копны неубранной соломы, чем на жилище человека. С группой стариков, попыхивающих трубками из рыбьих позвонков, сидим на прибрежном песке, сплошь усеянном костями от самых мелких до метровых рыбьих хребтов и голов размером с доброе ведро. «Джон, как мы будем разговаривать? Вы знаете язык эльмоло?» — беспокоится Корреспондент. «Нет, конечно, но объясниться сумеем, эльмоло давно забыли свой язык и говорят на языке туркана и самбуру».
Нерадостна история этого самого маленького и самого бедного в Кении, а возможно, и во всей Африке племени, неясно и его происхождение. Старики утверждают, что люди эльмоло издавна живут на берегах озера. Это же подтверждается лингвистическими изысканиями и антропологическими исследованиями ряда ученых. Говорят, что эльмоло являются выходцами из племени скотоводов рендилле. В тяжелые времена, в период длительной засухи, преодолев вековые предрассудки, они занялись рыболовством, ставшим впоследствии основным средством существования. Эти предположения подкрепляются языковой близостью, верой в божество по имени Вак и общими чертами культуры, в частности захоронениями под пирамидами из камней.
Принято также считать, что в давние времена, кочуя со своими стадами с севера на юг, эльмоло первыми обосновались у оазиса Лоиенгалани, где благодаря источнику, стекающему с горы Кулал, сохранилась растительность. Но в оазисе, помимо эльмоло, задерживались на время катившиеся волнами с севера более многочисленные и воинственные племена. В стычках с ними мирные эльмоло, не имевшие военной организации и не знавшие института вождей и старшин, теряли людей и скот. В конце концов скота у них совсем не осталось, отпала необходимость кочевать по пустынным просторам в поисках пастбищ. Эльмоло окончательно осели на восточном берегу озера Рудольфа и двух крошечных островках Моло. Единственным их занятием стала рыбная ловля, охота на крокодилов, черепах и бегемотов.
Ко времени завоевания Кенией независимости эльмоло оставалось всего 75 человек, причем внешне они мало походили на своих соседей — высокорослых, хорошо сложенных, крепких телом самбуру и туркана. Люди этого племени, напротив, невысоки ростом, не могут похвастаться здоровьем: у стариков больные суставы, за редким исключением, у всех эльмоло плохие зубы, кровоточат десны, дети страдают рахитом, здесь рано седеют — нам встречались седые десятилетние мальчишки. Это результат однообразной пищи, в которой почти отсутствуют мясо и овощи, и озерной воды, содержащей множество различных солей. По этой причине воды озера непригодны для орошения полей, но эльмоло вынуждены пить ее всю жизнь — от рождения до смерти.
Старики, с которыми беседует и бегло переводит нам содержание разговора Джон Омоло, философски смотрят на жизнь. Снова завести скот и воевать из-за пастбищ с борана, туркана, самбуру? Нет, на это у них нет сил. «Вот если бы вернулись времена, когда у нас был скот, послушный только нам!» — хитро сощурил глаза один из стариков. «Что это за скот, расскажите»,-— хором попросили мы.
Довольный, что удалось заинтриговать иностранцев, старик поведал такую историю. В давние, давние времена эльмоло разводили скот, как и их соседи — скотоводы. Однако это были не верблюды, коровы, овцы или козы, а... гиппопотамы, крокодилы и черепахи. Их держали в загонах в воде и каждое утро выводили на берег, кормили травой и водорослями, а по вечерам загоняли обратно. Свой «скот» эльмоло доили и резали на мясо, как коров и верблюдов. Однажды, когда мужчины ушли на рыбную ловлю, неосторожная женщина, набиравшая воду, уронила горшок в озеро. Видя, что, подгоняемый ветром, он уплывает прочь, женщина попросила гиппопотамов, крокодилов и черепах поймать горшок и пригнать его к берегу. Животные устремились в воду и поплыли за горшком, все более отдаляясь от берега. Вскоре они скрылись за горизонтом и уже больше не вернулись домой...
Эльмоло, как, возможно, только бушмены из пустыни Калахари, живут в полном согласии с окружающей их дикой природой. Все, что им нужно для жизни — пищу, кров и немногие необходимые для повседневного обихода вещи,— они так или иначе добывают либо в водах озера, либо на берегу. Вместо лодок эльмоло сооружают плоты из пальмовых бревен. Гарпуны для ловли рыбы, охоты на крокодилов изготовляют так: к древку длиной от двух до трех метров веревкой крепится зазубренное металлическое острие, а к рукоятке привязывается веревка. Острие на гарпунах для охоты на бегемотов крепится более основательно — не бечевкой, а с помощью рога антилопы, просверленного насквозь раскаленным железным стержнем. Бечевка, которую эльмоло используют для плетения рыболовных сетей, циновок, изготовляется из крученого волокна листьев молодых пальмовых деревьев. Для этого листья сначала вымачивают несколько дней в озере, затем складывают на песчаном берегу, а потом отделяют волокно, разбивая листья между двумя округлыми камнями. Из полученного таким образом волокна женщины и девушки делают бечевки и толстые нитки, скатывая их ладонью на собственном бедре. Более прочные веревки, которые нужны при охоте на крокодилов, бегемотов и для связывания плотов, получают таким же способом, но только из волокнистой коры корней акации. А сами корни служат материалом для древка гарпуна. Посуду женщины эльмоло лепят из вулканической глины, добываемой на островах; в качестве кастрюль и мисок используются также панцири черепах. В таких горшках эльмоло варят или тушат рыбу, мясо черепах, крокодилов и бегемотов.
Как и охота, рыболовство — самый древний промысел. Сколько различных способов рыбной ловли существует на земле? Десятки, сотни? Эльмоло добывают рыбу самым трудным. На плоту из пальмовых стволов, вооружившись гарпуном, рыбак выходит в озеро, когда оно стихнет и вода станет более прозрачной. Он плывет, зорко высматривая рыбу, плывет час, другой. Мы с Володей сидим на берегу и терпеливо ждем, а солнце печет, хочется спрятаться в тень. Мы уже сговорились идти в бунгало, как вдруг рыбак поднял гарпун и резко метнул его в невидимую нам цель. Раздается победный клич. Попал! Древко уходит в воду, увлекая привязанную к нему длинную веревку. Плот опасно кренится, а потом плывет, все ускоряя ход. Рыбак напрягает мускулы ног, рук, всего тела, чтобы удержаться на плоту и не выпустить веревку. Потом начинает постепенно выбирать ее, снова отпускает, дергает, стремясь быстрее утомить жертву. Борьба продолжается минут тридцать-сорок, а может, и дольше.

Но вот рыба всплыла, рыбак подтянул ее, привязал веревку к плоту и, работая шестом, как веслом, направился к берегу. Я попросил Володю
сбегать и принести из моей рыбацкой сумки весы. Тем временем к берегу потянулись женщины, старики, ребятишки эльмоло, вернулся Володя с весами. Взглянув на рыбину, я ахнул и спрятал в карман весы: нижняя отметка на них равнялась 28 фунтам, пойманная, же молодым эльмоло рыбина на глаз весила не менее 100! Это оказался великолепный экземпляр нильского окуня, переливавшийся, казалось, всеми цветами побежалости.
На другой день после полудня, когда стих ветер, мы сами отправились на рыбалку на мыс, который порекомендовал отец Полетт. От мысли ловить с эльмоловских плотов пришлось сразу же отказаться: не только махать спиннингом, но и просто стоять на расползающихся под ногами бревнах мы могли, лишь опираясь на все четыре конечности. А если на блесну сядет стофунтовый окунь? Справились у отца Полетта насчет крокодилов. «Можете смело заходить в воду, в этом месте крокодилов нет, всех давно выбили. Крупные экземпляры сохранились лишь на островах»,— заверил миссионер. На мыс нас проводил седой мальчишка эльмоло. И сразу же сюрприз. На подходе к воде, пробираясь меж камней, увидели на галечном пляже крокодила длиной метpa четыре, гревшегося на солнце. Мы даже не успели как следует заснять рептилию на пленку, как она, почуяв опасность, поднялась на лапы и неуклюже, словно какой-то механический аппарат на шарнирах, спустилась в воду и скрылась в глубине.
Небольшие блесны, весьма добычливые при ловле с лодки, еле перелетали прибрежную отмель, и поклевок не было. Хорошо хотя бы по колени зайти в воду. А крокодил? Но что может остановить истинного рыболова! Снова упорно хлещем воду, теперь уже блесны уходят за отмель, где чувствуется глубина. Вскоре я ощутил сильный удар, удилище согнулось, и через несколько минут на берегу трепетала солидная рыбина. Хотя добыча не шла ни в какое сравнение с экземпляром, пойманным накануне рыбаком эльмоло (здесь мои весы «сработали», зафиксировав вес в 12 фунтов), запеченный в углях окунь обеспечил всю компанию отличным ужином.
На следующий день, когда, отыскав грузила, снова отправились рыбачить на косу, мы стали свидетелями того, как с десяток молодых мужчин эльмоло, вооруженных гарпунами и камнями, отрезали путь отступления вчерашнему бедолаге-крокодилу, легкомысленно выползшему греться на старое место. Они с ожесточением протыкали его гарпунами, забрасывали камнями. Вокруг охотников, торжествующе вопя во все горло, носился седой мальчишка — наш вчерашний проводник; он, как можно было догадаться, и привел мужчин к пляжу, где мы накануне видели рептилию. Добив крокодила, от драгоценной шкуры которого остались одни клочья, охотники, взвалив на плечи добычу, пошли в деревню. Эльмоло пели. Джон не мог разобрать слов песни. Возможно, охотники пели: сегодня можно не ловить рыбу, сегодня у эльмоло «мясной день».
Охота на крокодила воскресила в памяти картинку из старого учебника истории для начальных классов, изображавшую охоту древнего человека на мамонта. Не было только искусно замаскированной ямы, в которую проваливался исполин животного мира древности. Но добивали его так же, как крокодила. И в учебнике, и в сцене на берегу озера Рудольфа оживал каменный век. В деревне эльмоло его чувствуешь на каждом шагу: люди почти не знают одежды, примитивные хижины и плоты без единого гвоздя, ведра и миски из панцирей черепах, рыбья кость, заменяющая женщинам иглу.
Каменный век! Но ведь эльмоло последние десятилетия живут не изолированно от двадцатого века с его социальными и техническими революциями. Рядом с деревней эльмоло, с их плотами на берегу стоит современный бот, сверкая яркой окраской, привлекая изящной обтекаемой формой. Бот принадлежит одному высокому чиновнику из Найроби, который раз в год на два-три дня прилетает сюда на рыбалку и охоту за крокодилами. Вблизи сгоревшего кемпинга сохранилась сооруженная его владельцем взлетно-посадочная полоса, и сюда несколько раз прилетали на самолетах иностранные туристы во всеоружии новейшей техники: кино- и фотокамер, транзисторных приемников, карабинов с оптическими прицелами, портативных холодильников со льдом и десятков других предметов современного быта.
Наблюдая все это, эльмоло начинают смутно понимать, что, помимо их жизни среди дикой природы с ее суровыми законами борьбы за существование, тяжелым трудом, изнурительными болезнями, но зато «полной свободой» делать что хочешь, плыть и идти куда хочешь, есть другая жизнь, на их взгляд, легкая, удобная, веселая, обеспеченная.

В первой беседе со стариками эльмоло мы спросили, часто ли им приходится видеть иностранцев и что они думают об их «техническом оснащении»: о самолетах, моторных лодках, автомобилях, электричестве. Старики долго не могли понять вопроса, а уразумев суть, оживленно заговорили меж собой, словно бы вырабатывая общее мнение. Затем один из стариков произнес фразу, поразившую нас: «Каждому свое». Я не думаю, что старый эльмоло, повторивший библейское изречение, знал Библию. Но почему он произнес тогда те же слова? Хотел ли оправдать чудовищную отсталость людей его племени или, наоборот, утвердить право жить по своим законам? Ответа мы не получили. «Просто мы так думаем»,— только и сказал старый эльмоло.
Одно время ученые и медики не сомневались, что крохотное племя обречено на вымирание: истощенные, страдающие от постоянного недоедания и однообразия пищи женщины оказывались слишком слабыми, чтобы рожать и кормить детей, а девушки из других племен — самбуру и туркана —- не желали идти замуж за юношей эльмоло — на диалекте этих племен слово «эльмоло» означало «жалкие бедняки». Постепенно, однако, сначала за выкуп, а потом и по любви, невесты из соседних сравнительно многочисленных и жизнеспособных племен стали вступать в брак с молодыми рыбаками. Смешанные браки участились по мере того, как и туркана и самбуру также стали промышлять рыбной ловлей и могли оценить искусство, бесстрашие и трудолюбие «рыбных людей».
В начале 1980 года путешествие вокруг озера Рудольфа совершил мой старый кенийский знакомый, широко известный в Восточной Африке фоторепортер Мухамед Амин. Побывал он и у рыбаков эльмоло. Друзья прислали мне репортажи участников экспедиции, возглавляемой им, из которых я узнал о сегодняшней жизни эльмоло.
Они по-прежнему успешно ловят рыбу, и не только гарпунами с плотов, но и сетями с лодок, которыми их снабдили власти. Крокодилы в районе Лоиенгалани стали большой редкостью, и, когда людям эльмоло уж очень надоедает рыбный стол, они совершают экспедиции за 80 километров к северу от Нгуфа, Юро, Кары и Мойте: в этих необитаемых местах крокодилы по-прежнему спокойно греются на песчаных пляжах. К северу от Мойте сохранились и бегемоты, но стали много осторожнее, и охотятся на них теперь лишь по ночам в мелкой воде вдоль берега, куда они приходят пастись. У женщин эльмоло появились алюминиевые кастрюли, в которых, помимо обычных рыбных блюд, варят кукурузную кашу, полюбившуюся детям. Алюминиевую посуду, кукурузную муку и сухое молоко эльмоло покупают на фактории в Лоиенгалани. Деньги получают за рыбу, сдаваемую в приемный пункт рыболовецкого кооператива на западном берегу озера Рудольфа.
Нейлоновые сети, алюминиевая посуда и пищевые концентраты, которые появились у эльмоло за последние десять лет,— достаточно ли этого для возрождения племени охотников Нефритового озера? Как знать! Во всяком случае, люди, пришедшие из неолита, сделали первый робкий шаг в двадцатый век.
Дмитрий Горюнов
Окончание следует
(обратно)
Оглавление
Меч для кольского щита
Фотографии не сохранились…
Лоа служат «леопардам»
Вся закарпатская вода...
Саркофаг без тайн
Безвыигрышная лотерея
Встречь байкальского ветра
Бой в устье
Уязвимое большое чудо
Остров Навек. Патрик Смит, американский писатель
Послушный «чонар-даш»
Секретный вояж сержанта Андреева
Инопланетный солерос
Путешествие на озеро Туркана
Последние комментарии
59 минут 42 секунд назад
2 часов 49 минут назад
8 часов 34 минут назад
8 часов 40 минут назад
8 часов 44 минут назад
8 часов 44 минут назад