До первого снега [Валентин Афанасьевич Новиков] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Валентин Новиков До первого снега Повесть
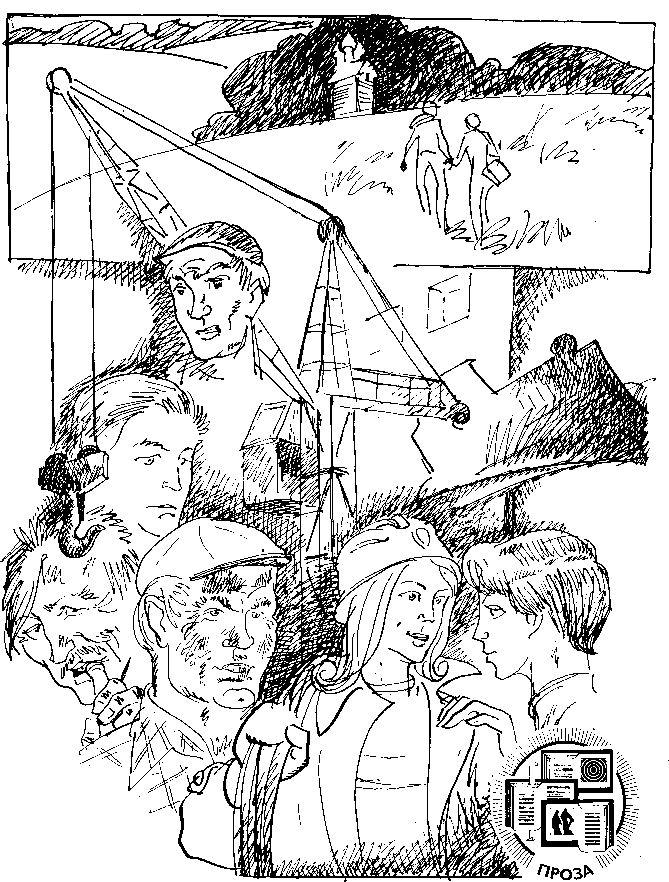 Рисунки Н. Мооса
Рисунки Н. Мооса
1
Мама пришла с работы расстроенная. Не сняв плаща, лишь сдвинув назад с головы платок, села в коридоре возле вешалки на табуретку и долго отдыхала. Держала на коленях сумку, и казалось, что она не дома, а в вагоне поезда или на вокзале. Мы с Ольгой едва доспросились, в чем дело. Оказалось, у мамы врачи нашли профессиональное заболевание и потребовали, чтобы она ушла из типографии, сменила работу. — Я пойду работать! — сказала Оля. — Что? — тихо переспросила мама. — Уйти из института? Ты с ума сошла? И тут мне стало ясно, что пробил мой час. Я откашлялся и солидно, как мне казалось, произнес: — Пойду работать. Ночью я впервые думал о жизни без привычной легкости. Я вспомнил, что мама частенько работала по две смены, чтобы купить что-нибудь из вещей. Приходила и, сгорбившись, подолгу сидела возле вешалки. Думал я о своем отце, которого не помнил, у которого в другом городе другая семья и который для меня в сущности ничего не означал. Думал и о друзьях. Почти год после того, как провалился на экзаменах в кредитно-финансовый техникум, я провел с ними в подъезде. Недавно вернулся сосед Шурик, он всего на год старше меня, а уже полтора года отбыл в колонии. Шурик собирается на авторемонтный. Может, и мне с ним?.. Дверь в комнату приоткрылась, вошла Оля. Дело в том, что я сплю в Олиной маленькой комнатке, а Оля спит с мамой в большой. По ночам она сидит на кухне, готовится к экзаменам, иногда приходит за своими книгами, ищет их с моим карманным фонариком, чтобы не будить меня. С этим фонариком мы с ребятами бродили вечерами по темным улицам. Нам нравилось внезапно освещать в упор прохожих, некоторые пугались нас. Оля подошла к книжной полке, прикрыв фонарик рукой, отыскала книгу, затем погасила фонарь и шепотом спросила: — Спишь? — Не засыпается что-то… Она села ко мне на кровать. Некоторое время мы молчали. — Значит, техникум твой опять горит… — начала она. — Ладно, не очень-то мне и хотелось. — Да ведь готовился. — Не убежит техникум. Вот мама поправится… Ольга погладила мою руку. — Куда думаешь идти работать? — Пойду на авторемонтный. Шурик туда собирается. Вот вместе и… Я почувствовал, как дрогнула Олина рука. — Шурик? — Ну да. Я ведь и говорить с людьми не умею. А он бывалый. Только боится, что в отделе кадров начнут расспрашивать про то да се. Вместе надо устраиваться. — А знаешь, — Ольга убрала свою руку, — устраивайся куда-нибудь один, без Шурика. Все равно куда. Иди, тебя возьмут. — Боишься дурного влияния? Не бойся, Шурик начал новую жизнь. — А меня тошнит от твоего Шурика. Он приехал, и мальчишек в нашем доме как подменили — смотрят нагло, держатся развязно. Я не хочу, чтобы ты устраивался с Шуриком. Сам придешь, скажешь: «Примите на работу», вот и все. А там видно будет. Хорошо? — Посмотрим… — Вот и договорились, — закончила за меня Ольга. Потрепала мои длинные, точно такие же, как у нее, волосы и ушла. Мы с Олей не близнецы, она на два года старше меня. Но все считают нас близнецами. Говорят, не отличишь. Однако же ее никто не принимает за мальчишку, а меня вот все путают с девчонкой. Может, нарочно, чтобы подразнить. Даже Шурик, когда вернулся из колонии, показал на меня пальцем и спросил: — Кто эта чувиха? Пацаны сначала подумали, что он и вправду забыл, ответили: — Это же Валерка! Ты че?.. Однако, что же я завтра Шурику скажу?.. Лучше вообще ничего не говорить. Уйду утром пораньше, и все… Тут я услышал стук в окно и вскочил с постели. Наша квартира на Третьем этаже; я понял, что в полусне капли дождя показались мне такими громкими. Капли застучали чаще, и вдали послышался гул — это надвигался ливень. Он не шумел, а гудел, выл, словно ветер в трубе, надвигался откуда-то из глубины ночи. Я закрыл плотнее окно, и в тот же миг хватило водой по стеклу. И пошло хлестать до закладывающего уши звона. Хотя окно было закрыто, в комнате пахло дождем. Майский гром грохотал где-то далеко, негромко, но непрерывно и словно убаюкивал. Утром, выйдя на улицу, я увидел на мокром тротуаре сбитые дождем тополиные почки. Словно живые личинки, они устилали дорогу. Потоки воды кое-где согнали их к стенам и заборам. Резко пахло дождевым тополиным настоем. Я не заметил, как свернул в одну из старых тихих улиц с деревянными домами, осевшими глубоко в землю, с темными от времени деревянными кружевами, с какими же темными крылечками, геранью на окнах Не мог удержаться, чтобы не заглянуть в окна этих домов. В одной комнате пожилая женщина вышивала на круглых пяльцах, в другой — старик пил с блюдечка чай, на столе перед ним стоял самовар. Во дворах росли вязы и клены. Иные деревья уже отжили свое. Яркая поросль ютилась у их подножий, а верхушки высохли. Улица оборвалась внезапно. И я увидел пустое поле. Меня поразила удивительная ясность открывшейся дали. Дождь промыл воздух, забрал из него всю пыль. Я пошел прямо через поле к видневшейся вдали кирпичной трубе. Шагал довольно долго, пока не пришел к глубокой траншее со следами зубов экскаватора на стенках. На краю ее громоздились горы красной глины, а по дну тянулись серые керамические трубы. За траншеей возвышалось длинное недостроенное здание необычной формы. Повсюду лежали бетонные плиты и блоки, аккуратными рядами тянулись штабеля леса. Люди в брезентовых куртках монтировали огромную металлическую башню. Тут и там от огней электросварки сыпались вниз яркие струйки, гасли на лету или, ударяясь о металлические фермы, рассыпались в сверкающую пыль. По стене строящегося корпуса шла яркая надпись: «Ударная комсомольская стройка». Серый бульдозер, тяжело переваливаясь, снимал грунт. Вот он остановился, напряженно гудя, буксуя во влажной земле. Отступил назад. Мотор выбросил дымок, взревел, и бульдозер, как бык, с разгона боднул вал и продвинулся дальше. Слева на пустыре тяжело ухал копер, забивая в землю бетонные сваи. Машинист копра, молодой парень, устроившись на широком сиденье, один управлялся с этой машиной, от могучих ударов которой сотрясалась земля. Я долго стоял, смотрел, как двигалась и дышала гидравлика копра. По дороге мимо меня одна за другой проходили машины — самосвалы с гравием и песком, цементовозы, покрытые светло-серой пылью, длинные тяжелые панелевозы, автокраны. В центре территории высился завод с кирпичной трубой, длинными навесами, наклонными галереями, круглыми бетонными башнями высотой в десятиэтажный дом и огромной вращающейся печью — я как-то видел такую же на цементном заводе. В распахнутые ворота уходил железнодорожный путь. Не раздумывая, я направился прямо к прорабской — зеленому вагончику, стоявшему на отшибе. Не первый раз я видел стройку и знал примерно, где что находится. За столом, сколоченным из свежеструганных досок и заваленным чертежами, сидел на длинной лавке человек лет двадцати восьми в серой на молниях куртке и вертел в пальцах маленькую логарифмическую линейку. Он взглянул на меня. И я уловил в его глазах недоумение. Видно, тоже принял меня за девушку: подал мне табуретку, сказал, что он старший прораб и что зовут его Олегом Ивановичем. Обращаясь на «вы», спросил, сколько мне лет, где я учусь. Потом взял мое свидетельство и вдруг покраснел. Я прикинулся, что ничего такого особенного не заметил, рассматривал стены прорабской с графиками и списками. И прораб, видимо, решил, что казус исчерпан. — Значит, решил стать строителем? — уже другим тоном спросил он, продолжая внимательно меня разглядывать. — Что умеешь делать? — Шел… увидел трубу… — А-а… Это, конечно, аргумент… Зазвонил телефон. Он снял трубку. Я слышал, в трубке кто-то быстро-быстро заговорил. — Да-да, был такой разговор в обкоме, — спокойно ответил Олег Иванович, — был. Телефон снова затараторил. Олег Иванович выслушал и ответил: — А вы когда-нибудь пробовали строить начиная с крыши? Что это значит? А то, что сборные конструкции вы подаете на объект хаотически. Нам нужны колонны и другие детали нижних этажей, а поступают те, которые должны монтироваться наверху. Площадка завалена конструкциями, а монтировать нечего. Кувалдами подгоняем детали под монтаж. Телефон снова долго частил, но Олег Иванович слушал, уже морщась, как от зубной боли. — Неритмично поставляют металл? — переспросил он. — Начинаете опять выискивать «объективные». Да вы просто не заинтересованы, чтобы мы, строители, работали на подряде. Вам это как кость поперек горла! Вот и пришлось обратиться в обком. — Он бросил трубку и достал из стола «Беломор», нервно закурил. — Да, так что же ты все-таки умеешь делать? — спросил Олег Иванович. — У нас и из ГПТУ приходят — дырку зашпаклевать не умеют. Теоретики. Ты тоже теоретик? Я ничего не ответил, чувствовал, он сейчас думает не обо мне, а в основном о своем сборном железобетоне. Но вот он снова внимательно посмотрел на меня и переменил тон: — Зачислим пока разнорабочим. А там видно будет. У нас внутрибригадное обучение, так что без специальности не останешься. Он сказал и про заработок, и про то, что сюда, на стройку, удобнее добираться из города электричкой. — А что вы строите? — спросил я. — Завод, керамзитовый. — Он выдвинул ящик своего стола и протянул мне на ладони несколько шариков. Цветом они походили на обыкновенный красный кирпич. Я взял шарики и поразился их легкости, казалось, они ничего не весили. — И вы строите завод, чтобы делать такие шарики? — Это не шарики, а керамзитовый гравий, — с некоторой, как мне показалось, обидой ответил он, — ценнейший заполнитель для сборного керамзитобетона. Понимаешь, стеновые панели станут намного легче. Это позволит… — он взглянул на часы и начал поспешно собирать бумаги, разбросанные по столу. — В общем, постепенно сам узнаешь… Сейчас поезжай в отдел кадров нашего СУ. Скажи, я прислал. А утром сюда к восьми, к мастеру Водяному.2
Мастер Водяной, когда я пришел к нему, уставился на меня — здоровенный, мордастый, с толстой красной шеей. Долго смотрел, не мигая, словно на обезьянку в зоопарке, а потом зашелся простуженным смехом. Хлопал себя ручищами по коленкам и все шипел и шипел, как примус, а из глаз его текли мелкие слезы. — Ты, обратно, не этот будешь, как его… — Кормящий отец, — подсказали монтажники. Водяной смахнул со щеки слезу и покрутил головой — точь-в-точь блохастая собака: — А вот в Китае, я слыхал, один родил… Собственно, чего я ждал от первого дня на стройке? Участливой заботы? Или внимания к себе? Водяной, видно, всех новеньких так встречал. Чем я для него лучше других? Стоило ли обижаться на него? Да я, наверно, выглядел и впрямь смешно.На другой день Водяной поручил мне убрать мусор из трансформаторной подстанции. Он показал на кирпичное строение с маленькими окошками, без крыши, с обитой оцинкованным железом дверью. Кроме мусора там остался схватившийся бетон. Водяной сказал, что подстанцию готовили сдавать под монтаж, но, пока не убран мусор, электрики отказываются работать. — И этот походит-походит по стройке и тоже, глядишь, родит. — Парни с монтажными поясами подливали масла в огонь. — От них теперь чего хошь можно ждать, — сказал пожилой рабочий. — Давай, Фомич, к девчатам его, пусть учится на штукатура. — Не возьмут. Им тоже план выполнять надо. А заделье ему мы найдем… Водяной торжественно вручил мне пустой мешок и послал в котельную за компрессией. И я побежал. Но не потому, что понятия не имел о компрессии, а из-за своей неумеренно большой готовности что-нибудь сделать, начать первый в своей жизни трудовой день. Но тут же опомнился, вернулся и бросил мешок под ноги Водяному. Бригада хохотала. Я готов был сквозь землю провалиться. Хотелось убежать и никогда больше сюда не возвращаться. Но вокруг меня стояли совсем еще молодые рабочие, и смеялись они так весело, так заразительно, что я сам не смог удержаться от смеха. Я надел рукавицы и взялся за лом. Долго долбил плотную серую массу. Лом глухо звякал и соскальзывал. Мне стало тоскливо от однообразных тупых звуков. Но раз Водяной велел долбить, значит, надо. На следующее утро я снова взялся за лом. Подтянул рукавицы и широко размахнулся. И опять тот же унылый тупой звук. Сзади послышались тяжелые шаги. Я обернулся. В дверях, широко расставив ноги, стоял Водяной. — Замах хороший, — сказал он. — Только зачем по гладкому месту лупить? Все-то вы приходите теперь на стройку глупорукие. Молоток в руках держать — учи, ломом долбить — учи… Как только вы рукавицы на ноги не надеваете? Раньше, бывало, каждый парень все умел делать по дому. А теперь — локоны только взбивать.
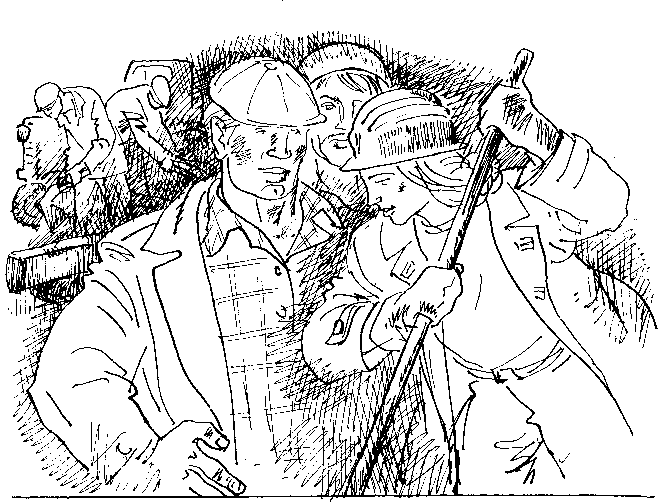
С широким обветренным кирпично-красным лицом мастера никак не вязались маленькие светло-голубые глазки. Но взгляд их пристален, цепок. Сегодня это был совсем другой человек. — Сперва приглядись да смекни, где ударить, — посоветовал он, — а потом бей. Я снова поднял лом. И снова тоn же тупой звук. Лом соскользнул, а я едва не потерял равновесие. Водяной что-то невнятно пробормотал и ушел. После этого он как будто вообще перестал меня замечать.
Каждое утро я приходил на стройку и брался за лом. Однако долго терзать глыбу бетона в трансформаторной мне не давали. Все время надо было кому-нибудь помогать. Только и слышалось: «Валерка, туда, Валерка, сюда!» Получалось, что работал я — куда пошлют: убирал мусор, подавал кирпич, возил в тачке песок, таскал стекло. А потом снова возвращался к своей глыбе бетона. И она под ударами моего лома стала медленно убывать. К концу недели я уже не чувствовал рук. Болела спина. Видимо, я стонал во сне. Мама и Оля ничего не говорили. Однако я видел, они стараются и щей мне налить погуще, и лучший кусок мяса положить вроде невзначай.
3
После того как я одолел бетон, Водяной отправил меня в котельную. Там бетонщики тоже малость «оплошали». Следом за Водяным но гулкой железной лестнице спустился в подвальное помещение завода. После яркого солнца здесь царил полумрак, почти не проникали звуки. Постепенно из подвального сумрака стали проступать очертания четырех установленных в ряд паровых котлов. Массивные фундаменты, на которых они стояли, напоминали исполинские гробы. Мастер несколько раз щелкнул выключателем, чертыхнулся. Затем сказал: — Это тоже надо подолбить. Понимаешь, излишки остались. Бетонщики были малоопытные. — Грохая сапожищами, он поднялся по железной лестнице наверх, но, открыв дверь, снова спустился вниз. — Засек? — спросил он. — Ну, давай. У тебя уже есть опыт. И ушел, задев массивным плечом простенок. На пол посыпалась кирпичная пыль. Я оглядел котельную: на полу валялся битый кирпич, залитые цементным раствором доски. В углу кто-то оставил кучу ветоши. Я поднял с пола кувалду, с чувством глухой досады размахнулся и ударил по бетону. Удар не оставил заметной вмятины. Бетон был высокой марки. Опять мне предстояло исправлять чужую халтуру. Но делать нечего, пошел за ломом. Несколько дней я почти вхолостую звякал ломом по глыбе бетона. К вечеру начинала болеть голова, ныли руки, а по ночам в ушах стоял звон, будто кто-то возле меня продолжал долбить неподатливую глыбу. Однажды в котельную зашел долговязый сутулый парень в синей спортивной куртке и вязаной шапке. — Лоб я тут не расшибу? — спросил он. — Со свету ничего не видать. — Да вроде не о что. Он, приглядываясь, подошел ближе, протянул руку: — Синявский, секретарь комсомольской организации. Давно хотел поговорить, да вот некогда, вентиляцию устанавливаем. А у тебя, я вижу, знак качества по чужому браку. Надо бы заставить подолбить того, кто это оставил. — Говорят, с другого участка были ребята. — Ну и как, идет дело? — Идет… — Молодец… Да нет, я серьезно, — сказал он, заметив мою ухмылку. — Понимаешь, если это не убрать, котельную ни одна комиссия не примет, а делать такую работу никого не упросишь. Так что не до шуток, старик… Да, а ты на комсомольский учет встал? — спросил он и сразу переменил тон. — Значит, оторваться кумекаешь? — Да нет, просто… — Просто… Ты-то не знаешь, а тут проходной двор… Приходят такие, как ты, думают, Сочи тут, знай загорай с транзистором… Два-три дня — и след простыл. Если ты отрываться не намечаешь, я рад. — Он углядел в куче ветоши тряпку, нацепил ее на рейку и смахнул с окошек пыльную паутину. Стало немного светлее. Осмотрел глыбу бетона, покачал головой и снова пригляделся ко мне. — Ничего, скоро закончишь. — Закончу… И Водяной опять пошлет что-нибудь долбить… Надоело, — невольно признался я. — Специальность приобретай. Учеником стропальщика пойдешь? Потом пошлем на курсы крановщиков. После этого разговора, хоть и короток он был, я уже не чувствовал себя одиноким. И в котельной стало светлее. Как мне не пришло в голову протереть пыльное окно? Удивительно, иногда не додумываешься до самых простых вещей.Прошла самая трудная для меня половина месяца. Приспело время первой зарплаты. За моей спиной загудели ступени железной лестницы. Они откликались на шаги длинным низким гулом. Я опустил лом, обернулся. В котельную спускался стропальщик Хонин. Я давно приметил этого парня с серыми волосами. В самом деле, серыми, а не русыми. Такими серыми, как пепел от костра. Поэтому не заметить Хонина просто невозможно: сперва обращаешь внимание на его непокрытые, аккуратно уложенные волосы, а потом уже невольно задерживаешь взгляд на лице. Войдя в котельную, он некоторое время наблюдал, как я ковыряю ломом бетон, потом сел на фундамент одного из котлов, закурил. — Между прочим, на складе есть пневмомолотки, — сплюнув, сказал он. — Восемь штук. Лежат без дела. А ты тут мутыжишься с ломиком. Водяной любит поиздеваться для начала, скоро пошлет тебя плиты перекрытия подавать наверх, чтобы башенный кран отдохнул. Я опустил лом, снял рукавицы и отер рукавом мокрый лоб. — А может, Водяной вырабатывает у тебя рабочую жилку, — продолжал Хонин, — характер кует, волю твою закаляет?.. Он говорил, не глядя на меня, и пускал дым вверх. Дым попадал в пробившуюся узкую струю солнечного света, вспыхивал голубой радугой. Я не мог понять, издевается надо мной Хонин или сочувствует мне, и спросил: — Че тебе надо? — Водяной велел заглянуть… Теперь я твой наставник. На стропальщика будешь учиться. — А это? — я показал на оставшийся бетон. — Водяной сказал, чтобы ты кончал поскорее и — ко мне. Если бы пневмомолоток, враз бы управился. А так пару дней еще провалтузишься, а может, и больше. Значит, эту работу я должен закончить… Я надел рукавицы и снова взялся за лом. — Ладно, кончай вкалывать. — Хонин ввинтил окурок в фундамент. — Уже все ребята поехали в контору получать зарплату. Сегодня на стройку деньги не привезут. До конца работы оставалось еще минут сорок. — Ну так как, пошли, что ли? — Он встал. — Рано еще… — Так ведь зарплата. Больше убеждать меня не пришлось. Я полмесяца ждал того дня, когда принесу маме первую зарплату. В контору действительно уже приехал кое-кто из наших. Возле кассы крановщик Спиридонов, отделив от зарплаты «основу», слюнявя пальцы, пересчитал остальные деньги. А против него стоял его друг сварщик Копейкин и ждал… Я понял, что первыми, не дождавшись конца рабочего дня, сюда прибыли любители «сброситься». И мы оказались среди них. Дали мне сорок пять рублей. Я даже не сразу поверил, что все эти деньги — мои. Дважды пересчитал их возле кассы. Не потому, что не доверял кассиру, а чтобы убедить себя, что мне это не снится. Дело в том, что некоторые заходили в котельную, сочувственно смотрели, как я звякаю ломом и говорили: «Водяной за это больше четвертака не выпишет». И вдруг сорок пять рублей! Я забыл обо всем на свете и ринулся домой, чтобы поскорее порадовать маму. Но меня остановила сильная рука. — Куда бежишь-то? — с усмешкой спросил Хонин. — Как куда? Домой. — Так не положено. Первую зарплату надо обмыть. Я растерянно уставился на него. — Ну, что смотришь? — Я не пью, — ответил я наконец. — Это неважно. Надо! Понимаешь? Чтобы не думали, что ты жмот. Я почувствовал, что краснею. Мне не хотелось приобретать с первой зарплаты репутацию жмота. Но в то же время мне очень хотелось полностью — до единой копейки — принести маме первую зарплату. Я не раз уже рисовал в своем воображении, как это будет; мама, наверно, не удержится от слез… — Меня дома ждут. Мама, сестренка… — Идем, идем, — мягче сказал Хонин. Он, видно, понял меня. — Подумаешь, каких-нибудь пару рублей потратишь. Дома и не узнают. Проверять, что ли, будут? Пошли… — Он обнял меня за плечи, повел.
Мы взяли по бутылке пива и отошли за магазин. Здесь уже стояло несколько человек. Говорили о бочковом пиве, делили таранку. И нам досталось по рыбешке. — Так вот всегда, — сказал Хонин. — Присесть негде. Культура обслуживания у нас пока еще отстает, это точно. И опять я не понял, всерьез он говорит или нет. Как сам он оставался неясен, так же неясен был смысл того, о чем бы он ни говорил, неясно было также, зло он говорит или добродушно. Надо ему, однако, отдать должное — в магазине он отказался от вина, сказал: «Пару пива и хватит». Мне даже неловко стало, что я вначале дурно о нем подумал… Придерживаясь за стену, с пустой массивной бутылкой к нам подошел крановщик Спиридонов. Он, видно, услышал, что Хонин сказал про обслуживание, и пробирался на разговор. Спиридонов был странно острижен — клочьями, как будто выборочно. — Правильно говоришь! — от него сильно несло вином. — Начальству что — оно выпьет, потом морду смочит одеколоном «Букет Абхазии», запах перешибить чтобы, и будь здоров! А с тебя пол-литра. — сказал он мне. — Пивом, что ли, хочешь откупиться?.. Не-ет… Я растерянно посмотрел на Хонина. Тот неопределенно пожал плечами. И я пошел за водкой… Утром проснулся оттого, что острый солнечный лучик, пробившись сквозь мелкую листву молодого тополя, полыхнул на никелированной спинке кровати. Я вскочил было и тотчас упал обратно на подушку от нестерпимой головной боли. И ясного утра как не бывало. Я увидел свои забинтованные руки и вспомнил все, что было вчера. Я снова вскочил, выбежал в коридор и поспешно сунул руку во внутренний карман висевшей на вешалке куртки. Получки не было… Я сидел за столом перед мамой и Ольгой и не поднимал глаз от своей тарелки. — Как же так? — тихо спросила мама. Я с трудом проглотил кусок хлеба. Больше за завтраком не было сказано в то утро ни единого слова.
Человеку, впервые попадающему на стройку, кажется, что его со всех сторон подстерегают опасности. Ольга в моей серой рубашке и джинсах разыскивала Олега Ивановича. Она шла среди грохота бульдозеров, звона кранов и вспышек электросварки. Заметив сварщика, работавшего иод самой крышей заводского корпуса, она остановилась: сварщик варил шов на десятиметровой высоте, сверху сыпались огненные брызги. — Ты что тут околачиваешься? — услышала она над своим ухом и испуганно обернулась. На нее хмуро смотрел Олег Иванович. — Что смотришь? Не узнаешь? — продолжал прораб. Он был чем-то раздражен, а Ольга попала под горячую руку. — Ну-ка, пойдем! — Он подтолкнул ее в спину. И Ольга, догадавшись, что это начальник стройки и что он принял ее за меня, решила разыграть Олега Ивановича. Все это Оля рассказала мне позже, много позже… А тогда меня вызвали к прорабу. Я догадался, что предстоит втык, и нехотя поплелся к Олегу Ивановичу. В прорабской за столом сидела… Ольга. А Олег Иванович ходил от стены к стене. Они, как видно, разговаривали. О чем? Обо мне, конечно. О том, как меня воспитывать. Говорили, что я в сущности неплохой, но… — С кем пил? — едва взглянув на меня и продолжая ходить по прорабской, спросил Олег Иванович. — Сам пил. Олег Иванович остановился: — А знаешь, ты прикрываешь преступника. Я испуганно посмотрел на него. Он взял со стола какой-то листок и сухо прочел: «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения лицом, в служебной зависимости от которого находится несовершеннолетний, наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до 50 рублей». (Статья 210, часть I Уголовного кодекса РСФСР.) Он бросил листок на стол. — Так с кем же ты пил? Мне надо знать, с кем ты пил. Понимаешь? — Сам, — ответил я и ушел. На следующий день Водяной снова заглянул ко мне в котельную. — Ну как? — спросил он простуженным шепотом. Было утро, а утром Водяной еще более безголос, чем днем. — Пневматическим молотком, что ли, нельзя было этот бетон взять? — решительно сказал я. — На складе пневмомолотки лежат без толку… Водяной, как слон, посмотрел на меня боком маленькими светло-голубыми глазами. — Кто это про пневмомолотки надоумил? — Мало ли кто. Факт — есть они. А я долблю, как дурак. Водяной усмехнулся. — Сказал это кто-то здорово умный. А ты дурак, стало быть? Ну, коли не нравится, иди учись на стропальщика. Для разнообразия. А насчет этого бетона — ты с ним справился. Молодец. И запомни: к пневмомолотку еще компрессор нужен. Стоило его сюда тащить? — Водяной взял у меня лом и одной рукой несколькими ударами разбил остатки бетонной глыбы на куски. — Вот так.
4
Работа стропальщика была не такой простой, как казалось со стороны. Я узнал, что стальные канаты, которые устанавливаются на грузоподъемный кран, бывают односторонней и крестовой свивки, узнал, что канаты односторонней свивки гибче и меньше изнашиваются, но зато раскручиваются и сминаются под тяжестью блоков, узнал, что такое шаг свивки и как его определять… Хонин объяснил мне все обстоятельно и толково. Начал он с того, что заставил меня смазывать канаты. Проверил, хорошо ли я очистил старую смазку… От этой работы я весь пропитался керосином. Заметив, что я соскабливаю кое-где грязь перочинным ножом, подошел, закрыл нож и положил его мне в карман: — Не видишь, проволока оцинкована? Снимешь оцинковку, канат будет ржаветь. Учил он всерьез — без издевок и подначек. И я старался вовсю. Уже в первые дни работы с Хониным я заметил, что он здорово страхует себя от неприятностей. Однажды он отказался цеплять емкость, наполненную бетоном, потому что заметил трещину в сварном шве. Крику было: ругался крановщик Спиридонов, ругались бетонщики, прибежал Водяной и безголосо стал орать, что бетон схватится. Хонин и ухом не повел. Достал журнал осмотра тары и авторучку. И Водяной, плюнув, отцепился. Тут же приволокли «Беларусью» другую емкость. Потом Хонин потихоньку сказал мне: — В этом деле сам на себя надейся. Все стропы должны иметь клейма или бирки, а на них выбиты номер стропы, дата испытания и грузоподъемность. Если что, с тебя никакого спроса. А любители орать всегда найдутся. Водяной всегда берет криком да силой. А кран — это кран. Понял? И всякое может быть. Особо следи за исправностью петель на блоках и панелях. Вечно кто-нибудь стоит под грузом. Случись что — стрелочник виноват… Крановщик Спиридонов, как только выдавалось свободное время, спускался с крана. Вот и теперь он присел возле моего ведра с керосином и завел разговор: — Все троса смазываешь… Хорошее дело. Смазанный трос — это смазанный трос. А я вот на днях получил со склада новые валенки. — Он не спеша закурил и продолжал: — Как раз по ноге. Весной их и надо брать. Осенью все кинутся за валенками, и аккурат получишь разные. Так-то. Только у них подъем высокий. Хорошие валенки, видать, по начальству разошлись, а рабочему человеку — во! — Он показал кукиш. — Но я сразу смекнул, как увидел их, — он многозначительно подмигнул мне, — взял и наложил в перед и в зад войлоку. Зимой буду через каждый месяц того войлоку помаленьку убавлять… «Разговоры» у него были бесконечные, он тяготел к обобщениям и аналогиям, умствовал по всякому пустому поводу. Я начал потихоньку соображать, как бы отделаться от него. Выручил меня Хонин. Он подошел и заметил: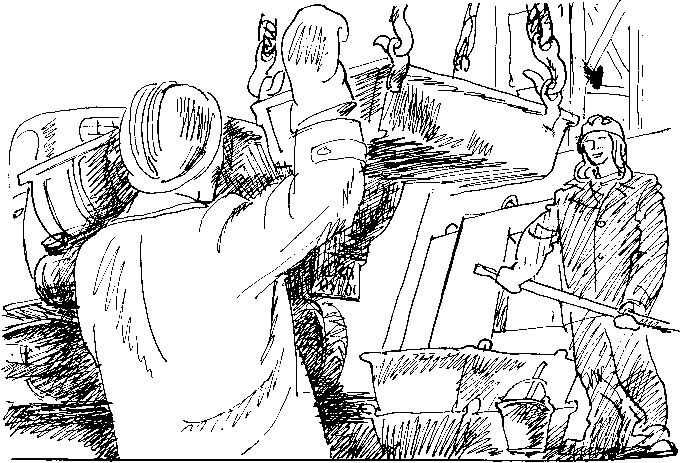
— Если ты ему про свои валенки, Илларионыч, то зря. — Да я про то, как войлок… — Ты бы не мешал ему работать, Илларионыч. А про валенки, может, как-нибудь в другой раз. Спиридонов недовольно поворчал и отошел к штукатурам, работавшим неподалеку. Я присматривался к людям, работавшим на стройке, и думал, какую выбрать профессию. Всегда на виду был бульдозерист Беленький, добрейший и работящий мужик. Фамилия, правда, у него вроде неуместной шутки — грязнее Беленького я никого не видел. Даже папиросы, которые он всегда носил в кепке, были какими-то пегими. Работал он по полторы, а иногда и по две смены, перемещал валы глины. Лишь изредка, смотришь, остановит свою машину, достанет из засаленной кепки папиросу, покурит, обойдет бульдозер, заглянет в мотор, весело насвистывая, поковыряется там немного и — опять за работу. Казалось, он не знал усталости. Этот молчаливый человек один делал почти всю планировку. Разнорабочие, хотя к их числу принадлежал и я, интересовали меня меньше всего. Начальство вечно жаловалось, что их не хватает на стройке, но толку от них, по-моему, было мало — появлялись какие-то люди и вскоре уходили, некоторые прибивались к какой-нибудь из бригад, и опять требовались разнорабочие. Бригады в обычном смысле этого слова они не представляли. Гвоздем стройки стала молодежная бригада монтажников Валентина Михеева. Сам бригадир — молодой, насмешливый — держался уверенно и независимо. Да и все монтажники как-то по-особому ходили по стройке, даже цепи на их монтажных поясах позвякивали с особым шиком. Но и работать, надо сказать, они умели. Невозможно было оторвать от них глаз, когда в выси яркого весеннего неба они принимали огромные стеновые панели, подаваемые башенным краном, и, чудом держась за что-то там вверху, устанавливали их и прихватывали короткими вспышками электросварки. Люди, такие уверенные и спокойные среди переплетений металла и бетона, казались мне необыкновенными. Такая работа, я чувствовал, мне пока не по силам, да монтажники, наверно, и не взяли бы меня к себе, я догадывался об этом и не просился пока к ним. Когда я сказал дома, что подумываю вот, не стать ли монтажником, мама осторожно спросила: — А что это такое? Я, видно, объяснил как-то неуклюже, потому что мама и Ольга запротестовали в один голос: — Разобьется, ты рассеянный! — Схватишь на ветру простуду… В общем, до монтажника я не дорос. А другие строительные профессии казались мне неинтересными.
Обедать мы с Хониным ходили в железнодорожный буфет. Туда изредка привозили горячие щи, но второе всегда было холодным. Ни воды, ни соков мы там не видели, зато всегда в изобилии были вина и водка. Буфетчица разговаривала с рабочими покровительственно, как будто учила уму-разуму. В буфете было грязно, душно. Немытые, засиженные мухами окна не открывались. Но однажды буфет преобразился. Видно, побывали общественные контролеры или какая-то санитарная комиссия — на вымытом полу появилась ковровая дорожка, на столах чистые скатерки, и что более всего удивило наших строителей, бумажные салфетки в чистых стаканах и кусок мыла возле умывальника. Все удивленно озирались, с удовольствием усаживались за столики, обедали осторожно, стараясь не насорить. Когда в черной засаленной спецовке вошел бульдозерист Беленький, буфетчица беспокойно оглянулась на чистые столы и ковровую дорожку. Беленький остановился в дверях, снял кепку и воскликнул: — М-м-мать честная! К-к-как на п-п-пасху! — Он немного заикался. Особенно, когда был возбужден. Взяв хлеба, колбасы и стакан чая, он присел на корточки у стены возле двери. — Вот молодец, — похвалила его буфетчица. — Только к стене-то не прислоняйся. Беленький отодвинулся от стены, но на ней уже четко отпечаталась его спина. — И чтой-то это ты как трубочист всю дорогу! — разозлилась буфетчица. — На всей стройке нет такого грязного, как ты. Мордой, что ли, работаешь? Рабочие за столиками притихли. — Д-должность т-такая, — пытался отшутиться Беленький. Этот человек никогда ни с кем не скандалил. Не знаю, как в этот момент у меня вырвалось: — Его-то грязь ненадолго, до бани… Буфетчица среди воцарившейся тишины в упор посмотрела на меня тяжелым взглядом, но ничего не ответила, лишь быстрее заработал в ее руке длинный нож, резавший колбасу. Хонин нахмурился и с заметным раздражением вертел в пальцах вилку, словно не знал, что с ней делать. — Тебе больше всех надо? — глухо спросил он. А рабочие долго еще поглядывали то на меня, то на буфетчицу. Некоторые ухмылялись. Я до этого не раз замечал, что Хонин часто оставался в буфете, когда все уходили. Не ускользнуло от меня и то, что буфетчица никогда не спешила кинуть Хонину сдачу. Когда он говорил с ней, она розовела и забывала про очередь. Даже злившая меня привычка Хонина давить всюду окурки ничуть не раздражала ее. А окурки он давил на столах и стульях в буфете, на стенах, на фундаментных блоках. Сначала осторожно пускал струйку слюны — гасил папироску, — потом с силой ввинчивал ее куда придется. И окурок прочно прикипал.
5
С Хониным я работал уже полмесяца. На стройке он держался в стороне от других, и работа была у него невидная. Скоро я понял, что и не хотел он быть видным. «Этот сам по себе», — говорили о нем. Никого он особенно не раздражал, да и нравиться, пожалуй, мало кому нравился. У других стропальщиков дел всегда хватало — не та, так другая работа. Хонин же делал лишь то, что обязан был делать. Он досконально знал свои обязанности: подцепил крючья башенного крана к бадье с раствором или к петлям плиты и — покуривай. Он умел незаметно уходить от сложной или тяжелой работы и, подмигнув, говорил мне на ухо: «Учись». Объяснял, что много на себя берут только дураки. Он всегда ходил подтянутый и опрятный, никогда не избеган, не замотан. Только и заботы было — клеиться к девчатам. Это он умел… Пришли недавно на стройку шестеро новых девчонок. Он сразу углядел одну и стал крутиться возле нее: то кинет в рукавичку песку, то в дверях притиснет. Девчонка вспыхивала, лицо ее покрывалось летучими розовыми пятнами. Я с интересом наблюдал за ним в те минуты, когда Хонину казалось, что он и впрямь «сам по себе». Еще в школе для меня не было более увлекательного занятия, чем разгадывать непонятное в людях. Незаметно пришел день второй зарплаты. Получать деньги опять поехали в контору стройуправления. Когда я возле кассы пересчитывал деньги, ко мне подошли Хонин со Спиридоновым. — Идём скорее! На базу хлебопродуктов привезли бочковое пиво! — Хонин нетерпеливо потянул меня за рукав. Я стал боком, уперся. — Да ты, видать, злишься, что у тебя тогда кто-то вытянул деньги. А при чем тут мы? Пойдем, пивка по кружке… Жара. Теперь я сам тебя хочу угостить. Идем, пока туда народ не набежал. У кассы теснилась шумная очередь. На нас никто не обращал внимания. — Ну, вот и идите сами. Мне не жарко. — Да ладно тебе. Говорю — я угощаю… И вдруг кто-то негромко окликнул Хонина. Он быстро обернулся. Из шумевшей у кассы очереди вышел Водяной, не слеша приблизился к нам. Глаза его весело поблескивали. Я съежился от дурного предчувствия, крепко сжал в потном кулаке полученные деньги. Ведь говорили же, что Водяной вроде многовато мне выписывает… — Оставь его, — сказал Хонину мастер. — Фоми-ич!.. — Хонин слегка коснулся его руки. — Я хочу его пивом угостить. Понимаешь? — Понимаю. — Водяной поглядел на меня сверху вниз. Увидел, что я крепко держу в кулаке деньги. — Выпьем пивка, поговорим. Рабочим человеком становится парень, — продолжал Хонин. — Послушай, — Водяной взял Хонина за пуговицу. — Ни в этот раз, ни в какой другой его не тронь. Понял? Сам пьешь — пей, а их не приучай. Иди. И я остался один. Хонин и Спиридонов ушли. А Водяной, даже не взглянув на меня, отправился обратно к очереди. На другой день мы с Хониным расчищали площадку возле подкрановых путей. Хонин разговаривал со мной как ни в чем не бывало. Я, надев рукавицы, выбивал ломом из земли старые доски, глыбы схватившегося бетона, вытягивал ржавую проволоку, затем отвозил в тачке мусор и сваливал в ров. Время близилось к полудню. Я опрокинул в ров тачку с мусором и вдруг услышал крики и топот бегущих людей. Оглянувшись, понял: что-то произошло с башенным краном, там уже собралась толпа. Оказалось, крановщик Спиридонов, опохмелясь утром, поднялся на кран и запустил моторы. Кран, набирая скорость, вдруг без всякой надобности покатил по рельсам к тупику. От аварии спасла случайность: кабель за что-то зацепился, оборвался. Кран остановился. Вскоре, узнав о случившемся, прибежали прораб и мастер. Оба поспешно поднялись на кран. Спиридонов спал в кабине, уткнувшись в пульт управления. Водяной в сердцах ругнулся и мечтательно произнес: — Когда уж придет новая крановщица… Не дождусь…6
Она вошла, когда я прибивал в прорабской плакаты по технике безопасности. Олег Иванович накануне дал мне их целый рулон и показал, где они должны висеть. Обернулся и увидел в дверях статную смуглую девушку лет девятнадцати в легкой вязаной кофте и черных спортивных брюках. Я стоял с молотком на дюралевом стуле и смотрел на нее, а она на меня. И от взгляда ее серых глаз у меня зашумело в ушах. — Мне нужен прораб, — сказала она. Я не успел ничего ответить. Вошел Олег Иванович. — Вы новая крановщица? — спросил он. Девушка кивнула. Он протянул ей руку. — Давно вас ждем. Как зовут? — Аня. — Я вот о чем хочу попросить вас, Аня… С места в карьер… Вы не поработаете две смены, пока найдем сменщика? Аня посмотрела ему в глаза, промолчала. — Я думаю, за неделю мы этот вопрос утрясем, — виновато продолжал Олег Иванович. — Только не затягивайте, — помедля, ответила Аня. — Я всего-то год работаю на кране, устаю и от одной смены. И потом… я учусь в вечерней школе.Башенный кран для меня был просто машиной, пока на нем сидел Спиридонов. Имели значение лишь исправность и четкая работа крана. С приходом Ани все изменилось. Кран как будто превратился в живое существо. И удивительно мне было, что я его почти не замечал. Двигалась туда-сюда по рельсам железная махина, поднимала плиты, поддоны, фермы и ничем, абсолютно ничем не привлекала меня. А теперь, едва приходила Аня и, о том о сем поговорив с нами, стремительно взбегала вверх по железной лестнице, все преображалось. Кран я уже не мог отделить от нее, он стал для меня почти одушевленным. Когда не было работы, Аня спускалась вниз, и сразу же к ней спешил Хонин. Он и до этого умел быть опрятным, а сейчас в джинсах и короткой брезентовой куртке выглядел даже элегантно. Каску он надевал только во время работы. А едва выдавался перерыв, снимал ее и привычным движением поправлял волосы. Стоя возле крана, они разговаривали друг с другом, и все, кто проходил мимо, внимательно поглядывали на них. Я же в своей мешковатой спецовке и каске, налезающей на глаза, выглядел, должно быть, смешно и держался в сторонке. Но тоже от Ани глаз не мог оторвать. Как-то, решившись, я подошел к ним — не посторонний же, — но Хонин сразу: — Валера, у нас свой разговор, понимаешь…
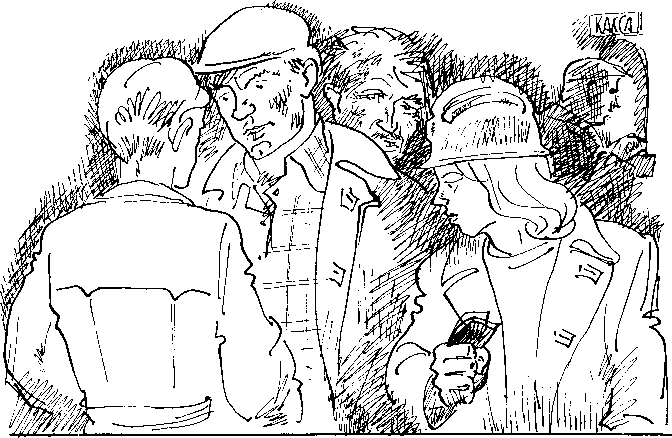
Однако Аня не приняла его тона: — Никакой он не свой, Валерик, просто разговор, как все разговоры. — Ему еще площадку надо расчистить, — заметил Хонин. — Ну идите, расчищайте вместе. Почему же он один? Хонина ничуть не смутило ее замечание. — У нас разделение обязанностей. Он не может делать моей работы. Ну, стало быть, пусть свою делает… Пока что он не стропальщик. — Да, он прав, — подтвердил я, — я уже знаю, что заполнение тары следует производить так, чтобы исключалась возможность выпадения груза из тары. Тару нельзя заполнять до краев, а лишь ниже на десять сантиметров… Аня прыснула от смеха, а Хонин покраснел.
В эту ночь я не сомкнул глаз, размышляя о жизни. До сих пор все поступки Хонина как-то мало трогали меня. Ну, работа у него, действительно, не по его амбиции, ну, с буфетчицей у него что-то там… К девчонкам клеится… Ко всему этому я был безразличен. Отчего же меня прямо-таки в холодный пот бросило, когда он взял руку Ани в прорабской? Я вертелся в постели, как на раскаленной сковородке. Что же это получается? Я, стало быть, должен рыться в грязи, расчищать площадку, а Хонин в это время — разговаривать с Аней? Это называется — «всякому свое»? Вошла Ольга. За окном уже угасли все вечерние звуки. Комнату заливал тихий лунный свет. — Почему не спишь? — Бессонница. — И у меня. Мы долго молчали. За окном в лунном свете блестели тополя. — Как тихо, — сказала Ольга. — Только листья суетятся. Ты знаешь, я читала где-то, что бывают звездные тени. Только увидеть их можно в тихую безлунную ночь на белом снегу. Говорят, они синеватые, едва различимые… И мне показалось, я затерян в безмолвном заснеженном поле. На снегу рассеянные синеватые тени. Я ощутил их хрупкую сказочную красоту, необычность их. — У нас новая крановщица, — сказал,я. Сказал вроде совсем обычно и совсем спокойно, но Ольга поняла. — Красивая? Растерялся и помедлил с ответом. — Ага. Я почувствовал Ольгину улыбку. — Понятно, тебе не дает спать красивая крановщица…
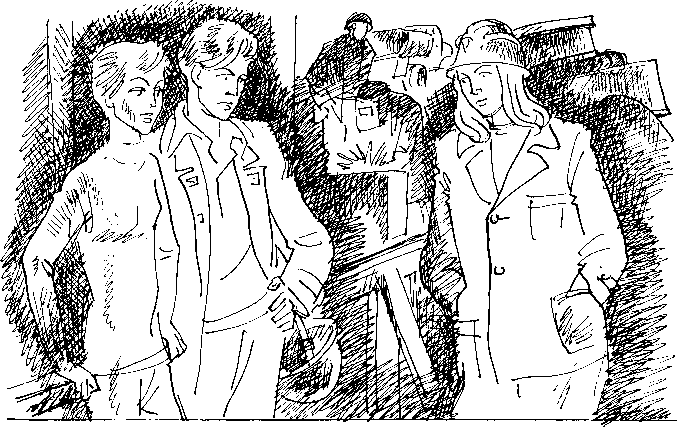
— Ладно тебе… Ольга поворошила мне волосы. — Спи и не думай о ней. Она уже направлялась к двери, когда я спросил: — Скажи, зачем живет человек? Ольга остановилась. Глаз ее я не видел. — Это смотря какой человек. — Я не о том. — Ах, ты о назначении человека… Ну, тут, по-моему, все ясно. Спи. — Нет, постой. Для себя живет человек? — Ну уж, для себя… — А ведь всякое удовольствие он получает только для себя, правда? — Как будто правда. — Ольга возвратилась, подошла ближе. — Значит, все-таки для себя. — Слушай, что это с тобой происходит? На такие вопросы каждый должен отвечать сам. Усек? Вот и спи… Почему Ольга пришла ко мне? Будтоуслышала, как рассыпался мой сон. И никакой книги не взяла. После разговора с Ольгой, хоть и был он мимолетен, я впервые совсем не так, как прежде, взглянул на самого себя. Я подумал о том, что отношения между людьми вовсе не так просты, как казалось мне, когда я со своими одноклассниками слонялся по подъездам и парку. Тогда все представлялось ясным и несложным. Главным было — найти какое-нибудь развлечение, избавиться от постоянной скуки. А на стройке я столкнулся с другим, сложным миром. И я решил бороться за Аню. Вступить с Хониным в смертельную схватку. Я не видел иного выхода. Правда, все преимущества были на его стороне — возраст, опыт, броская внешность; о нем говорили, что он, когда приоденется, похож на артиста. Но и на моей стороне что-то было. Что именно, я пока не мог сказать, но чувствовал, что что-то есть. Все не так просто. И с этой мыслью я уснул. Наверно, в ту ночь меня уже нельзя было принять за девчонку. Утром я поднялся к Ане на кран. Хонин, правда, пытался меня остановить: — Эй, килька, куда прешь? Но я уже был высоко. Аня ждала, пока внизу самосвал сбрасывал в бадью бетон. Меня встретила улыбкой: — Зачем сюда забрался? — Понимаешь, я что-то хотел тебе сказать… — Ты от Олега Ивановича? — Нет. Я сам по себе. Хочу учиться на крановщика, понимаешь? — Вот в чем дело… Тогда тебе надо на курсы, а не сюда. На тот год будет новый набор. Осенью. — Я у тебя хочу. — У меня?.. Ну какой из меня учитель? Я и сама еще… Погоди-ка… Звучно заработали контакты. Хонин внизу зацепил крючья за бадью с бетоном и поднял вверх руку в широкой брезентовой рукавице. Аня забыла обо мне. Кран качнулся, мягко двинулся по рельсам, и потекли, блестя смазкой на солнце, тросы. Кран еще двигался по рельсам, а стрела уже пошла описывать огромную дугу, неся широкую бадью к работавшим внизу бетонщикам. От страха у меня появилась непреодолимая тошнота. Чтобы не опозориться перед Аней, я быстро глотал слюну, вернее, не столько слюну, сколько воздух. И никак не мог избавиться от ощущения, что кран падает. Под стрелой стремительно проносились стрижи. Над стрелой двигались напоенные утренним светом облака. Двигалась стрела, будто заваливалась на бок, двигалась где-то далеко в пустоте железная бадья с бетоном, вращались барабаны, наматывая тросы, глухо гудели моторы, и сам кран двигался по рельсам, словно заваливался назад. Я зажмурил на минуту глаза от этого обилия движения. — Правда, хорошо тут? Это же голос Ани. Я перевел дух и, виновато рассмеявшись, кивнул: — Хорошо. — Такой вид! Вся пойма. И лес за рекой — синий-синий… А знаешь, какой он в грозу страшный… У Ани серые глаза под темными прямыми бровями. Подав бетонщикам груз, она с улыбкой обернулась ко мне: — Знаешь, когда я увидела тебя первый раз, не могла понять, мальчик ты или девочка. — Улыбка у нее лукавая и ясная. — Сколько тебе лет? — Сколько есть, все мои, — опустив глаза, пробормотал я. Аня угодила в самое больное место. Лицо ее стало серьезным, но я чувствовал, что вся она полна озорного смеха. — Я потому спрашиваю, чтобы знать, можно ли тебе на кран… И снова наш разговор оборвался. Теперь внизу Хонин подцепил поддон с кирпичом, и стрела стала разворачиваться в противоположную сторону, где работала бригада каменщиков. Опять это обилие движения, обилие пустоты вокруг и незначительность опоры, опять непреодолимая тошнота. Дорого доставался мне разговор с Аней. Снизу донеслось: — Валерка-а!!! — Тебя там потеряли, — улыбнулась Аня. — Беги. Когда кран остановился, я стал спускаться по отвесной железной лестнице, крепко цепляясь за каждую ступеньку. Хонин косо поглядел на меня, когда я спрыгнул на землю. — Тебе делать нечего? — спросил он. — Зачем туда лазил? — Для ознакомления. Стропальщик должен знать устройство башенного крана. — К Спиридонову что-то не лез…
С этого дня наши отношения изменились. Однако Хонин по-прежнему держался, как подобает наставнику: ни ругани, ни насмешек… Но спустя несколько дней произошло не совсем понятное для меня событие. Надо было быстро сгружать с машины кругляк. Я кинулся было за своими рукавицами, но их не оказалось на месте. Хонин, уже забравшись в кузов автомашины, кричал: — Скорее, Валерка! Что ты там копаешься?! Он подал мне стальной чалочный канат. В спешке я не заметил, что канат старый, как будто долго лежавший в земле, пробитый, с оборванными прядями, торчащими проволочками, весь в пятнах ржавчины. Я торопливо начал подводить канат под бревно, в это время Хонин с силой потянул его на себя, и руку мне обожгла резкая боль — проволочки, словно иголки, вонзились в ладонь. — Быстрее, быстрее, Валера. Что ты возишься? — Да вот… руку… — Я никогда раньше не жаловался, но сейчас боль была нестерпимой. Я обвязал бревно и, затягивая канат, снова почувствовал, как обожгло теперь уже левую руку. Пока Аня переносила бревно к штабелю, я спрыгнул с машины и побежал за другим чалочным канатом. Когда мы сгрузили и уложили в штабель бревна, я осмотрел свои грязные окровавленные руки. Аня сверху увидела, что со мной что-то неладно. — Руку, что ли, поранил? — спросила она, высунувшись из кабины. — Давай сюда скорее! У меня аптечка. Я поднялся на кран. Аня осмотрела мои руки и ахнула: — Как это тебя угораздило? В чем дело? — Не знаю, чалочный канат подвернулся пробитый, старый какой-то. — Откуда же он мог подвернуться? — Черт его знает… — И без рукавиц работал? — Куда-то задевались. Некогда было искать. Она подала мне мыло и, поливая воду из пластмассовой фляжки, внимательно осматривала руки. Смазала ранки йодом и перевязала стерильным бинтом. — Как же ты теперь слезешь? — Зачем же слезать? Мне и тут хорошо. — Ты как ребенок. Ну, совсем еще маленький. И впервые в голосе Ани я услышал что-то для меня совсем незнакомое. И это «маленький», и это «ребенок» относились вовсе не к моему возрасту. Аня как будто разговаривала не со мною, а сама с собой: — Надо было поискать рукавицы. Убежали бы. от вас эти бревна? — Хонин торопил. Машина простаивала. — Машина-то ясно. — Она возмущенно повела плечом. — Исколол все руки ржавой проволокой. Надо в больницу — укол сделают от столбняка. — Да ну его, пройдет и так. — А я говорю — надо. Все равно ты сейчас ничего делать не сможешь. — Вот и посижу здесь. Посмотри, что это там в лесу? — Церковь. Ее редко видно и только после дождя. Церковь была маленькая, а может, так казалось издали, белая — особенно белая среди темного сплошного леса. — Сходим туда? Аня, смотревшая вниз на строительную площадку, медленно повернулась ко мне: — Куда? — К церкви. Сходим, пока она такая? Аня продолжала молча в упор смотреть на меня. Потом спросила: — Какая? — Белая. Она смотрела мне в глаза, и от этого все качалось. Я ждал от нее резких слов, насмешки, чего угодно. — Когда? Я не сразу понял смысл ее вопроса. — Что когда? — К церкви с тобой… когда? — Сразу после смены. — Свяжись с ребенком, сама превратишься в ребенка. — Аня отогнала кран назад и, захватив бадью с бетоном, отправила ее бетонщикам. — Ну, так мы пойдем? — Конечно, пойдем. Только не сегодня, а завтра, в субботу. А сегодня сделаешь укол от столбняка, понятно?
Дорога к церкви от автобусной остановки шла сначала среди кустов тальника. Тонкие весенние веточки были как синие струйки. Теплая, тихая зеленела кругом трава. Мы с Аней никого не встретили за все время нашего пути. Кое-где стояли темные елки, над ними высились столетние сосны. Тут же группами росли березы с молодой листвой и редкие дубы. Потом пошел плотный, мощный, разогретый солнцем лес. Пахла сосновой смолой. Тихими волнами шумела в ясной высоте хвоя. Неожиданно открылся просвет, и мы не сразу поняли, что именно сюда шли. На открытом откосе стояла старая деревянная часовня. Высокая трава росла у ее стен. Здесь гулко гудели шмели над лесными цветами. На старых бревнах грелись осы. Часовня стояла одна среди огромных древних елей. Солнце чуть-чуть пробивалось через хвою, и на крыше часовенки красноватым огнем вспыхивал зеленый лишайник. Тусклая от времени, с тремя маленькими главками на тоненьких шейках, она казалась порождением природы, леса, а не человеческих рук. И кому придумалось ее рубить здесь? Я вспомнил слышанные рассказы о здешних плотниках, что в старину ходили в отход. И на пути рубили часовни, видно, затем лишь, чтобы оставить по себе память, потешить редкого путника. Так и появлялись они, деревянные часовенки, в лесах, на полянах, на косогорах, у дорог… Какие-то плотники поставили и эту часовенку. Поставили и ушли. И, видно, долго оглядывались, пока она вовсе не скрылась из виду. И где-нибудь в дальних краях виделась она им и звала назад. Дверь часовни была забита гвоздями. — Почему же она казалась белой? — спросила Аня. — Ведь она черная. — Вовсе она не черная. Посмотри, как блестят бревна… Это от старости. И не черные они — серые. А как намокнут и упадет на них солнце, часовня видна издалека и кажется среди темного мокрого леса светлой, почти белой. — Удивительно… И кажется издали церковью. А сама совсем маленькая… Воображает себя взрослой, а у самой детские губы… Я смотрел на нее, и мне было не по себе… Откуда это у меня? Откуда совсем новое чувство, что я взрослый и сильный? Почему уже не думаю о часовне? В голове шум, и медленно плывет неведомый сладкий туман. Мы на коленях долго пили из родника холодную воду. А часовня на лесном склоне светло возвышалась над нами. — И правда, она белая… — На подбородке Ани блестели капли лесной воды. Перед закатом солнца мы пошли назад. И вечер, и тишина, и ощущение жаркой усталости — все казалось внезапно налетевшим счастьем. Удивительно, как немного надо для счастья! А может быть, это вовсе не немного. Аня непонятно посматривала на меня, на мои неуклюже забинтованные руки. — Послушай, — спросила она, — ты так и не сказал, откуда взялся старый чалочный канат? По-моему, ничего подобного у вас не было. — Не знаю… Да я уже выбросил его. — И все же, откуда он взялся? — Какая-то тревожная тень не сходила с лица Ани. — Ну мало ли откуда. Валялся, видно. А Хонин впопыхах схватил. — А рукавицы? — За досками лежали. Я их потом нашел. Аня остановилась: — А где ты их оставил? На фундаментном блоке. А что? — Как же они попали на другое место? — Ладно тебе. Нашлись же… — Я не о том… Уже в густеющих сумерках мы вышли к шоссе и сели на автобус.
7
Спустя несколько дней у меня распухли руки. Ольга заставила пойти в больницу. Как я и ожидал, назначили уколы. Что может быть тоскливее больничных очередей? Впервые за минувшие полтора месяца я был свободен и, как когда-то, предоставлен самому себе. Снова подъезд. Ребята лениво расспрашивали меня о стройке. Я видел — им неинтересно, скучно. Работу мою они находили фиговой. Играли в перышки, слушали магнитофон, обсуждали, куда пойти, где выпить. Шурик был тут же. Он уже ушел с авторемонтного. — Галка про тебя спрашивала. Куда, говорит, пропал? А я говорю — на стройке крючником, крючки за бадьи зацепляет. — Стропальщиком. Шурик вроде и не заметил, что я его поправил. — Ничего, говорит, должность… Моему, говорит, брату крюком на стройке по голове досталось — пять лет лечился. — У нас каски. — Ну, по горбу получишь. Руки вон уже закуклили. Может, еще ампутируют. И будешь петь по трамваям. Шурик смеется тихо, смех как будто душит его, словно кашель. — Не ампутируют. — Галка про тебя спрашивала. — Ты уже говорил. — Смотри, какой! А то пойдем, она на днях шикарный диск достала. Подергаемся. — Не пойду. Впервые я ходил по всей стройке, как прораб, осмотрел завод и поразился, сколько сделано ребятами и девчатами. Задрав голову, смотрел, как плотники обшивали шифером на тридцатиметровой высоте элеватор, потом спустился в подвальное помещение — там девчата-плиточницы заканчивали облицовку новых душевых. — Ты в бригаду к нам, девочка? — спросили у меня девчата. — Давай, мы живо всему научим! Они дружно захохотали. — Ладно вам… — Я почувствовал, что краснею, и это еще более раззадорило их. — Симпатичная девочка, правда? — Ну, хватит вам… — И пошутить нельзя? А что у тебя с руками, Валерик?.. Потом я пошел к производственному корпусу. Там работала бригада каменщиков дяди Митяя. Мы подаем каменщикам поддоны с кирпичом и раствор, работаем по существу вместе, поэтому всех в его бригаде я хорошо знаю. — Как руки? — встретили меня. — Надо же! Заражение с такого пустяка схлопотал. И они стали припоминать случаи, когда кто-то и где-то… От стекол кабины башенного крана падали слепящие отблески, и я, сколько ни переходил с места на место, никак не мог разглядеть Аню. Меня увидел Спиридонов, подошел, усадил рядом с собой на доски. — Вот, Валерка, что значит не судьба! Работали мы с тобой вместе, кран обслуживали. А теперь я учусь расстилать раствор и укладывать кирпич в забутовку, как моя напарница. Она-то ладно, у ней вся жизнь впереди, а я… Он сморщился, чуть не плача, вяло махнул рукой. И вдруг так схватил меня за бинты, что я чуть не вскрикнул от боли, и на ухо: — Завязал я, Валерка, завязал. Утром зять достает это… Ее. Неполная, правда, бутылка, вот сколько в ей… Давай, говорит, по одной. А я спрашиваю: ты мне зять? Зять, говорит. А я ему: не зять ты, а последняя сволочь, потому как непьющий я теперь человек! На щеке Спиридонова заблестела слеза. Я отодвинулся от него, потому что он снова потянулся к моей забинтованной руке. Дядя Митяй обернулся с усмешкой: — Непьющий, говоришь… А вчера? Иди-ка помоги Иринке подмости очистить. Когда Спиридонов отошел, бригадир с неприязнью посмотрел ему вслед и вдруг спросил: — Может, пойдешь в каменщики? Я подучу. Вопрос застиг меня врасплох. — Давно к тебе присматриваюсь, — продолжал бригадир. — Молодых в моей бригаде мало, некоторые старики уходить метят. Заработки у нас приличные. Работы много. Специальность приобретешь хорошую. Хоть куда с ней. Видно, дяде Митяю нравилось, что, когда нам с Хониным выдавались свободные часы, я не сидел без дела, а помогал каменщикам, подавал раствор, учился вести кладку. — И потом, ты этим самым не балуешься, — дядя Митяй терпеть не мог пьяниц. — Ну, так как? — снова спросил он. — Пойдешь в мою бригаду? Я молчал: с выбором не хотелось торопиться. Он, видно, понял меня, похлопал по плечу. — Ну ладно, подумай…Аня встретила меня хмуро. Спросила лишь, как руки, и больше ни слова. Я целый час ждал, когда она спустится вниз. И вот — ее не узнать: два слова, не глядя на меня. С тяжелым чувством отправился я домой. Уходя, заметил, что Хонин глядит на меня с какой-то непонятной улыбочкой. — Выздоравливай скорее! — крикнул он. — Без тебя барабаны на кране скрипят.
«Отбюллетенив», я пришел прямо к Синявскому: — Пусть меня переведут на другую работу. Скажи Олегу Ивановичу или Водяному, ладно? Валя отложил деревянный молоток. — А в чем дело? Где-то близко гремели вибраторы. Разговаривать было трудно. — Ни в чем. Если не сделаешь, уйду совсем со стройки. — Да ты что! Я же не сказал, что не сделаю. Но знать-то я должен. Ведь у тебя вроде все было хорошо. И наставник вроде опытный… Никто не жаловался. — И я не жалуюсь. Валя в сердцах столкнул за верстак лист оцинкованной жести. — Куда же тебя? — Все равно. — Ладно, поговорю с Водяным. Только вот что… Я заметил, ты интересуешься всей стройкой. Работаешь недавно, а все тебя знают. И ты всех. И много хорошего я о тебе слышал… — От Хонина? — Н-нет… — Он как-то неловко замялся. — Ну и что, если интересуюсь? — Хочу поручить тебе «Комсомольский прожектор», вот что.
8
Я попал в бригаду плотников к Петрову. Бригада была на первый взгляд неприметная. Работают плотники то тут, то там: копают землю, укладывают бетон, делают опалубку или ставят дверные коробки, стеклят окна или настилают полы. На всю стройку светлым чистым голосом поет их циркулярка, напоминая мне школьный звонок. Бригадир сразу поставил меня на пилу в паре с рыжим парнем. Был он силен, тяжелые доски поднимал с такой легкостью, словно они ничего не весили. Руку мне пожал так, что я присел, и неожиданно высоким тенорком сообщил: — Толя. Вначале мы с ним перетаскивали сваленные в ста метрах от циркулярки доски. Толе эта работа была нипочем. Доски он без заметного усилия взваливал на плечо и тащил к пиле. А я, перетащив первую доску, спросил: — Ближе не могли подвезти? — Шофер не захотел. Дорога сюда, видишь, неважная. — А на себе таскать хорошо? Ты не мог шофера заставить? Толя, тащивший в это время толстую шестиметровую доску, остановился и медленно, вместе с доской, повернулся ко мне: — Как?! — Ну… — Вообще-то я не подумал… А дорога? Дорога действительно — бугры, ямы, выбоины, развороченная колея. Я заметил, что неподалеку Беленький остановил свой бульдозер и выбрался из кабины покурить. После инцидента в пристанционном буфете он меня всегда издали весело приветствовал. — 3-з-закуришь? — спросил он, доставая из кепки пачку папирос. — Спасибо. Не курю. — В-в-вот это п-п-похвально! — Дядя Миша, не проутюжишь нам дорогу к циркулярке? Экскаватором все перерыли да так и бросили. Ни проехать, ни пройти. Машины лес сваливают черт знает где, а мы таскаем. — Это мы м-м-мигом, — улыбнулся Беленький и, докурив папиросу, прыгнул в кабину. Засыпав ямы, согнав развороченный грунт, Беленький развернул свою видавшую виды машину и, пятясь, пригладил напоследок ножом дорогу. Работа была не просто хорошая, а красивая. С восхищением следили плотники за работой бульдозериста. — Ну, ты даешь, Валерка! — заметил Толя. — А ведь мы полмесяца мучились…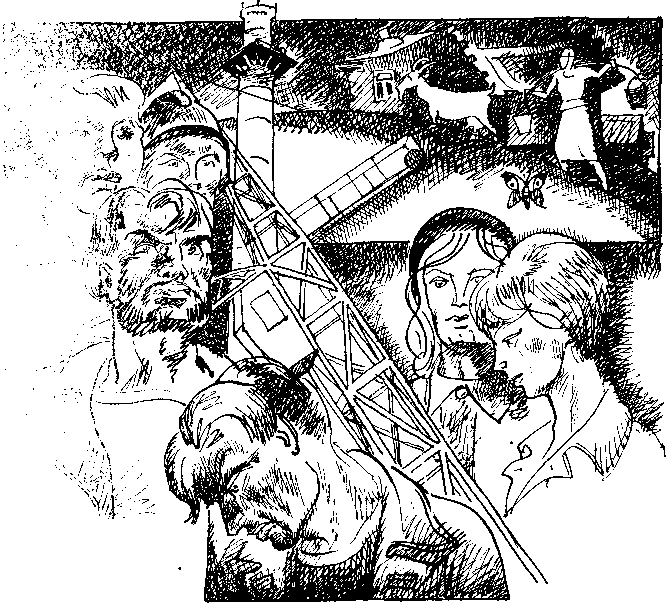
Несколько дней я работал на пиле. С летучим звоном сверкающий диск входил в дерево, веером летели опилки. Пахло свежей древесиной. Мне нравилась эта работа — она не отвлекала меня от мыслей об Ане. Я ничуть не обижался на нее. Наверно, пригляделась ко мне и нашла что-то такое… И со мной случалось — вначале нравится человек, а поближе узнаешь, и он уже не нравится… Но дорога, по которой мы шли c Аней горячим лесом, запах цветов и легкие тени на траве, тишина — все это вызывало незнакомое чувство радости и одновременно острой боли. Такого еще не бывало со мной. То припоминалось мне, как Аня медленно гладит ярко-зеленый лишайник, словно пушистого котенка, то вновь я видел, как она улыбается своему зыбкому отражению в лесном роднике, как прикладывает щеку к теплым бревнам часовни… и непонятно смотрит на меня. — Не о том думаешь! Надо думать о пиле. Гляди, так вжикнет — без руки останешься, — сказал вдруг Толя. Через несколько дней бригадир послал меня бетонировать стыки со старым плотником Заплеткиным. Маленький, нескладный, какой-то корявый весь, Заплеткин был плотник из местных. Работая топором и ножовкой, он рассказывал, как отец учил его плотницкому ремеслу. Мне казалось, что, речь шла о давних-предавних временах и старом забытом ремесле. Заплеткин и впрямь давным-давно пришел в город из глуши и с тех пор работал на разных стройках, но речь его по сей день отдавала лесом. — Вишь, работа ювелирная, — говорил он о бетонировании стыков. — Однако куды от ее денесся? — Он разводил в стороны руки и подытоживал: — Никуды. Весь металл должон быть упрятан в бетон. Понял? Сперва ты должон чего? Сперва ты должон поглядеть. Так и так, со всех сторон. Тут догад нужен. — Что? — Догад. Ну, подгадать надо так, чтоб в аккурат. Главное — молочко из бетона чтоб не ушло в щели. Заплеткин уже много лет делает опалубку под стыки, и работа у него действительно «ювелирная». Он кропотливо подгоняет клинышки, прямо-таки притирает дощечки друг к дружке — и все это обычно на значительной высоте, в неудобной позе, скособочась, перегнувшись. Мастерство и терпение старого плотника меня поразили. Едва сварщики заканчивали свою работу, Заплеткин осматривал сварку. Иногда кивал довольно, иногда ворчал неодобрительно — он отлично разбирался в качестве сварки — и начинал прилаживать «опалубочку». Раньше я как-то даже и не замечал этого человека, так он был небросок, а ведь выполнял он ответственнейшую работу. Иногда, когда дел прибавлялось, бригадир посылал к нему двух-трех опытных плотников, но за все «узкие заделки», как в бригаде называлось бетонирование стыков, отвечал Заплеткин. Я подавал ему инструмент, придерживал нескрепленные детали опалубки, иногда подстраховывал его. И снова меня перебрасывали с одной работы на другую: то с кем-нибудь из плотников я сколачивал переходы, то помогал устраивать защитные навесы, то опиливал рейки для полов. Однажды я угадал стеклить окна одного из заводских корпусов вместе с самим бригадиром. Петров резал стекло, а мне велел сажать на краску штапики — тоненькие трехгранные рейки. Они должны плотно прижимать стекло. Прибьешь их гвоздиками, и не надо никакой замазки. Удобно, быстро. Работа как будто простая, но молотком можно ударить по стеклу. Я аккуратно прикладывал и осторожно прибивал штапики, а Петров резал стекло и наблюдал за мной. — Ничего у тебя рука, чуткая, — одобрил он. Раз все же я промазал, когда прибивал штапик, стекло со звоном разлетелось в куски. — Я ожидал, что Петров отругает меня за невнимательность, а он только ухмыльнулся и сказал: — Это бывает. Рука, утомясь, теряет точность, глаз косит… Порежь-ка стекло, а я поприбиваю. Взяв стеклорез, я некоторое время со страхом глядел на хрупкую полосу стекла. Неуверенно положил на нее линейку, осторожно новел стеклорезом. Линия получилась слабой. Начал было подколачивать стекло снизу рукояткой стеклореза вдоль своей слабой царапины и расколол. — Так мы с тобой стекла не напасемся, — даже не обернувшись, заметил Петров. — Когда ведешь стеклорез, осторожность не нужна. Нужна сила и твердость… Нет, сверх меры жать тоже не следует, однако… Никогда я не думал, что столь хрупкая вещь, как стекло, требует такого жесткого обращения. Оказалось, резать стекло куда тяжелей, нежели разбивать ломом бетон. Сначала как будто ничего, а потом от напряжения начинает неметь шея, не слушаются руки. Раскроив несколько полос, я вытер заливавший глаза пот. — Ну и ладно, — сказал Петров. — Теперь я. А ты прибивай рейки. Больше по стеклу я не ударял. Через несколько дней, когда мы застеклили все три этажа, Петров взял меня с собой устанавливать дверные переплеты в бытовках. Мы долго ходили по нижнему этажу. Петров осматривал все, что сделано по плотницкой части. Вошли в одну из душевых. Петров любовно провел ладонью по облицованной кафелем стене. — Ладно подогнано, — сказал он и добавил: — А между прочим, нелегкое это дело. Девчата наплакались с облицовкой, пока пошло. Он крутил неокрашенные еще вентиля, становился под душевой рожок, подмигивал мне весело, мол, то-то хорошо будет тут помыться. Я на это сказал: — Нас-то тут и не будет, как душ заработает. — Это верно, — согласился Петров. — Мы опять где-нибудь начнем с земли, с нулевого цикла. Такая уж у нас работа….
Когда я сказал дома, что подумываю, не стать ли плотником, у Оля в глазах мелькнул испуг: — Ты? Плотником? — А что? Я хотел объяснить, почему выбрал именно эту профессию, но, к своему удивлению, не смог. Оля поняла это как неуверенность. — Я была на стройке, — сказала она, — но не видела там никаких плотников. — Ну, как же! — возразил я. — Везде они… — Да нет, я вообще-то не о том… Понимаешь, ведь столько современных профессий… Ты хотел стать монтажником… — Хотел. — В чем же дело? В наше время топором работать… — Она неуверенно пожала плечами. Мама молчала, лишь внимательно смотрела на меня. И тут я сказал Ольге о том, что заставило меня сделать выбор. — Топором? Да я почти и не держал в руках топор. Был на пиле, потом стыки бетонировал с Заплеткиным, окна стеклили с бригадиром. Разная работа… На верхах и на нуле… — На нуле? — Ну да. На фундаментах. Плотников Петрова иногда даже называют бригадой нулевого цикла. — Валерик, я просто ничего не понимаю в вашей работе. Выбирай сам. Только знаешь, откровенно сказать, мне бы хотелось, чтобы работа у тебя была не такой грязной. Я понимаю, стройка… Иначе и невозможно. И все-таки… Мама вдруг встала и ушла. Мы замолчали. И — услышали ее всхлипывания. Перепуганные, бросились в кухню. Мама подняла голову, и мы увидели, что она улыбается. Это было так неожиданно, так странно, что мы застыли, глядя на нее. — Я боялась, когда ты начал, — тихо сказала она. — Чего боялась? — Всего помаленьку. Когда ты после первой зарплаты пьяный домой пришел, я подумала, это — начало. Начало беды… Шурик вон так никуда ведь и не прибился. Поработает две недели и опять — по подъездам. А теперь я вижу… Вижу… — И ее глаза снова наполнились слезами. — Э, да разве вы поймете!.. — Она слабо махнула рукой. Меня уже не тянуло к ребятам, да и я был им теперь безразличен. Мы разговаривали вроде так же, как прежде, ведь времени прошло не так уж много, а я оказался где-то в стороне. Нет, я не чувствовал себя отторгнутым, выброшенным из близкой мне среды. Скорее, что наши пацаны вызывали у меня сочувствие. Впрочем, наверно, и они так же сочувствовали мне.

В тот вечер я встретил в подъезде Галку. Высокая, красивая, с сумкой на длинном ремне, она показалась мне какой-то незнакомой, словно мы и не сидели с ней за одной партой. — Валерик… — Она остановилась. — Сто лет тебя не видела. Как дела? — Да так… — Я чувствовал себя неловко с ней. — Работаю. На стройке. — Мне мальчишки говорили… И как? Нравится? — Да ничего. Привыкаю. — Почему не заходишь? — Она смотрела мне прямо в глаза, и я понимал, этот вопрос задан не просто так. — А ты выросла… — Это каблуки. — Она рассмеялась. — Нынче в техникум будешь поступать? — Нынче нет. И вообще… — Что — вообще? — Нет, ничего. Мама нездорова… Понимаешь? Она сразу посерьезнела и чуть тронула меня за руку: — Заходи… Раньше все время бегали друг к другу. А теперь ко мне приходят только те, кого я не хочу видеть. Почему все так меняется? — Как? — Быстро… Приходят, мешают. А я готовлюсь к экзаменам… — Шурик, что ли? — Шурик. Да и все остальные какие-то надоедливые. Все одно и то же, одно и то же… Мальчишки просто не знают, чем заняться… После встречи с Галкой я долго ходил по вечернему городу. Новым, непривычным было это отрадное ощущение, когда можно обо всем подумать, что-то решить для себя, когда никто не бубнит над ухом и не бренчит на гитаре. И темные громады лип напоминали мне лес, а подвижные тени ветвей под ногами — лесную дорогу к часовне…
У самой земли натянуты как струны сверкающие нити стальной проволоки. Везде развороченная земля, траншеи, трубы, кирпич, металл, железобетон. Все перемещается, все в движении. Лишь эти сверкающие нити стальной проволоки неприкосновенны: их далеко объезжают, осторожно переступают. Это — оси. Это как бы застывшие в воздухе зримые линии проекта. Мы всей бригадой с утра устанавливаем опалубку по осям. Массивная деревянная коробка уже готова, доски надежно скреплены. У Петрова выгоревшая куртка почернела на плечах от пота: коробка то осядет, то сместится в сторону. — Что ни опалубка — вечно морока! — В голосе у бригадира улавливаю раздражение. — А чуть что не так — беда: как зальют сюда кубов полста бетона, тогда уж не подвинешь. — Ну, как? — спрашивают снизу плотники. — Самую чепуху осталось… Я уже со злостью смотрел на острие отвеса, застывшего над забитым в доску гвоздем. — Ну-ка, подай на меня еще маленько, — говорит Петров. Мы разом наваливаемся на занозистый бок коробки. Чувствую, как в плечо впивается острый край доски, но жму что есть силы. Опалубка поддается. И тотчас сверху голос Петрова: — Э, лишку, сдай назад… Еще немного… Уже начался обед, а мы все возились с опалубкой. — Ладно тебе, Акимыч, — устало говорит один из плотников. — Как окончательно закреплять будем, проверишь. Идем обедать. Но Петров точным ударом обуха сам чуть сместил опалубку. Мы даже не ощутили ее движения, но острие отвеса оказалось точно под гвоздем. — Теперь порядок. Точно в двенадцать все плотники пришли к циркулярке. В буфет обедать никто из них не ходил. Сидели на досках. Не то чтобы тесно, но и не порознь. Кто молча облупливал яичко, кто открывал бутылку с кефиром. Выложил и я свой сверток, развернул, подвинул плотникам. Петров увидел, что у меня в банке соленые грибы, оживился: — Своего посола? — Своего. — Я подвинул банку. Он отсыпал из банки на свою широкую ладонь немного грибов и кинул в рот. — Хороши. Черный груздь. Сам брал? — С сестрой. Он расспросил меня о сестре, о маме. Чуть улыбнулся чему-то, но чему — не сказал, и опять перешел на грибы: — У нас вот свинушки хороши на жарку и на посол. А в иных местах грибы эти не берут, видно, не та земля… Пообедав, мы напились ключевой воды. Олег Иванович добыл где-то старую бочку из-под кваса, ее починили, и каждое утро, подцепив к «Беларуси», привозили ключевую воду. Это была необыкновенная вода. Помню, первый раз я выпил сразу четыре стакана. Потом сам ездил за водой, сначала — чтобы посмотреть. Это оказался обыкновенный ручеек, вытекающий из травы. Но вокруг него теснилось много пчел, шмелей и ос, каких-то светлых паучков, красных стрекоз и мошек. В ложбине я осторожно зачерпывал воду небольшим ведром, стараясь не взмутить. Когда мы возвращались с водой, возле прорабской уже стоял Олег Иванович с графином… После обеда плотники разошлись отдохнуть, а я подошел к Петрову: — Василий Акимович, возьмите меня в свою бригаду. Бригадир достал из кармана мятую пачку папирос, не торопясь закурил. — Надумал быть плотником? А топор в руках держал? — Держать-то держал. — Видел я сегодня, как ты им орудовал. В охотку-то вроде ничего, а за день тяжелым он тебе покажется. Да и не все у нас по плотницкой — есть и земля, и бетон… — Он вдруг прищурился и наклонил голову набок. — А все же — почему в нашу бригаду? — Ваша нравится. И вдруг он ударил ладонью по доске, на которой мы сидели. — Как нравится?! На стройке мы вроде затычки. Где чего трещит — в прореху сразу нас. Вот и затыкаем дыры. И работа плотницкая тяжелая. Иди-ка ты в монтажники. У них и механизация, и заработки повыше наших. — Я к вам хочу. — Однако ты упрямый. Ладно, давай так договоримся — мы еще на тебя поглядим, а ты — на нас. Со стороны прорабской, торопясь и по-медвежьи переваливаясь, шел Толя. Издали видно было, как он плотен и крепок: массивные плечи, короткая борцовская шея. Подошел к Петрову: — Василий Акимович, Олег Иванович всю бригаду зовет. Когда мы вошли в прорабскую, там уже было полно народу. Многие курили. И как всегда, у входа на корточках сидел бульдозерист Беленький. Он подмигнул мне из-под низко надвинутой на глаза кепки. Шло собрание партгруппы с участием комсомольцев. За столом сидел секретарь партбюро управления Артюхин. — Сейчас, — заговорил Олег Иванович, — нас интересует только один вопрос — темпы работ. — Плохо, что ль, работаем?! — хмуро спросил бригадир каменщиков дядя Митяй. — Нет, не плохо. Не о том речь. Мало внедряем нового. — Почему мало? А свайные фундаменты? Разве они не дают выигрыш времени? — Дают, но это уже дело прошлое. — А панели вместо каменной кладки? — Это — где возможно, Нам надо не только войти в график, но и иметь резерв на осень, когда погодные условия.». — Резе-ерв… — протянул дядя Митяй. — Пусть кирпич в пакетах возят да раствор без щебня! Секретарь партбюро Артюхин встал из-за стола: — Погоди. С кирпичом наладится. Положение дел на кирпичном заводе разбиралось на днях на бюро обкома. А мы собрались, между прочим, не для того, чтобы спорить о пакетах. — Ладно уж… — Дядя Митяй обиженно засопел и сел на лавку. — Вот и ладно. Послушай лучше, что Олег Иванович про насосную доложит. Олег Иванович взял лежавшую у доски брезентовую рукавицу, плеснул на нее воды из графина и вытер доску. Попробовал на столе мел и откашлялся. — По проекту насосную станцию предусмотрено строить методом опускания. — Он провел мелом по доске. Жирная горизонтальная черта, как по линейке. — Над уровнем земли делаем опалубку, варим арматуру, заливаем бетоном и… — Он показал пунктиром, как бетонное кольце опускается вниз. — Метод хорош, если грунт насыщен водой. — У нас не насыщен, — простодушно буркнул кто-то из угла. — Вот-вот, у нас не насыщен, — подхватил прораб. — Значит, чтобы бетонное кольцо опустилось, надо гнать воду насосами, разжижать землю, а потом выбирать пульпу. — Чем? — Тот же голос из угла. Все обернулись. Реплики подавал старый бетонщик Тихомиров, обычно не встревавший ни в какие споры. Но тут его, видать, что-то задело за живое. — В войну еще, помню, — продолжал он, — такие штуки делали… Вручную выбирали эту самую пульпу, растуды ее… Мы думали, вопрос поставил прораба в тупик, но он, напротив, заметно повеселел. — Насосов у нас нет, — сказал он. — Придется пульпу выбирать вручную и поднимать краном. По прорабской прошло веселое сдержанное оживление. Что такое выбирать пульпу, знал не только Тихомиров. — А у тебя есть другой вариант, Олег Иванович? — спросил Петров. — Если есть, выкладывай, не темни. — Есть. Копать котлован под насосную экскаватором… — Все притихли, В наступившей тишине Олег Иванович продолжал: —…и затем вести все работы прямо в котловане — опалубку, армирование, бетонирование. Работать будем в две смены методом бригадного подряда. Поручить это дело думаем бригаде коммуниста Петрова. «Значит, Петрову. Нашей бригаде… Мы — на решающем участке стройки». Я, вытянув шею, посмотрел на бригадира. Петров принял все сказанное внешне невозмутимо. Помолчал, подумал, потом спросил: — А расчеты, калькуляция? — Расчеты уже делают. Документация в отделе труда и зарплаты. — Ну что ж, можно попробовать… — Петров оглядел собравшихся, — Там будет, поди, только бетона полтысячи кубов? — Около того, — улыбнулся прораб. — Вот это и есть наш резерв. — Резерв солидный, — сказал секретарь партбюро. — Это тебе, Василий Акимович, и партийное поручение. Мы на партбюро думали, кому эту работу дать. Решили — тебе. Добавь в бригаду комсомольцев, сам посмотри, кого. Работа, конечно, трудная — земля, опалубка, бетон… Но применительно к нашим условиям — как раз то, что надо. Это даст выигрыш и во времени, и в деньгах. — Все это хорошо на бумаге, — проворчал Толя. — А как зарядят дожди, придется по уши в грязи работать. Сказал он это вроде сам себе, но Петров его услышал, встал: — Тогда будем по уши в грязи… На время этих работ прошу дать мне вот каких комсомольцев… Я замер. Назовет ли меня? Вряд ли… Топор в руках почти не держал — и вдруг на котлован, самую горячую точку стройки… Петров, загибая пальцы, назвал пятерых комсомольцев и в их числе меня. — А этого, — он показал на Толю, — не надо, хоть он и мой. И впрямь еще дожди зарядят. Пусть остается на пиле. — Желающие высказаться есть? — спросил Олег Иванович. — Есть! — злым тенорком откликнулся Толя и тяжело встал: — Это я к слову сказал, Василий Акимович, что «по уши в грязи». А вы сразу: «Этого на надо!» Да я… — А и верно, — неожиданно поддержал его кто-то. — Что верно-то? — Петров, привстав, пытался разглядеть, кто подал голос. — Да не вытягивай шею, Акимыч: я это, Утюгов. Вишь, какая история: задело, видно, парня за живое… — Сказано. Что зря тянуть разговор, — отрезал Петров. — Останется на пиле: И точка!
В тот же день мы провели короткое собрание у себя в бригаде. Петров оглядел нас и сказал: — Вот что, ребята, пока механизаторы будут рыть котлован, нам предстоит работа. Большая. Но заработка большого не будет. Надо закончить все узкие заделки, чтобы потом мне меньше приходилось отвлекать людей от насосной. Понятно? Толя между тем подсел ко мне и легонько ткнул меня в бок: — Валерка, скажи ты ему… Мы ведь с тобой в любую погоду таскали доски по грязи. — А зачем про грязь вякнул? — Да я всегда как-то вперед скажу, а потом обдумаю. Понимаешь, характер у меня такой. — Характер… — Я знал, что с Петровым трудно договориться. И вдруг меня осенило: — Идем к Синявскому. И «молнию» надо готовить про котлован… Ты в школе как, не в отличниках ходил? — Нет. — В ударниках? — А не пошел бы ты… — Давай к нам, в редколлегию. — Морду, что ли, кому бить надо? — И это. Но не в прямом, конечно, смысле…
Пока механизаторы рыли котлован под насосную станцию, мы готовили щиты для опалубки, кружала, поддоны, бетонировали стыки. Работают плотники вроде не спеша. Я внимательно приглядываюсь к Петрову. На обветренном лице его поблескивает седая борода. Отпусти он ее — была бы лопата! Когда он сдержанно улыбается, борода вспыхивает на солнце, такая она густая и плотная. Покатые плечи его и медвежья сутулость говорят о силе. Петров мне не кажется стариком, хотя ему далеко за пятьдесят. Он учит меня тонкостям плотницкого мастерства. Учит ненавязчиво, как бы между прочим, за работой. — Пошли-ка поглядим столярку на административном корпусе. На первый взгляд все было в порядке: застеклены окна, установлены двери, врезаны замки. Но Петров сразу стал тихо про себя поругиваться: — Дверные переплеты опять из сырого дерева… Он попутно показал мне, куда надо загонять клинья, чтобы не повело дверной переплет. — И вот погляди, — сказал он, — все двери. какие ставим, открыты настежь. А после дерево усохнет — не закроешь. Комиссия придет — дерг-дерг, — и снова плотники за работу, Вообще-то напиши-ка об этом в «Прожекторе», может, будет толк. …На днях Петров дал мне топор — тяжелый, аляповатый, с неухватистым топорищем и велел обтесать бревно. Работа вроде ничего особенного. И я ретиво взялся за дело. Однако хватило меня на полчаса. Когда подошел Петров, топор меня уже не слушался: то круто вонзался в бревно, то, коротко звякнув, оскальзывался. — Ты, случаем, не левша? — спросил он и вдруг строго прикрикнул: — Как стоишь?! Топор-то сорвется да по ноге и угодит! — Плохой топор, — виновато сказал я. — Это бывает, — согласился бригадир. — Дайка погляжу. Он взял топор, повертел его в руках, словно перышко. Казалось, топор сразу утратил вес, едва Петров коснулся его. Потом пошатал бревно, которое я обтесывал. — Закрепил плохо, — сказал он. — Упора нет, а бревнышко-то невелико, вот и елозит у тебя под топором, ползет в сторону. Да-а, теперь такая работа уже редка. — Он основательно закрепил бревно. — Теперь больше бетон, стеклоблоки, готовая столярка… Легкими точными ударами Петров начал тесать бревно. И, по-моему, в эти минуты он забыл обо мне, забыл, что он бригадир, забыл обо всем на свете. Единственное помнил — что он плотник, с малых лет привыкший тесать, ставить срубы, подгонять венцы, экономно и точно поднимать и опускать топор. Петров тесал и тесал бревно, щурился от удовольствия, чуть раздувал ноздри, принюхивался к запаху горячей сосновой смолы. Потом неуловимым движением кинул топор, и тот вонзился точно в центр бревна. — Вот так, — сказал он. — Главное — стой правильно. Понял? Ну, давай. — Он ухмыльнулся чему-то своему и ушел. Я снова принялся за бревно. Интересно, замечает ли меня Аня? Ее кран мне виден отовсюду. Вот она остановила свою огромную машину; я вижу, как вниз опускается крюк, и, спустя минуту-другую, в воздухе среди бело-синих летних облаков покачивается стеновая панель. Аня плавно разворачивает стрелу и сигналит. Монтажники уже наготове. Панель плывет над стройкой и вот мягко касается колонн — монтажники принимают ее, и ярко вспыхивают огни электросварки. Ко мне подошел Хонин. Некоторое время молча наблюдал, как я обтесываю бревно, потом заговорил: — К Петрову, значит, пошел… Ну и дурак. Я оставил бревно и посмотрел на Хонина. — Что глядишь? Не узнал? — Хонин улыбнулся. У него жесткий рот. Голос высокий, резкий и одновременно тусклый. Лицо его не запоминалось. Черты крупные, резкие, а как будто собраны у разных людей. — Зачем, говорю, в бригаду к Петрову пошел? У прораба есть должность уборщицы — вакантное место. Иди…

— Уборщицы? — Ну! Вроде и работа, а делать нечего. Я не мог понять, почему Хонин подошел ко мне. И вроде ведь добра желает. Да добро его какое-то… — Отчего же сам не пойдешь в уборщицы? — спросил я. — Зачем? — Он смотрел на меня необычайно пристально. — Мне и там, где я есть, неплохо. А надо будет — пойду. Это ты ранний чистоплюй. Он наклонился, раздавил окурок на светло-желтой с капельками смолы древесине сосны, как раз там, где недавно прошелся топор Василия Акимовича, и заторопился обратно к башенному крану. Я некоторое время глядел на этот окурок, потом, размахнувшись, вырубил его так, что он вместе со щепой отлетел далеко в сторону.
9
Котлован напоминал широкий колодец. На пятнадцатиметровой глубине от земли тянуло холодом, воздух был влажен и тяжел, а синева неба над головой казалась гуще, из нее исчезла привычная прозрачная дымка. Нам предстояло выстроить со дна до самого верха двойную опалубку и заполнить ее бетоном. Сварщики варили арматуру. А мы поднимались все выше и выше, приколачивая к стойкам доску за доской. Постепенно котлован начинал походить на арену для мотогонок по вертикальной стене. Сверху, у ограждения, время от времени стояли любопытные. Часто слышалось: — Во дают! И тут же кто-нибудь говорил: — Петро-ов!.. Никогда я еще не испытывал такого чувства гордости за то, что было сделано мною, за людей, с которыми работал. Это было ощущение причастности к чему-то настоящему. До сих пор мне казалось, что где-то существуют высота, романтика, жизнь, существуют помимо меня для каких-то иных людей, возможно, более удачливых, а может быть, и более стоящих; что я в сторонеот настоящих дел; что большое проходит мимо. А тут с пронзительной ясностью понял, что строю завод, поднимаю его своими руками из земли, из сырой глины, что от моей работы сейчас зависит, уложимся ли мы в срок, сдадим ли вовремя первую очередь завода. Ровно в двенадцать мы выбирались из котлована и тут же, неподалеку, устраивались обедать. Однажды, когда я, усталый, грязный, сидел на бревне, ко мне подошла Аня. — Ну, как новая работа? — спросила она. — Нормально. — Не жалеешь, что ушел? — Хонина жалко… — Почему никогда не приходишь? Я вскочил. Мы смотрели прямо в глаза друг другу. — Ты же сама не хотела со мной разговаривать! Помнишь, когда руки у меня… Ну, на больничном я был… — Сегодня опять была видна часовня, — неожиданно сказала она. — И снова белая? — Белая. Я вчера была там. — Одна? — Не знаю уж, как это у меня вырвалось. В уголках Аниных губ как будто едва наметилась снисходительная улыбка. — С Хониным. «Зачем это она?» — Ну и что? — Ничего. Он окурок погасил о ее стену. Вот и все. Вот так ввинтил его. — Она показала, как Хонин ввинтил окурок. У меня как будто разладилось все внутри, я не находил, что сказать. Растерянно смотрел на поношенные, покрытые пылью Анины туфли и уже не мог поднять на нее глаз. Она чуть коснулась пальцами моей щеки и ушла. «Нет, не была она у часовни с Хониным. Это она придумала», — решил я.10
Дождь налетел внезапно. Нас окатило, словно из опрокинутой бочки. И вмиг промочило до нитки. Мы с Аней спрятались от ливня под навесом наклонной галереи. Стояли рядом, холодные, мокрые, близко друг к другу, и от этого было жарко. Лучом света вспыхнула ее улыбка. — Грибы-то теперь пойдут!.. — Пойдут, — в тон ей ответил я, — мухоморы-то… Она рассмеялась и прижалась ко мне еще ближе. А дождь катил лавиной, гремел листами железа, сметал мусор. Земля не успевала впитывать его, так он был внезапен и обилен: по дороге уже мчались потоки воды. «Котлован… — с тревогой подумал я. — Не поползла бы глина…» Прибитая пыль, намокшее враз горячее дерево, смоченные внезапной водой камни, плиты — все пахло волнующе и остро. От близости Ани, такой неожиданной и ясной, у меня закружилась голова. Аня посмотрела на меня пристально, прямо. Серые глаза ее вдруг потемнели, на губах появилась странная улыбка, будто она с этой улыбкой прислушивалась к чему-то неожиданному в самой себе. Она медленно провела пальцем по моим бровям, сначала по правой, потом но левой, и вдруг сказала: — Я видела твою сестру. Вы близнецы, что ли? — Нет… — Я хотел добавить, что Ольга старше, однако вовремя спохватился. Но Аня поняла меня, и снова вспыхнула ее улыбка. — Вас просто не отличишь. Нет, нет, — в свою очередь спохватилась Аня. — Я ничего такого не хочу сказать. Просто это удивительно. И потом… — она помедлила, — мне это нравится. Ты ее любишь? Я кивнул. — Счастливый ты. Вас двое, таких хороших… А у меня, Валерик, только мама в деревне, больше никого… Деревня в глуши, в лесу… Речка маленькая… На дне видны камушки… У мамы коза. Белая. Вот и все. Туда приедешь, кажется, ничего не изменилось с детства… Дождь пролетел, прогрохотал, и почти сразу по окнам зданий, стеклам кабины башенного крана полоснуло солнце. Аня подняла голову. — Ну вот, вверху уже хорошо. Пора на кран. Отовсюду из-под навесов выходили рабочие, направлялись кто куда. Наши плотники спешили к котловану. В тот вечер мне пришлось задержаться: откачивали из котлована воду, выбирали клейкую грязь. Возвращался я поздним троллейбусом, когда уж и пассажиров-то не было. За окном встряхивало черную летнюю ночь с размытыми огнями, время от времени набегавшими на меня. Потом огни куда-то провалились, из ночи вырвался нестерпимый грохот. Казалось, меня усердно охаживают по голове пустым ведром. Но проснуться не хватило сил. Сон застал меня в углу пустого троллейбуса, ведомого по ночному городу красивой, но хмурой девушкой. Мне снилось, что возле самого моего уха работает насос, а из широкого шланга хлещет мутная вода. Кто-то бежал, стуча сапогами, по мокрым доскам и кричал, что оголены провода… Я просыпался, снова засыпал. Потом я вдруг увидел грибы, большую плетеную корзину, полную грибов, и не сразу понял, откуда она взялась. Напротив сидели две старые женщины. — Я-то думала, выпимши, — донеслось до меня. — А он, видать, та-ак… Я понял: это про меня говорят задержавшиеся в лесу бабуси. Видно, заснул всерьез. Отвернулся к окну и стал глядеть в темноту, пытаясь определить, что за остановка. Троллейбус резко тронулся с места и пошел дальше по ночному городу. Я прислонился виском к холодному пластику. Толчки отдавались в голове глухой болью. — Пошли, видно, грибы-то? — спросил я у своих случайных попутчиц. — Пошли мухоморы-то… Дома нас, поди, и не ждут. Думают, волки растащили… Дома, едва стукнул, дверь отворила Ольга. — Куда ты пропал? Что с тобой? Заболел? — Здоров. — А где был? — В ресторане. — Я серьезно спрашиваю. — Квартальный план выполнял одним днем. И прихватил ночь. — Выполнил? — Спрашиваешь! Она хмурилась, и мне казалось, что это я в зеркале вижу свои две стрелки над бровями. — Уходи-ка ты со стройки… — сказала Ольга шепотом. — Ни за что! — так же шепотом ответил я. С упоением, соединенным со страхом, я думал об Ане. И странно, во всякую минуту воспоминание о ней с необъяснимой неизбежностью возвращало меня к мысли о Хонине. Некоторые завидовали Хонину, что он так легко живет — не переработает, не возьмет на себя ничего лишнего. Я чувствовал таившееся в нем куда более значительное зло, пока еще не вполне понятное для меня. А может, это потому, что он постоянно возле Ани? Неужто это обыкновенная ревность? Я начал чувствовать, что Аню мне никто не может заменить: ни мама, ни Оля. Я мог без конца смотреть, как у ее губ вспыхивают легкие лучики. Однажды мы с ней сидели у крана. Аня взглянула на часы: — Опять не подвезли вовремя бетон. А привезут — начнется спешка. Сразу придет несколько машин, и Водяной начнет свое: «Давай скорее! Давай скорее!» Больше всего не люблю эту суету. В спешке там допустишь ошибку, тут не доглядишь. А это кран… С такой-то махиной, — она хмуро взглянула на перечеркнувшую полнеба стрелу, — и до беды недолго… Подвезли бетон. Аня встала, огляделась, кругом и улыбнулась: — Курорт окончен! И когда Аня поднималась к своей кабине, я случайно перехватил взгляд Хонина. В глазах его была злоба. Он пристально следил за каждым ее движением и не замечал, что я смотрю на него. На какой-то миг сердце кольнула необъяснимая тревога. Мне вроде бы следовало радоваться, что щелкнул Хонина по носу, а вместо этого я ощущал беспокойство оттого, что он неотступно был возле А ни.11
Неприметно подступила осень. Нагнало туч, и потянулись дожди. Сначала редкие, едва прибивающие пыль. Потом зарядили грозовые ливни. Чем дальше, тем чаще сменялись они изморосью. Котлован буквально заливало. Со стен его отслаивалась и ползла вниз глина. Выбирать ее приходилось вручную. — Ничего, закончим, будет легче, — подбадривал нас бригадир. Каждый день к нам приходил прораб, смотрел работу, озабоченно советовался о чем-то с бригадиром, поглядывал на серое небо, повисшее над стройкой. Я уже мог весь день, не чувствуя особой усталости, работать топором. Однако Петров все поправлял и поправлял мою руку, показывал, как надо стоять, советовал не делать лишних усилий. На котловане я работал наравне с другими плотниками, не отставая от них. Я придумал подвесить на консолях в котловане редукторную дисковую электропилу для обрезки концов досок. Это дало некоторый выигрыш и облегчило нашу работу. «Прожектор» мы выпускали вместе с Толей. Писал он медленно, но четко и аккуратно. Частенько, правда, приходилось исправлять за ним орфографические ошибки, однако получалось у нас неплохо. Вот только рисунки… Рисовать никто из нас не умел. Валя Синявский, глядя на эти рисунки, говорил: — Сюрреализм… И все же это не самое главное. Главное — к новому году пустить первую очередь завода. И мы нажимали вовсю. Вечером я засыпал, пожалуй, раньше, чем голова моя успевала коснуться подушки. Утром вскакивал под неистовый треск будильника и мчался под душ. У Ани тоже прибавилось работы. Она теперь гоняла кран от главного корпуса завода к складу глины. Склад глины — это только называется так. На деле же — огромный цех: в нем мог бы разместиться чуть не весь завод вместе с сорокаметровой вращающейся печью. Внутри склада глины про» ложен железнодорожный путь. Аня подавала монтажникам фермы и плиты перекрытия. Работа на монтаже склада глины требовала предельной осторожности и от крановщицы, и от монтажников. Осторожности, согласованности и смелости. Монтаж шел на десятиметровой высоте. Ребята в бригаде Михеева как на подбор — все рослые, плечистые. Состав этой бригады не менялся: никто из нее не уходил, никто в нее не вливался. Так и держались михеевцы одной группой — семь человек, считая бригадира. Во время работы монтажники весело переговаривались с Аней, приглашали ее кто в кино, кто в театр, кто на танцы. А она сердито кричала им: — Леша, пристегнись!.. Мальчики, будете лихачить, откажусь с вами работать. Понятно? На глазах поднимались новые корпуса завода. Завершался монтаж сорокаметровой вращающейся печи обжига. Недалек уже был день, когда в ней вспыхнет мощное газовое пламя, в котором закружится нескончаемый вихрь гранул. А пока мы заливали в опалубку бетон, уплотняли его вибраторами. В начале сентября мы вышли на нулевую отметку.12
Это был разговор, к которому я возвращаюсь без конца. Мы с Аней шли картофельным полем к электричке. Мы были вовсе не одни — и впереди и позади нас шли рабочие разных бригад, все после смены спешили на поезд. На перроне собралось полно народу. Когда донесся шум приближающегося поезда, Аня вдруг взяла меня за руку. — Идем… И мы пошл и с ней узкой тропинкой. Вскоре нас догнал и пронесся мимо поезд. Мы оглянулись — перрон опустел, нигде ни души… — Слушай, — сказала Аня, — как это мы до сих пор не додумались пройти эти шесть километров после работы пешком? Ты не знаешь? — Нет. — Слушай, — снова сказала она. — А может быть, мы и еще до чего-нибудь не додумались? — И, засмеявшись, зашагала впереди. Мне нравилось в ней все: как она держала голову, ее подвижная легкая фигура, ее походка, ее всегдашние неожиданности: одна из них — эта наша прогулка пешком. Осень, в общем-то сырая и дождливая, прояснилась, и ясность и тепло будто захватили в прощальные объятия: дымчатая глубина полей, лес, вдруг обагрившийся после долгого зеленого сна, кое-где лиловый, кое-где фиолетовый, бесчисленные гроздья рябин, запах приносимого ветром дыма, приглушенные звуки — все было трогательно, прощально, все могло вызвать счастливые слезы. Аня обернулась, улыбнулась мне, замедлила шаг и пошла рядом. Я почувствовал ее плечо, ее руку, ее быструю крепкую ладонь. — Если бы мы сегодня поехали электричкой, то не увидели бы этих рябин. — А знаешь, — сказал я, — это нам только кажется. — Как? — Ну, так… Она с улыбкой заглянула мне в глаза: — Правда… Одной мне все это тоже, наверно, казалось бы обыкновенным… Мы то шли по шпалам, беспрерывно меняя ногу и подскакивая, то бегали вверх и вниз по насыпи, гоняясь друг за другом, как будто и не было довольно трудного рабочего дня. Мимо нас проносились поезда, стремительные пассажирские и нескончаемые, пахнущие лесом и нефтью, грузовые. Пережидая их грохот, мы умолкали, а потом опять говорили. Чего-то я не расслышал из-за шума уходящего поезда, разобрал лишь остаток того, что сказала Аня: — Олег Иванович просил завтра две смены… А мне в школу. Значит, опять пропущу. И так уже много пропусков… Ты хитрый — не повышаешь свой… Я схватил ее за руку и уткнулся лицом в ее куртку, уткнулся, словно бросился в омут, чтобы меня не было видно и слышно, чтобы спрятаться от себя, от Ани, от красных рябин, от осеннего света, от всего. Анина куртка пахла машинным маслом и еще, кажется, полынью. Я поднял голову, спросил: — Почему ты пахнешь полынью? — Потому что… — Бледность медленно скатывалась с ее щек. — Потому что… Это было, как я понял потом, признание в любви. А я вдруг задал дурацкий вопрос: — А Хонин? — Что-о?! — Анины глаза округлились. Затем мы долго шли молча. Аня впереди, я — следом. Внезапно налетел резкий порыв холодного ветра. Аня замедлила шаг. — Теперь опять будет мучение с этой погодой… Хоть бы дул равномерно, а то рванет как бешеный, и опять тихо.
— Ты заклинила линейный контактор? — Нет. — Почему? — Да пойми, это же категорически запрещается. Этим выводится из действия защита от перегрузки и короткого замыкания и вообще блокировка всего крана. — Ну и что? Аня лишь пожала плечами и отвернулась. — И так неприятностей хватает. А тут — линейный контактор! Да если хочешь знать, запрещено даже выдергивать краном защемленный грузом чалочный канат, поднимать примерзший или присыпанный землей груз. Даже тебя я не должна была пускать в кабину, потому что это запрещено правилами. — Но ты же сама говорила… — Мало ли, что я говорила… Олег Иванович сам все пломбы проверяет. И дураков навалом. Под груз лезут, устраивают завалы из блоков и панелей… Думаешь, сверху все видно? За всем не усмотришь. На днях самого Водяного крюком по голове ударила… — И что крюк, выдержал? — Хорошенький смех… Слава богу, каска на нем была. Сам мастер лезет, не глядит. — Ругался? — Нет, сам ведь виноват… Знаешь, я больше всего боюсь кого-нибудь покалечить. Представляешь… — Она остановилась, возле ее губ вздрагивали едва заметные горькие морщинки. — С чего это у нас разговор пошел заупокойный? — весело спросил я. — И правда… Ах, с ветра. Налетел ветер, вот и… — Осень. Ладно, мы хоть бетонирование котлована закончили. Уложились в срок… Этот путь среди осенней травы показался таким коротким, что я с недоумением смотрел на первый перекресток, эстакаду, людей, спешивших к подземному переходу. Город уже охватывали сумерки, кое-где в окнах горел свет. — Вот и все, — улыбнулась Аня, медленно отведя со лба спутанные ветром волосы. — Завтра можно снова пройти… Но на другой день с утра пошел дождь. Ветер во все стороны бросал холодные потоки воды. Все надели плащи с капюшонами. Наша бригада разрослась. Пришли выпускники из ГПТУ, влился кое-кто из разнорабочих. Василий Акимович как будто притягивал к себе людей. Был молчалив, глядел пристально. Больше давал понять, чем говорил. Как-то один из новеньких пренебрежительно сказал при нем: — У всех механизация, а у нас топор да топор, как сто лет назад. Пора его сдать в архив. — А работать чем будешь? с улыбкой спросил Петров. — В Москве, в музее я недавно видел каменный топор. Выточен — прямо засмотришься. Другие проходили мимо, а я заинтересовался, расспросил. Оказалось, каменные топоры полировали поколениями — начинал дед, продолжали сын, внук… Во как! — Интересно, однако, Василий Акимович, когда первый топор появился? Но старого плотника вопрос ничуть не смутил: — Четыреста тысяч лет назад. И меж плотниками мигом разгорелся спор о топоре. — В древности топоры украшали. — Это потому, что тогда топор был оружием. А оружие всегда украшали. — За Русь драться мужик выходил с нераскрашенным топором. — Теперь топорами не воюют. И снова в спор ввязался Петров: — Не скажи, я всю войну прошел с топором. Сапером был. Наводил мосты. Не раз купался в ледяной воде. Пять топоров у меня пошло ко дну. Шестой домой привез. Другие с добром, а я с топором. По нам самолеты хлещут, от пуль только шум по воде идет, а мы с топориками — тюк да тюк, и весь фронт на нас глядит, пока переправу наведем. Тогда никто не думал, что топор устарел, Или, может, сейчас возьмем да выкинем наши топоры?..
13
Я люблю первый снег. А на стройке невесомый покров, насыщенный ослепительно белым сиянием, исчезал под ножом бульдозера. Бульдозерист Беленький остановил машину, весело щурясь, сказал: — С-снежок!.. Жаль т-трогать. Не спеша выкурил папироску. Он всегда курил не спеша, в каком бы темпе ни шла работа и какой бы выработки он ни добивался. Он говорил: — П-перекур есть п-перекур. В это утро он курил особенно долго, в каком-то радостном изумлении глядя на неправдоподобно белый снег, преобразивший всю окрестность. Потом затоптал окурок, пригнувшись, нырнул в кабину. Бульдозер резко дернулся и снова погнал перед собой земляной вал, смешанный с первым снегом. У главного корпуса наши ребята и девчонки швырялись снежками. Далеко был слышен смех и визг. Я тоже ввязался в игру. Снег летел во все стороны. Брошенной кем-то снежок угодил в плечо проходившего мимо прораба. И Олег Иванович схватил комок снега, быстро смял его и запустил в нашу сторону. Я не заметил, как ко мне сзади подкралась Аня и сунула за шиворот обжигающе холодный комок снега. Пока я его выцарапывал, в меня со всех сторон полетели снежки. Кто-то сбил с меня шапку. У нас уже горели руки, мы едва переводили дух, и все охрипли от смеха и крика. Снег падал медленными легкими хлопьями, цеплялся за каждый выступ на стене, выбелил темные керамические грубы, ровным слоем лег на фундаментные блоки, колонны, ригели, прогоны. Поле, где летом рос овес, стало таким белым, что от блеска его ломило глаза. Однако этот столь приятный на ощупь снег здорово мешал нам работать в тот злополучный день. Скоро он превратился в легкую пушистую метель. Стало заметно холоднее, в перекрытиях загудел северный ветер. Снег полетел почти горизонтально. Пришла первая машина с бетоном, почему-то в этот день сильно запоздавшая, и одновременно привезли кирпич. Водяной в красной с синими полосками куртке бегал по стройке, торопил людей, то тут, то там устранял заторы и заминки. А машины, как нарочно, прибывали одна за другой. Это была не столько уж необычная история. Случается, после пустых часов, не знаю уж, чем вызванных, враз собирается полно машин. Везут металл, стеклоблоки, сборный железобетон — только успевай выгружать. А успеть тут никак нельзя. Машины простаивают, шоферы ругаются, каменщики стоят на подмостях без дела, потому что кран занят на выгрузке и не подает раствор. Кроме того, стройплощадка загромождена сборным железобетоном, разворачиваться автомашинам негде. Теперь все зависело от крановщицы. Чувствовалось, что Аня спешила, то и дело сигналила, непрерывно щелкали контакты. В это время на площадке появился Спиридонов, подошел к Хонину, подцеплявшему плиту перекрытия. Отвернул полу мятого пальто и стал доставать из кармана бутылку. Только его сейчас тут не хватало! Резко засигналил кран, Аня наклонилась к стеклу, глядя вниз. Появился Водяной, выразительным жестом показал Спиридонову, чтобы тот немедленно убирался с площадки. Спиридонов нехотя поплелся прочь и все оглядывался и что-то бормотал. Ветер вдруг изменил направление и подул резкими порывами. На кране уже дважды срабатывал анемометр. Кран останавливался, и все ждали, когда утихнет ветер. Привезли лестничные марши, и тут же пришел панелевоз с панелями, встал так, что ни проехать, ни пройти. Водяной, сильно жестикулируя, ругался с шофером, однако голоса его почти не было слышно. Шофер стучал пальцем по своим наручным часам, отвечал, что машина полдня стоит под погрузкой, полдня — под разгрузкой, потому что на стройке нет никакого порядка. И тут же, как на грех, пришла автомашина с лесом. Петров велел нам самим сгрузить с прицепа доски. Мы надели рукавицы и принялись за работу. Время от времени я поглядывал на кран. Ане приходилось, видно, нелегко. Ветер то ослабевал, то дул с неистовой силой. В окно кабины хлестала редкая снежная крупа. Внизу суетились, спешили люди. Вся работа по разгрузке пришлась на Аню: в этот день начальник СУ велел перегнать автокран на какой-то другой объект. Второй автокран был в ремонте. Мы торопливо сгружали доски с прицепа, чтобы поскорее освободить проезд. Внезапный толчок шквального ветра чуть не сбросил меня с машины, словно перышко, вырвал из рук доску. И тут же странный сдавленный крик повис над стройкой. Крик был какой-то совсем нечеловеческий, несколько голосов будто слились в долгий страшный стон. Мы все разом обернулись. Я вначале с недоумением отметил про себя неестественный угол, под которым двигалась стрела башенного крана. Потом я понял, что стрела неподвижна. Но что же происходило? И вдруг сердце полоснул ужас — кран падал. Падал медленно, описывая в смутнобелом небе плавную кривую и быстро набирая скорость. Мне показалось, что за стеклом несшейся к земле кабины крана на миг мелькнуло лицо Ани. Кран рухнул на фундаментные блоки. От чудовищного удара тяжело качнулась земля. Полыхнуло короткое замыкание. И люди закричали. Я спрыгнул с машины и бросился к упавшему крану. В несколько прыжков был у кабины. Аню я сразу не увидел. Кабина показалась пустой. Потом я разглядел, что Аня лежала в углу. Лицо ее было осыпано битым стеклом. Кто-то побежал вызвать «скорую помощь». Олег Иванович, потерявший где-то шапку, прибежал из прорабской, поднял, когда ломами свернули смятую дверь кабины, на руки Аню и понес ее поперек подкрановых путей прямо на стену. Кто-то тихо и тоненько заплакал в тишине. И все бросились вперед, каждый, видимо, хотел убедиться, что Аня жива, но, едва взглянув на нее, одеревенело выпрямлялся. Олег Иванович дошел до глухой кирпичной стены главного корпуса и остановился, потом оглянулся на нас. Анина рука висела безжизненно, с пальцев длинными каплями стекала кровь. В тот же день в больнице, не приходя в сознание, Аня скончалась.После случившегося собирали нас чуть не ежедневно. Одно собрание проходило даже у самого управляющего трестом; Говорили о технике безопасности, о безответственности отдельных руководителей — надо полагать, имелся в виду Олег Иванович, — допустивших аварию, о неопытности крановщицы. И все время у меня было такое ощущение, что говорят не о самом существенном, что о другом надо вести речь, но пока сам не мог разобраться в своих чувствах. На многих стройках опломбировали краны. Линейные механики колесили по всем районам, проверяя состояние строительной техник. А у нас по стройке ходил следователь — худой медлительный человек с желтой лапкой под мышкой, разговаривал то с одним, то с другим, что-то измеряя рулеткой на месте аварии, просматривал бумаги Олега Ивановича. Однажды он и меня вызвал в прорабскую. Мы сидели по разные стороны голого дощатого стола, на краю его лежала коробка передач от ГАЗ-69. Было неуютно и жутковато. Следователь спросил, где я находился во время аварии. Я ответил. — Где находился стропальщик? — Как где? Тут же. Подцепил панель и… — И что? — Следователь перестал писать и поднял голову. — …и стоял… — Стоял… — повторил следователь. — А в это время панель повернулась плоскостью к ветру… Стропальщик должен был развернуть, вернее, вообще не выпускать из рук панель. — Там же стояла машина с кирпичом. — Ну, влез бы на машину! Следователь резким движением что-то зачеркнул и уже вяло спросил: — В каких отношениях вы находились с потерпевшей? — С кем? — Лишь задав этот вопрос, я понял вею его глупость. Следователь же и ухом не повел. — Тут разное говорят, — продолжал он. — Будто стропальщик Хонин сильно интересовался ею, а ты… — Следователь перешел на «ты». — Так в каких отношениях вы были? — Да ни в каких мы не были отношениях! Разговор стал напряженным. — Ни в каких? Он, глядя в упор на меня, вытянул под столом ноги и достал из кармана брюк мятую пачку «Беломора». Закурил. И, отмахиваясь ладонью от дыма, принялся что-то писать. — Говорят, красивая была девушка? Я проглотил Собравшуюся у меня во рту слюну, словно горсть песку. Ничего не ответил и отвернулся к окну. Застрекотал телефон. Следователь приподнял трубку и сразу положил ее обратно. Как раньше я не догадался, что во всем виноват Хонин? Это из-за него, гада, все произошло! Только из-за него. Ведь панель — такой парус, такой парус!.. Я вспомнил, что именно в тот момент кто-то крикнул: «Держи!» — Так как все-таки? — донеслись до меня слова следователя. — Мог стропальщик влезть на машину с кирпичом и развернуть панель ребром к ветру? — А он сам что говорит? — спросил я, забыв, что сижу перед следователем. — Говорит, растерялся. Все, говорит, внезапно произошло. Не он ведь, говорит, давал команду сгружать панели. Помолчав, следователь спросил, не был ли пьян стропальщик. — Говорят, он частенько выпивал… — Выпивать-то он выпивал… Я умолк. Но следователь понял, что я сказал не все. — И что же? — Да нет, ничего… Тогда, по-моему, он был трезв. — По-твоему… А незадолго до аварии к нему подходил бывший крановщик Спиридонов, бутылку доставал из кармана будто бы… Ты разве не видел? — Видел. Они не пили. — Точно? В ответ я лишь пожал плечами. Получается, я надежно страховал Хонина от возможного обвинения. Влезть на машину с кирпичом он, ясное дело, мог. Мог не выпустить из рук панель, не дать ей развернуться под напором ветра, а стало быть, мог спасти Аню. Но не такой он человек, чтобы спасать кого бы то ни было. Я не думаю, что Хонин умышленно ничего не предпринял, чтобы воспользоваться аварийной ситуацией. Просто он привык никогда ничего не делать для других, и тут сработал этот, так сказать, рефлекс, ставший его привычкой. Вскакивать на автомашину, хватать руками поднимаемую краном панель — это было и опасно для него, и запрещалось всеми правилами. Здесь могло включиться только одно правило — правило самоотверженности. — А верно, что Хонин летом подсунул тебе пробитый чалочный канат, которым ты сильно поранил руки? — Не знаю, откуда взялся этот канат… Не знаю… Следователь пристально, с интересом смотрел на меня. — Ясно. Теперь ответь мне на последний вопрос: как ты относишься к Хонину? — Я его ненавижу! Он ничего более не сказал. Закончив писать, протянул мне исписанный лист бумаги: — Прочитай, подпиши. Написанное я читал невнимательно. Все это мне было неинтересно. Я понял, что следователь просто старался выяснить все обстоятельства этого дела, и разговор со мной ничего не изменил. И, наверно, не мог бы ничего изменить. Впрочем не все ли равно. Ани ведь нет в живых. Он взял у меня листок и долго смотрел мне в глаза, потом сказал: — Подумай, может, все было не совсем так, как ты рассказываешь? И не так уж безобиден Хонин. Что-то многовато за ним такого… не совсем ясного… В общем подумай. И приходи ко мне. И по голосу его, и по внимательному сочувствующему взгляду я понял, что следователь вовсе не безразличен ко всему происшедшему. Я вышел из прорабской, и ко мне сразу привязался откуда-то взявшийся Спиридонов. Стал рассказывать про своего зятя: — И за какой грех Маньке такой мужик достался — ночью два раза встает и ест… Я смотрел на него и тупо соображал, что он такое мелет.
Лишь сон на короткое время уносил мучившую меня безысходную боль. Но просыпаясь, я ощущал ее с новой силой. Особенно тягостно приходилось, когда я просыпался до рассвета, разбуженный неведомо чем. Я чувствовал себя в эти предутренние часы невыносимо одиноким. Оцепенело стоял у окна, глядя на спящие дома, на серое небо, на клочья облаков. Иногда ночь выдавалась лунной, светлой. И лунные тени были особенно глубоки. Я тихо звал Аню, и голос мой казался мне чужим, холодным. И каждый раз я возвращался назад, в прошлое, к аварии, столь быстрой и столь простой. Когда ударил ветер, я должен был не стоять спиной к крану, а бежать к нему, должен был в критическую минуту вскочить на машину с кирпичом, развернуть панель… Я как-то не думал о том, что все равно не успел бы. Только Хонин мог предотвратить аварию, если бы не выпустил из рук панель.
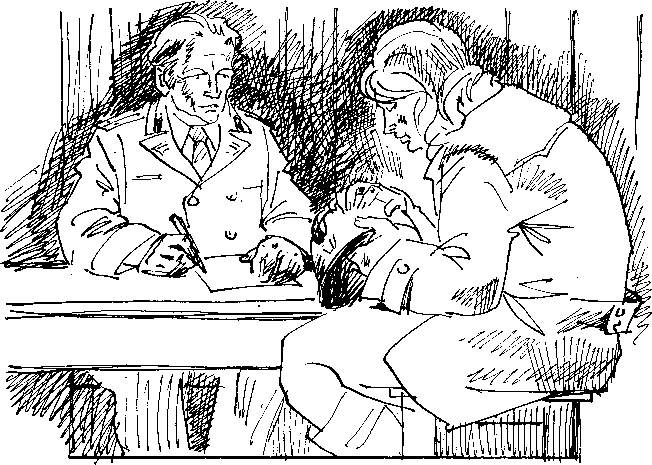
Хонин… Он, конечно, уйдет. В убийстве его никто обвинить не сможет. А наша ненависть для него — ничто. Уйдет на другую стройку… Уйдет… Все это уже далеко от меня. Но ведь там тоже люди, такие же, как я, как Аня, как все мы… Опять будут говорить о нем: парень видный, в работе аккуратен… Опять будет чьим-нибудь наставником… Нет, этого не должно быть!
Утром Оля спросила: — Что ты думаешь делать? __ Что-то надо делать… — Охота тебе… Все равно ведь ничего не изменишь. Аня погибла… Я вскочил. И впервые под моим взглядом Ольга опустила глаза. — Извини… Я не хотела… — Оля! Гад должен получить свое! Получить то, что заслужил. Ани нет… может быть, потому, что слишком много попустительства позволяет себе каждый из нас. Я тоже… Если бы я раньше действовал иначе, если бы Хонина раньше со стройки… Понимаешь? Может быть, и Аня… — Как жаль, что я ее не видела. — А ведь Аня старалась выяснить, откуда взялся пробитый чалочный канат, спрашивала, как попали за доски мои рукавицы. Я же не сказал ничего об этом даже на собрании. Действовал именно так, как сейчас советуешь ты… — Мама говорит, что тебе надо уйти со стройки, чтобы забыть… — Забыть? — Я посмотрел на Ольгу так, что она покраснела. Забыть Аню? Уйти в сторонку, спрятаться в уголок?.. А ведь я прежде всего должен закончить то, что мы делали вместе с Аней. Я хочу жить так, как она.
Собрание проходило в необжитом еще, пахнущем краской заводском клубе. Неуютно было от напряженного молчания. Олег Иванович смотрел на Беленького, ждал. А тот сидел у стены на корточках, молча разминал в пальцах папироску. — Погоди курить, Михаил Афанасьевич. Доложи-ка лучше, как все было. Я никак не ожидал, что к этому делу окажется причастен бульдозерист. Беленький положил папироску обратно в кейку, встал: — Б-б-было, — И надолго замолчал. — Как все же вас угораздило? Да еще в начале рабочего дня? — П-премия… — Беленький растерянно оглянулся на Хонина. — П-подвернулся вот он. Утром. Пойдем, говорит, отметим, пока они в с-снежки играют. Зажал ведь, говорит, премию-то. А я, жмот, что ли, какой? Сроду я не был жмотом! Все посмотрели на Хонина. Тот лишь едва заметно усмехнулся. Но усмешка была судорожной, натянутой. — Я сам-то и не пил, — продолжал Беленький. — А этот, — он показал кепкой на Спиридонова, — подвернулся нам под руку и в буфете п-перебрал маленько. Так с-своей головы у него, что ли, нету? Отчего я должен регулировать, сколько ему уп-п-потребить? А этот, — Беленький хмуро взглянул на Хонина, — два стакана молдавского вина выпил. Хонин вскочил: — Не был я пьяным! Врет Беленький! Я не пил! Олег Иванович покачал головой: — Держите себя в руках. В конце концов вы были не одни с Беленьким. С вами выпивал еще и бывший крановщик Спиридонов. Верно, Спиридонов? Спиридонов суетливо вскочил, оглянулся на Хонина, глаза его забегали. — Завязал я. Завязал… Утром солянку сборную ем. Непьющий я теперь человек! — По щеке Спиридонова медленно скатилась слеза. Зал загудел. Послышались голоса: — Да знаем мы его сборную солянку! Олег Иванович помолчал. Я видел, каково давалось ему это внешнее спокойствие. — Может быть, вы забыли, Спиридонов, почему вас сняли с крана? Мы можем напомнить и возобновить дело в судебном порядке… Тогда семью вашу пожалели, детей… — Пили! — закричал Спиридонов. — Пили! И он пил! — Спиридонов показал пальцем на Хонина. — Я пил и он. Мы всегда с ним… — Ясно, — кивнул Олег Иванович. — Кто еще хочет выступить? Я решил, что начну с первой зарплаты, и посмотрел на Хонина. Он сидел съежившись, низко опустив голову.
14
Весна медленно рождалась в мартовских вьюгах, апрельском слепящем солнце, блеске сосулек и грохоте капель. И все же воздушно-зеленая трава появилась неожиданно, как-то в один день. Небо еще полно гроз, но тучи уже светлы и мимолетны. Они уплывают, глухо прогремев, куда-то дальше, где еще светлее и бирюзовее небо. Как непохоже все это на темную глубокую осень, связанную для меня с первым снегом, перемешанным с землей, перемешанным с тем страшным днем… Весенним утром я явился в прорабскую. — Олег Иванович, вот заявление. На курсы крановщиков. — Ты же плотник. Уже на четвертый разряд тянешь… и уходить? — Пойду на кран. Вместо Ани. Лицо Олега Ивановича, худое, усталое, стало серым, он отвернулся, долго молчал. Потом подошел, обнял меня. — Ну, иди… Я шел к станции той же тропинкой, которой мы ходили с Аней. Но это была совсем не та тропинка, хоть мне знаком каждый ее изгиб. У станции пахло тополиными почками, сбитыми ночным ветром и размокшими от дождя. И этот запах напомнил мне о том, что прошел ровно год с того дня, как я здесь, на стройке. И если бы в то весеннее утро я свернул налево, а не направо, в первый случайный проулок, всей этой истории не было бы. Не было бы Ани, Олега Ивановича, Водяного, моего бригадира Петрова и всех других, с кем мне пришлось работать. Но была бы какая-то другая стройка, другие люди, или, может быть, авторемонтный или какой-либо другой завод… Может быть, там я оказался бы более удачливым, кто знает, но в одном я не сомневался: все наши удачи и паши беды во многом зависят от нас самих. Я свернул в заросли молодых тополей, тонких рябинок и осин. Сюда редко кто заглядывал — ветви густо переплелись, повсюду валялся сушняк, ближе к железнодорожному полотну проглядывали темные насупленные елки. И здесь был тот же пронзительный запах тополиных почек. Он приходит на краткий срок в году — его приносят и уносят весенние дожди. Наверно, более всего нашу душу бередят запахи. Как будто все возвращается вновь… Анину могилу засыпали землей, смешанной со снегом. Когда земля оттаяла и осела, я таскал ведрами глину и подсыпал холмик. Глина была еще сырой и вязкой, тяжелой, как свинец… Вокруг меня тоненько пищали птицы. И как не бывало отвоеванного мною за минувший год мужества… О, как эта влажная земля пахла жизнью!

Последние комментарии
58 минут 17 секунд назад
6 часов 43 минут назад
6 часов 49 минут назад
6 часов 53 минут назад
6 часов 53 минут назад
6 часов 59 минут назад