Товарищ Павлик: Взлет и падение советского мальчика-героя [Катриона Келли] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Катриона Келли ТОВАРИЩ ПАВЛИК Взлет и падение советского мальчика-героя
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Мало кто из детей-героев в мировой истории сумел приобрести столь скверную репутацию, как Павлик Морозов, и уж точно никто не подвергался таким поношениям, как он. Заголовки некоторых рецензий на английское издание этой книги вполне красноречивы: «Что за маленькая сволочь!» (Sheila Fitzpatrick, «Little Swine» в «London Review of Books») или «Жуткий маленький герой» (Michael Binyon «A Horrid Little Него» в «Times»). За вычетом Китая и Северной Кореи весь коммунистический мир уже распрощался со своей идеологией, и семейные ценности в нем успешно противостоят политическому догматизму, так что для большинства людей легенда о мальчике, который из преданности коммунистическим идеалам донес на собственного отца, выглядит дико. Зачем же тогда писать книгу о культе, угасшем более десяти лет тому назад и уже, по-видимому, не имеющем к сегодняшнему дню никакого отношения? Во время моего пребывания в России я часто слышала этот вопрос. Люди не могли понять, зачем иностранка, наверняка не столкнувшаяся в школе с насаждением культа Павлика, занимается такой неприятной историей. Взяться за эту тему меня побудило, среди прочего, желание раскрыть западному читателю русские (и в том числе советские) культурные коды, как их понимают и переживают сами носители этой культуры. В советское время многие исследователи на Западе считали, что феномен малолетнего героя Павлика Морозова присущ исключительно коммунистической системе и совершенно невозможен в демократическом обществе. Характерно, что в романе Оруэлла «1984» именно дети оказываются самыми горячими приверженцами Большого брата:«— Кто о вас сообщил? — спросил Уинстон. — Дочурка, — со скорбной гордостью ответил Парсонс. — Подслушивала в замочную скважину. Услышала, что я говорю, и на другой же день — шасть к патрулям. Недурно для семилетней пигалицы, а? Я на нее не в обиде. Наоборот, горжусь. Это показывает, что я воспитал ее в правильном духе»{1}.Оказалось, однако, что имя Павлика вполне применимо и в западном мире, например, для выражения протеста против давления со стороны государства и его ретивых адептов. После того как «Товарищ Павлик» был опубликован по-английски, я получила письмо от сотрудника крупной международной компании. В нем говорилось, что автор письма и его коллеги прочли книгу с большим интересом и теперь называют между собой конъюнктурщиков и подхалимов, докладывающих начальству о недочетах в работе, «павликами». Так, выдернутый из контекста, Павлик стал означать просто «стукача», готового пожертвовать чем угодно ради преданности мнимым идеалам или авторитарной правящей системе в целом. Однако история Павлика выглядит значительно более сложной, если вписать ее в проблему детства как таковую. Степень автономности детей всегда была больным вопросом, и в любом современном обществе он вызывает живой интерес. Занимаясь последние десять лет исследованиями детства в России (начиная с 1890 года), я обнаружила, что рьяное разоблачение Павликом своего отца вызывало отторжение у людей не только в посткоммунистическое, но и в советское время{2}. Даже в начале 1930-х, когда раннесоветский коллективизм находился еще в полном расцвете, этим юным героем восхищались далеко не все. В следующих поколениях многие и вовсе открещивались от Павлика (на том основании, что он принадлежит совсем другой эпохе), а его поступок находили подлым. Более того, характерное для «культурной революции» прямолинейное изображение конфликта отцов и детей, воплотившееся в легенде о Павлике и в других сочинениях раннего советского периода, противоречит немногочисленным свидетельствам современников, зафиксированным устной историей и документами того времени. Случалось, что мои информанты вспоминали о конфликте отцов и детей в своей семье, но это были, как правило, не вполне обычные семьи[1]. Например, одна женщина рассказала, как она — будучи дочерью красного командира в Ленинграде — упрекала своих родителей в мещанстве (в советское время — ужасное обвинение) и как мечтала о том, чтобы они оказались рабочими и семья жила бы в заводском общежитии. Но такие случаи нетипичны, и те, кто сполна вкусили прелести общежитского быта, естественным образом ответили бы на подобное заявление словами «с жиру бесится». Все-таки для большинства людей, чье детство пришлось на 1930-е годы, семья была надежным пристанищем с любящими родителями, а не отсталым институтом, требующим вмешательства извне для своего усовершенствования. Информанты вспоминают Павлика Морозова, о котором они читали в принудительном порядке, с куда меньшим энтузиазмом, чем героев Дюма, Жюля Верна или, не в последнюю очередь, Аркадия Гайдара, сочинявшего свои книги в одно время с зарождением легенды о первом пионере-герое. Одна из основных задач моей книги — вписать Павлика Морозова в контекст исторического процесса. По значимости я бы поместила его на заднем или, скорее, на среднем плане сталинизма. Не думаю, что в мифе о нем можно найти объяснение всему Большому террору[2]. Возникновение культа Павлика стало результатом попыток советских партийных аппаратчиков, как высшего, так и среднего и низового уровней, утвердить в обществе доносительство как гражданскую доблесть и принятую политическую практику. Однако в жизни едва ли кто-нибудь доносил на своих соседей, коллег, друзей, одноклассников или родственников, вдохновившись примером Павлика Морозова. Эта легенда была задумана как дидактическая сказка для школьников, но даже в среде советских идеологов не существовало единодушного мнения относительно роли, которую она играла. «Известия» и «Правда» так и не напечатали ни одного отчета об убийстве братьев Морозовых — эта история осталась достоянием местной и пионерской прессы. Тем не менее, развитие легенды с сентября 1932 и до июня 1936 года помогает составить представление о том, как создавались культы советских героев. Герой романа Оруэлла «1984» Уинстон Смит пишет о вымышленном «товарище Огилви». Советская пропаганда — может быть, в силу материалистических корней марксизма-ленинизма — все же не строилась на абсолютных выдумках. Сочиняя своих героев, она опиралась на факты из жизни реальных исторических лиц: Павлик Морозов, Зоя и Александр Космодемьянские действительно существовали[3]. Но по ходу эволюции мифа имевшаяся толика правды подверглась разнообразной пропагандистской обработке. Манипуляции с мифом о Павлике привели к тому, что его биография утратила конкретные черты личного характера и редуцировалась до анкетных данных: имя, место рождения, возраст, социальное положение. Менялись также его роли в нарративе, составленном из таких разнородных сюжетных мотивов, как предательство отца; самоутверждение молодежи по отношению к старшему поколению; отстаивание, вплоть до самопожертвования, гражданских добродетелей; жестокое обращение взрослых с детьми; героизм советского школьника; упорная учеба как средство построения нового общества. В этой книге предпринята попытка рассказать, что именно происходило с мифом о Павлике Морозове. Моя работа — не первое исследование на русском языке, посвященное этой теме. В 1988 году журналист Юрий Дружников, который собирал необходимые материалы, будучи корреспондентом одной московской газеты, опубликовал книгу «Вознесение Павлика Морозова» — полномасштабное опровержение официальной легенды. Позже она в более или менее неизменном виде была издана под заглавием «Доносчик 001». Работа Дружникова основана как на обширных опубликованных материалах (официальные биографии, брошюры, газетные репортажи, высказывания знаменитых писателей), так и на беседах с жителями Герасимовки, родной деревни Павлика Морозова. Написание неофициальной биографии пионера-героя на закате советской эпохи требовало немалого мужества, и, учитывая трудности, с которыми автору неизбежно приходилось сталкиваться, этот труд внушает уважение. Однако Дружников писал свою книгу в то время, когда многие архивы оставались недоступными, так что целый ряд авторских выводов, не опирающихся на архивные материалы, вызывает серьезные сомнения, о чем я пишу ниже. Для создания новой истории легенды о Павлике мне пришлось работать в архивах Екатеринбурга (Свердловска) и Герасимовки, Москвы и Петербурга. Уже на завершающем этапе я получила доступ к материалам «Дела об убийстве братьев Морозовых», хранящегося под номером Н—7825 в Центральном архиве ФСБ, незадолго до этого открытом для исследователей[4]. Об этих документах, вероятно, имеет смысл сказать специально. Дело в том, что публикация английского издания моей книги вызвала невероятные домыслы относительно того, каким образом мне удалось получить доступ к материалам дела[5]. Меня изображали простодушной жертвой коварных спецслужб — по словам одного британского рецензента, «Красной шапочкой, наивно и доверчиво вошедшей в волчье логово». (Хочется напомнить этому автору, что во всех канонических вариантах сказки о Красной Шапочке и Сером Волке в конце концов побеждает все-таки Красная Шапочка.) Переубедить фантазеров, конечно, невозможно, но здравомыслящие люди знают: получить доступ к тем или иным документам архива ФСБ удавалось многим специалистам — при условии, что необходимость познакомиться с конкретным делом обоснована и исследователю известен его номер по описи[6]. Кроме того, архив ФСБ открыл — с определенными ограничениями — материалы для родственников репрессированных. Существует стандартная процедура получения доступа, согласно которой необходимо предъявить отношение на имя директора архива Василия Христофорова в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого, примерно через месяц ожидания, заявителю сообщают о решении, которое в моем случае оказалось положительным. Нет никаких оснований полагать, будто архивные документы, с которыми я работала, были поддельными. Просмотрев другие расследования ОГПУ этого же периода (1932—1933), я могу сказать, что материалы «Дела об убийстве братьев Морозовых» схожи с ними (по использованным формам, заголовкам официальных документов, характеру применявшихся процедур и проч.)[7]. Следует также задаться вопросом qui bono: кому могла быть выгодна подделка документов и что заставило в таком случае работников ОГПУ или его преемников тратить усилия на изготовление фальшивых бумаг? Предположение, будто к фальсификации прибегли, чтобы выставить чекистов в благоприятном свете, не оправдывается, так как ОГПУ предстает в этих документах в крайне неприглядном виде. Неясно также, когда можно было осуществить подобную подделку. В советское время делались попытки убедить архив КГБ разрешить копирование некоторых материалов дела братьев Морозовых. В результате несколько дубликатов оказалось в музее Павлика Морозова в Герасимовке, но это всего лишь несколько страниц — из более чем 700, образующих два пухлых тома. Большая же часть материалов по-прежнему оставалась недоступной. Очевидно, что подделывать документы, не предназначенные к обнародованию, — занятие совершенно бессмысленное. Столь же невероятным представляется предположение сторонников «теории подделки», будто сотрудники ФСБ трудились над изготовлением липовых документов в постсоветский период: писали несколькими различными почерками и подвергали бумагу искусственному старению. Да и так ли важно сейчас, с точки зрения ФСБ, дело Павлика Морозова, чтобы занимать ради его фальсификации сотрудников этого учреждения, призванных следить за безопасностью современной России? Куда естественнее допустить, что оно, наряду с протоколами допросов Мейерхольда, Бабеля, Д.С. Мирского и других знаменитых и менее знаменитых людей, является подлинным. Дело Павлика — не единственное, следственные материалы которого были засекречены. Несмотря на то что речь шла о советском герое, предание их гласности могло стать нежелательным прецедентом в сложившейся практике и нарушило бы общую политику допуска к документам. Другими словами, история «Дела об убийстве братьев Морозовых» определялась установленными процедурами в той же мере, что и политическими соображениями. Как бы то ни было, доступ к архивным материалам не дал нам ответа на вопрос, кто на самом деле убил братьев Морозовых, потому что показания свидетелей в любом случае недостоверны. На этом обстоятельстве стоит остановиться. В советское время зачастую пренебрегали правовыми процедурами ради достижения нужного политического результата. В известной мере это наследие живо и по сей день. Отказ соответствующих инстанций отменить приговор, вынесенный «убийцам» братьев Морозовых в ноябре 1932 года (и это притом, что материалы обвинения очевидным образом не выдерживают никакой критики), демонстрирует, насколько далека еще постсоветская Россия от идеала правового государства. Нарушения юридических процедур и прав подозреваемого и сегодня еще довольно широко распространены[8]. Разумеется, не во всех демократических странах исходят исключительно из принципа «невиновен, пока вина не доказана», но это не может служить оправданием пренебрежительного отношения к правам подозреваемых. Наследие дела Морозовых сохраняет свою значимость и в других аспектах. Многие люди, выросшие при Сталине, воспитывались в убеждении, что советская мораль превосходит любую другую в мире. Теперь они глубоко травмированы многочисленными разоблачениями советской системы, которые начиная с 1987 года обрушивают на их головы журналисты, мемуаристы и политические обозреватели. «Ведь не все было плохо!» — возражают представители старшего поколения. Если мои более молодые собеседники (из тех, кто вообще понимал, о чем шла речь) чаще всего воспринимали намерение иностранки написать книгу о Павлике Морозове с изумлением и недоверием, то те, кому за шестьдесят, нередко поначалу занимали оборонительную позицию. При этом они обычно достаточно точно характеризовали Павлика как «противоречивую» фигуру. Выяснив, что моя цель вовсе не в том, чтобы осмеивать их молодость с позиции самодовольного исторического всезнайства, информанты старшего возраста приободрялись и охотно рассказывали, что значила для них эта легенда. Никто из них не сказал мне, что считал доносительство на своего отца (при любых обстоятельствах) хорошим делом. Но очень многие признавались, что для них Павлик Морозов — идеал бескорыстного самопожертвования, и что им неприятен дух своекорыстия, который, с их точки зрения (не совсем безосновательной), охватил Россию с наступлением «дикого капитализма». Так на каждом повороте советской и постсоветской истории имя Павлика обретало новый смысл. Образ реального мальчика растворился в сотнях разнообразных повествований. Их передавали запуганные односельчане, следователи, ведшие его дело, журналисты и биографы, чью продукцию перемалывали для детей учителя и пионервожатые, а также сами дети, пересказывавшие эту историю друг другу. Когда речь идет о политической системе, в которой право на существование имеет только идеологически приемлемая реальность, установить объективные факты чаще всего невозможно[9]. Иногда живая действительность просвечивает из-за трафаретного образа Павлика: в зазорах между опубликованными и архивными документами видятся страдания крестьян времен коллективизации и сломленный дух русской деревни, жестокие преступления против «врагов» советской власти, отчаянные усилия новых интеллигентов рабоче-крестьянского происхождения поверить в советские идеалы. Официальная пропаганда создавала легенду о Павлике Морозове, чтобы представить советское общество таким, каким оно должно выглядеть в чужих и собственных глазах, поэтому, исследуя процесс ее созидания, можно узнать многое из того, в чем властям не хотелось признаваться. В заключение я хочу выразить сердечную благодарность всем, кто помогал мне в этой исследовательской работе, и особенно Елене Главацкой (Екатеринбург), Ирине Евдокимовой (Тавда), Татьяне Кузнецовой (Герасимова), Евгению Добренко (Шеффильд), Виталию Безрогову (Москва) и Альберту Байбурину (С.-Петербург). За предоставление отдельных материалов из периодики и копий нескольких архивных документов выражаю признательность Полли Джоунс, Анди Байфорду, Денису Козлову, Тимофи Филлипсу. За проведение интервью благодарю Александру Пиир, Светлану Сиротинину, Оксану Филичеву, Екатерину Мельникову, Веронику Макарову, Юлию Рыбину, Юрия Рыжова и Любовь Терехову. С новыми источниками, цитированными в русской версии «Товарища Павлика», меня любезно ознакомили Нэнси Конди и Владимир Падунов, Сергей Козлов, Дина Хапаева, Николай Копосов и Александр Костин. Я глубоко признательна Ирине Смиренской за перевод книги на русский язык, а также Андрею Зорину и Ирине Прохоровой — за их горячую поддержку идеи публикации «Товарища Павлика» на русском языке. Сердечное спасибо также сотрудникам архивов, библиотек и музеев в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где я работала, а также Британской Академии, Фонду Леверхалма, Нью-Колледжу (Оксфорд) и филологическому факультету Оксфордского университета за поддержку моих исследований, результатом которых стала эта книга.
Вступление. СМЕРТЬ В ТАЙГЕ
1
В октябре 1932 года «Пионерская правда» сообщила, что в районном центре Тавда, расположенном в лесистой местности в 350 км к востоку от Свердловска (сейчас Екатеринбург), состоится сенсационный суд. Неподалеку от деревни Герасимовка были убиты двое детей: пятнадцатилетний мальчик, убежденный пионер-активист, и его девятилетний брат. «Тайга до сих пор хранит следы этого зверского преступления», — сообщала газета. В «густом кустарнике», где убили мальчиков, «были рассыпаны ягоды клюквы», а на вмятых в землю осиновых и березовых листьях видны следы крови. У одного мальчика было четыре глубоких ножевых ранения, у другого — три. Убийцами оказались восемнадцатилетний двоюродный брат мальчиков и один из их приятелей. Причиной убийства послужила самоотверженная преданность одной из жертв делу коммунизма: «Пионер Павел ставил интересы партии и рабочего класса выше своих личных интересов». В частности, он донес властям на своего отца, разоблачив его в коррупции, и в отместку был убит двумя обвиняемыми. Газета процитировала слова матери, которая с гордостью говорила о мужестве своего сына. Даже побои отца не могли принудить мальчика попросить пощады, а когда отца судили, сын бесстрашно заявил: «Я, дяденька судья, выступаю не как сын, а как пионер!»{3} Шесть недель спустя, 3 декабря 1932 года, «Пионерская правда» сообщила своим читателям о последствиях этого нашумевшего убийства. Пять человек предстали перед судом. Среди них, помимо двоюродного брата жертв, оказались их дедушка с бабушкой и два дяди. Дяди были привлечены к суду как основные подстрекатели убийства, двоюродный брат мальчиков и дед — как исполнители. Бабушка также была разоблачена в причастности к заговору: она заманила мальчиков в лес, а потом попыталась отстирать окровавленную одежду преступников, чтобы скрыть следы преступления. После четырех дней слушаний (с 25 по 28 ноября) четверо из пяти обвиняемых были приговорены к «высшей мере наказания» — расстрелу. Дело превратили в настоящий «показательный суд», придав ему максимальную гласность. Негодующий народ выражал свою поддержку суду в письмах, петициях и т.д., а рядом с судьями сидели два «общественных обвинителя», идеологи события, готовые представить улики и внести свой вклад в следствие и решение суда. «Пионерская правда» целиком опубликовала заключительную речь одного из этих двух «общественных обвинителей» — Елизара Смирнова, молодого журналиста газеты. Он с мелодраматическим накалом описывал Герасимовку: «…заброшенная в лесу среди болот и озер. Темная деревня с проклятыми старыми традициями». Столь же красочно написан портрет старшей жертвы преступления: «Он не только хороший школьник, хороший пионер, не только прекрасный общественник, но он в семье — без отца — хороший хозяин, лучший помощник матери, лучший друг своим младшим братишкам»{4}. В центре этого панегирика — Павел, или Павлик Морозов, первый мальчик-герой в советской истории. Канонизированный в Книге почета московского Дворца пионеров как «Пионер номер один»{5} в 1955 году, Павлик превратился в легенду задолго до этого и в Советском Союзе, и на Западе, являя собой пример безоговорочной преданности политической морали. Он стал героем песен, пьес, симфонической поэмы и даже целой (очень плохой) оперы, а также шести объемных биографий, нескольких поэм и бесчисленных мемориальных статей в прессе для детей. Его именем назвали улицы, парки, Дома культуры, самолеты и корабли, не говоря уже о пионерских отрядах и школьных «уголках». По всему Советскому Союзу и далеко за его пределами (например, в Коломбо, Шри-Ланка{6}) были воздвигнуты памятники. Более того, эта история вдохновила гениального Сергея Эйзенштейна на создание фильма «Бежин луг», в котором фанатичный светловолосый мальчик прокладывает своим односельчанам дорогу в будущее, руководя разгромом местной церкви (кульминационным моментом становится низвержение золотого иконостаса). В 1960-х годах каждый вступающий в Пионерскую организацию должен был знать биографию Павлика, входила она и в список обязательного внеклассного чтения в школах того времени. Статья в «Пионерской правде» не была первой публикацией о Павлике[10]. Но она оказалась первым заметным откликом на это убийство и суд в национальной, или, если пользоваться советской терминологией, «центральной», прессе. Таким образом, эта статья обозначила важную отправную точку в процессе превращения Павлика в советского героя. Темноволосый крестьянский мальчик из отдаленной, или, выражаясь «советским языком», «глухой», деревни превратился в пример для подражания: светловолосого пионера-активиста с пристальным и твердым взглядом[11].2
С середины 1930-х до конца 1980-х годов большинство советских детей в возрасте от десяти до четырнадцати лет были членами пионерского движения. Будучи советским эквивалентом скаутам, пионеры использовали похожий девиз «Будь готов! — Всегда готов!», а также присягу, правда, в пионерской организации дети клялись в верности не короне и своей стране, но «делу рабочего класса», а с 1937 года — «делу Ленина и Сталина». Как и скауты, пионеры носили галстуки, только в их случае он был красным, и назывались они «красногалстучниками» и «юными ленинцами». У пионерской организации были свои обряды и церемонии: парады под звуки горна и барабана, поднятие флага в летних пионерских лагерях и «беседы у костра», во время которых детей знакомили с историей пионерского движения. В советской пропаганде Павлик был безоговорочным героем, однако интерпретация его поступка как подвига не является единственной. В 1970 году Юрий Дружников, писатель и журналист, в то время живший в Москве, начал частное и, разумеется, тайное расследование реальных обстоятельств убийства Павлика и Федора. Из бесед с дожившими до того времени очевидцами и внимательного изучения материалов, которые ему удалось найти (доступа к материалам ОГПУ по этому делу он не получил), Дружников пришел к заключению, что жизнь и смерть настоящего Павлика Морозова сильно отличается от жизни и смерти, описанных в многочисленных официальных биографиях. Первое издание книги Дружникова на русском языке, напечатанное в 1995 году, называлось «Доносчик № 001»[12]; в ней автор попытался очистить историю от мишуры официального мифа. Павлик предстает перед читателем грязным, жалким и, видимо, умственно отсталым подростком, который, вероятнее всего, вообще не был пионером и уж точно не был героем. Его убийство совершили не «враги народа» и тем более не члены его семьи, а ОГПУ — чтобы спровоцировать скандал и заклеймить позором врагов Советского государства. Дружников опубликовал ценные показания жителей Герасимовки, которые знали Павлика лично, повествовательная канва книги захватывает — она читается как детективный роман. Однако предложенная трактовка дела не представляется нам правдоподобной. Умозаключения автора основаны на довольно скудном корпусе документов дела ОГПУ: из четырех листов документальных записей вырастает повествование на 250 страниц. Замысловатая аргументация, построенная на вырванных из контекста фактах, при более глубоком исследовании архивных материалов теряет свою убедительность. Дружниковым собрана большая часть (но не все) существующих печатных источников, в частности публикации в советской прессе и официальные биографии пионера-героя. Однако, сыграв значительную роль в развенчании официального мифа о Павлике Морозове, книга эта, по сути дела, сама носит мифографический характер и представляет собой инверсию официальной легенды, сочетающую жанровые характеристики «антижития» и советского триллера. Как только я начала заниматься этой темой, гипотеза Дружникова вызвала у меня сомнение, которое лишь усиливалось по мере продвижения моей исследовательской работы в местном архиве: вырисовывалось совершенно иное состояние политического контроля начала 1930-х годов. Наконец, когда я получила возможность изучить дело в полном объеме, гипотеза Дружникова была напрочь отвергнута. В той же мере меня не устраивала и официальная версия, согласно которой убийцы действовали по наущению кулаков, объединенных в тайную сеть. Как показали мои исследования, это убийство абсолютно другого характера: жестокое, оно не имело, тем не менее, никакого отношения к заговорщическим теориям, его породило общество, искалеченное тремя годами насильственной коллективизации. При этом необходимо отметить, что докопаться до правды о Павлике Морозове и его гибели, видимо, уже невозможно. В третьей главе своей книги я подробно разбираю записи свидетельских показаний, которые представляют собой клубок взаимных обвинений, злоумышленных наветов, противоречащих самим себе свидетельств и признаний, полученных под принуждением (в том числе физическим). У каждого, кто имел отношение к расследованию этого убийства, — от деревенского жителя до начальника из ОГПУ, — были свои предубеждения, а у многих — и основания скрывать правду. Показания зачастую представляют собой не правдивые свидетельства, а искусную ложь или, в некоторых случаях, беспомощную нелепицу. Особенное же недоверие вызывают прямые признания в причастности к убийству: очевидно, что они сфабрикованы, получены у подследственных обманным или насильственным путем и зачастую сформулированы явно с чужих слов[13]. Устная история также не может служить критерием исторической правды. В данном случае прежде всего потому, что большинство людей, которые могли помнить Павлика Морозова, давно умерли. К тому же, приехав в Герасимовку в сентябре 2003 года, я обнаружила — как и предполагала, — что ее жители пересказывают стереотипные варианты этой легенды. Дело Павлика Морозова столь интенсивно использовалось в пропагандистских целях, что теперь очевидцам трудно вспомнить реальные события 1932 года. Старожилы Герасимовки сплошь и рядом вовсе не хотели вспоминать подробности прошлого. «Ох, плохо, плохо, плохо было; сейчас лучше стало», — сказала мне Ульяния, двоюродная сестра Павлика, поразительно похожая на его изображение, помещенное на обложке этой книги[14]. Мария Сакова, умная женщина с правильными чертами лица, которая в конце концов одарила меня очень живыми воспоминаниями и об убийстве Павлика, и о своем детстве в конце 1920-х — начале 1930-х, сначала вообще отказалась беседовать. «Что там сказать? — заявила она, сидя на скамеечке возле своего дома у бетонной дороги (местные называют ее “Павликова дорога”). — Какое там детство? Мне ли весело было? Это какое было детство?! Я все только работала да работала…»{7}3
Убийство Павлика произошло, когда страна, в которой он жил, стояла на пороге больших испытаний. В Советском Союзе завершались первая пятилетка и так называемая «культурная революция». В это время «революционные» и «большевистские» ценности — неотъемлемая часть радикальной трансформации общества — ставились превыше всего. С 1933 года в советской культуре начинается продолжительный период превознесения и празднования собственных достижений, о которых всенародно объявляли вожди народа и прежде всего, конечно, диктатор Иосиф Сталин. Создается целая индустрия по производству героев. Описание их подвигов вовсе не предполагало правдивого отображения действительности: подобно святым из легенд, распространявшихся католической церковью в средние века, эти герои должны были вызывать чувство восхищения, внушать благоговение перед их безоговорочной преданностью идеалам. Из публикаций безжалостно вымарывались любые подробности, не соответствующие героическому поведению, и заменялись чем-либо подобающим. Так, отпетые пьяницы и распутники представали образцовыми семьянинами, а неграмотные крестьяне — мудрыми приверженцами идей Ленина[15]. Создание настоящих героев — объектов поклонения советского народа во всех уголках страны — было сопряжено с большими интеллектуальными и временными затратами. Их образы должны были своевременно отражать изменения в линии партии, а потому требовали постоянной переделки. Подобно тому как Троцкий и другие «враги народа» исчезали в новых редакциях фотографий, сделанных во время публичных выступлений Ленина, некоторые черты героев тоже терялись с течением времени, а взамен появлялись новые. В этом смысле работа над образом Павлика Морозова происходила особенно интенсивно. Легенда о нем, с момента первых газетных репортажей в 1932 году и до новых жизнеописаний 1960-х и 1970-х годов, претерпела множество преобразований, в зависимости от того, что должны были знать дети об этических нормах в свете революционной политики. Традиция обеспечения молодого поколения ролевыми моделями уходит в глубину веков, в древнегреческую культуру. Тем не менее, в начале XX столетия возникло еще одно направление в этой области: изучение реакции детей на предлагаемые ролевые модели; интерес к данной теме возрастал по мере распространения новой дисциплины — педологии. В России, так же как в Британии, Америке, Германии и Франции, ученые-педологи проводили опросы, позволявшие установить, кого дети считают своими героями. Результаты обескураживали: это была эклектическая смесь, включавшая в себя полный набор моделей, от исторических фигур и литературных персонажей до членов королевских семей, современных политиков и людей из близкого окружения («моя мать», «мой учитель»){8}. В эпоху «диктатуры пролетариата» партийные вожди попытались узурпировать детскую потребность в поклонении кумирам и поставить ее под контроль, предложив альтернативный ряд «политически корректных» ролевых моделей, соблюдая при этом субординацию по отношению к высшей власти и тем самым надежно оберегая первенство славы главного героя — самого диктатора. Легенду о Павлике придумали в тот исторический момент, когда пионерам отводилась роль активной молодой элиты, которая должна была агрессивно насаждать новые законы и на общественных собраниях убеждать людей старшего поколения в добродетельности чисток и вреде набожности. К середине 1930-х годов пионерская организация превратилась в массовую, автоматически включавшую в себя практически всех школьников. И по мере того как «рациональный досуг» детей приобретал не меньшую важность, чем политическая грамота, образ Павлика получал новые черты: у него появились любимые занятия в свободное время, друзья, интерес к школьной общественной жизни — и одновременно его роль семейного бунтаря становилась все менее значимой. Таким образом, идеологическая подоплека этой легенды отнюдь не была однозначной. Тем не менее, часто ролевая модель Павлика Морозова рассматривается однобоко. Сам факт доноса на собственного отца настолько ошеломителен, что для многих комментаторов он затмевает все остальное. Каждый, кто обладает пусть даже поверхностным знакомством с теорией психоанализа, подвержен соблазну приклеить к этой истории ярлык, который напрашивается сам собой. Как написала русско-американский теоретик культуры Светлана Бойм, «это советский вариант мифа об Эдипе par excellence — не хватает только загадок, слепоты и метафизического разговора со Сфинксом»{9}.[16] Следуя далее, можно представить миф о Павлике как зеркальное отражение «Гамлета» (любимая пьеса русской интеллигенции со времен эпохи романтизма): сын по тайному сговору с «дяденькой»-судьей вливает словесный яд в ухо своего отца, совершая тем самым символическое убийство последнего. Как в случае с Гамлетом и Эдипом, ценой сыновнего бунта становится уничтожение самого Павлика: таким образом, миф не только предупреждает о том, как опасно разжигать конфликт поколений, но — даже более того и главным образом — подтверждает эту опасность. И все же миф о Павлике Морозове существенно отличается от «Царя Эдипа» и «Гамлета». Начну с того, что обычно отношениям между Павликом и его матерью не придается большого значения. Официальные репортажи представляют ее как невиновную, но беспомощную, сочувствующую сыну, но неспособную оказать ему какую-либо помощь в борьбе с отцом. Во-вторых, в чувствах Павлика к отцу нет никакой амбивалентности, свойственной как Эдипу, так и Гамлету. Мужчина, совершивший определенные действия и тем самым надругавшийся над отцовством, как бы перестает быть отцом. Павлик прямо, без всякого сожаления отрекается от него. Другими словами, этот миф лишь отчасти можно назвать семейной драмой{10}. Архетип истории лежит скорее в сфере политики и этики, нежели в сфере психосексуальных отношений. История Павлика вынесла на передний план конфликт между семейными узами и законом, подняв вопрос, занимавший европейских моралистов в течение по крайней мере двух тысячелетий: какие обстоятельства дают моральное право доносить на близких? На первый взгляд попытка вписать историю Павлика в мировой контекст может показаться неправомерной. Обычно мальчик представляется типичным героем только для того места и того времени, где и когда родился его культ, то есть для Советского Союза в эпоху сталинизма. По словам Шостаковича, «героем этой эры был маленький Павлик Морозов, донесший на своего отца. Павлик был воспет в поэзии, прозе и музыке. Эйзенштейн тоже присоединил свой голос к этому панегирику, он долго и кропотливо работал над большим художественным фильмом “Бежин луг”, прославляющим маленького доносчика»[17]. В этом же духе антисоветские историки комсомола говорят о Павлике как о вершине преданности советской системе и как о примере, на котором воспитывалось двурушничество: «Сознательное оклеветывание и политическое разоблачение — вот методы подавления, используемые властями против personae поп grata. Власти культивировали такие черты с равным усердием как среди комсомольцев, так и среди младших школьников. Вспомните историю Павлика Морозова»{11}. Для Юрия Дружникова нет «другого героя, который бы точнее выражал сущность строя с однопартийной идеологией»{12}. Знаменательно, что в другом тоталитарном, однопартийном государстве, Третьем рейхе, чествовался герой, похожий на Павлика, — юный гитлеровец Квекс{13}. Не следует, однако, рассматривать два эти основные нарратива в однопартийных государствах в отрыве от остального мира. Разоблачение членов семьи не подвергается повсеместному осуждению даже в тех обществах, в которых к автономии семьи относятся с уважением и чтят индивидуалистские моральные ценности, как, например, в западных странах конца XX века. И хотя Юрий Дружников настаивает на том, что «в семье и, так сказать, из семьи аморальны любые виды доноса»{14}, ответ на вопрос, при каких обстоятельствах правомерно сокрытие преступления, совершенного близким родственником, обычно звучит не так категорично, как это заявление. В западной демократической традиции существуют канонические тексты, ставящие под вопрос добродетельность «внутреннего доносчика». В диалоге Платона «Евтифрон», например, Сократ ставит на место возомнившего о себе афинянина, предлагающего осудить его отца, по вине которого погиб слуга. Самонадеянные рассуждения бдительного человека о собственной добродетельности разобраны самым доскональным образом и по всем правилам логики представлены ложными. Будучи уверен в своей правоте, афинянин путается в обвинениях и в конце концов попадает в ловушку. Теперь мотивы его поведения оборачиваются для искушенного наблюдателя (с сократическим складом ума) попыткой примитивной мести — но никак не стремлением определить справедливое наказание. Таким образом, в традиции основных западных философских учений явно прослеживается антипатия к доносительству на членов семьи. В продолжение этой линии Достоевский старательно обходит в своих произведениях тему «кровное родство vs вина», избегая постановки вопроса о правомерности доносительства на членов семьи. Так, например, родственники Раскольникова не знают о том, что он причастен к убийству двух женщин, а Иван Карамазов, оказавшийся невольным духовником Смердякова, очень кстати сходит с ума и поэтому лишается возможности разоблачить своего сводного брата — даже если бы такая идея пришла ему в голову. Однако западная культура предлагает и другие примеры[18]. Среди мифов об основании Рима есть знаменитая легенда, в которой долг ставится выше семейных связей: рассказ Ливия о Бруте Старшем, который приговорил собственных сыновей к смерти за предательство республики[19]. Мэр Линч в средневековом городе Голуэй своими руками повесил сына и, поставив тем самым правосудие выше семейных уз, дал жизнь новому глаголу. Бытовая западная мораль с сочувствием относится к тем, кто ради всеобщего блага попирает личные чувства перед лицом серьезной опасности. В современном мире к детям, которые разоблачили родителей или других родственников, совершивших определенные экономические преступления (такие как организация торговли детьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкет или торговля наркотиками в крупном масштабе), а также некоторые политические преступления (как, скажем, причастность к мафии или террористической деятельности), не говоря уже о преступлениях против личности (прежде всего о насилии над детьми), относятся скорее с сочувствием и пониманием, а не с отвращением. Когда Сорха Маккенна, дочь председателя североирландского движения за права человека, обличала своего отца в насилии над детьми, она произнесла почти те же слова, которые были вложены в уста легендарного Павлика: «Я больше не считаю его своим отцом». Она заявила, что посчитала необходимым так поступить, ибо ее отец — общественная фигура{15}. При этом общество не сомневалось в оправданности ее действий. Будет справедливым сказать: идеализация тех, кто ставит гражданский долг выше семейных ценностей, означает нечто большее, чем просто подавление личностной автономии, свойственное тоталитарному государству. Особенность советского варианта гражданского патриотизма не ограничивается идеей, что следует разоблачать даже отцов, если они совершили правонарушение. На исключительном случае Павлика Морозова, намеренно превращенном в сенсацию, советский гражданский патриотизм экстраполируется в плоскость общего принципа, провозглашающего доносительство добродетелью при любых обстоятельствах. Он определяет судьбу разоблаченных, оставляя им только одно право — смириться с несправедливостью суда и безропотно принимать пытки. По этому принципу признания, полученные под принуждением, считаются свидетельскими показаниями, а скоропалительно вынесенный приговор к смертной казни и его незамедлительное исполнение или заключение в ужасные советские тюрьмы и трудовые лагеря — правомерными.4
Миф о Павлике Морозове связан не только с разоблачением внутри одной семьи. Похоже, большинство тех, кто до сих пор писал об этой истории, забыли, что речь шла об убийстве детей. А между тем в первые месяцы после преступления именно факт убийства детей вызывал главный интерес общественности. Письма, которые потоком лились в местную и всесоюзную пионерскую прессу, часто содержали лозунги о продолжении борьбы за правое дело и уверения, что «врагам народа» не удастся запугать граждан своими дьявольскими происками. Но в основном авторы писем требовали отмщенья зверям, совершившим такое чудовищное преступление. О приоритетах свидетельствует письмо, написанное группой детей из Московской области в октябре 1932 года.«ПРОТЕСТ.Понятно, что письма такого рода не возникали сами по себе. И «мы прочитали статью…» следует понимать как «наша учительница задала нам на дом прочитать выдержки из газеты и предложиланаписать в газету письмо». Конечно, возмущение убийцами детей всячески подогревалось властями, но все же нельзя сказать, что оно целиком и полностью спровоцировано. Акт столь жестокого насилия — обоим мальчикам были нанесены многочисленные раны в шею, грудь и живот — в любом обществе вызвал бы негодование. В других странах убийство детей тоже расценивается как особое, сверхъестественное зло. Считается, что оно чаще всего произрастает в отвергнутых обществом социальных слоях (обычно подозрение в совершении подобных преступлений падает на такие социальные группы, как этнические меньшинства или педофилы). По общему представлению, такие преступления обычно совершаются группами маргиналов[20]. Когда в сентябре 2001 года в Темзе обнаружили обезглавленный и расчлененный труп африканского ребенка, общественность пришла к выводам, которые могут послужить классическим примером реакции общества на подобные происшествия: «Сначала следователи предположили, что преступление было совершено в результате семейной ссоры или на сексуальной почве, а труп был расчленен, чтобы затруднить опознание жертвы. Однако позже в Челси, в двух милях вверх по течению реки, были найдены следы африканского ритуального действа: на листе бумаги и на семи полусгоревших свечах было вырезано нигерийское имя. Так может быть, мы имеем дело с ритуальным убийством?»{17} Если размышления подобного рода могут возникнуть в стране, которая гордится своей культурой просвещенного правосудия, то нет ничего удивительного в том, что в Советском Союзе, где юридическая система была открыто подчинена нуждам «классовой борьбы», процветали дикие идеи. Противники коллективизации объявлялись нечистью, способной на любое зверство. В свою очередь, жестокое убийство служило доказательством звериной природы врагов советского общественного строя. Советское законодательство того времени не расценивало убийство ребенка как уголовное преступление, за совершение которого преступник приговаривался к смертной казни. Уголовный кодекс Российской Федерации 1926 года вообще не рассматривал убийство ребенка как особо тяжкое преступление. Строгость наказания по статьям от 136 до 140 зависела оттого, было ли преступление преднамеренным. Наказание варьировалось от трех лет заключения в тюрьме за «убийство по неосторожности» до максимальных десяти лет заключения: в особых случаях преднамеренного убийства, когда преступление совершено из корысти, ревности или других низменных побуждений; если преступление совершено рецидивистом или в целях сокрытия другого убийства; в случае, когда преступником оказывался опекун жертвы, использовавший последнюю в своих интересах; а также в случае, когда убийству предшествовали пытки или преступление совершилось против беременной женщины. Примечательно, что детям был посвящен особый раздел Уголовного кодекса: в статье 12 говорится, что «меры социальной защиты судебно-исправительного характера не подлежат применению к малолетним до четырнадцати лет, в отношении которых могут быть применяемы лишь меры социальной защиты медико-педагогического характера». На практике это означало, что дети младше четырнадцати лет не подлежали суду, тюремному заключению или казни, а их дела рассматривались «комсонесами» (комитетами по делам несовершеннолетних, состоящими из врача, юриста и представителя Наркомпроса), и самое большее, что им грозило, — это надзор или направление в специальные дома для «трудных детей». Подростки в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет тоже, как правило, подлежали «медико-педагогическим» мерам воздействия. Те же меры могли применяться и к шестнадцати-восемнадцатилетним, если суд считал это целесообразным. Статья 22 запрещала применение смертного приговора к личностям моложе восемнадцати лет{18}. Таким образом, Уголовный кодекс выделял в специальную категорию малолетних преступников, включая убийц, но не малолетних жертв преступлений. Радикально новый подход к детскому вопросу стал осуществляться после 1917 года — это видно из декларации Троцкого: «Революция — не революция, если она не проявляет величайшего участия к детям: они-то и есть то будущее, во имя которого революция творится»{19}. И, тем не менее, убийство ребенка не всегда расценивалось как преступление особой тяжести. Так, например, в 1928 году в Нижнем Новгороде одна женщина пришла в ярость, когда подружка ее маленькой дочери назвала эту женщину «женой сумасшедшего», и нанесла девочке многочисленные ножевые раны в грудь и живот. Полученный за это приговор — год принудительного труда — соизмерим с максимальным наказанием за нелегальное религиозное воспитание ребенка, за которое в те времена также полагался год принудительных работ[21]. Однако в случае дела Морозова к убийцам не были применены обычные в таких случаях статьи 136—140 Уголовного кодекса 1926 года. Вместо этого обвиняемым предъявили пресловутую 58-ю статью — преступление против государства. Пункт 8 данной статьи включает в себя «совершение террористических актов, направленных против представителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации». К «террористическим актам» относились убийство, попытка убийства и нанесение серьезных телесных повреждений «представителю Советской власти» или «активисту революционной рабочей и крестьянской организации». Высшей мерой наказания по статье 58.8, так же как и по большинству пунктов этой статьи, был расстрел{20}. Как только подозреваемых по делу Морозова привлекли к суду по статье 58.8, расследование приняло новый оборот. Главным в деле теперь стал собственно обвинительный акт, а виновных выбрали еще до начала следствия. Следователи компоновали показания очевидцев для показательного суда, которого не интересовала объективность свидетельских показаний с обеих сторон: требовалось доказать, что «обвинительный акт» верен и справедлив. Другими словами, суд представлял собой ритуал, демонстрирующий государственную власть, способную уничтожить или наказать тех, кто не вписывается в строй{21}. Из всего этого следует, что материалы следствия и записи судебных заседаний, подобно многочисленным жизнеописаниям Павлика Морозова и газетным статьям, являются политическими документами.
Мы, пионеры и школьники Костеревской школы ФЗС при фабрике “Коминтерн”, прочитав в “Пионерской правде” об убийстве кулаками пионера Павла Морозова, требуем убийцам высшей меры наказания, расстрела. Мы обязуемся, со своей стороны, [усилить] борьбу за знания и трудовую дисциплину в школе. Спи, дорогой товарищ Павлуша! Мы твое дело доведем до конца. И лучший венок и памятник будет тебе наша борьба за овладение наук.
Пионеры отр. № 8 и школьники Костеревской ФЗС при фабрике “Коминтерн”»{16}.
5
Основное внимание в своей книге я уделяю разбору идеологии и мифа, не забывая при этом об их главном адресате — о собственно советских детях. Миф о Павлике неоднозначен. Он вытекает из разных, а в некоторых отношениях и противоречащих друг другу предпосылок: традиции христианского мученичества, веры в ритуальные убийства, народных волнений в связи с «большевистским насилием» — убийством детей Николая II, в ответ на которое власти должны были предъявить народу пример антибольшевистского насилия. Раскручивая этот миф на основе иррационального, советская пропаганда вела опасную игру, и последствия пропаганды этого мифа не поддавалось контролю. Это утверждение особенно справедливо, когда речь идет о детской аудитории, поведением которой легко управлять только на первый взгляд, на самом же деле оно непредсказуемо. Советские дети росли в высшей степени политизированной культуре, однако результатом этого совсем необязательно становилось пробуждение у них интереса к политике. Пропагандируя учение о Павлике, пионерское движение и советская школа рисковали, как и при внушении любой идеи, спровоцировать реакцию, противоположную ожидаемой. Настойчивость, с которой насаждался герой, мог превратить Павлика в антигероя — простого ябедника. Восприятие Павлика как героя в значительной мере притупилось после Второй мировой войны, когда патриотическая пропаганда стала поднимать на пьедестал другого героя, молчащего даже под пыткой. И все же, несмотря ни на что, миф о Павлике продолжал жить — как абстрактная модель высшей жертвенности, отказа от себя ради народного блага. Люди, у которых я брала интервью в Екатеринбурге, сравнивали Павлика с Данко, героем ранней повести Максима Горького «Старуха Изергиль», который не пожалел себя ради того, чтобы вывести свой народ из темного леса, куда его загнали враги: «И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой….Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, измученные, стали как камни… Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям»{22}. В свете легенды о счастье самопожертвования миф о Павлике дает нам образец ценностей, которые в течение семидесяти с лишним лет предохраняли от распада советское общество и поддерживали жизнеспособность абсолютно искусственной, лживой политической системы. В то же время сам факт того, что беспримерный подвиг Павлика состоял в доносительстве, все же смущал даже советских патриотов. Думаю, не будет преувеличением сказать: моральная энтропия советского общества, при которой поднятые на щит идеалы утверждались посредством этически сомнительных поступков, приводивших в конечном счете к развенчанию самих идеалов, в миниатюре отображена в истории легенды о Павлике. А его следственное дело, в свою очередь, дает нам образец пристрастного, лживого советского судебного разбирательства начала 1930-х годов, обнажая один из многочисленных ножей гигантской «мясорубки» в данном случае судебную систему{23}.6
Утверждение, что легенда о Павлике Морозове является ключом к пониманию советской системы, на первый взгляд может показаться странным. Идеологическая пропаганда, раздутая вокруг этой истории, была нацелена на детей — превозносимую, но политически малозначимую социальную группу. Распространением легенды по всей стране занимались политические деятели среднего звена — политработники и журналисты от комсомола, многие из которых были провинциального происхождения. Поначалу и в данном случае следствие осуществлялось под контролем местных властей, главным образом советских функционеров низшего звена, и лишь на самой последней стадии к делу подключились чиновники из местного руководства Свердловской области. Суд над обвиняемыми в убийстве Павлика был организован в Тавде на улице Сталина, в Доме культуры имени Сталина, но на сотнях страниц неопубликованных материалов, имеющих отношение к этому делу, нет ни одного упоминания имени Сталина или кого-нибудь другого, принадлежащего к высшим эшелонам Советской власти. Сталин — насколько я могу судить — не играл непосредственной роли в распространении культа Павлика. Ему скорее не понравилась история о мальчике, восставшем против авторитета отца. Ходили слухи, что на предпремьерном показе «Бежина луга» Эйзенштейна Сталин пренебрежительно заметил: «Мы не можем допустить, чтобы всякий мальчик действовал как Советская власть»{24}. Архивные материалы убеждают в том, что легенда о Павлике Морозове не была придумана в верхах советского общества. Сохранившиеся телеграммы и инструкции, спущенные высшими инстанциями, с указаниями типа «Сообщите результаты следствия делу…», «Направьте материал…» или замечаниями вроде «это произошло благодаря усыплению классовой бдительности Райкома и бюро ДКО», свидетельствуют: дело, которому поначалу придавалось лишь местное значение, постепенно приобретало все больший масштаб и в конце концов из короткого судебного разбирательства в зале сельсовета, заполненным местными жителями, превратилось в обширное пятиуровневое следствие, кульминацией которого стал показательный суд в районном центре с привлечением центральной прессы. Иными словами, механизм восхождения культа Павлика Морозова подобен механизму разрастания славы местночтимых святых и в итоге признания их высшими церковными властями, с последующей канонизацией и «переводом» мощей в более престижное и важное, с точки зрения церкви, место упокоения. Мифы не рождаются сами по себе, они создаются живыми людьми. Так что меня интересуют не только изменения в содержании мифа о Павлике на протяжении нескольких десятилетий, но и сами люди, создававшие этот миф. Некоторые из них хорошо известны, скажем, Максим Горький, один из самых влиятельных писателей раннесталинского периода, а вероятнее всего, и самый влиятельный писатель всей советской эпохи. Некоторые же были низовыми аппаратчиками, как, например, районный уполномоченный ОГПУ и его подчиненные, члены местной партийной организации, а также ретивые журналисты из местной тавдинской газеты. Остальные — это просто деревенские соседи Павлика из Герасимовки, которые мало что понимали в политике, но, тем не менее, с готовностью снабжали аппаратчиков обрывками разнообразных сплетен и фантастических слухов. Эта информация «украсила» дело и была использована в качестве доказательств виновности реальных и мнимых врагов государства. В результате эта книга представляет собой целенаправленное исследование советской истории от самых ее истоков, «истории сталинизма без Сталина» — в противовес наивной точке зрения, распространенной в западной историографии, будто страна находилась под постоянным контролем всевидящего ока зловещего диктатора (эта теория на удивление близка советской идеологии, с той только разницей, что советская пропаганда, конечно, представляла Сталина, великодушным и мудрым{25}). Дело Павлика Морозова показывает, насколько трудно было многим людям понять, чего хотело от них партийное руководство, как приспособиться к новым, не очень понятным идеям и найти для себя ролевые модели, чтобы идти в ногу с руководством страны. Кроме того, оно прекрасно иллюстрирует ужасы проводящейся на местах коллективизации: уничтожение традиционной крестьянской культуры; доведенное до крайности сообщество, где все готовы перегрызть друг другу глотку; трагические судьбы детей-активистов, деятельность которых по отстаиванию своих прав была сопряжена с опасностью для их жизни[22]. В традиционной иерархии русской деревни дети должны были полностью подчиняться воле старших в доме, особенно мужчин. За первые десять лет (или около того) своего существования пионерское движение перевернуло эту иерархию с ног на голову, активно призывая детей поучать старших. Так что неудивительно, что зачастую в адрес молодого поколения шла ответная агрессия. Поэтому, когда в середине 1930-х годов официальная идеология стала постепенно проводить идею не конфронтации, а, напротив, большего доверия между взрослыми и детьми, некоторые дети (как и взрослые) с готовностью восприняли ее и не считали, что это попрание их, с трудом завоеванных, прав. Непримиримая деятельность детей-активистов стала угасать, она и в самом деле была им не по плечу: пугала, была трудновыполнимой и часто вовсе безрезультатной. Но в то же время миф о Павлике отражал потенциал детской активности раннесоветской эпохи, который проявился не только во время коллективизации, но и в Гражданскую войну в активном участии в общественный жизни и, что немаловажно, способствовал сплочению семьи на работе и в быту, в частности во времена изнурительных хлебных очередей и ужасного голода[23].Глава 1. МИР ПАВЛИКА
Когда в 1932 году произошло убийство братьев Морозовых, в российской деревне de facto еще бушевала Гражданская война. На одной стороне выступало советское правительство в лице своих представителей на местах, на другой — миллионы крестьян, большинство из которых не хотели вступать в колхозы и терять так трудно доставшуюся им независимость. Как известно, коллективизация преследовала не только экономические задачи: ее целью было полное разрушение автономии деревни и уничтожение ее вековых традиций, расцененные как «отсталость». Уговорами или силой крестьян вынуждали вступать в кооперативные хозяйства и таким образом становиться сельским пролетариатом, работающим на общественной, а не на собственной земле. В период коллективизации миллионы людей умерли от голода в деревнях, погибли в тюрьмах, ссылках или на этапе{26}. Масштаб катастрофы, вызванной коллективизацией, сравним, в общеевропейском контексте, лишь с последствиями «clearances» — чисток Северо-Шотландского нагорья (когда местных жителей силой выселяли из своих домов, а их земли отдавали под разведение овец) вкупе с ирландским картофельным голодом, унесшим чуть ли не половину населения Ирландии. Похожим было и общее настроение, царившее во время двух этих исторических экспериментов. Британское правительство и так называемые просвещенные землевладельцы конца XVIII — начала XIX века рассматривали выселение крестьян (или терпимое к нему отношение) без выдачи им хотя бы продуктового пособия, а также подстрекательство к эмиграции ради сокращения численности населения — как единственно возможный способ обращения с невежественной и бесполезной частью населения, с которой им приходилось иметь дело. Схожим образом советские власти депортировали противников коллективизации. И подобно тому как рассудительные, трезвомыслящие, склонные к филантропии государственные мужи в Лондоне или Эдинбурге считали, что фермеры-арендаторы не заслуживают иного к себе отношения, советские патриоты в Москве, Ленинграде, Киеве и других больших городах относились к полумертвым от голода крестьянам, просящим подаяния на улицах, как к неизбежным издержкам исторического прогресса[24]. В стране царил железный закон «внутренней колонизации». Каждая «кулацкая» семья, испытавшая репрессии, понесла ужасные человеческие потери. Семья Ивана Твардовского с тремя маленькими детьми была выселена из своего дома в Смоленской области в марте 1931 года. Взять с собой разрешили только самое необходимое: топор, некоторую кухонную утварь, мыло и спальные принадлежности. «Плакали и прижимались к матери наши младшие — Павлик, Маша, Василек: “Мама! Куда нас? Мама-а! Куда мы?” — Они запрокидывали головы и тянулись к лицу матери, обхватывая и цепляясь за ее одежду, просили ответа, просили защиты. Мать сама была не своя. Она металась, собирала всякие вещички, из рук все падало, в отчаянии, роняя слезы, обнимала детей. И тут же, не своим уже голосом, пробовала еще и успокаивать их: “Детки мои! Ну что же вы?? Ну ладно, не плачьте же, дорогие мои, деточки мои!”»{27} Твардовским, можно сказать, повезло: им удалось взять с собой немного вещей, а так как представители власти, ответственные за раскулачивание их семьи, стыдились того, что делали, выселение обошлось без дополнительных унижений, угроз и насмешек, как это обычно происходило в подобных случаях. Официальная доктрина «классовой борьбы» требовала безжалостного отношения к «врагам», но их уничтожение служило не единственным мотивом коллективизации. Поборники реформ считали такие меры необходимыми для искоренения «всеобщей отсталости» русской деревни. В рассказе 1926 года Евгения Замятина описывается типичный для того времени случай. В последние годы Первой мировой войны простодушный Степка, которому отец не разрешил уйти в монастырь, а отправил в город работать на фабрике, пишет домой письма об удивительных для себя открытиях: оказывается, Бог — всего лишь выдумка, а вместо Библии нужно читать какого-то Маркса. Тем временем в селе, откуда Степка родом, внимание активистов-общественников привлек местный помещик и его коллекция заграничных скульптур, изображавших неведомых языческих богов. В конце концов в далекое Степкино село просочились известия о том, что в городе происходит какая-то революция, с демонстрациями и флагами. Сельские жители решают присоединиться к революции посредством штурма помещичьей усадьбы. Вдохновленные неожиданно вернувшимся в родные края Степкой, взбунтовавшиеся крестьяне собираются убить помещика и перебить его коллекцию. Однако, узнав, что одна из скульптур — это статуя «Маркса», крестьяне оставляют ее в целости и сохранности. Скульптуру грузят на телегу, и она возглавляет триумфальное шествие по деревне. Ошибка обнаруживается намного позже, когда из города приезжает «настоящий оратор» и объясняет темным крестьянам разницу между римским богом войны и автором «Капитала». В замятинском рассказе бессвязные воспоминания человека из села Куймань Воронежской губернии («вся природа у нас там расположена в сплошном лесу») схвачены и переданы некоторые особенности революционной атмосферы, царившей в глубинке. Страстное желание крестьян свести счеты со своими помещиками стало одной из основных причин коллапса центральной власти. Но в то же время политическая мотивация крестьянского бунта недооценивается. Революция в провинции — вовсе не цепь комических недоразумений, вызванных наивностью деревенских дурачков, это вполне осознанная, основанная на корыстном интересе попытка завладеть самым ценным для крестьянина — землей. Отсюда и массовая поддержка партии социал-революционеров, обещавших отдать землю в прямую собственность крестьянам. В то время как национализация экономических ресурсов, сторонниками которой выступали большевики, апеллировала к рабочим, обещая увеличение их влияния на рабочих местах, ожидания крестьян, жаждущих земли, оказались обманутыми. Как и Е. Замятин в рассказе «Слово предоставляется товарищу Чурыгину», большевики, не вдаваясь в локальные различия, представляли русскую деревню экономически и интеллектуально отсталым, закоснелым институтом. После победы в Гражданской войне (1921), во время которой огромные сектора сельского населения поддерживали их оппонентов, большевики поставили перед собой колоссальную задачу: утвердить центральную власть в русской глубинке. При этом в своих действиях они руководствовались не только убеждением, что русское крестьянство представляет собой непримиримого политического противника, но также и патернализмом и культурным миссионерством, унаследованным от дореволюционной русской интеллигенции. В их представлении, крестьяне, с одной стороны, должны оставаться покорной массой, пусть даже для этого придется применить насилие, а с другой — стать достаточно цивилизованной социальной группой, чтобы соответствовать культурному уровню городского населения.Твердая линия
Уже в эру военного коммунизма (1918—1921) была предпринята первая короткая попытка коллективизации. Несмотря на страшное сопротивление крестьян, за этот период число коллективных хозяйств выросло приблизительно от 1000 до более чем 15 000.{28} Но момент был упущен с введением в 1921 году новой экономической политики, когда партийное руководство предоставило ограниченную свободу частным предпринимателям, чтобы привлечь инвестиции, необходимые для подъема экономики, разрушенной революцией, мировой и гражданской войнами. В этот период движение коллективизации вынужденно опиралось главным образом на пропаганду и энтузиазм местных активистов и развивалось параллельно с добровольным движением коммунаров, в котором группы энтузиастов образовывали сельскохозяйственные артели по собственной инициативе (прототип кибуцев в Израиле). Однако с возникновением экономической централизации и насильственной индустриализации, а также с принятием первого пятилетнего плана в 1928 году вопрос о коллективизации встал с новой остротой. В связи с притоком миллионов новых рабочих на заводы и фабрики, что было необходимо для развития промышленности, партия поставила задачу чрезвычайной важности: обеспечить растущее городское население достаточным количеством продуктов. К несчастью, в 1927—1928 годах в основных хлебных областях на юге страны урожай оказался скудным, и это предвещало серьезный продуктовый кризис в самое неподходящее время. Попытка разрешить проблему с помощью рынка провалилась: низкий уровень государственных закупочных цен на зерно привел к тому, что крестьяне перестали торговать, придерживая свою продукцию в закромах до лучших времен. Тем более что выпускаемые в то время промышленные товары отличались низким качеством и оставались труднодоступными, так что деньги тратить было не на что. Все эти обстоятельства сыграли на руку сторонникам твердой линии, в частности Сталину, который считал, что терпимому отношению к крестьянскому стяжательству — то есть к желанию людей продавать свою продукцию по выгодным ценам — нужно положить конец. Требовалось каким-то образом заставить крестьян внести свой вклад в общее государственное дело. На тот момент это означало реквизицию зерна, которое крестьяне отказывались сдавать добровольно, а на близкое и более отдаленное будущее планировалось построить вместо мелких предприятий большие эффективные структуры, которые бы работали на благо всего народа, а не на обогащение отдельных частных производителей. В этот период многие администраторы высшего звена вынашивали утопическую мечту: создание сети не столько мелкомасштабных колхозов, сколько совхозов, или государственных ферм — индустриализованных предприятий, в которых на земле трудились бы рабочие, а не кооперативные фермеры{29}. Авторитарный характер этих мер прикрывался распространенным мифом о том, что все простые крестьяне — бедняки и середняки — поддерживают коллективизацию и лишь кулаки, крестьянская элита, яростно ей сопротивляются. Само слово «кулак» имело в традиционной крестьянской культуре ряд уничижительных значений, в том числе «скряга», «барышник», «перекупщик», и чаще всего употреблялось по отношению к крестьянам, торгующим зерном{30}. До и после революции это слово использовали как народники, так и социалисты, чтобы заклеймить тех членов общества, которые, по их мнению, могли впоследствии вырасти в мелкую буржуазию. Сразу после революции большевики объявили войну этой социальной группе. Ленин говорил: «…к кулакам, преступникам, мучающим население голодом, из-за которых страдают десятки миллионов, к ним мы применяем насилие». И среди задач, которые он поставил перед партией в феврале 1918 года, наиважнейшей считалась отправка в провинцию активистов, чтобы «разъяснить деревне, что кулаков и мироедов необходимо урезать»{31}.[25] Неравенство в деревнях называли наследием «капитализма»: после освобождения крепостных в 1861 году образовалось свободное крестьянство, способное покупать и продавать недвижимое имущество, сельское общество стратифицировалось, появились «жирные коты», быстро скупающие землю, в то время как другие крестьяне едва сводили концы с концами, борясь за свои жалкие наделы, а то и вовсе опускались до безземельных работников. Такой взгляд на вещи игнорировал неравенство среди крестьян, существовавшее задолго до их освобождения. Благополучие сельских жителей в начале XIX века во многом зависело от географического положения (крестьяне, проживавшие вдоль западных границ, вели жалкое существование по сравнению с крестьянами в центральной России и тем более в плодородной Украине), от компетентности и доброй воли местных землевладельцев и их управляющих, а также от возможности заниматься другим, не сельскохозяйственным трудом (рыбной ловлей, ремеслами, сезонными работами в городах). Тем не менее, образование земельного рынка и развитие торговли сельскохозяйственной продукцией и мануфактурой открыли новые возможности для крестьянских предпринимателей. Московские и Петербургские книги купеческих гильдий конца XIX века свидетельствуют о возрастающем числе купцов крестьянского происхождения, способных платить достаточно высокие налоги, что обеспечивало им принадлежность к третьей и второй гильдиям. Да и в самой деревне появляется эквивалент ирландскому «сильному фермеру» — преуспевающему крестьянину, который нанимает батраков для возделывания земли. Герой романа Толстого «Анна Каренина» Левин навещает такого крестьянина: жизненный уклад его семьи представляет собой утопическую мечту о мирном сотрудничестве и мудром патриархальном порядке. С другой стороны, двадцатью годами позже Толстой в «Хозяине и работнике» описывает помещика-традиционалиста, который обеспокоен тем, что сельских предпринимателей охватывает страсть наживы. Антигерой Брехунов, безжалостный и алчный предприниматель, настолько одержим желанием заключить сделку, что настаивает на поездке в буран: это трагически заканчивается для него самого и для его лошади (работнику же его удалось выжить только чудом). Ощущение, что в деловой хватке есть «что-то нерусское», вообще было широко распространено среди русского дворянства и интеллигенции[26]. При Петре Столыпине, министре внутренних дел с апреля 1906 года и одновременно премьер-министре с июля того же года, поддержка преуспевающих независимых фермеров стала официальной политикой. Ужасные беспорядки во многих сельских районах Российской империи в 1905—1906 годах утвердили правительственных чиновников и землевладельцев в мысли, что традиционная форма социальной организации деревни с ее общиной, или «миром», превратилась из оплота политической стабильности в источник беспорядков. В результате в ноябре 1906 года появился свод законов, разрешающих выход из общин и образование частных ферм. По замыслу царских государственных деятелей, новые частные земельные собственники должны были составить патриотически настроенный становой хребет нации, поддерживающий государственную власть. На практике получилось иначе. Прежде всего, реагировали на реформы по-разному. В некоторых районах — в основном в волжских степях — крестьяне с готовностью приветствовали открывающуюся возможность раздела земли, в отличие от жителей других районов, например Крайнего Севера. Но даже там, где деревня поддерживала реформу, ее результаты были неоднозначными. Община могла, скажем, согласиться с переделом земли в оборонительных целях — чтобы предотвратить попытки некоторых крестьян выделиться и завести самостоятельное фермерское хозяйство; могла она и нарезать наделы в соответствии с традиционными представлениями о справедливости, а не с представлениями чиновников о рациональном планировании{32}. И хотя столыпинские реформы способствовали вымиранию общин, к 1917 году в них по-прежнему входило около половины крестьянского населения в сорока семи европейских губерниях Российской империи, а после революции реформа была и вовсе остановлена{33}. Столыпинские реформы имели скорее символическое значение. Крестьяне, ставшие собственниками, приобрели политический вес пропорционально их небольшой численности, так как само их существование бросало вызов общинному духу российской деревни, в который пылко верили многие представители русской интеллигенции. Правда и то, что отношение к таким крестьянам в деревнях складывалось двойственное: невольное восхищение своими более успешными соседями всегда сочеталось с враждебностью[27]. Быть кулаком, конечно, было намного престижнее, чем нуждаться в деньгах: у неплательщиков налогов отбирали землю, что приводило уже к полному обнищанию{34}. Для большевистского режима крестьянские собственники представляли собой большую проблему как в идеологическом, так и в прагматическом смысле. Во-первых, они, без сомнения, представляли собой «классовых врагов», часть наиболее презренной, с их точки зрения, страты — мелкой буржуазии. Во-вторых, неприятие коллективизации в среде таких крестьян было неизбежно, так как она предвещала им мало преимуществ и много потерь. Вообще в крестьянской среде бытовало представление, что кооперация — это работа «на чужого дядю», и чем усерднее и успешнее работал крестьянин, тем больше он был в этом уверен{35}. Таким образом, сельские собственники представляли собой не только мишень для идеологических атак, но и объект целенаправленной борьбы. В борьбе с кулаками использовалось «социальное давление»: проработка на общественных собраниях и в прессе, антикулацкая пропаганда и агитация; применялись и экономические меры, такие как обложение кулаков более высокими налогами. Все это возымело свое действие: некоторые сельские собственники продали свою землю и уехали. К 1927 году только 3,5% земельной собственности находилось в руках «столыпинских фермеров», а 95,5% — по-прежнему у традиционных общин{36}. С точки зрения советского руководства, коллективизация сельского хозяйства была совершенно необходима, но при этом к 1928 году стало очевидно, что ее поддерживает ничтожная часть крестьян. Назревало неизбежное столкновение государства с крестьянством. Оно проявилось в форме насильственной коллективизации 1929—1933 годов. Нанесено было два основных удара: установление квот на сдачу зерна по всей сельской местности, область за областью, и всесторонняя атака на кулаков как ключевых оппонентов коллективизации. В подробном исследовании Сибири Джеймса Хьюза показано, как эти аспекты политического курса претворялись в жизнь на ранних этапах кампании. В марте 1929 года начала действовать система самообложения налогом, которая способствовала увеличению реквизиции зерна на местах. Каждой деревне предписывалась «норма» по сдаче зерна, которая затем распределялась по отдельным крестьянским домам в соответствии с классовым признаком. Уклоняющихся наказывали огромными (пятикратными) штрафами. Решение о наказании принималось на местных деревенских собраниях, которыми теперь руководили «уполномоченные» — приезжие активисты, назначаемые партийным руководством{37}.[28] Таким образом, реквизиция зерна сама по себе была оружием против кулаков, и не единственным. Антикулацкая пропаганда стала еще более агрессивной. Например, в январе—феврале 1929 года в Новосибирске местная газета «Молодой рабочий» инициировала обвинение районной прокуратуры в чересчур мягком отношении к кулакам, расправившимся с активистами. В это же время стало применяться другое экономическое оружие — бойкот кулаков по линии покупки их продукции и принятия на работу. Затем последовала и прямая атака на собственность — массовая конфискация и экспроприация кулацкого имущества: к маю 1929 года в Сибири было конфисковано 8000 фермерских хозяйств. А с ноября 1929-го за отказ сдать зерно полагался немедленный арест. Люди, мобилизованные на реквизицию зерна и борьбу с кулаками, относились к разным социальным группам. Среди них встречались представители партийного руководства — так называемые «уполномоченные» и «политинструкторы», комсомольцы и милиционеры из обычной криминальной милиции, а также работники секретной полиции, которая в то время эвфемистически называлась Объединенным государственным политическим управлением — ОГПУ. В дополнение к перлюстрации писем для выявления недовольных государственной политикой и управлению сетью информаторов, созданной для предотвращения бунтов населения, сотрудники ОГПУ напрямую участвовали в рейдах по раскулачиванию. Весной 1929 года, чтобы придать коллективизации вид демократического движения, были созданы так называемые «бедняцкие активы»: на них возлагалась ответственность за определение норм по сдаче зерна в зависимости от размеров хозяйства и их выполнение. Вовлечение в борьбу против кулачества людей, не имеющих навыка «убеждать» и управлять, да к тому же неподконтрольных местным властям, привело к произволу, хаосу, а зачастую и насилию. Несмотря на более или менее четкое определение статуса кулака, основанное на размере собственности и привлекаемого наемного труда, среди пострадавших от экспроприации много оказалось тех, кто официально кулаком признан не был[29]. Часто раскулачиванием называли настоящее мародерство: участники рейдов конфисковывали в свою пользу все, что приглянется, не исключая детских пеленок и еды со стола. Были случаи физических расправ и изнасилований{38}. С конца 1929 года наступила самая страшная фаза коллективизации. В ноябре была опубликована знаменательная статья Сталина «Год великого перелома», в которой отмечалось особое значение коллективизации для превращения Советского Союза в великую мировую державу. Началась мобилизация так называемых «двадцатипятитысячников»: рабочие-активисты из разных городов были брошены на реализацию кампании. Как правило, новоприбывшие сразу получали ответственные должности — председателя или заместителя председателя колхоза, что, разумеется, усиливало недовольство на местах{39}. 27 декабря 1929 года Сталин выступил с речью, в которой впервые сказал о «ликвидации кулаков как класса». Декрет Центрального Исполнительного Комитета и Совнаркома от 1 февраля 1930 года оформил этот призыв в конкретную юридическую форму: полная конфискация собственности и выселение из родных мест. Дополнительно была спущена секретная инструкция от 4 февраля, согласно которой «кулацкие саботажники» высылались в отдаленные области СССР или на окраины района проживания. И снова использовались механизмы местной демократии: на общих собраниях колхозников, безземельных работников и крестьянской бедноты составлялись списки кулаков, которые затем передавались партийным властям на одобрение{40}. Существовала определенная процедура «раскулачивания». Она начиналась с доказательства статуса кулака на общедеревенском собрании, которое руководствовалось официально утвержденными критериями, такими, например, как привлечение наемного труда. Однако, по воспоминаниям участников событий, на практике к кулакам могли причислить на основании побочных признаков — наличия в хозяйстве лошади, коровы или даже швейной машинки[30]. За этим следовала конфискация собственности, часто сопровождаемая мародерством и насилием. Так, в жалобе из Курганского района сообщалось, что в уральской деревне Белозерск «при обыске женщин и детей было форменное издевательство, раздевали донага детей и женщин. Загнали в маленькую комнату сорок человек женщин и детей и выпускали женщин по одной, при обыске у женщин снимали чуть ли не последние рубашки». Алчность властей не знала границ: в начале 1930-х годов в отчете ОГПУ Тюменской области сообщалось: медные иконы были конфискованы с целью переплавки их на тракторные детали, а золото и доброкачественная одежда (которая также подлежала инвентаризации и конфискации) — просто уворованы{41}. Когда все имущество было разобрано, семью кулака выгоняли из дома; наиболее «опасных» рано или поздно ссылали, сажали в тюрьму или даже казнили. Возможно, для некоторых репрессированных расстрел казался лучшей долей в сравнении с заключением в трудовые лагеря, сеть которых широко разрослась в связи с наплывом заключенных и так называемым «спецпоселением». Между январем и маем 1930 года более 200 000 семей стали жертвами депортации; существенную часть репрессированных (около 40%) составляли дети. Депортированных грузили в переполненные товарные вагоны и везли за тысячи километров от дома. Люди ехали в тесноте и антисанитарных условиях, без подходящей одежды, еды, а иногда и без воды. Это приводило к обезвоживанию и инфекционным заболеваниям, от которых чаще всего гибли дети (например, при транспортировке на Крайний Север — 80% от общего числа умерших){42}.[31] Когда высланные кулацкие семьи приезжали в места назначения, их жизнь не становилась лучше. Районы, которым было приказано принять спецпоселенцев, готовились к их приезду бестолково, да и в любом случае на такое количество новоприбывших (67 000 только в одном Архангельске) не хватило бы и без того скудных местных ресурсов. Временное жилье — грязное, сырое, холодное, без воды и канализации — устраивали, как правило, в недействующих церквах и тюрьмах. Чистой воды и пищи катастрофически не хватало. И снова больше всех страдали дети: в таких условиях бушевали корь, свинка и гастроэнтерологические заболевания. В период с 31 марта по 10 апреля в архангельской больнице умерли 335 детей, прибавьте к этому числу еще 252 ребенка, умерших вне стен больницы. В начале мая в городе Котлас умирало по 30 детей в день. В 1931 году условия немного улучшились, но к 1932/1933 году, когда во всех деревнях свирепствовал голод, положение снова стало ужасным. По словам одного из переживших такие испытания, «особенно гибли малыши». Житель Архангельска, приславший анонимное письмо в «Правду», писал, что трупы детей свозились на кладбище по три-четыре сразу, часто без гробов — просто в ящиках{43}. Жизнь кулацких детей, прошедших через голод и эпидемии, сравнима с жизнью детей из беднейших крестьянских семей до 1917 года. Ручной труд и попрошайничество, недоступность образования были знакомы им с ранних лет. Дочь одного крестьянина, обвиненного в кулачестве, вспоминает: «В 1935 году в поселке открыли школу, сестренка с братиком пошли учиться, а мне ходить в школу было не в чем, да и дома надо было кому-то управляться»{44}. В начале 1930-х годов, по крайней мере в некоторых местах, кулацких детей не принимали в ясли и детские сады{45}.[32] Их не брали в пионеры даже после того, как членство в пионерской организации стало общераспространенной практикой, а не привилегией детей с безупречным классовым происхождением, доказавших свое идеологическую преданность«Из тьмы в свет»
Чтобы, оглядываясь назад, понять, почему активисты без возражений поддерживали крайне несправедливую большевистскую политику коллективизации, необходимо помнить о ее втором направлении — о стремлении цивилизовать отсталую в культурном отношении часть населения, вытащить деревню «из тьмы в свет». С тьмой в буквальном смысле слова должна была покончить электрификация. (На самом деле многие советские деревни оставались без электричества до 1960 года, а некоторые — и вплоть до начала XXI века. Однако одним из широко распространенных образов большевистской пропаганды 1920-х было изображение седой деревенской старушки, в восторге глядящей на «лампочку Ильича», которая воспринималась как личный подарок от Ленина.) Кроме того, просвещение российской деревни предполагало всеобщее образование. Со второй половины 1920-х годов сельские дети считались особенно важной социальной группой, они одновременно служили и основной мишенью пропаганды, и потенциальными пропагандистами. Отчасти это объясняется тем, что советизация в принципе была направлена главным образом на детей. Чиновникам министерства просвещения царской России мерещились политические мотивы в любых проявлениях социальной активности, так что даже родительские комитеты разрешили только с декабря 1905 года, и то в ограниченной форме, а общественных организаций учащихся практически вовсе не существовало. В то же время сразу после Февральской революции 1917 года политическая активность детей значительно возросла. Они стали посещать школьные собрания и имели своих представителей в школьных комитетах, участвовали в местных общегородских собраниях и политических демонстрациях, а в некоторых случаях даже учреждали собственные политические организации. В газете «Красные зори», которая недолгое время выходила в Петрограде (1919), одна девочка из Вологды с мстительной гордостью описывает, как ей и ее товарищам удалось сорвать митинг кадетов: они устроили коллективное голосование, забросали президиум оскорбительными записками и выкрикивали лозунг «Да здравствует рабочий класс!»{58}. Однако по мере того как росла политическая активность большевиков, эта всеобщая свободная общественная деятельность все больше и больше подпадала под их контроль. Можно сказать, что с окончанием Гражданской войны было покончено со стихийной социальной активностью взрослых, а с конца 1921 года партия всерьез озаботилась взятием под контроль политической активности детей, в особенности от девяти до четырнадцати лет. Дети старше четырнадцати находились уже под контролем комсомола, созданного в 1918 году. Во время Гражданской войны к комсомолу примкнуло некоторое количество младших детей, но в мирное время правила приема сделали более строгими, так как стало очевидным, что присутствие в организации младших детей мешает серьезным дискуссиям на собраниях и лишь ослабляет роль комсомола в политике переходного периода. Как следствие, в конце 1921 года руководство комсомола поставило вопрос о создании отдельной политической организации для детей младшего школьного возраста. Сначала приняли прагматическое решение: прибрать к рукам уже существующее и хорошо организованное скаутское движение. Не все активисты поддержали эту идею, многие выступали против «наследия империализма и буржуазии», хотя и признавали, что в нем есть некоторые прокоммунистически настроенные лидеры. Они утвердились в своих сомнениях, когда в 1922 году международное скаутское движение признало скаутские организации русских эмигрантов. Такое развитие событий исключало какое бы то ни было сотрудничество между скаутами и советским молодежным движением. В результате в мае 1922 года в Москве родилась новая советская организация — юных пионеров. В том же 1922 году скаутское движение было запрещено, а пионерская организация стала стремительно монополизировать политическую активность детей и к началу 1930-х годов контролировала всю внешкольную жизнь младших школьников. По административной линии пионерская организация подчинялась комсомолу. Но в отличие от партии и комсомола, она не организовывала конгрессы и конференции, на которых обсуждались серьезные политические вопросы, а проводила только «слеты» для чествования пионерских достижений. Тем не менее, эффективность пропагандистской работы в пионерском движении была чрезвычайно высокой: для этой цели издавались специальные книги, брошюры, журналы и газеты. В начале 1924 года вышел первый номер журнала «Пионер», посвященный похоронам Ленина, а к 1925 году у организации появилась собственная газета — «Пионерская правда», которая в 1926-м стала официальной газетой всесоюзного пионерского движения{59}. И все же самым важным инструментом советизации молодого поколения оставалась школьная система. Следует уточнить, что в первые годы советской власти не все дети имели возможность учиться. Закон о всеобщем начальном образовании вышел только в 1930-м с тем расчетом, что к 1932 году он полностью претворится в жизнь. Но в реальности этот процесс занял намного больше времени, отчасти потому, что школы плохо финансировались, в них царил беспорядок, не хватало оборудования и компетентных учителей, способных применять новые методики обучения, спущенные Наркомпросом. Школьная программа упорядочивалась медленно, первые инструкции по согласованию программы обучения появились в середине 1920-х годов. Но и после этого учителя сохраняли достаточную свободу выбора в том, что касалось учебников или объяснительного материала. Как бы то ни было, к концу 1920-х годов среди преподавательского состава в советских школах высокий процент составляли совсем молодые учителя, едва отличающиеся по возрасту от своих учеников. Они получили образование — полностью или по большей части — уже при советском режиме и горели желанием передать школьникам все, что знали сами об эгалитаризме, интернационализме, рациональном коллективизме и социальной справедливости[35]. Этих молодых энтузиастов по распределению отправляли в отдаленные районы, где открывались новые школы, необходимые для внедрения всеобщего начального образования. Сеть школ быстро росла: к 1939 году более 80% целевой возрастной группы посещали начальную школу, при этом уместно предположить, что еще большее число детей ходили в школу в какие-то периоды своего детства, но не на регулярной, не на беспрерывной основе{60}.[36] Школьная система должна была не только развивать интеллектуальные способности детей, но и закладывать основы коммунистической морали, воспитывать советский патриотизм и социальную активность. На заре советской эпохи в детях видели не просто «будущих граждан», которых следовало обучать современной политике, чтобы они могли впоследствии участвовать в общественной жизни; на них возлагали основную надежду как на преобразователей общества. В школьных учебниках и пропагандистских материалах приводились в пример отважные, энергичные подростки (в основном мальчики). Главными положительными персонажами художественной литературы, публиковавшейся в детских журналах в эти годы, оказывались юные герои, сражавшиеся вместе с красными партизанами в Гражданскую войну. Газетные статьи призывали детей приучать к новым ценностям «отсталые элементы» у себя дома, в том числе не только младших братьев и сестер, но и взрослых членов семьи. Такого рода материалы особенно широко распространялись в конце 1920-х — начале 1930-х годов, в годы так называемой «культурной революции». Тогда широко пропагандировалась кампания «за новый быт», советских граждан призывали к борьбе с грязью, беспорядком, прозябанием, суевериями и религиозными предрассудками ради целеустремленной, трудовой, плодотворной жизни согласно законам науки и правилам гигиены. Ниже приводится рекомендательный список дел на год, опубликованный на обложке первого номера журнала «Пионер» за 1931 год:ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ДОМАОчевидно, что материалы такого рода в основном рассчитаны на городских детей — и не только из больших городов, но и из рабочих поселений вокруг одного или нескольких заводов, составлявших в то время основу рабочего населения. Но с конца 1920-х годов организаторы пионерского движения стали постепенно вовлекать в активную социальную жизнь и деревенских детей, продвигая их в пионеры. Расширялась сеть юных корреспондентов — «юнкоров»: в 1928 году стал выходить новый журнал «Дружные ребята», в котором описывались трудовые будни деревенской детворы. А в 1930 году состоялся первый конгресс «деткоров» (детских корреспондентов; говорили еще «пикоры», т.е. пионерские корреспонденты, но эта аббревиатура употреблялась реже). Конгресс был своего рода маркетинговым исследованием с целью определить на примере этих детей, какое чтение могло бы заинтересовать юного сельского жителя на тот момент. Как только коллективизация превратилась в одну из самых важных, а точнее, в самую важную составляющую сельской политики, ее стали освещать не только во взрослой, но и в детской прессе. В газетах и журналах печатались статьи, призывавшие пионеров брать пример с комсомольцев и «двадцатипятитысячников» и вступать в бригады, распространявшие пропагандистские материалы о коллективизации. (Статьи такого рода неоднократно печатались в течение 1930 года, например в «Пионерской правде»). В подобных публикациях воспевались достижения районов, где коллективизация была успешно завершена: в июне 1930 года журнал «Пионер» триумфально объявил, что тридцать кулацких хозяйств ликвидированы в Березовском районе Одесской области. (Само собой разумеется, что при этом ничего не говорилось о человеческих жертвах.) Пресса внушала детям, что они должны стать главными идеологами в семье. «Вовлечем своих родителей в колхоз» — гласил заголовок в ленинградской пионерской газете «Ленинские искры» от 23 марта 1930 года. И в довершение ко всему, журналы и газеты для детей вскрывали звериную сущность кулачества, описывая злодеяния кулаков. Изредка, в отдельных статьях признавалось, что кулацкие дети, если они еще не достигли подросткового возраста, могут быть и невиноваты[38]. Но в школах ученикам рассказывали о кулацкой «пятой колонне», внушая им мысль, что потомки кулаков также таят в себе угрозу. А уж тот факт, что сами кулаки — это нелюди, не заслуживающие никакого сочувствия, вообще не подвергался сомнению: они готовы пойти на все, чтобы отстоять свои эгоистические интересы, они проникают в сельсоветы и общины, чтобы разложить движение коллективизации изнутри; они эксплуатируют детей в качестве дешевой рабочей силы. И, наконец, они вооружены и постоянно нападают не только на взрослых активистов и школьных учителей, но и на пионеров и «деткоров». В прессе появился настоящий детский мартиролог кулацких жертв. «Пионерская правда» 22 января 1930 года сообщала о жестокой расправе над пионерами, а в декабре 1930-го она же писала о еще более страшном случае: 13-го числа в городе Гянджа в Азербайджане был убит пионер Гриша Акопов. При этом газета выражала озабоченность тем, что местные власти не предприняли в ответ подобающих действий. Пройдет некоторое время, и в ранг жертвы-мученика вознесут Павлика Морозова. Не замедлили объявиться и литературные произведения, где проводилась идея о социальной опасности кулаков, в первую очередь для самой уязвимой части общества — детей. Так, в рассказе, опубликованном в «Ленинских искрах» 20 января 1930 года, описан антигерой Терентий, владелец лавки и кулак, который нещадно эксплуатирует маленького Пашку, заставляя его выполнять сверхурочную работу. «Юнкор» Игнашка обличил Терентия в плохом обращении со своим малолетним работником. В ответ Терентий не долго думая схватил ружье и чуть было не пристрелил Пашку, но, по счастью, промахнулся. На эту же тему в детской прессе того времени публиковались вирши, например такие:
САГИТИРОВАТЬ отца, братьев, родных и знакомых, чтобы они закрепились на своем производстве до конца пятилетки. Бороться за культурный быт, за гигиену (проветривать комнаты, следить за чистотой и т.д.) Изжить религиозный дурман, разоблачать поповские басни. Объяснить своим родным решающее значение третьего года пятилетки. Заключать договоры соцсоревнования с родителями или братом, работающем на производстве[37].
«Информант: Даже нельзя было отцу сыну сказать что-то секретное, боялися, настолько этот черный ворон хватал людей. Собиратель: Боялись, что… Инф.: Ну, боялись что-то сказать… Соб.: …боялись, что донесет кто-то? Инф.: …что донесут. Боялись, очень люди напуганы были. Боялися, что, когда коллективизация началась, это такой кошмар был. Значит, вот в школу мы ходили с ним в четвертый класс, Петя его звали. Евонный дядя, отец убили председателя сельсовета, а почему убили? Значит, объединили весь скот и лошадей. У них, у этих, у Пети и у отца у его, взяли хорошую лошадь, и этот председатель совета на ней ездил, его взяли в колхоз. И председатель сельсовета ездил на ней, ну, а им это, видно… Ну, жалко было лошадь, конечно, и они его убили. Они его убили, этого председателя, и свезли в озеро опустили. А лошадь загнали дальше, задушили ее, эту лошадь. И этого председателя сельсовета поймали весной в озере, неводом, ловили рыбаки рыбу и его поймали. И у него к поясу привязан был камень, чтобы он не поднялся, и его поймали. А рассказал все вот этот Петя, мальчик, он видел все, сын, сын тех… которые убивали. Он видел и рассказал, говорит: “Убил дядя… забыла… Матвей, убил дядя Матвей, и была кровь на воротах, мама затирала кровь золой”. Вот это все он рассказал. Соб.: Это у Вас произошло? Инф.: Это в нашем колхозе было»[42].Таким образом, детский опыт во время коллективизации трудно охарактеризовать как нечто однородное. Были дети, пострадавшие вместе со своими родителями от раскулачивания. При мысли о жертвах прежде всего вспоминаются они. У Андрея Платонова в его большом аллегорическом романе «Котлован» (1929) смерть молодой девушки символизирует не только духовную пустоту социалистического строительства, но и трагизм человеческого бытия как такового. Роберт Конквест в своей книге о голоде и истории раскулачивания «Жатва скорби» тоже обращается к теме детей — жертв коллективизации: это и изнуренные голодом дети спецпоселенцев, и голодающие дети Украины. Но нельзя сказать, что они были только пассивными жертвами, некоторые из них сами участвовали в политических действиях, разоблачали взрослых и работали на коллективизацию в пропагандистских бригадах. Примечателен, если не уникален, тот факт, что в пору ранней советской истории школьник, с одобрения партии или комсомола, наделялся большим общественным весом, чем взрослый из категории официально отверженных социальных групп, чем, например, какая-нибудь верующая бабушка из «отсталой» деревни. Именно этот контраст между наделенными общественным весом детьми и бесправными взрослыми бросается в глаза в следственном деле Павлика Морозова. Но, обращаясь к этому делу, важно учитывать атмосферу, царившую на восточной окраине Уральского района, на границе с Сибирью, там, где произошла история Павлика: местные условия и особенности коллективизации оказали большое влияние на создание и развитие легенды о Павлике Морозове.
Глава 2. ГЕРОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
С середины 1930-х годов и до конца своего существования Советский Союз оставался страной, где иерархия играла важнейшую роль: города, гостиницы, обеспечение продуктами, государственные награды (даю лишь короткий перечень) распределялись по «первой», «второй» и «третьей» категориям. Так же, по категориям, негласно классифицировались и герои. Продвижение по иерархической лестнице в Советском пантеоне начиналось со своего коллектива — в учебном заведении, например, или на работе, или даже в трудовом лагере. Достижения ударников труда прославлялись в стенгазетах, успехи отличников учебы — на пионерских собраниях. На досках почета вывешивались имена передовиков и, наоборот, на досках позора, в назидание, — имена отстающих. В особых случаях о передовиках производства публиковались хвалебные статьи в местной прессе с фотографией отличившегося труженика на фоне, скажем, токарного станка, или доильного аппарата, или просто за рабочим столом. Некоторые продвигались на следующую ступеньку славы: о них писали в центральной газете, а это событие — если обстоятельства благоприятствовали — влекло за собой целый ряд разнообразных поощрений: вручение медали, публикацию биографии в официальном издании, присвоение имени прославленного труженика улице, учреждению или даже городу, установление мемориальной доски, бюста, а то и полноразмерного памятника. Слава героев «всесоюзного значения» — обладателей самого высокого статуса — достигала таких вершин, что их личные корни теряли значение. Так, название города в заголовке агиографической повести 1940 года, посвященной партийному руководителю Кирову, «Мальчик из Уржума» лишь подчеркивало псевдоанонимность героя и недвусмысленно намекало на то, что речь шла о партийном руководителе Сергее Кирове, убитом в 1934-м. Подобным образом упоминание Назарета в гипотетическом заголовке «Мальчик из Назарета» не оставило бы сомнений в том, что имеются в виду страсти по Иисусу Христу. В обоих случаях место прославилось благодаря своему выходцу, но не наоборот. В то же время среди героев советской мифологии были и такие, чья малая родина составляла неотъемлемую часть мифа. Примером может служить грузинское происхождение Сталина. В ходе своей посмертной «карьеры» Павлик Морозов несомненно достиг статуса героя «общесоюзного значения». В канонических текстах, таких как статьи в энциклопедии, говорится, что он родился в Герасимовке — так могла называться любая русская деревня, вне зависимости от географического положения. Мало кто из тех, кто знакомился с этим мифом, будучи пионером или просто школьником, смог бы точно вспомнить место рождения мальчика, особенно учитывая то обстоятельство, что памятники ему воздвигались повсеместно. При этом корни Павлика сыграли решающую роль в развитии его культа, который зародился как специфически уральское явление. Местная история и региональная политика оказали большое влияние на эту легенду в начале ее существования.Сталь и горы
При поверхностном изучении вопроса идея о глубинности связи между мифом о Павлике и Уралом может показаться несколько неожиданной. История отважного деревенского мальчика, бросившего вызов кулакам, противоречила стандартному представлению об атмосфере на Урале и в Западной Сибири конца 1920-х — начала 1930-х годов. В пропаганде эта огромная территория обычно изображалась как мощный индустриальный район, известный не только отдельными заводами вроде Уралмашстроя, но и новыми городами, в частности Магнитогорском, и целыми промышленными регионами, прежде всего Урало-Кузнецким бассейном («Урал-Кузбасс»), прославляемым как мировой центр угля и стали{66}. Пионерская пресса регулярно писала об этих «великих стройках», и считалось позором, если дети обнаруживали недостаточные о них знания{67}.[43] По мере того как в 1932—1933 годах коллективизация оборачивалась репрессиями, хаосом и голодом, советская пресса, включая детские издания, уделяла все большее внимание достижениям промышленности, наиболее яркие примеры которых находили на Урале. Этим же отличалась и пролетарская поэзия того периода. Типичным примером может служить непреднамеренно абсурдистское стихотворение Константина Митрейкина, напечатанное в 1932 году. Оно так же изобилует несуразными метафорами, как Урал — минеральными рудами:Кулаки-белобандиты
Привить коллективизацию в обычных бедных, традиционных деревнях было трудной задачей, но еще большую проблему представляли собой деревни с переселенцами, покинувшими родные места ради земли. В 1900 году один сибирский поселенец сказал английскому путешественнику: «Вся эта земля будет наша»{75}. Очевидцы вспоминают, что крестьяне, решившиеся ехать на восток, имели независимый, крутой характер и не терпели прекословия[45]. Герасимовку населяли как раз такие. Наделы у них были невелики — в несколько гектаров пригодной для обработки земли, не больше, но держались за них крепко. Большинство жителей не хотели сдавать свою личную собственность в колхоз. Число крестьян, якобы вступивших в колхозы в Тавдинском районе к февралю 1930 года (80%){76} — явная выдумка. В отчетах местные власти признавали, что дезертирство из колхозов было массовым{77}. В январе 1931-го всего лишь 9,5% хозяйств района и только 4,2% крупного рогатого скота принадлежали колхозам. (В это же время средние показатели по всему огромному Уральскому региону составляли 38,8% и 25,9% соответственно{78}.) К апрелю в Тавдинском районе цифры увеличились лишь до 13,1% и 6% (сравнительно с 32,9% и 27,3% по всему Уральскому региону){79}. В октябрьском отчете 1934 года зафиксировано, что к 1 января 1932-го 31,4% крестьян-единоличников Тавдинского района вступили в колхозы, что казалось большим продвижением. Но к февралю 1933-го эта цифра возросла не более чем до 33%, а к июлю 1934-го — только до 36%.{80} По мере того как средние показатели коллективизации увеличивались, давление на местные власти — чтобы они встроили в общую линию строптивых «единоличников» — возрастало. До сего дня старожилы Герасимовки помнят, как то и дело увеличивались поборы («молоко ждай, мясо ждай, шересть ждай»). Но нежелание крестьян отдавать землю, ради которой они уехали с семьями за тысячи верст, оставалось непоколебимым. Большие расстояния между поселениями, разбросанными по труднопроходимым просторам, еще больше осложняли властям ситуацию[46]. Сообщения о неподчинении крестьян достигали районный центр только на вторые сутки, и требовался еще день для того, чтобы послать уполномоченного разбираться с проблемой. К тому же партийным руководителям заметно не хватало опыта, навыков работы и просто элементарной грамотности[47]. Недостаток знаний и опыта руководящей работы с лихвой возмещался энтузиазмом. Так, в местной печати и на партийных собраниях на районном и более низком уровнях все чаще стало употребляться слово «кулак». Оно использовалось почти исключительно как идеологический, а не экономический термин: «кулак» — значит классовый враг, и этот ярлык наклеивали направо и налево: саботажникам, хулиганам и вообще любому, чей социальный статус вызывал сомнение. Часто такие словесные нападки бередили еще не зарубцевавшиеся раны Гражданской войны, которая с яростной неистовостью пронеслась по этому краю и оставила по себе страшную память. В период между июлем 1918 и августом 1919 года Тавда находилась под контролем белых. В июле 1919-го они расстреляли тринадцать коммунистов; перед отступлением нанесли значительный ущерб товарной станции Тавда. Многие рабочие ушли в тайгу и там организовали партизанские отряды. Однако среди сельских жителей поддержка красных не была очевидной. С января 1921 года по всей Западной Сибири начались восстания крестьян. В марте жители деревни Тонкая Гривка, находившейся всего лишь в двенадцати километрах от Герасимовки, напали на шестерых красноармейцев, посланных конфисковать зерно, и пятерых из них убили{81}. При коллективизации распространилось выражение «кулаки-белобандиты»: раньше «белобандитами» называли только офицеров и солдат Белой армии, теперь же оно стало повсеместно употребляться в адрес саботажников, поджигателей и просто местных членов партии, до которых доходила очередь во время чисток[48]. «Классовая борьба» среди местного населения разгорелась не на шутку. Жертвой раскулачивания, проводящегося с неоправданной жестокостью и с полной конфискацией имущества, мог стать кто угодно, что, впрочем, характерно не только для этого района. В феврале 1930 года, например, приехавший домой с производственного слета лесник обнаружил, что хозяйство его разорено, а сам он признан кулаком. В том же месяце с другого раскулаченного крестьянина сняли его новые рубаху и тулуп, а взамен под издевательское улюлюканье надели поношенную телогрейку[49]. Случаи подобных злоупотреблений, а также драконовские штрафы, налагавшиеся не только на богатых, но и на бедных крестьян, безжалостное раскулачивание и продажа конфискованных вещей с целью личной наживы происходили еще в течение двух лет{82}. При этом даже местные издания не напечатали ни одного материала о правонарушениях во время коллективизации. Сельское хозяйство, в любом его аспекте, мало занимало тавдинских журналистов. Как и в центральной прессе, акцент в районных органах печати делался на индустриализацию и достижения первой трудовой пятилетки. Само название тавдинской газеты, органа районного комитета коммунистической партии, отражает эти приоритеты. Газета, изначально выходившая под названием «Пила», превратилась сначала в «Тавдинскую лесопилку», а потом, в 1931 году, ей дали менее оригинальное, но более живучее название «Тавдинский рабочий». Местные журналисты были полностью поглощены событиями на лесокомбинате, поддерживавшем жизнь населения на реке Тавда и объединявшем лесопилку и деревообрабатывающую фабрику, которая производила фанеру и, с конца 1930-х, лыжи, лодки-плоскодонки и другой потребительский продукт. Газета, кроме того, публиковала резолюции руководства по развитию промышленности. Материалы на более маргинальные темы отражали городские будни и обычно подавались в оптимистическом ключе: открытие нового Дома культуры, строительство детских садов и небывалые успехи учеников образцовой начальной школы. Урбанистическо-пролетарский уклон прессы сочетался с большой степенью нетерпимости по отношению к глубинке. Очерки о передовых колхозах сопровождались изображениями патриархальной деревни как мира, населенного косными и просто антисоветски настроенными личностями, которых необходимо взять под жесткий контроль и «СЛОМИТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ РОГАТКИ», как призывала статья, опубликованная 30 ноября 1930 года, обличавшая крестьян в несвоевременной сдаче зерна. На кулаков возлагалась ответственность и за все несчастные случаи, происходившие в Тавде, например пожар в местном клубе в конце декабря 1930-го. И конечно, все газеты публиковали сообщения о кулацких нападениях на активистов, напоминая о коварности классового врага. Обычно репортаж об убийстве сопровождался призывом к фабричным рабочим требовать сурового наказания для преступников. Такие народные обращения публиковались в последующих номерах газеты.«Позорно плетется в хвосте»
Как правило, для гонений выбирались отдельные деревня или человек. Дальше дело брали в свои руки «селькоры», которые любили подписывать свои статьи эффектными псевдонимами, такими как «Бич» — это означало, что автор выявляет и «бичует» зловредную сущность отдельных черт характера или вообще личность, подвергающуюся гонениям. Такой-то и такой-то «кулак-белобандит» тайком вырезал свиней, такой-то и такой-то председатель замечен в постоянном распитии спиртного вместе с кулаками[50]. В течение последующих двух с половиной лет местная газета напечатала немало обвинительных статей подобного рода о саботаже в деревнях — касались ли они сдачи зерна, уплаты налогов или поставки рабочей силы во время авралов на предприятиях (так называемые «штурмовые недели»). Герасимовка очень часто оказывалась среди отстающих и либо висела на «доске позора», либо «позорно плелась в хвосте». Подозрительно плохое руководство герасимовского сельсовета стало предметом двух больших скандалов в 1930 и 1931 годах. «Тавдинская лесопилка» с возмущением написала 24 октября 1930-го, что Герасимовка выполнила всего лишь 44% годовой нормы по сдаче зерна и что кулаки вообще почти ничего не сдали. «Здесь классовый враг обнаглел до безобразия, задания по заготовке картофеля 900 пудов и сена 11 130 пудов до сих пор не выполнены». Причина такого положения дел объяснялась в газете тем, что районный уполномоченный находится в сговоре с сельсоветом, председатель которого Филиппов, в свою очередь, — заодно с кулаками. Он, например, среди прочих уклонений от своих обязанностей, пожалел и не выслал кулака. Газета большими буквами взывала к возмездию: «ПОД СУД КУЛАЦКИХ АГЕНТОВ!» Были названы два таких «агента» — члены сельсовета Коваленков и Лисицын, которые открыто выступали в защиту кулачества. Другой председатель, Новопашин, изобличенный в бездеятельности и непотизме, подвергся гонениям 31 августа 1931 года: вместо исполнения своих прямых обязанностей он помогал своей жене, заведующей кооперативным магазином, составлять инвентарный список. Эти репортажи, как и многие другие, отражают два важных момента относительно Герасимовки. Во-первых, очевидно, что в местной администрации довольно высокого уровня были проблемы — довольно редкая ситуация даже для трудных районов. В Герасимовку один за другим посылались новые уполномоченные, но все без толку: как сообщала газета «Пила» 25 сентября 1930 года, кому-то из них с большими усилиями удалось национализировать одну-единственную козу. По итогам закрытой партийной экспертизы, к августу 1931 года в Тавдинском районе были коллективизированы всего 32% хозяйств, причем процент сильно отличался в зависимости от конкретного сельсовета: от нуля (Герасимовский) до 93%.{83} Во-вторых, по утверждению местной пропаганды, Герасимовка представляла собой «гнездо кулаков». В самом деле, коллективизация проходила здесь очень медленно. Но сопротивление кулаков тут ни при чем, просто герасимовская община делилась на бедных и еще беднее. Согласно официальным цифрам 1927 года, с экономической точки зрения кулаки в Тавдинском районе вообще отсутствовали, и только 27% населения можно было причислить к «середнякам»{84}. В таких условиях решить, кто подлежит раскулачиванию, — задача практически невыполнимая. Свидетели вспоминают, что выбор жертв осуществлялся в общем и целом произвольно — опасность угрожала любому, «которые хорошо работали», или любому, «у кого была корова»{85}. В то же время в других частях Урала кулаком считался тот, кто имел два дома с конюшнями, фруктовым садом, мастерскими и складами и кто попутно держал еще какое-нибудь дело[51]. В Тавдинском же районе о таком богатстве и не слыхали, и выделить кого-либо из общей деревенской массы было просто невозможно. Яркими свидетельствами чудовищной нищеты в Герасимовке служат материалы личных дел и описи имущества семьи Морозовых, а также их родственников и свойственников. Сергей Морозов, по его собственному свидетельству на допросе [105][52], родился в 1851 году в Витебской губернии в семье безземельного крестьянина. Его отец служил тюремщиком. Подростком Сергей жил у родственников (вероятно, в качестве наемного рабочего — обычное дело в сельскохозяйственных районах европейской части России). В двадцать лет он женился и переехал к жене, семья которой имела землю и небольшое хозяйство. Согласно традиции, жена обычно переезжала к мужу, так что этот факт свидетельствует о крайне низком имущественном положении Сергея. Сергей и его жена Ксения (1853 г.р.) приехали на Урал в 1910-м, где получили сорок пять десятин (приблизительно пятьдесят гектаров) земли, большую часть которой занимало болото. Десять десятин этого участка Сергею удалось распахать, он обзавелся двумя лошадьми, двумя коровами и пятью мелкими домашними животными (скорее всего свиньями, овцами и курами). В советское время дела пошли хуже. Начнем с того, что Сергей отдал часть земли своим выросшим сыновьям: Трофиму (вероятно, 1890 г.р.) — он и его жена Татьяна (ок. 1893 г.р.) были родителями Павла и Федора Морозовых— и Ивану (1888 г.р.). Самому Сергею осталось лишь полдесятины. Уменьшилось и количество скота: к 1927 году у него остались только одна лошадь и одна корова, а также свинья, овца и пять кур. А в 1932-м в инвентарном списке, составленном входе расследования убийства, значилось, что движимое имущество Сергея состояло в основном из сельскохозяйственного оборудования: телеги, нескольких колес для нее, двух серпов, пилы, бороны, четырех топоров и различных частей лошадиной упряжи (в том числе седелка, которая перекидывалась через лошадиную спину и к которой с помощью ремней крепились оглобли телеги или плуга). Эти подробности сыграли важную роль в следственном деле. Кроме этого, имелось еще ведро для дойки и четыре деревянных ведра, восемнадцать с половиной пудов ржаного зерна и воз сена[53]. Домашняя утварь и личное имущество — очень немногочисленные; однако в семье были самовар — признак какой-никакой зажиточности — и лампа. Но тарелок — всего две, одна сковорода, несколько чугунков и еще кое-что из домашней мелочи. Как и вся Герасимовка того времени, Морозовы носили домотканую одежду: в сентябре 1932 года в доме нашлось восемь предметов льняной одежды[54]. Крестьянскую пищу ели из одного котла — распространенный обычай русской деревни начала XX столетия. Деревянные ложки, необходимые для приготовления и раскладывания еды, в описи не значатся, видимо, потому, что они не представляли собой никакой ценности [56-7]. С другой стороны, две из трех морозовских дочерей жили значительно лучше. Хима, старшая дочь, родилась в 1872-м — в год, когда Морозовы поженились. «Интересное положение» Ксении к моменту свадьбы могло послужить причиной выхода замуж за безземельного Сергея. Хима вышла замуж — по ее воспоминаниям, в 1899 году [92], и ее замужество оказалось намного более удачным с социально-экономической точки зрения. В отличие от многих тавдинских поселенцев, родительская семья Арсения Кулуканова (1862 г.р.) имела землю — правда, всего пять десятин на девятерых детей, так что особенно не разживешься. Так что Арсению пришлось батрачить с пятнадцати лет, а с двадцати пяти — заниматься разной черной работой. Положение изменилось, когда он с женою приехал в Герасимовку в 1909 году. Арсений стал хозяином восьми с половиной десятин пахотной и пастбищной земли. Правда, в конце 1920-х его надел сократился вдвое, так как половину он поделил между двумя сыновьями, но у него остались две лошади и некоторые мелкие домашние животные. Когда в 1931 году Арсения арестовали за укрывательство зерна и приговорили к пяти годам ссылки с конфискацией имущества, его движимость состояла не только из двух лошадиных упряжей, телеги и нескольких колес, которые все время фигурировали в деле, но также из «двух сундуков одежды» [96]. На тот момент в семье Кулукановых-старших было еще двое младших детей — Матрена семнадцати лет и Захар пятнадцати, они жили вместе с родителями, когда произошло убийство Павла и Федора. Арсений Кулуканов грамоты не знал — подобно Сергею и Ксении Морозовым, он подписывался, прикладывая к бумаге большой палец. В записях следственного дела Арсений Кулуканов фигурирует как человек умный и решительный (в газетных репортажах эти качества превратились в «кулачью хитрость»). Например, он не побоялся оспорить в кассационном суде свой приговор к ссылке — что в тавдинском районе было явлением редким — и выиграл дело [97]. А его показания на суде по поводу убийства — в отличие от показаний других обвиняемых — изложены последовательно и ясно. Кулуканов отказался признать свою вину, и, вне всяких сомнений, после оглашения приговора именно он стал инициатором подачи жалобы в «судебно-кассационную комиссию Верхсуда РСФСР». Младшая дочь Морозовых Матрена (ок. 1897 г.р.) тоже выбрала в мужья крепкого мужика. Арсений Силин, в отличие от большинства жителей Герасимовки в возрасте от тридцати и старше был местным. По его словам, в 1932 году ему было сорок, то есть на пять лет больше, чем жене. Начав всего с 0,3 десятины в 1918 году, он к 1929-му увеличивает свое хозяйство до полутора десятин и приобретает двух лошадей и двух коров. Однако в 1931-м его тоже привлекают к суду за укрытие зерна и приговаривают к штрафу в 200 рублей, т.е. почти полному годовому доходу [98об., 184]. В 1932 году у Силина пятеро детей от одиннадцати лет и младше — четыре мальчика и девочка [129—130]. Средняя дочь Морозовых, Устинья (ок. 1879 г.р.), не смогла устроить свою жизнь так же хорошо, как сестры, — по крайней мере в традиционном понимании русской деревни. Ее муж Денис Потупчик не был таким зажиточным, как Кулуканов или Силин, и, по заявлению самого Дениса, обличавшему кулаков Герасимовки, в 1922 году работал у последнего по найму [44]. Но Потупчик, с точки зрения нового советского порядка, занимал правильную позицию. Осенью 1932 года он был заместителем председателя сельсовета и энергично способствовал следствию, предоставляя обвинителям материалы об имущественном положении арестованных (в частности опись имущества Сергея Морозова). В письме, которое он представил следствию 12 сентября [446], Арсений Кулуканов и Арсений Силин прямо названы им кулаками. Возможно, отчасти такое рьяное желание Дениса услужить властям объясняется страхом из-за своего небезупречного прошлого: в судебных материалах о нем сказано, что он был «судим» по уголовному делу, но не дается при этом никаких подробностей ни о собственно преступлении, ни о дате его совершения [231об.]. Сын Дениса Иван, 1911 г.р., представляет собой еще более удивительный образчик нового времени, чем его отец: он был грамотным (знал ли грамоту Денис, неясно) и, будучи осодмильцем[55], играл важную роль в советской администрации. Оба морозовских сына — Иван и Трофим — по разным причинам отсутствовали в деревне во время совершения преступления. Иван, видимо, старший из двух братьев: по словам его матери, в 1932-м ему сорок четыре года, однако она, как и многие другие безграмотные многодетные женщины того времени, не может служить достоверным источником. К 1932 году Иван уже уехал из Герасимовки и проживал в двадцати километрах от нее в Киселево — эта деревня интересна для нас тем, что в ней, одной из немногих в Тавдинском районе, в 1929 году был успешно организован колхоз «Красный Октябрь»{86}. Как сказал Данила, сын Ивана, отец разошелся с первой женой, вероятно, в 1927 году, когда сам Данила переехал жить к деду и бабке [78—78об.]. Данила родился в 1913 или 1914 году и получил какое-то образование — начальная школа постепенно становилась обычным явлением в советской деревне. На одном из допросов он утверждал, что окончил три класса [78об.]. Даже если Данила учился с перерывами, он все-таки мог написать свое имя четким и ясным почерком. Второй сын Морозовых, Трофим (моложе Ивана на несколько лет), отсутствовал в деревне на момент убийства по другой причине. По словам отца, в 1931 году его сослали куда-то на север за махинации с поддельными документами [106]. Неважно, насколько правдиво это заявление (как мы увидим, в деле нет других свидетельств по обвинению Трофима), но ясно одно: Трофима в деревне не было, когда убили двух его сыновей, иначе он оказался бы первым подозреваемым в деле. Поскольку Трофим отсутствовал, его точка зрения на события нигде не отражена. С точки зрения его жены Татьяны (она моложе мужа года на три), Трофим представлял собой деревенского грубияна: водил пьяную дружбу с кулаками, греховодничал, бросил семью ради другой женщины и находился в родственных отношениях с Кулукановыми [228об и далее]. Примечательно, что с первых дней следствия Татьяна все время повторяла, что у нее не сложились отношения с семьей мужа: «я с ним дружбы нимела».[1][56] На основе материалов дела можно предположить, что Татьяна родом не из Герасимовки. Заявив о пропаже сыновей, она первым делом отправила милицию искать детей у их бабки в Кулуховке, деревне в пятнадцати километрах [234][57]. Похоже, Татьяна не имела кровных родственников в Герасимовке, а согласно традиционным представлениям, к вдове или разведенной женщине в мужниной семье относились с пренебрежением. Какова бы ни была правда об исчезновении Трофима, положение Татьяны оставалось безысходным, в том числе и с материальной точки зрения. Четырнадцатилетний (или около того) Павел, хоть и считался достаточно взрослым, чтобы помогать по хозяйству, с работой на такой твердой почве справлялся плохо. Оба — брошенная женщина и подросток — дошли до крайнего изнеможения. Никаких документов об имуществе Татьяны не сохранилось, но вряд ли можно предположить, что она и ее сыновья жили лучше, чем Сергей Морозов и его семейство. Некоторые из окружения семьи Морозовых не попали в число обвиняемых. Занимаемые Потупчиками должности в советском аппарате отвели от них подозрение. Кроме того, к делу не привлекались состоявшие в родственных отношениях с Морозовыми дети и подростки, за исключением двоюродного брата Павлика Данилы[58]. Не привлекла внимания и Матрена Силина, в начале сентября, видимо, болевшая[59]. Основное подозрение легло на морозовский клан и еще на нескольких местных жителей, которые были привлечены к делу в том или ином качестве. Последние в большинстве случаев проходили свидетелями или давали характеристики подозреваемым и пересказывали обрывки подслушанных разговоров. Трое свидетелей на какое-то время перешли в категорию подозреваемых. Первым из этих трех оказался Владимир Мезухин; это имя впервые всплывает в материалах дела 12 сентября в длинном и путаном рассказе Сергея Морозова о том, как Мезухин будто бы хотел «купить» у Кулуканова жеребенка, которого тот утаил при конфискации его имущества. Павлик Морозов сообщил об инциденте в милицию. После этого события Мезухин говорил на каждом шагу: «Етак ребят надо убить» [41]. Нарушения, связанные с укрытием имущества, в сочетании с угрозами физической расправы навели следователей на мысль о возможной причастности Мезухина к убийству. Но его подозревали недолго. Мезухин проживал в другой деревне — Владимировке, за несколько километров от места происшествия, и в самом деле не имел отношения к герасимовской общине. Куда больший интерес вызвала у следователей семья Шатраковых. Они не были связаны с семьей Морозовых родственными отношениями ни по крови, ни через женитьбу или замужество, но их земельные наделы находились по соседству, а старший сын Шатраковых, Ефрем был сверстником Данилы Морозова. В семью также входили Антон, отец, 55 лет, Ольга, мать, 40 лет, и семеро братьев и сестер Ефрема. Большинство из них не имели никакого отношения к делу Морозовых[60]. Исключение составлял Дмитрий, обнаруживший в лесу тела Павла и Федора и некоторое время находившийся под подозрением. Ефрем и Дмитрий сообщили, что они «малограмотные», да и по их почерку видно: в грамотности они уступают Даниле. Нить, ведущая от Шатраковых к убийству, протянулась в связи со свидетельскими показаниями, будто Павел Морозов собирался донести на них за незаконное хранение ружья[61] — факт, который братья не отрицали. Они также показали, что считали, будто бы донос в милицию по поводу ружья состоялся; однако, когда дело приняло серьезный оборот, Ефрем стал отрицать, что они подозревали в доносительстве Павлика. В конце концов следователи по какой-то причине приняли объяснения Ефрема и сняли с него подозрение. Согласно официальным документам, имущественное положение Морозовых, Кулукановых и Силиных существенно друг от друга не отличалось. По «Справке об имущественном положении жителя Тавдинского района…», выданной сельсоветом, скорее всего, поздней осенью 1932 года, земельный надел Кулукановых составлял 2,8 десятины; морозовский и силинский наделы — около полутора десятин каждый [181—186]. Но Кулуканов и, в меньшей степени, Силин явно считались более состоятельными, чем средний крестьянин деревни. Справедливо или нет, но Кулуканова объявили в местной газете владельцем двухэтажного дома. По словам их свойственника Дениса Потупчика, Кулуканов и Силин использовали наемный труд [44—46]. Главное же обвинение состояло в том, что оба уклонялись от сдачи зерна. Кулуканову удалось отвести от себя это обвинение, но в атмосфере всеобщего недоверия в Советском Союзе начала 1930-х выдвижение обвинения значило намного больше, чем его последующее опровержение. Понятия «благосостояние» и «бедность» были растяжимыми. Из того, как составлена опись имущества Сергея Морозова, ясно, что он не считался нищим. Также в посмертном обследовании тела Павлика Морозова записано «питание среднее», а не «истощенное» или «с симптомами дистрофии», как указывалось в случаях постоянного недоедания [10]. В то время у детей в сельскохозяйственных районах — если только там не свирепствовал голод — жизненные условия были лучше по сравнению с городскими детьми. Тем не менее, Павлику и его братьям в отсутствие отца приходилось бороться за свое существование. В четырнадцать лет Павлик уже считался «мужчиной» в семье. В деле есть предположение, что именно в этом качестве он вступил в конфликт со своими дедом и дядькой по имущественному вопросу, когда после ухода Трофима из семьи его брат попытался прибрать к рукам кое-какое имущество «для сохранности». По обычаю, распространенному в крестьянских семьях до 1960-х годов, на Павлике лежала ответственность за всех младших детей в семье. В тот роковой день, пока сам Павлик ходил с Федором в лес по ягоды, за пятилетним Романом [67] приглядывал одиннадцатилетний Алексей. Как и у других деревенских детей, у Морозовых имелась домотканая одежда (в день убийства на Павлике были надеты рубаха и фуфайка [10] и, предположительно, штаны, которые, однако, не упоминаются в посмертном описании). Нижнее белье дети не носили[62]. Личная гигиена ограничивалась нерегулярными походами в баню[63] и купанием в местных водоемах в летнее время. Имя «Павлик» звучит ласково и немного покровительственно — так обращаются взрослые к маленьким детям. Однако не стоит заблуждаться: в семье мальчика звали «Пашкой», а его старшего двоюродного брата — «Данилкой», т.е. куда более грубо и пренебрежительно. Но на официальный советский вкус, уменьшительные имена с суффиксом «ка» звучали некультурно и имели привкус подросткового хулиганства, поэтому пресса называла Морозова «Павликом», а иногда даже «Павлушей», возвращая его таким образом из тяжелой трудовой юности в младенчество. Члены морозовской семьи различались не только по имущественному положению, но и по степени лояльности к советской власти. Степень лояльности напрямую зависела от поколения, а вернее будет сказать, что молодые члены семьи уже научились правильно отвечать на вопросы официальных представителей о «политическом мировоззрении». «Политических убеждений нет», — заявил о себе Арсений Кулуканов на допросе в сентябре 1932 года [96]. Ксения Морозова ответила в том же духе [100]. Сергей Морозов высказался еще более провокативно: «какая бы власть ни была — безразлично» [105]. Если принять во внимание распространенный в то время идеологический тезис «кто не с нами, тот против нас», то подобный ответ равносилен признанию себя врагом системы. Все молодые подозреваемые по делу Морозова отвечали на этот вопрос более адекватно, например так: «Сочувствую советской власти» [78]. Вдобавок некоторые из молодого поколения Морозовых проявили лояльность к советской власти в куда более определенной форме: помимо Дениса Потупчика, к таким следует причислить его сына Ивана, который, видимо, работал не только осодмилиционером, но и платным осведомителем ОГПУ{87}. К этой же категории можно приписать Павлика и Федора, хотя, как это будет видно из главы 8, сейчас трудно ответить на вопрос, состоял ли Павлик в пионерской организации или еще в каком-нибудь отряде юных активистов. Вследствие убийства мальчиков семья Морозовых прочувствует этот идеологический раздел по поколениям: одни (Татьяна, Денис, Иван) добровольно свидетельствовали в пользу обвинения, а другие (Хима, Арсений Силин), говоря о своих взаимоотношениях с родственниками и тоже пытаясь выгородить себя, все же ограничились дискредитирующими показаниями[64].Убийства, грабежи и пьяные драки
Соединив все доступные фрагменты информации, можно составить довольно внятное представление и о тех, кто сидел с противоположной стороны стола во время следствия по делу Морозовых. Кто, собственно, проводил расследование? Немногочисленные записи партийных собраний и протоколы следственного дела свидетельствуют о том, что это типичные провинциальные чиновники своего времени. Вот, к примеру, Яков Титов, «участковый, инспектор РКМ» (рабоче-крестьянской милиции), т.е. обычный милиционер. Проживал в деревне Белоярка на западной окраине Тавдинского района [77] и происходил, как и большинство жителей Герасимовки, из Белоруссии. На момент убийства ему тридцать пять или тридцать шесть лет. В 1931 году он вступил в партию. По тому, как Яков вел расследование, видно: он человек недалекого ума. Что касается образования, то Иван Потупчик, будучи моложе Якова, сильно обогнал его по этой части. На более поздних стадиях следствия, когда к нему подключилось ОГПУ, процесс приобрел более профессиональный характер, но произвол и случайность в ведении дела сохранились. Мы не располагаем почти никакой информацией об «ответственных работниках» из ОГПУ, только несколькими данными об их служебном положении. Быков (с инициалом «И» или «Н» — написано нечетко) — «районный уполномоченный», или начальник местного отделения ОГПУ, и его разнообразные заместители; Федченко, вызванный из Нижнего Тагила на третьей стадии расследования, и Шепелев, который завершал дело; Ушенин, предшественник Быкова в качестве районного уполномоченного в Тавде, упоминается в документе от 15 мая 1941 года как лицо, занимающее ответственную должность начальника Второго отдела Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) в Свердловске (так впоследствии стал называться ОГПУ){88}. Это единственный участник дела Морозовых, после которого остались следы его дальнейшей деятельности. Архивные материалы дают незначительные сведения о биографиях участников события, но рисуют вполне красноречивую картину условий их существования. Раскол в семье Морозовых отражал общую картину жизни Герасимовки. В статьях местных газет содержится не только официальное осуждение жителей этой бедной, отсталой деревни, но и свидетельство разлома в общине. Сам факт, что проблемы Герасимовки столь подробно освещались в прессе, говорит о существовании политически грамотного контингента «селькоров». И хотя после смерти Павлика Морозова многие утверждали, будто в деревне не существовало ни партийной организации, ни даже комсомольцев, на самом деле положение куда более запутанное{89}. Партийная ячейка, хотя и состояла всего из трех членов, была создана в начале марта 1931 года{90}.[65] Еще раньше один из жителей Герасимовки был зарегистрирован как член или как кандидат в члены партячейки деревни Городище[66]. Комсомольская ячейка действовала в Герасимовке с 1925 года[67]. Между тем тамошняя партячейка оставалось очень маленькой, одной из самых немногочисленных во всем Тавдинском районе: даже в ноябре 1933 года в ней состояли всего четыре члена и три кандидата; а в начале того же года — и того меньше: три члена и два кандидата[68]. На низком уровне находился и другой важный показатель политической сознательности населения — подписка на органы печати: в 1933 году в Герасимовке выписывалось всего три экземпляра «Тавдинского рабочего» и по одному экземпляру других газет: «Правды», «Известий», «Крестьянской газеты» (из центральных изданий) и «Уральского рабочего», «Пути к колхозу», свердловской пионерской газеты «Рассвет коммуны» (из местных). Очевидно, что их выписывали для школы и избы-читальни[69]. «Передовой отряд» герасимовцев, как они сами себя называли, не получал достаточной поддержки на районном уровне. В целом по Тавде число партийцев оставалось невысоким и никогда не превышало нескольких сотен человек[70]. В 1932 году в районе существовало только 17 комсомольских ячеек с общим членством в 143 человека{91}. Всегда перегруженное и недостаточно квалифицированное тавдинское партийное руководство могло лишь в малой степени опереться на низовые организации — и это в лучшем случае. Сотрудники ОГПУ работали с не меньшим напряжением сил и риском для собственного здоровья, чем коммунисты и комсомольцы. В начале коллективизации, в 1929-м, Степан Иосифович Мокроусов, уполномоченный ОГПУ по Тавде с 1927 года, а впоследствии районный следователь, оказался до такой степени загружен делами о контрреволюционерах, что от переутомления заболел острым туберкулезом и попал в больницу{92}. В 1931 году группа рядовых сотрудников Тавдинского ОГПУ и милиции приняли резолюцию, в которой подчеркивалась их чрезмерная загруженность работой в районе, «насыщенном классовым врагом, чуждым элементом»{93}. Эта проблема признавалась и на более высоком уровне: в конце 1930 года Уральский обком партии разослал циркуляр, в котором предписывал райкомам учитывать занятость сотрудников ОГПУ основной работой при командировании их в сельскую местность во время проведения кампаний: «Учитывая недостаток в работниках ОГПУ, их чрезмерную перегрузку основной работой, а равно и то обстоятельство, что непосредственно выполняемая работа им облегчает обстановку для работы парторганизации — предлагается командирование работников ОГПУ по проведению кампаний в ущерб их основной работы — не производить»{94}. Сколь бы малое сочувствие ни вызывала категория людей, приносивших другим горе и страдания, рабочую нагрузку таких сотрудников на местах приходится признать действительно чудовищной. В этом районе, в отличие от других в Уральском регионе, вооруженные восстания не представляли серьезной проблемы, но нападения на активистов происходили постоянно. Всего за четыре месяца, с октября 1930 по январь 1931 года, произошло пять убийств или покушений на убийство в одном только Ирбитском округе, промежуточной административной единице, к которой относился тогда Тавдинский район, и еще четыре активиста были за этот же период сильно избиты{95}. Нападения такого рода продолжались и в 1932-м. К их числу относится не только знаменитое дело Морозовых, но и дело взрослого активиста Козлова, убитого выстрелом в живот в Городище в декабре 1932 года{96}. В ноябре 1932-го два члена специального милицейского отряда, комсомольцы Карп Юдов и Прохор Варыгин, были сильно избиты в Герасимовке пятью членами семьи Книга, которые обвинялись также в том, что при избиении кричали своим жертвам: «Это Вам за активность в хлебозаготовках и за связь с милицейскими работниками»{97}. Происходили и более рядовые случаи политического протеста. Например, в марте 1931 года натавдинской лесопилке обнаружили подрывную листовку, происхождение которой власти приписали одному из ее бывших работников: «Доводим до сведения, что мы сожгем сено которое награбили Вы у нас — жиды, чтож Вы хотите дальше строить завод или сотаску дома и т.д. ну мы Вам настроим могилу, чтобы Вы не могли повернуться дальше: 1) Первым же сожгем контору, или взорвем. Жидам пощады не дадим. Мы Вас всех не боимся, вырежем до одного»{98}. А в ноябре 1931 года информатор обнаружил антисоветскую надпись в мужской уборной заводоуправления Тавдинского лесопильного завода: «Вставай, Ильич, детка, нет руководителей для выполнения пятилетки!», и еще: «Вставай, Ильич, детка, с нашей руководительницей-партией заеблась пятилетка!»{99} Менее агрессивными, но куда более распространенными и потому вызывавшими столь же серьезную озабоченность у милицейских и партийных чиновников были враждебные слухи и ропот в очередях и людных общественных местах. Информаторы сообщали, например, что в 1931 году, за несколько дней до первомайских праздников, один гражданин жаловался окружающим под возгласы общего одобрения: «Мы их туда их мать покажем как праздновать будет уж потерпели 13-й год обманывают […] им конечно живется хорошо они все получают, а мы вот робим, робим, даже не дают килограмма мяса, сидим голодом, дадут кой какой… селедки и то недостаточно, за один раз съели и целый месяц голодом». Недовольство отмечалось и среди членов партии. Так, в те же майские праздники один тавдинский коммунист жаловался в застольной беседе друзьям (среди которых один оказался доносчиком), что коллективизацию надо было проводить постепенно и начинать ее — с создания преуспевающих коммун, которые придали бы этой системе популярность{100}. В основном недовольные, включая тех, кто предрекал неминуемое крушение советской системы, тихо роптали. Но было и меньшинство, действовавшее откровенно противозаконными способами. Например, в конце 1931 года оперативники ОГПУ узнали о банде из пяти человек; они жили в тайге в шестидесяти пяти километрах от Тавды, пристанищем для них служили охотничьи домики. Эти люди были вооружены, и им удалось пробраться в Нижнетавдинский район, прежде чем пятерку обнаружили{101}. В документах все записаны как раскулаченные. Вероятно, это соответствовало действительности. Бегство из поселений автоматически ставило человека вне закона, и ему ничего не оставалось, кроме как прибегать к насилию, чтобы избежать ареста. В то же время это могла быть шайка обычных уголовников. Уровень преступности в районе оставался очень высоким, и даже сверхподозрительные местные власти не всегда причисляли многочисленные преступления к политическому терроризму. В марте 1931 года, примерно в семь часов вечера один человек подвергся нападению грабителей, которые сняли с него верхнюю одежду. Он имел неосторожность обратиться в милицию и на обратном пути еще раз подвергся нападению тех же грабителей — на этот раз его намеревались в отместку зарезать. Несчастный получил ножевые ранения в спину, грудь и шею, и ему, несомненно, перерезали бы горло, если б он не выхватил нож и не оказал сопротивление{102}. В 1931 году весь район страдал от разгула шайки конокрадов и угонщиков скота, которая якобы действовала под предводительством вожака-татарина{103}. Разнообразное воровство вообще было чрезвычайно распространено. В некоторые месяцы ежедневно регистрировалось по два происшествия такого рода{104}. Совершались и бытовые преступления. В 1932 году ОГПУ потратило много времени, расследуя дело о продаже грибов на тавдинском рынке: бессовестный торговец выдавал мухоморы за съедобные грибы{105}.[71] Но самую большую проблему для местных органов правопорядка представляли спецпоселенцы, которых депортировали сюда в большом количестве. К лету 1931 года в Тавдинский район прибыло болееодиннадцати тысяч человек (что увеличило население более чем на 50%). Их разместили в неописуемо чудовищных условиях. На одном из лесоповалов (спецпоселенцы направлялись главным образом на заготовку леса, а тех, кто был для этого слишком молод или слаб, заставляли собирать хворост) единственным источником воды служила зловонная, кишащая мухами лужа. Семьи ютились в землянках до тех пор, пока наконец не строили себе бараки; на это уходило много времени и сил, поскольку большинство спецпоселенцев приехало из кубанских и украинских степей и не владело навыками обращения с материалами, с которыми им пришлось иметь дело на новом месте. Ситуация с продовольствием складывалась еще того хуже. На одного работоспособного человека приходилось 800 граммов хлеба в день, в то время как членам семьи полагалось по шесть килограммов в месяц. Неудивительно, что предметов относительной роскоши — одежды, обуви и учебников для детей — катастрофически не хватало. Нередко случались эпидемии. Люди, оказавшиеся, в сущности, в положении заключенных трудового лагеря, были деморализованы и озлоблены{106}. Спецпоселенцы представляли для властей особый источник беспокойства, поскольку предполагалось, что в их среде может возникнуть настоящее политическое сопротивление. Такого рода опасения имели свои основания. В сеть осведомителей, подписывавшихся бульварными псевдонимами вроде «Ласточка», «Знающий» или «Сигнализирую», иногда вербовались сами спецпоселенцы. Они доставляли устрашающую информацию о лицах, прячущих оружие, об их намерениях убить местного коменданта или надзирателя, о злорадстве по поводу убийств активистов и о нетерпеливом ожидании скорой войны, которая приведет к политическому перевороту{107}. Побеги с лесоповалов стали обычным явлением. В промежуток между концом октября 1931 и концом апреля 1932 года сбежали 426 человек, задержать из них удалось только 88{108}. Беглецам помогало то обстоятельство, что торговля фальшивыми документами была хорошо налажена, и купить их в Тавде не представляло труда[72]. Иногда спецпоселенцу не приходилось далеко ходить, чтобы добыть необходимые документы. В апреле 1931 года осведомитель сообщал, как на лесоповале «Васькин бор» одна женщина хвасталась: «У меня муж в Ленинграде рабочим, но у него благодаря знакомству с пред. С. Совета, имеются документы, что бедняцкого происхождения и теперь хлопочет обо мне и если не выхлопочет, что бы меня освободили отсюда, то постарается достать какие либо документы хотя фиктивные …я сама уйду, у меня есть удостоверение личности, что я не лишенка, не индивидуалистка тоже есть документ, все это документы достали от Пред. С. Совета»{109}. Сотрудники ОГПУ и партийные чиновники решали разнообразные и противоречивые задачи. Они обязаны были своевременно реагировать на указания из центра, справляться с наплывом спецпоселенцев и исходившей от них политической угрозой, выполнять норму по раскулачиванию и сдаче зерна и скота в районе, где отсутствовали кулаки и где население было таким бедным, что подобные поборы приводили к полному опустошению. Кроме того, им приходилось осуществлять эту разрушительную политику на местах. Отчеты партийных органов и ОГПУ наглядно показывают, с какой аккуратностью местные чиновники выполняли свою бумажную работу и подчинялись циркулярам, — это выглядит особенно удивительным в такой далекой, дикой местности[73]. Из материалов тех же дел становится очевидным, что чиновники понимали связь между экономическими лишениями и политическими беспорядками: например, в отчетах начала 1932 года они прямо связывают большое количество побегов со спецпоселений с плохими условиями жизни{110}. Отсюда — попытки улучшить эти условия и уровень снабжения, которые предпринимались в конце 1931 — начале 1932 года{111}. Тем не менее, сам масштаб задачи делал серьезные улучшения невозможными. Даже за пределами спецпоселений условия жизни оставались ужасными. В начале 1931 года во всем Тавдинском районе не было соли. Хлеб пекли раз в месяц, так что он черствел и становился непригодным для еды. Полное отсутствие мыла приводило к эпидемиям чесотки, для лечения которой не хватало лекарств[74]. Притом что партийные работники и сотрудники ОГПУ жили лучше большинства населения, их условия жизни тоже оставались незавидными, к тому же им приходилось тратить много усилий на борьбу с недостатками и дисциплинарными нарушениями своих коллег и подчиненных. Внутрипартийные разбирательства говорят о том, что основным видом досуга для большинства рядовых коммунистов было пьянство, иногда сопровождавшееся проявлениями вандализма и антиобщественного поведения, как, например, швыряние кирпичей или громкая игра на гармошке в общественных местах. В дополнение ко всему пышным цветом распустилась коррупция[75]. Архивные материалы, устная история и даже иногда местные газеты рисуют совсем другую картину жизни Урала — по сравнению с той, которую изображала столичная пропаганда в Москве и Ленинграде. Тавдинский район, расположенный на болотистой равнине, был хотя и захватывающе красивым, но удаленным и бедным краем, не обещавшим ни благоденствия, ни надежд. Ускоренная индустриализация и сплошная коллективизация этой скудной и труднодоступной сельской местности, лежащей в стороне от свердловской железнодорожной ветки и реки Тавды, являлись почти неосуществимой задачей. Тем не менее, практические трудности не снижали идеологического накала кучки рьяных активистов, опиравшихся на наследие Гражданской войны и политику раскулачивания по принципу «разделяй и властвуй» и поддерживавших таким образом энтузиазм в себе и других. В этом расколовшемся мире, где традиционализм, косность и борьба за выживание в самом прямом смысле слова столкнулись с фанатизмом классовой борьбы и абстрактной верой в светлое будущее, и вспыхнуло дело Морозова.Глава 3. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА
Первые сообщения об убийстве Морозовых даже в местных газетах появились лишь спустя две недели. Целый месяц понадобился на то, чтобы эту новость опубликовали в «Пионерской правде». Такая задержка может показаться совершенно неправдоподобной человеку, выросшему в обществе, где свободный обмен информацией является одной из основных его ценностей и главной функцией СМИ, но советская пресса никогда не ставила перед собой такой задачи. Все новости попадали в газеты только после тщательной цензуры. Факт убийства был обнародован, когда партийные работники и сотрудники ОГПУ сочли, что ситуация взята ими под контроль и что для пользы дела пора организовать общественное мнение. Первая публикация в «Тавдинском рабочем», органе местной партийной организации, появилась 17 сентября, на следующий день после заседания Тавдинского райкома партии, на котором обсуждалось убийство Морозовых и была принята резолюция: «В ответ на кулацкий террор ответим новым подъемом трудового энтузиазма»{112}. О последствиях этой публикации будет говориться в главе 4. На самом же деле расследование убийства началось втайне от общественности и даже от местных партийных начальников почти сразу после обнаружения тел 6 сентября 1932 года, то есть предположительно через три дня после совершения убийства. Ранние записи расследования были в свое время приложены к другим официальным материалам по убийству Морозовых, собранным в два пухлых тома с печатью «Совершенно секретно» и штампом с двусмысленной надписью «Хранить вечно» на обложках. До 1997 года дело находилось в закрытом архиве НКВД в Свердловске/Екатеринбурге, затем его переправили в Государственную прокуратуру Свердловской области, а оттуда — в Центральную прокуратуру в Москве. С тех пор оно находится в столице (в 2002 году передано в Центральный архив ФСБ)[76]. Первый том составляют в основном около 500 писем от пионеров и школьников, требующих смертного приговора убийцам[77]. Второй том содержит собственно документы следственного дела — примерно 250 страниц показаний, в подавляющем большинстве — рукописных{113}. Разобраться в них непросто: это толстый том переплетенных бумаг, относящихся к разным стадиям расследования, более или менее разобранных архивными работниками в хронологическом порядке, не всегда в той последовательности, в которой эти материалы фигурировали во время следствия. Документы не аннотированы и не содержат указателей, многие из них написаны выцветшими чернилами или, что еще хуже, полустертым карандашом на пожелтевшей от времени, крошащейся бумаге, часто — неразборчивым почерком. Грамматика и орфография некоторых участников просто ужасны (особенно это касается герасимовского районного участкового Якова Титова: он пишет, не разделяя слов и путая падежные окончания, а формулировки типа «об ответственности за дачу ложных показаний предупрежден, по существу дела показываю…» превращаются в «заложния показанания придупреждон, постоже посостовтву дела показываю»[14]). По счастью, многие слова можно восстановить из контекста и по аналогии разобрать каракули в однотипных официальных анкетах, так что большая часть документов прочтению поддается. Когда внешнее сопротивление материала было преодолено, выяснилось, что его понимание на более глубоком уровне столь же затруднительно. Дело № Н—7825 не предполагает быстрой разгадки нераскрытого преступления. Напротив, из него хорошо видно, как вокруг жестокого убийства детей на каждом новом витке выстраивается соответствующий нарратив, в который следователи пытаются вписать противоречивые показания герасимовских жителей и навязать им собственное, более «правильное» видение того, «что на самом деле произошло». «Неудобные» подробности свидетельских показаний при этом полностью игнорируются. Перефразируя высказывание американского историка Натали Земон Дэвис, можно сказать, что «дело об убийстве братьев Морозовых» — это «архивный вымысел»: свод рассказов, каждый из которых преподносит историю Павлика Морозова по-своему. В то же время не меньшее значение имеют рассказы, не содержащиеся в деле.Слухи как доказательства
В расследовании убийства Морозовых не применялись обычные следственные процедуры, предполагающие тщательное изучение мелких подробностей в свидетельских показаниях, с одной стороны, и «психологический аспект» — с другой. Стороннего наблюдателя, привыкшего к другой криминологической традиции, может шокировать то обстоятельство, что в деле практически не использовалась научная экспертиза и не проводились следственные эксперименты. Следствие не попыталось установить, убили ли мальчиков на том же месте, где обнаружили их тела, и реконструировать по ранам характер нападения. Не сняты отпечатки пальцев, не обследована территория вокруг найденных трупов, чтобы найти орудие убийства и другие возможные улики и т.д. Отсутствует база для научной экспертизы. Несмотря на то что официальная форма обследования, использованная при осмотре тела Павла, содержит в себе графы, относящиеся к описанию состояния внутренних органов, вскрытие не производилось, их лишь поверхностно осмотрели Титов и санитар медпункта из Малых Городищ, деревни примерно на полпути между Герасимовкой и Тавдой. Причиной этому, по-видимому, послужило трупное окоченение. Но и что касается внешнего описания тел, санитар заполнил лишь некоторые графы:«1. Труп одет (расположение частей одежды, пятна на ней, повреждения, (нрзб.) и пр. Фуфайка в Морозова Павла в двух местах резана 2. Пол. Мужской 3. На вид лет 14 4. Рост…… [не заполнено] 5. Телосложение [не заполнено] 6. Питание среднее 7. Общий цвет кожных покровов Белый на спине красно 5 [к]ровне пятно 8. Трупные изменения кожи На спине красно багровые пятна 9. Трупное окоченение Окоченел 10. Цвет волос головы Русый 11. длина их…… [не заполнено] 12. Лицо Белое 13. Глаза Открыты 14. роговицы —————— 15. зрачки [не заполнено] 16. соединительные оболочки век и глаз —————— 17. Рот закрыт 18. Нос…… [не заполнено] 19. Слизистая губ —————— 20. Десны…… [не заполнено] 21. Зубы —————— 22. Язык за зубами» 10]Более подробно описаны только раны, и то без профессионального медицинского подхода. В официальном акте осмотра тела, заполненном на Павла, сообщается, что ран было шесть: две в грудной клетке, две — в животе, и две — в «верхних конечностях» [11]. В конце следует более подробная приписка: «Последовала смерть отношения 4-х ножевых ран 1) рана поверхностная на грудной клетки справой стороны в области 5—6 ребра, рана 4 сат. 2)я рана тоже поверхностная [нанесена в] подложечную область 3)я рана Слевого Боку в живот под реберную область размером 3 снт через которую вышло часть кишки 4-я рана справого бока на растоянии 3 сант у партовой связки[78] рана 3 ст. через которую часть кишек вышло на ружу через которые и последовала смерть. Кроме того улевой руки по линии Большого Пальца на несена ножевая рана размером 6 сантиметров» [11/об.]. Материалы обследования тела Федора содержат еще меньше информации. Отчет об обследовании его трупа, написанный на клочке обычной бумаги, представляет собой просто перечень ран: «Нанесеная смертельная рана с его левой стороны ножом ниже уха рана размером 2 ст. (сантиметра)-я рана с Правого Бока в живот ниже последнего ребра сантиметра на 3 размер рана 1 чт. Через которую часть кишок вышло на ружу, от чего и последовала смерть. Кроме того у правой руки по выше кистевого состава на расстоянии 4-ых сантиметров с на ружной стороны на насена ножом рана размером 4 смра (курсивом выделено в источнике. — К.К.)» [7:]. Недостатку профессионализма, с которым был произведен осмотр трупов и записаны его результаты, не приходится удивляться. В ранний советский период санитарами по большей части работали люди, чье образование ограничивалось несколькими классами начальной школы и ускоренными курсами по медицинской практике, на которых в основном учили оказывать первую медицинскую помощь[79]. Криминологические лаборатории появились в Советском Союзе в 1920 году, и такие экспертизы, как, например, исследование материала под ногтями, были вполне распространенной практикой в то время[80]. Но лаборатории находились далеко от Герасимовки, и деревенский милиционер едва ли слышал об исследованиях такого рода и знал, как использовать их результаты[81]. Куда более удивительным представляется отсутствие судебной экспертизы на более позднем этапе. Районный уполномоченный Быков, проводивший расследование в Тавде, очевидно, имел какое-то образование и бюрократический навык (он довольно грамотно и аккуратно писал и, в отличие от других, всегда ставил на протоколах дату и подпись). Быков предпринял некоторые попытки снабдить следствие необходимыми уликами, например велел своему подчиненному скопировать часть протоколов из судебного дела отца Павлика Морозова, что бы оно собой ни представляло [113]. Но и Быков не прибегнул к судебной экспертизе. Единственное исследование произвели в начале ноября (т.е. по прошествии двух месяцев после совершения убийства), когда к делу подключился следователь из Нижнего Тагила Федченко. Одежда и ножи, найденные в доме Сергея и Ксении Морозовых, были отправлены лаборанту на химическую судебную экспертизу. Эксперт попытался с помощью ультрафиолетового луча получить флуоресцентную реакцию, чтобы подтвердить наличие крови на одежде, а также с помощью «едкого калия» выделить шарики гемоглобина [205]. Мало того, что число проведенных экспертиз приближалось к нулю, следствие практически полностью проигнорировало результаты единственного осуществленного исследования. Так, опыты с гемоглобином и флуоресцентной реакцией на одежде дали, к большому разочарованию сотрудников ОГПУ, отрицательный результат. В ответ ОГПУ выдвинул совершенно абсурдную идею протестировать воду, в которой эта одежда стиралась[204]. Судебный эксперт дал вполне определенное заключение: «На основании исследования следует сделать вывод, что на вещественных доказательствах: рубашка, брюках и ножах кровь не обнаружена» [205]. Несмотря на это, одежда и ножи фигурировали в обвинении в качестве вещественных доказательств [213]. Таким же образом тест, на скорую руку проведенный Быковым 16 сентября, показал, что найденные у Морозовых замоченные штаны с гипотетическими пятнами крови, впору Даниле Морозову, а не его деду[83], но этот факт не приняли во внимание на более поздних этапах следствия. В то же время в этой дикой истории с переодеванием к бредовому утверждению Данилы, что штаны-то его, но в день убийства их носил дед, следователи отнеслись со всей серьезностью[82] [177]. Без внимания остался и тот факт, что 7 сентября труп Павлика все еще был окоченелым, — это наводит на мысль, что убийство произошло не 3 сентября, а позднее (впрочем, окоченение могло продлиться из-за низкой окружающей температуры по ночам)[83]. Следствие не придало должного значения и без того очень поверхностным медицинским обследованиям обвиняемых. «Анкета для арестованных, выполненная на Сергея Морозова 16 сентября 1932 года» (т.е. через неделю после того, как его в первый раз заключили под стражу), указывала на его «старческую дряхлость» [136об.]. То же записано и в анкете на Ксению Морозову [133]. Исходя их этих фактов, можно предположить, что на начало сентября они вряд ли были крепкими, замышляющими злые козни стариками, какими их изображает следствие на своих поздних стадиях, когда Морозовым-старшим приписывалась важная роль в организации убийства. Но правоохранительные органы мало интересовались вопросами физиологии. Следователей вообще не особенно заботила фактическая сторона дела. Их не волновали такие бытовые мелочи, как, например, установление точного времени убийства. Согласно показаниям, которые в разное время давала Татьяна Морозова, мать Павлика и Федора, она уехала из Герасимовки 2 сентября, а вернулась только 5-го, когда и обнаружила исчезновение детей. Таким образом, теоретически мальчиков могли убить в любое время суток 4 сентября или ранним утром следующего дня. Однако никому из следователей даже не пришло в голову принять во внимание такую версию. В какой-то мере это объясняется здравым смыслом и знанием местности: поход за ягодами не мог продолжаться больше одного дня, а если бы дети заблудились в лесу, рядом с их телами не оказалось бы полных корзин — дети съели бы ягоды для поддержания сил. Так что факт рассыпанных ягод вокруг обнаруженных тел дает возможность предположить, что мальчики возвращались в деревню в субботу во второй половине дня. И, тем не менее, поспешность в определении 3 сентября как безусловной даты убийства связана с общим намерением следствия рассматривать это преступление в качестве результата заранее разработанного плана. Убийцы, кем бы они ни были, видели, как мальчики уходят из деревни, и, зная, что Татьяна уехала в Тавду, воспользовались представившимся случаем. Уверенность в том, что убийство было совершено 3 сентября, в свою очередь, породила довольно примитивный способ отбора подозреваемых. Любой, кто мог предъявить алиби на этот день, выводился из-под подозрения или по крайней мере из круга главных подозреваемых. В частности, это относится к Дмитрию Шатракову, который обнаружил тела во время поисков мальчиков в лесу. На ранней стадии следствия Данила Морозов утверждал, будто убийство совершено братьями Дмитрием и Ефремом Шатраковыми и что он сам видел их с окровавленными руками [22]. Однако для следователей эта версия потеряла достоверность, как только выяснилось: Дмитрий может представить письменное подтверждение того, что на протяжении всего дня 3 сентября он находился на призывном пункте[84] [65]. Алиби также помогло Артемию Силину, который, хотя и был привлечен к суду как соучастник убийства, никогда серьезно не рассматривался в качестве главного подозреваемого, поскольку утверждал, что оставался в Тавде между 3 и 5 сентября (в подтверждение он не представил никаких документов, но ему поверили на слово) [98об.]. Во многом следствие исходило из добровольных показаний Татьяны Морозовой, которые она дала утром 6 сентября коллеге Титова, участковому Суворову. Она утверждала, что была в ссоре с семьей своего мужа, поскольку рассталась с ним, узнав, что он выдавал кулакам фальшивые документы, и потому еще, что они злились на Павла за донос на отца: «И тогда отец и мат моего мужа стал сердит на моего сына что он доказал на отца и грозилис зарезать моего сына такая злоба тянулас до сих пор и было дело что племянник мой зло внук моего свекра внук Морозовых побил моего сына назло» [1]. С самого начала следствие не сомневалось в причастности Морозовых к убийству. Их допрашивали с целью найти этому подтверждение и установить их связи с другими лицами, которые занимались подстрекательством и помогали организовать преступление. Как мы знаем, Герасимовка — довольно большая деревня, где жили около ста семей. Однако допросили примерно тридцать свидетелей, в основном тех, кто жил по соседству с Морозовыми — Татьяной и Сергеем. Провели всего два обыска: у Сергея Морозова и у Арсения Кулуканова [47]. У Сергея Морозова при обыске изъяли «окровавленную» одежду (штаны и рубашку), которую потом отправили на экспертизу [8]. Хотя на первой стадии расследования Ефрем Шатраков входил в число подозреваемых, обыск в доме Шатраковых не производился. Следователи часто не допрашивали лиц, которые, по словам подозреваемых, могли подтвердить их версии. Например, 8 сентября Ефрем Шатраков заявил: Василий Анушенко может подтвердить его слова о том, что 3 сентября Ефрем пошел с поля прямо в дом Прокопенко [24]. Но Василия Анушенко, судя по всему, так и не допросили. Таким образом, основной задачей следствия на всех его стадиях являлось не определение круга подозреваемых и установление их вины, а скорее сбор обвинительных доказательств против тех, кого с самого начала записали в виновные; при этом особое доверие следователей вызывали показания осведомителей. Например, Прохора Варыгина вызывали несколько раз не только потому, что он усердно поставлял скандальные сплетни, но еще и был комсомольцем и осодмильцем, следовательно — идеологически надежным{114}. Преобладание среди свидетелей «доверенных лиц», в свою очередь, привело к значительному сокращению количества заявлений, в которых выражались сомнения или выказывалась недостаточная осведомленность[85]. Но даже если бы следствие не было столь идеологически предвзятым, добросовестным оно все равно не могло быть из-за сжатых сроков. Газеты то и дело укоряли следователей в затягивании дела, что неудивительно: в ту эпоху следствие порой занимало не более трех дней[86]. Несмотря на то, что процесс подготовки материалов занял более двух месяцев (с 6 сентября [1] по 16 ноября [216]), на следственную работу как таковую ушло всего четыре рабочих недели. Круг допрошенных был довольно узок, зато информация, собранная у свидетелей, — обширной. Значительная часть показаний выглядит, с точки зрения современного правосудия, очень странно. Следователи не отфильтровывали сплетни, а, напротив, изо всех сил выуживали их у допрашиваемых. В протоколы охотно записывались слухи, домыслы и высказывания обвиняемых, якобы подслушанные у сарая, приспособленного под место временного заключения. Так, 23 сентября Прохор Варыгин сообщил Быкову, будто слышал, как Данила советовал Ефрему Шатракову ни в чем не признаваться, даже если его будут бить, и сказал, что сам собирается объяснить происхождение пятен крови на своих штанах «кровавым поносом», которым страдал его дед [71]. Но особенно часто повторяется в показаниях разных свидетелей сплетня о перепалке между Татьяной и Ксенией Морозовыми в день, когда тела детей принесли домой. По заявлению Татьяны, впервые упомянутому в деле 11 сентября, Ксения сказала ей: «Что мы тебе Татьяна мясу наделали. Ты теперь его ешь» [5, 70]. Эту же версию повторил Варыгин 23 сентября (в этот день Татьяна еще раз пересказала этот эпизод) [72]. Четыре дня спустя жительница деревни Степанида Юдова тоже поведала эту историю [73]. С другой стороны, в своих первых показаниях Ксения утверждает, что она никогда ничего не говорила Татьяне о мясе; напротив, в более поздних показаниях [100] Ксения сообщила, что, когда она принесла хлеб Сергею и Даниле, запертым в сарае, Татьяна завопила: «Куда ты этим бандитам несешь хлеб, ступай вот унеси мяса», — на что Ксения ответила: «Кто это мясо наделал, тот и пускай его есть» [102об, 103]. Слухи собирались с разными целями. Разумеется, следователи хотели получить компрометирующий материал на лиц, которых они подозревали в убийстве. Сюда относятся злобные высказывания вроде издевательской фразы Ксении насчет мяса или слов Мезюхина, который, по утверждению Сергея Морозова, якобы сказал: «Етак ребят надо убить» [41 об.]. Но к делу также подшивалась информация о классовой принадлежности и политических взглядах участников происшествия. Так, например, 12 сентября Иосиф Прокопович вспомнил свой разговор со Степанидой Книгой: «…и когда трупы Морозовых привезли к избе-читальне и я говорил жалея ребят что дали бы мне винтовку и я бы полдеревни выбрал и расщелкал и эти слова услыхала Книга Степанида и говорит если тебе кажется мало то можно еще добавить таких так нежалко, это слышали женщины, но они отказались, что неслыхали, и еще слышал Варыгин Прохор. У Книги Степаниды муж Книга Устин Федорович занимается агитацией, что вот всех раскулаченых востановят, и из колоний спец-переселенцев пропустят домой, а в эти дома поселят наших бедняков, к нему ходят спецпереселенцы и даже живут унего которых он кормит своим хлебом и ержал вместе работницу кулачку из Троицкой колонии девку, т-е женщину лет 35» [37—37об.]. Рассказ Прокоповича рисует полную картину антисоветских настроений семейства Книги, члены которой не только ехидно отзывались о коллективизации, но и водили дружбу (а на самом деле намекалось на более интимные отношения) со спецпоселенцами. В этом конкретном случае наговор ни к чему не привел — власти не стали ни арестовывать, ни допрашивать никого из членов семьи Книги и не предприняли попыток приписать им участие в убийстве, однако в других случаях результаты оказались более серьезными[87]. Например, интерес к Кулуканову и Силину, по-видимому, был вызван не столько их материальным положением (в официальной «справке об имущественном положении» жителей Тавдинского района, представленной следствию герасимовским сельсоветом, Кулуканов значился кулаком, а Силин — нет)[88], сколько мнениями о них местных жителей. Главную роль здесь сыграла характеристика, написанная Денисом Потупчиком 12 сентября; в ней утверждалось, что Кулуканов вел «кулацкое хозяйство» с 1921 года и использовал наемный труд до 1931-го. Основным источником этих сведений был сам Денис Потупчик, который «работал за хлеб» у Кулуканова в 1922 году [44]. В свою очередь, Силин тоже обвинялся в использовании наемного труда и спекуляции скотом [44об.]. Дополнительным компрометирующим его обстоятельством (о нем сообщил Ефим Галызов) послужило то, что он продал телегу картошки спецпоселенцам [34об.]. Если в доме Сергея Морозова искали окровавленную одежду, то обыск у Арсения Кулуканова преследовал другую цель: найти собственность, утаенную от конфискации во время раскулачивания. 12 сентября 1932 года Титов, в сопровождении осодмильца Карпа Юдова и Иосифа Прокоповича, пришел к Кулуканову и обнаружил спрятанные у него кузов и оглобли от телеги; колеса же нашли зарытыми в огороде у Силина [47]. Этот факт послужил доказательством злонамеренного сговора между Силиным и Кулукановым. Телега потом еще не раз фигурировала в материалах следствия. Следователи стремились получить от свидетелей конкретные данные, пригодные для доказательства прямой или опосредованной связи между обвиняемыми и кулаками. Их методы напоминают действия испанских инквизиторов, которые собирали по соседям сведения о семьях, где не ели свинину и не зажигали свет по субботам, чтобы выявить скрытых евреев и мусульман. Точно так же рассказы соседей, подглядевших, как на соседнем огороде зарывают колеса, использовались, чтобы обнаружить уклонистов от праведного принципа общественной собственности. ОГПУ решало таким способом еще и другую задачу. Оно осуществляло своего рода связь с общественностью, и беседы с населением (а Вы кого считаете кулаком?) зачастую становились самоцелью. Важно было не столько осуществить правосудие, сколько продемонстрировать, что оно осуществляется. Соответственно, обращение к общественному мнению как таковое приобрело основополагающее значение. Сбор сплетен вполне укладывался в эту логику. Сначала они просачивались в протоколы свидетельских показаний случайно, скорее как признак социальной близости обеих сторон и доверительных отношений между официальными лицами низшего звена и осведомителями. Однако на более позднем этапе подключившиеся к делу высокопоставленные сотрудники следственных органов собирали сплетни вполне систематически. Так, оперинспектор Федченко внес в протокол заявление некоего Григория Мацука[89], утверждавшего, что, по словам его жены, кто-то из соседей видел Ксению и Сергея Морозовых вместе 3 сентября в лесу[90] [164]. Федченко зафиксировал также показания другого жителя деревни, что «общественность» Герасимовки считает Ефима Шатракова непричастным к убийству и что обвинение Шатракова, по мнению жителей деревни, основано исключительно на его вражде с Павликом Морозовым [162об.]. Резолюция Съезда крестьянской бедноты, перечень кулаков, составленный сельсоветом, и субъективное мнение доверенного лица имели почти одинаковый вес. Образцы всех этих «жанров» использовались в качестве полноценных свидетельств и находили свое место в материалах дела [58—60, 44—46, 162об.]. Наконец, не в последнюю очередь сплетни собирали с целью найти сюжетные мотивы, из которых впоследствии сложилось бы впечатляющее повествование о злодействе обвиняемых. Тут любая нелепица вставлялась в строку. Когда Данила Морозов показал на допросе, что Кулуканов украл золото у спецпоселенца, жившего в его доме, к этим словам отнеслись со всей серьезностью [86]. Неудивительно, что менее неправдоподобному утверждению, будто Кулуканов дал Даниле тридцать рублей (огромная сумма для русской деревни начала 1930-х), чтобы он убил Павла и Федора Морозовых [84], легко поверили. И даже нашли подтверждение: по словам Арсения Силина, после убийства Данила купил у него «мануфактуру»[91]. Не меньшую роль сыграли слова, якобы сказанные Данилой Морозовым 3 сентября и дошедшие до следствия через вторые руки [12; см. также 103, 106]: «у Павла было две раны, а у Федора три» — хотя это противоречило результатам судебной экспертизы, согласно которой у Павла было шесть ран, а у Федора четыре [11об.].
От деревенской драки к «кулацкому заговору»
При общей схожести следственных методов и одинаковом понимании своей задачи по выбиванию нужных показаний, работники ОГПУ и милиции, тем не менее, по-разному использовали собранный материал на следующем этапе разбирательства. Так, участковый Титов с самого начала был убежден, что убийство совершили Данила Морозов и один или несколько из братьев Шатраковых. Титов и его помощники Суворов и Потупчик к «Протоколу подъема трупов» [6] и «Акту осмотра мертвого тела» [10—11,7] старались присовокупить документы, подтверждающие их версию. С этой целью 6 сентября Титов произвел обыск в доме Морозовых [8] и допросил Анну Степанченко, которая видела, как Ефрем Шатраков и его отец утром 3 сентября работали в поле. Кроме того, Анна Степанченко встретила Ксению Морозову, идущую в лес за ягодами в сопровождении двух односельчан [28]. 7 сентября Титов допросил Сергея [12] и Ксению [19] Морозовых. В тот же день он взял показания у Прохора Варыгина, осодмильца и соседа Морозовых, из которых следовало, что Шатраковы враждовали с Павлом, так как подозревали его в доносительстве. У Шатраковых нелегально хранилось оружие, о чем Павел мог сообщить в милицию [13]. Помощник Титова Иван Потупчик, работая в том же направлении, снял показания с Дмитрия Шатракова, отрицавшего свое участие в преступлении [16], и Данилы Морозова, признавшего свою вину 7 сентября[92] [22]. 8 сентября Титов допросил Ефрема Шатракова [24], его мать Ольгу [18] и двух свидетелей, знавших о перемещениях Ефрема: Ивана Пуляшкина [25] и Василия Прокопенко [27]. Пуляшкин первым поведал историю, которая позже станет основой обвинения Данилы. Однажды (дата не упоминается) Павел и Данила принародно и жестоко подрались из-за седелки, части конской упряжи. Между тем Иван Потупчик занимался Антоном Шатраковым, отцом Ефрема [17] — единственная запись допроса Потупчиком Антона Шатракова датируется 8 сентября. На этой стадии следователей не особенно интересовали идеологические разногласия между Шатраковыми и братьями Морозовыми. Они рассматривали этот конфликт как акт мести «зуб за зуб», вылившийся в убийство Павла и Федора за донос на Шатраковых о нелегальном хранении оружия. Как заявил Дмитрий Шатраков 6 сентября на допросе у Титова, «морозов Повел доказывал что у нас есть скрытое вторье ружо у нас была отобрана 1931 году тисмоноя (тогда. — К.К.) когда отберали ружя в кулаков и в нас тогу и [тою и] отобрали. А дугоя мы спрятали 1932 году 22 июля у нас отобрали другое ружье доказал что у нас ружо ест доказал Морозов Павел и может мой брат Шатраков Ефем длята [из-за того] сердился я незнаю» [26об.]. Не исключено, что Титов сам сочинил эти показания, чтобы выдвинуть обвинение против подозреваемого. Но даже если это и так, интереснее в данном случае то, какой смысл он вкладывает (а вернее, не вкладывает) в слова информанта. Павлик нигде не назван пионером или активистом общественных собраний: он просто «донес» на соседа, нарушившего закон[93]. В протоколах Титова мало упоминаются кулаки (а если упоминаются, то, как правило, опосредованно, как, например, в вышеприведенном заявлении Дмитрия Шатракова: «когда отбирали ружя в кулаков»). Это же замечание справедливо и по отношению к протоколам Ивана Потупчика [см., например, 17, 22]. Из всех заявлений первых дней расследования только одно, сделанное Татьяной Морозовой 6 сентября на допросе у следователя Суворова, содержит утверждение, что Павлик — пионер («но этот сын на сел [наш] 13 лет был пионером [1]). Во всех других вспоминается только о неоднократном доносительстве Павлика. Картина меняется, когда 11 сентября к следствию подключается Спиридон Карташов, сотрудник районного ОГПУ[94]. Он приехал, вооруженный стопкой официальных анкет допроса (в суматохе первых дней Титов писал протоколы на обратной стороне форм — актов вскрытия тел). 11 сентября Карташов допросил Ивана Потупчика [29], а также школьников Анастасию Сакову [31], Павла Фокина и Пелагею Коваленко[95] [33]. Кроме того, он получил письменное заявление местного селькора о причинах преступления: «Морозовы оказались убиты вскоре после обыско ружья и кулацкого скрытого хлеба и ходко… убили Морозовых те люди у которых искали ружья и хлеба»[96] [40]. 12 сентября Карташов допросил торговца лошадьми Владимира Мезюхина из Владимировки, находившейся в нескольких километрах от Герасимовки [42], а также двух других свидетелей[97]. Денис Потупчик, со своей стороны, представил письменный документ: «Характеристика 1932 года 12 сентября. Выдана Герасимовским с/советом Тавд. Района Урал. Области на группу кулаков деревни Герасимовки Герасимовского с/совета» [44—46]. Наконец, следственная группа участвовала в состоявшемся в Герасимовке Съезде бедняков, на котором была принята резолюция, излагавшая историю убийства: Павлик шел правильным путем к строительству социализма и за это подвергался со стороны кулаков многочисленным угрозам, нападениям и в конце концов был ими убит. В резолюции также высказывалось требование расстрелять преступников[98] [58—60]. В деле Н—7825 нет информации о том, каким образом ОГПУ контролировало расследование на местном уровне, видимо, руководство осуществлялось районным начальством лично. Можно предположить, что Титов, или Потупчик, или они оба уехали из Герасимовки в Тавду 9 сентября, прибыли туда в тот же день или на следующее утро, 10 сентября, и связались с сотрудниками ОГПУ, после чего Карташова послали в Герасимовку, куда он прибыл вместе с Титовым и (или) Потупчиком 10 или 11 числа. Вероятно также, что Карташов оказался в Герасимовке случайно: 8 сентября Тавдинский райком партии спустил секретную инструкцию, согласно которой участковые обязывались отчитываться ОГПУ об их руководящей работе по сдаче зерна и предупреждению саботажа. Так что Карташов вполне мог приехать в Герасимовку, чтобы проверить, как выполняется это указание{115}. Как бы то ни было, Карташов сделал основной упор на идеологическую сторону в работе с подозреваемыми. В своем первом заявлении Татьяна Морозова говорит о конкретных действиях Кулуканова и Силина, утверждая, что она видела, как они заходили друг к другу утром 3 сентября [2]. На допросе у Карташова Татьяна приходит к более общим выводам: «…подозрение падает на указанных гр-н: Морозова Сергея и его жену Аксенью Ильиничну и его внука Морозова Данила Ивановича и также Кулаканову Химу, Кулуканова Арсентия и Силина Арсентия потому, что вся эта кулацкая шайка всегда собралась в месте группой и у них разговоры были о ненависти к сов.-власти, а так же к руководителям проводимых всех издаваемых сов. мероприятий и партией, а мой сын Морозов Павел Трофимович 13 лет пионер который всеми силами боролся запроводимые мероприятия сов. власти и был душевно предан этому делу несмотря нато, что онеще пионер, который непощадно своего родного отца Морозова Трофима Сергеевича [нрзб.: разоблачал?] что Трофим сам работал документами, т.к. служил председателем Герасимовского с/совета и эти документы продавал чуждо-классовому элементу кулачеству спец-переселенцев то этот пионер Павел нанего донес, зачто Трофиму дано 10 лет меры соц. защиты а этот отец жертвы Трофим является Морозову Сергею родным сыном» [3]. Как видно из текста, Карташов плохо знал правила грамматики и пунктуации и не всегда мог совладать с синтаксисом, но усвоил несколько пропагандистских формул: «кулацкая шайка», «за (против) проводимые мероприятия» (имеется в виду главным образом коллективизация), «всеми силами бороться» и, не в последнюю очередь, «доносить» (а не «доказывать» или «докладывать», как говорилось в первых заявлениях деревенских жителей). Так задачей второго этапа расследования стало разоблачение «кулацкой шайки». Для этой цели с большой тщательностью собирался материал, который бы мог засвидетельствовать ее существование. Тут пригодились не только результаты обыска в доме Кулуканова и отчет Дениса Потупчика, но и ряд свидетельских показаний. Иван Потупчик рассказал Карташову, что Павлик выступал на сельских сходках, разоблачал кулаков и докладывал в сельсовет об укрывательстве зерна. Он также утверждал, что Павлик донес на своего отца местным властям [29]. Следователи стремились расширить круг соучастников — они искали свидетеля, помимо Мезюхина, который бы подтвердил, что Ксению Морозову видели с мальчиками 3 сентября [31, 32]. С другой стороны, именно на этом этапе расследования из круга подозреваемых был исключен Дмитрий Шатраков, который сумел представить алиби [65]. Еще одна важная задача следствия состояла в придании жертвам, и прежде всего Павлу, статуса юных активистов. С этой целью заново опрашивали свидетелей. В первых показаниях Варыгина Павел фигурировал просто как один из «братьев Морозовых». А Карташову Варыгин описал Павла как пионера и активного участника общих собраний, на которых он разоблачал кулаков за то, что они прятали зерно и вещи [14]. Интересна характеристика обоих мальчиков, данная Денисом Потупчиком. В этом документе от 12 сентября Трофим Морозов возведен в ранг вожака целой шайки, изготовлявшей фальшивые документы: «…и у него еще работали Агенты при суде сын Павел обрисовал все подробности на своего отца» [61].Денис Потупчик первым высказал предположение, что Павел подвергался постоянным угрозам со стороны деда, бабки и других за свою разоблачительную деятельность, но продолжал твердо стоять на своем[99] [61об.]. Кульминацией второй фазы следствия стало предъявление семи подозреваемым обвинений по статье 58.8. В эту семерку попали Арсений Силин, Ксения Морозова, Сергей Морозов, Арсений Кулуканов, Хима Кулуканова, Ефрем Шатраков и Данила Морозов (восьмому подозреваемому, Владимиру Мезюхину, обвинение по той же статье было предъявлено 3 октября [55]). 16 сентября началась третья фаза следствия. Районный уполномоченный Быков вел его более профессионально и время от времени прибегал к помощи одного из своих заместителей Речкалова. В первый день Быков провел длительные и подробные допросы Сергея [105] и Данилы [78] Морозовых. Он также организовал им очную ставку [82]. На этот раз Данила отказался от признания в убийстве, а Сергей продолжал обвинять внука, но подтвердил, что чувствует себя виноватым в смерти Павла и Федора и особенно в том, что не сообщил в милицию раньше о подозрительных заявлениях Данилы. Сергей настаивал на том, что Данила осуществил убийство не в одиночку и был «только исполнитель кулацкого приговора» (последние слова принадлежат, конечно, Быкову, а не Сергею). Похоже, что к этому моменту Сергей находился в состоянии душевного расстройства. Вбиографических данных, которые собраны в ордере на арест, составленном 16 сентября, в качестве домочадцев Сергея, очевидно по его собственным показаниям, названы «Аксинья» (Ксения) и «Павел Иванович» Морозов (имелся в виду Данила Иванович Морозов) [135об.]. На допросе 16 сентября и во время очной ставки он путался в объяснениях, кому принадлежали штаны и рубашка, найденные в доме во время обыска 6 числа. Очевидно, что Быков истолковал его поведение как свидетельство вины. В отчете начальству, написанном 17 сентября, он назвал Сергея Морозова главным подозреваемым, но подчеркнул, что убийство совершило «местное кулачество». Оно «обижалось» на постоянные доносы Павлика не только на «родного отца», но и на некоторых оставшихся неназванными местных жителей, хранивших у себя «незарегистрированные ружья». В отчете Быкова также упоминаются в качестве подозреваемых Хима и Арсентий (так! — К.К.) Кулукановы, Арсентий (так! — К.К.) Силин и трое Морозовых, которые, по его словам, «неоднократно в разных сводках проходили как лица, настроенные антисоветски» [149—151]. В другой части своего расследования Быков сконцентрировал внимание на Даниле Морозове. Младшего Морозова вызвали на допрос 22 сентября, и он сознался, что драка из-за седелки действительно имела место, датировав ее 26 августа. Быков допрашивал Данилу также 1 [86] и 4 октября [87]. 23 сентября ему организовали очную ставку с Арсением Кулукановым [81], а 5 октября — с Ефремом Шатраковым [89]. На этих допросах Данила дал компрометирующий материал на Кулуканова (например, рассказал историю о золоте спецпоселенца и о тридцати рублях). Работая с Данилой, Быков одновременно собирал материал на «местное кулачество». Так, он дал распоряжение об инвентаризации имущества Сергея Морозова (что и было сделано 17 сентября), вероятно, рассчитывая найти доказательства принадлежности Сергея к кулачеству или обнаружить у него спрятанную чужую кулацкую собственность [56—57]. Кроме того, Быков внес в протокол обвинение Сергея Морозова в адрес Кулуканова, согласно которому в августе 1932 года тот украл принадлежавшее сельсовету зерно, которое Данила Морозов 11 августа повез в Тавду продавать. Из записей допросов видно: Быков подстрекал Химу Кулуканову свидетельствовать против мужа. Она призналась, что он укрывал имущество, чтобы избежать конфискации, и имел связь со спецпоселенцами. Хима, кроме того, дала обвинительные показания на своего отца, утверждая, что сказала ему: «Ты всегда грешил с ребятами Морозовыми… а у тебя нашли рубаху в крови», — и что ответом ей было многозначительное молчание [93, 93об.]. Быков также разрабатывал и самого Арсения Кулуканова. Он добился от него признания, что тот обманывал Советскую власть, пряча вещи, в том числе кузов, конскую упряжь и колеса для телеги, от конфискации. Однако Кулуканов отказывался признать какое бы то ни было участие в убийстве [96—97]. Тогда Быков предпринял попытку пришить Кулуканову дело с другой стороны. 28 сентября Арсений Силин не только показал, что зарытая на огороде телега Кулуканова первоначально была спрятана у Морозовых (тем самым подтвердив существование антисоветского заговора, в котором участвовали все три семьи), но и сделал заявление, что продал купленную в Тавде мануфактуру Даниле за 30 рублей [99]. В глазах Быкова, такое признание, безусловно, подтверждало правдивость рассказов Данилы о том, что подлый кулак Кулуканов дал ему 30 рублей и таким образом втянул его в преступление. К Ефрему Шатракову Быков не проявил особого интереса. Он, конечно, ознакомился с мнениями Потупчика и Титова, которые вновь повторили свои подозрения насчет Ефрема и Данилы и утверждали, что те сделали свои признания по доброй воле [74—76, 77]. Но на повторном допросе 22 сентября и на очной ставке с Данилой 5 октября Ефрем отрицал свою причастность к убийству и настаивал на том, что не имел никакой неприязни к Павлу, а также отрицал свою дружбу с Данилой. Данила же продолжал утверждать, что они с Ефремом дружили, и нарисовал трогательную картину, как они вдвоем гуляли по Герасимовке с гармошкой [89]. Однако теперь Данила отрицал, что совершил убийство вместе с Ефремом. Следователь никак не попытался заставить их повторить ранее сделанные признания. Кроме того, Быков, видимо, принял решение, что Силин и Хима Кулуканова принесут больше пользы процессу в качестве свидетелей, а не обвиняемых. У обоих имелось алиби на 2—5 сентября, и оба охотно свидетельствовали против других. Может быть, причиной этому послужило физическое насилие или угрозы насилия, а возможно, дело было в обещании снисхождения в обмен на помощь следствию. Нельзя исключить и предположения, что Быков считал их действительно невиновными или что обвинение против них может рассыпаться на суде. Во время великого террора 1937—1938 годов следователи, гонясь за высокими показателями, стремились привлечь к делу и довести до признания своей вины как можно большее количество людей в максимально короткие сроки — как и во всей плановой экономике, здесь тоже существовали свои нормативы. Но в начале 1930-х положение пока иное: еще существует правовая система, в которой, например, можно было добиться отмены приговора о выселении, как это сделал Арсений Кулуканов, подав апелляцию в Уральский кассационный суд [97]. В августе 1931 года сам Г. Ягода в обращении к работникам ОГПУ, посвященном «перегибам в следствии», наставлял своих подчиненных: «Каждый наш работник должен знать и помнить, что даже малейшая его ошибка, сделанная хотя бы не по злой воле, пятном позора ложится на всех нас»{116}. У арестованных еще оставалась надежда на правосудие, а чрезмерная ретивость следователя ОГПУ могла повредить его карьере. Другим подозреваемым, к которому Быков быстро потерял интерес, был Мезюхин. Причиной этому, вероятно, послужила фраза, якобы сказанная им Павлу и сообщенная Ксенией Морозовой с целью обвинить Мезюхина: «я этому сопляку пионеру покажу как про красных партизан доказывать» [101]. Неизвестно, произнес ли Мезюхин эти слова на самом деле, но по политическим соображениям власти не могли принять версию, что бывший красный партизан замешан в убийстве активиста. Любая информация, допускавшая возможность сочувствия к старому режиму, фиксировалась с особой тщательностью, как, например, тот факт, что Арсений Силин служил в царской армии в годы Первой мировой войны [129об.] или что отец Сергея Морозова был тюремным надзирателем [105]. Протокол об аресте Мезюхина исчез из дела (возможно, материалы по тем арестованным, с которых снимались обвинения, хранить не полагалось), но, судя по обстоятельствам, ранний выход Мезюхина из круга обвиняемых связан с его «неподходящим» для данного случая прошлым (или как раз «подходящим» при других обстоятельствах, когда требуется доказать свою лояльность к новой власти). Таким образом, Быков сузил круг подозреваемых до группы лиц, тесно связанных друг с другом и неспособных доказать свою преданность делу Коммунистической партии. Кроме того, он считал важным, чтобы в адрес подозреваемого были высказаны обвинения более чем одним человеком, будь то свидетель или другой подозреваемый. Значительная часть собранных данных связана с Данилой. Постепенно вырисовывалась такая картина: он действовал один, хотя и по наущению Арсения Кулуканова. Перекрестный допрос подозреваемых и свидетелей на этом этапе также нацелен на создание образа Павлика как активного политического борца. В таком ракурсе представленная жертва позволяла вести дело по статье 58.8 — «убийство активиста». К этому времени Татьяна Морозова утверждала, что ее сын «состоял в отряде пионеров», и подробно рассказывала о нападении на него Данилы, который якобы кричал: «я тебя проклятого коммуниста все равно зарежу» [68об, 69]. Даже родная бабка Ксения, если верить протокольной записи, называла внука «Пионер Морозов Павел» [101]. Последний штрих в расследование был внесен 18 октября, когда Речкалов допросил спецпоселенца Федора Тимошенко, который просидел неделю в камере с обвиняемыми. Не исключено, что Тимошенко подсадили «наседкой», чтобы собрать необходимую информацию (в советских тюрьмах это считалось обычной практикой). Тимошенко сообщил о подслушанных им разговорах сокамерников. По его утверждению, они пытались убедить Ефрема взять на себя ответственность за убийство, поскольку ему как несовершеннолетнему грозил более мягкий приговор. Как сказал Тимошенко, Сергей Морозов собирался заявить, что во время допросов его избивали, а Силин и Кулуканов получили записку, которую они вместе читали, а потом порвали и бросили в парашу [114]. Многие детали в рассказе Тимошенко выглядят сомнительными. Так, Кулуканов определенно был неграмотным, а Силин едва умел писать (судя по его подписям и заявлениям в протоколах), так что история с запиской выглядит выдумкой. Это, однако, не помешало Речкалову отнестись с доверием к показаниям Тимошенко. 20 октября он доложил Быкову, что Тимошенко подслушал, как Кулуканов сказал Сергею: «ну из затебя гада старого нам придется рассчитаться потому что ты нас выказал», — на что Сергей ответил: «да если бы не ты т-е Кулуканов Арс. Да ты Силин Арсентий то я и мой внук Морозов Даниил не сидели бы здесь» [124]. В результате Сергея поместили в отдельную камеру — чтобы не столько, как можно предположить, предотвратить столкновение между арестантами, сколько усилить на него давление. Работа Быкова с материалами подходила к концу. Однако 8 октября он получил указание передать результаты своего расследования в секретный политотдел ОГПУ Свердловска и отправить материалы дела на рассмотрение тройки [148]. 13 октября пришла срочная телеграмма, повторившая этот приказ в непререкаемой форме: НЕМЕДЛЕННО ШЛИТЕ ДЕЛО УБИЙСТВЕ ПИОНЕРОВ». 14 октября Быков обратился в Тавдинский райком партии с просьбой о месячном отпуске, который был ему предоставлен{117}. 16 октября он подписал распоряжение об освобождении Мезюхина и Химы Кулукановой. А 21 октября, т.е. более чем через неделю после получения указания передать дело, — направил материалы и список подозреваемых начальнику секретного политотдела [146]. Отчет Быкова начальству за этот период не сохранился, но из хода следствия, начиная с середины сентября, видно, что он пересмотрел свое мнение относительно Сергея Морозова в качестве главного преступника и стал подозревать в убийстве Данилу, а Кулуканову отвел роль подстрекателя. Как бы то ни было, эта нить следствия, вопреки предположению Быкова, ни к чему не привела. Он не добился признаний, а записи произведенных им допросов представляют собой клубок взаимных наговоров, из которого не вытекает никакая логически связная история. Требовалось внести в дело ясность и определенность. В начале ноября к следствию подключился уполномоченный СПО{118} Тагильского операционного сектора ОГПУ Федченко, присланный из Нижнего Тагила (150 км к северо-западу от Свердловска)[100], и началась четвертая фаза расследования. С приездом Федченко допросы стали проводиться с пристрастием, с целью во что бы то ни стало добиться признаний. Не исключено, что подозреваемых подвергали психологическому давлению, «ставили на конвейер», т.е. допрашивали без перерыва даже на сон в течение нескольких дней. Следствие велось интенсивно. Один Данила, например, подвергся трем продолжительным допросам в течение короткого времени — 5 и 6 ноября. Главный удар пришелся на морозовское «трио», хотя 4 ноября Федченко вызвал также Ефрема Шатракова [175] и сделал копию с его свидетельства о рождении [188]. Кроме того, он присовокупил к делу еще одно свидетельское показание о передвижениях Шатракова 3 ноября [160] и обсудил результаты более ранних дознаний с Иваном Потупчиком [163]. Но большая часть собранных материалов относилась к Морозовым, и все — обвинительного характера. С этой целью специально разыскивались свидетели, готовые подтвердить, что видели Ксению с детьми 3 сентября [164, 169, 170], но найти удалось только одно такое свидетельство, и то из вторых рук [164]. В основном же были зафиксированы обрывки подслушанных разговоров («надо было сбросить тела в Петрушенский овраг» и т.п. [165]). Федченко добивался признаний от Данилы, Сергея и Ксении Морозовых. Ксения первой признала раскол в семье, подробно, но путано рассказав 2 ноября о конфликте: Сергей Морозов ненавидел Павла за пререкания по поводу движимого имущества, оставшегося после высылки Трофима; Павел не хотел отдавать не только конскую упряжь, но и оглобли от телеги и топор; он даже подал в суд на деда, окончательно обострив этим отношения; приблизительно за два дня до убийства произошла большая ссора из-за седелки[101]. Павел потребовал у Сергея вернуть седелку, после чего Сергей «ударил Павла очень сильно и выбросил его из избы ударив кулаком в спину». Тогда Павел разбил палкой окно, а Сергей в ответ сказал: «Все равно сукин сын не будешь долго на свете скоро тебя прикончу». По словам Ксении, ее муж странно вел себя в день убийства: когда его спросили, почему он не идет рыбачить, тот ответил: «лучше прикончу свое хозяйство» (слово «прикончу» следователь многозначительно выделил курсивом). После убийства Сергей сказал, что пожалел, что не сжег тела [154]. 5 ноября Ксения созналась, что она узнала об убийстве в день его совершения: Сергей сказал ей: «Мы с Данилой решили (т.е. убили)[102] ребят Морозовых»[173]. Но она, боясь наказания, не стала рассказывать об этом милиции. Данила и Сергей полностью подтвердили свое участие в убийстве. 6 ноября Данила выдал следователям подробный и последовательный рассказ. Его дед и пионер Павлик Морозов враждовали друг с другом, потому что Павлик хотел разоблачить Кулуканова. Сергей неоднократно подговаривал Данилу на убийство Павла, но все не было «подходящего момента». Наконец наступил день, когда Арсений Кулуканов сказал ему, что Павел и Федор пошли за ягодами, и дал ему 30 рублей, чтобы он покончил с детьми. Дед тоже подстрекал его на убийство. В 2 часа пополудни вдвоем с дедом они отправились в лес. Когда Сергей зарезал Павла, Федор бросился бежать. Дед закричал: «Держи его!» Данила догнал Федора, тут подоспел Сергей и «нанес несколько ударов тем же самым ножем и Федору Морозову». Напуганный криком мальчиков Данила бросился домой, а дед оставался в лесу еще с час. После убийства они переоделись, а Ксении ничего не сказали [176]. Показания Сергея по главному пункту совпадали с показаниями Данилы. Да, он нанес раны мальчикам, Данила их держал. Да, он сменил одежду после убийства. Однако Сергей ничего не сказал о связи с Кулукановым, хотя и подтвердил, что находился под влиянием последнего и был очень обижен на Павлика[103]. Сергей настаивал на том, что преступление не было заранее спланированным: «Сознаюсь, что делая (слово «делая» вставлено. — К.К.) преступление я не сознавал то что я делал а теперь только отдаю себе отчет о происшедшем. Даниле Морозову я сказал о подготовленном убийстве только в день совершения его. Кроме того добавляю, что по приходе домой и скинув окровавленное платье, у нас не было намерения выстирать его с тем чтобы уничтожить следы преступления. Повторяю что убийство совершено по злобе на Морозова Павла т.к. слышал от него что он говорил сожжет мой дом и не даст мне пощады» [179об.-180]. На этой стадии следствия было решено, что признаний от нескольких подозреваемых вполне достаточно. Федченко вызывал Кулуканова всего два раза: 1 ноября — для очной ставки с Данилой, повторившим свою историю о тридцати кровавых рублях, и для допроса 2 ноября [153, 157]. В обоих случаях Кулуканов твердо придерживался своей, уже высказанной, версии: он ничего не знал об убийстве. Возможно, Федченко почувствовал, что Кулуканова будет трудно «расколоть», а может быть, решил, что истории с 30 рублями, а также свидетельств о связи Кулуканова с кулаками (приговор к высылке, признание в попытке утаить собственность при раскулачивании) и так достаточно, чтобы произвести должное впечатление на суде. Или, возможно, Федченко просто не хватило времени, чтобы вызвать Кулуканова еще раз. Как бы то ни было, он понимал, что Данила и Сергей у него в руках, и на этом завершил свое расследование. Последние допросы, проведенные Шепелевым, уполномоченным СПО ПП (полномочного представительства) ОГПУ в Свердловске, связали все нити расследования в один узел. В дело было внесено одно значительное изменение: Данила признал свое непосредственное участие в убийстве. 11 ноября [192—194] он поведал складный и, с точки зрения ненавистников кулаков, убедительный рассказ с множеством красочных подробностей. Павлик сообщил в сельсовет об имуществе, спрятанном у деда. Иосиф Прокопович, член комиссии по сдаче зерна, находившийся с Кулукановым в родственной связи через женитьбу, сказал Кулуканову о доносе Павлика; это привело к взрыву негодования: «вот такая поскуда если так будешь доказывать так на свете не будешь жить!» Кулуканов сказал Даниле, что мальчики собираются в лес за ягодами и что наступил подходящий момент, и дал ему 30 рублей в качестве вознаграждения, а сам уже сговорился с Сергеем, что они с Данилой сделают дело и уйдут. Сергей все еще держал на Павла зло за предательство отца, поэтому решился на убийство. Подбадривая внука, дед и Данила ушли на дело после обеда. «Я подбежал с ножом в правой руке к Павлу и резнул его в живот». Павлик закричал: «Федя, братишка, убегай!», — «а его Федора дед (Сергей Сергеевич. — К.К.) держал уже я Павла резнул ножом вторично и побежал к Федору и ударил ножом в живот». Потом Данила высыпал ягоды из мешка, а дед предложил надеть его на голову Федору, чтобы тот не нашел дороги домой. Данила не отрицал, что его более ранние показания сильно отличались от настоящих, но объяснил это так: мол, он хотел спровоцировать Кулуканова, чтобы тот признал, что дал ему деньги, хотя Кулуканов велел ему молчать. Далее Данила заявил: Ефрем Шатраков на самом деле тут совершенно ни при чем. В тот же день [195—196] Сергей Морозов подтвердил участие Кулуканова в убийстве, сказав, будто Кулуканов обвинял Павла в происходящих у него обысках и настаивал на том, что Павла необходимо «уничтожить» (глагол «уничтожить» вряд ли входил в словарь Сергея Морозова, но это не смутило Шепелева). Он больше не искал виновных, взяв за основание версию Данилы, согласно которой тот наносил удары ножом, пока Сергей держал мальчиков. Этот складный рассказ предъявили Кулуканову на двух очных ставках: с Сергеем [198] и с Данилой [200], но тот продолжал все отрицать. Силин, в свою очередь, тоже все отрицал: он ничего не знал о доносе Павлика на своего отца и вообще о разоблачительной деятельности детей: «я на них как на малых ребят не обращал внимания» [197]. Шепелев, вероятно, мог бы продвинуться еще дальше и украсить дело новыми подробностями, но начальство требовало скорейшего завершения следствия. Как только в начале октября известие об убийстве докатилось до центральной прессы, дело приобрело неслыханную огласку, каждое следственное действие привлекало к себе общественное внимание, непривычное для оперативников из далекой глуши. На подготовку показательного суда бросили все силы. Ко второй неделе ноября журналисты «Пионерской правды», возмущенные затягиванием следствия, начали требовать скорейшей передачи дела в суд. 15 ноября газета опубликовала материал об очередных заминках в расследовании, сопроводив его раздраженным комментарием от редакции: «Несмотря на поступающие со всех концов Союза многотысячные протесты и требования быстрейшего суда над убийцами, следствие ведется крайне небрежно и медленно. Редакция “Пионерской правды” обратилась вчера к прокурору республики тов. Вышинскому за содействием». Тут же последовала телеграмма Вышинского свердловским чиновникам, в которой он требовал закончить дело в трехдневный срок{119}. Этой телеграммы нет среди материалов дела Н—7825, но даты других документов свидетельствуют о том, что история, изложенная в «Пионерской правде», в сущности, правдива[104]. Обвинительный акт был готов к 15 ноября [206—213], а к 16 ноября Уральская районная прокуратура послала дело с пометкой «срочно» в Уральский областной суд: «Дело прошу рассмотреть показательным судом на месте участием сторон обвинение будет поддерживать Прокуратура Содержащиеся под стражей перечисляются сего числа за Вами» (текст напечатан на бланке, курсивом выделено вписанное в бланк от руки. — К.К.) [216].Шитое дело
Обвинительное заключение послужило основой для официальной версии жизни и смерти Павлика, впервые озвученной на суде, а затем использованной в ранних биографиях героя. «25 ноября 1931 Морозов Павел подал заявление следственным органам о том, что его отец Морозов Трофим Сергеевич, являвшийся председателем сельского совета и будучи связан с местными кулаками, занимается подделкой документов и продажей таковых кулакам-спецпереселенцам, за что Морозов Трофим и осужден на 10 лет ссылки»[105]. Затем Павлик разоблачил своего деда в попытке скрыть кулацкую собственность. Зимой 1932 года он также обличил Арсения Силина в невыполнении норм сдачи зерна и продаже телеги картофеля спецпоселенцам. Кулуканов, укравший 15 пудов ржаного зерна у сельсовета, поделился с Сергеем Морозовым своими опасениями, что Павлик донесет о краже в сельсовет. В свою очередь, Данила угрожал Павлику смертью, если тот не выйдет из пионерской организации. Драка из-за седелки (в протоколе сделана комическая опечатка — «селедки») произошла 25 августа. И, наконец, 3 сентября в заговоре против Павлика наступила развязка: Данила убил его и Федора в лесу. Что касается Ксении Морозовой, то она злобно глумилась над Татьяной в присутствии соседей: «Татьяна, мы наделали мяса, иди, ешь его» [206—213]. Официальная версия событий выглядит малоубедительной даже в свете материалов, собранных в официальном деле. Обвинительное заключение ссылалось на цитаты — например, об угрозе Данилы убить Павлика, если тот не выйдет из пионеров, — которых не было в свидетельских показаниях. Кроме того, показания использовались следствием выборочно и отличались сумбурностью и непоследовательностью, в чем нельзя упрекнуть сам нарратив, который неукоснительно придерживался основной линии и, с точки зрения советского правосудия того времени, казался убедительным. Отважный не по годам пионер поддерживал советский строй и разоблачал предателей, включая собственного отца, за что с ним — руками его двоюродного брата, злобного врага Советской власти, и при соучастии деда и бабки — расправились мстительные кулаки. Обвинительное заключение утверждало, что все трое Морозовых полностью признали свою вину. История на этом заканчивалась, оставалось только преподнести ее «советскому народу» в зале суда. Выражение «показательный суд» впервые публично употребила, кажется, «Пионерская правда», объявившая (как оказалось, поторопившись), что «показательный суд» непременно состоится «через несколько дней». Как только следователи поняли, что показательный суд станет в их работе кульминационным моментом, они начали репетировать со свидетелями и защитой эту публичную драму, в которой следственный процесс должен был увенчаться торжеством «пролетарской справедливости», предъявленной широкой общественности в зале суда. Судьи, руководившие такими показательными процессами в реальной жизни, обладали всеми правовыми полномочиями. Устраивались также агитационные суды над вымышленными персонажами и показательные дебаты, на которых обсуждались политические достижения советских лидеров, в том числе Ленина[106]. Председательствовал «народный судья» или другой представитель советской судебной власти, а в заседатели выбирали кого-нибудь из общественности. (В случае суда над «убийцами Морозовых» председательствовал «член [областного] суда» [217], т.е. более высокопоставленная фигура в судебной иерархии, как это было принято на процессах по статье 58 Уголовного кодекса[107].) Подзащитные и свидетели давали клятву, вызывались для дачи показаний и подвергались перекрестному допросу в соответствии с общепринятой процедурой. Однако обвинение выдвигалось не только прокуратурой, но и общественными обвинителями, рекрутированными из профессионалов советского агитпропа. На процессе по делу об убийстве Павлика Морозова в этом качестве выступали корреспондент «Пионерской правды» Елизар Смирнов и представитель Уральского обкома комсомола Урин. Весь антураж процесса был оформлен таким образом, чтобы вызывать ассоциацию скорее со спектаклем или юбилейным торжеством, нежели с «выездным заседанием Уральского областного суда», как официально называлось это событие. По всему Тавдинскому району проходили демонстрации и политические собрания, приветствовавшие начало слушаний. В немыслимом количестве писем и телеграмм с требованием наказать «озверевших кулаков» выражалось организованное общественное мнение{120}. Заседания проходили в тавдинском доме культуры, как можно догадаться — имени Сталина. «Всходы коммуны» сообщали: «на сцене в глубине [висел] портрет Павлика», судьи, свидетели и подсудимые сидели тут же, на сцене, а подсудимым отвели место на тесной и неудобной скамейке под охраной двух молодых людей, вооруженных штыками. Обвиняемым была предначертана роль презренных злодеев, поверженных мощью советского государства{121}. Поскольку показательный процесс — это все-таки не только театральное, но и юридическое действие, смысловые несовпадения между обвинительным заключением, заготовленными речами общественных обвинителей, призванных дать ретроспективную оценку всему делу, с одной стороны, и показаниями подсудимых, с другой, могли смазать впечатление. Было крайне важным, чтобы подсудимые точно сыграли свои роли в этом сценарии, поэтому на допросах их заставляли много раз дословно повторять показания. В эпоху Большого террора, когда судьбу арестованных решали «тройки», сама логика следствия была иной: следственные ритуалы обращались вовнутрь. Работа по моральному подавлению и «перековке» обвиняемого происходила «камерно», поэтому протоколы допросов тех лет велись менее тщательно. Главное — заставить «врага» подписаться под обвинительным заключением, а не признать свою вину в зале суда. Публичный характер показательного суда доставлял его организаторам довольно много хлопот. Во времена, когда следствие и суд проходили за закрытыми дверями, отказ обвиняемого от предварительных показаний не имел особого значения. (Такие случаи происходили: например, писатель Исаак Бабель на допросах соглашался с обвинениями, но впоследствии отказался от своих признаний, поскольку знал, что его расстреляют в любом случае.) Однако на публичном процессе отказ подсудимого от своих показаний мог испортить все дело, поскольку нарратив обвинения требовал полного соответствия с материалами предварительного следствия. Как постановила в 1924 году коллегия Центрального исполнительного комитета Коммунистической партии, цель процесса состояла в демонстрации правильности заранее принятого решения, а не в исследовании его мотивов и обоснованности{122}. Поэтому надо было знать наверняка: свидетели и подсудимые скажут все, что требуется. Согласно официальному протоколу процесса по делу об убийстве Морозовых (его полной стенограммы не существует), все прошло сравнительно гладко. Понятно, что свидетели представляли для властей меньшую проблему, чем подсудимые, поскольку их можно было выбрать и натаскать заранее. Из судебных протоколов видно: перекрестный допрос свидетелей занял немного времени (по сравнению с тем, сколько времени потратили, чтобы сломать сопротивление подсудимых), и опасность того, что свидетели запутаются и начнут противоречить друг другу, была невелика. Тем не менее, следователи проделали немалую работу, выстраивая свидетельские показания наиболее выгодным для обвинения образом. Большая часть свидетелей, привлеченных к делу в ходе следствия, просто исчезли из протокола, хотя ссылки на их показания остались. Свидетели, выступавшие на суде: Татьяна Морозова, Прохор Варыгин, молодой житель деревни Константин Волков и Ефим Галызов — излагали версии, сильно отличавшиеся от первоначальных. Татьяна Морозова, например, сказала, что муж бросил ее и ушел жить к Кулукановым, «где его и женили» [229]. Она также упрекнула подсудимых за то, что никто из них не поинтересовался судьбой детей, когда они исчезли. После того как Морозовых арестовали, Ксения обрушилась на нее с градом непристойных ругательств, а потом сказала: «мы сумели кровь пить, а ты сумей мясо есть» [229об.]. Новые показания Татьяны отличались от старых в деталях, но центральная часть ее рассказа (относительно ненависти к ней и ее детям со стороны родственников мужа и особенной неприязни к Павлу за то, что он разоблачил отца) осталась неизменной. Показания же некоторых других свидетелей изменились сильно. Так, на допросе 23 сентября Варыгин сказал Быкову, что слышал, как Ксения сказала: «Татьяна, мы тебе наделали мяса» [72]. На суде, однако, он повторил версию Ксении, согласно которой Татьяна возражала против того, чтобы Ксения носила еду убийцам ее детей («как не стыдно, убили моих детей»), на что Ксения тогда отвечала: «наделали мяса, так ешьте» [231]. Константин Волков, рассказавший о споре вокруг кулукановской телеги и следивший за Ефремом Шатраковым, теперь представил совершенно новые свидетельства о драке между Данилой и Павлом на рыбалке [233]. А Ефрем Галызов, подслушавший и рассказавший следствию, как обвиняемые сокрушались, что не сбросили тела в Петрушенское болото, теперь громогласно рассказывал историю о разоблачении Павликом Арсения Силина, который спрятал картофель, чтобы потом продать его [233об.]. Большая часть из этого ряда свидетельских показаний направлена на создание образа Павлика Морозова. На суд привели местную школьную учительницу Зою Кабину, которая охарактеризовала Павлика как «настойчивого, активного парня», который «всегда шел впереди всех в проводимых мероприятиях» [230—230об.], несмотря на неодобрительное отношение к пионерам со стороны местных жителей. Павлику выбрали безукоризненных друзей: Якова Юдова (сына местного осодмильца) и Якова Коваленко [230об.]. Клавдия Прозерова, другая школьная учительница, тоже сказала о Павлике, что он «шел всегда первым в проводимых мероприятиях» [230об.] В том же духе о политической приверженности Павлика говорил и Денис Потупчик, зампредседателя сельсовета [231об.]. А Алексей Морозов, один из младших братьев Павлика, утверждал, что Павлик активно агитировал детей за вступление в пионеры [230]. Не оставалось никаких сомнений: убийцы оборвали жизнь исключительной личности. Единственной диссонирующей нотой в хоре свидетельских показаний оказался неожиданный выпад Ефрема Шатракова, который использовал отведенное ему на суде время не только для того, чтобы обвинить Данилу (который, по словам Шатракова, уже находился в поле, когда туда пришел Ефрем), но и для собственной защиты. Он заявил, что дружил с Павлом и что протокол допроса относительно убийства Павла ему не прочитали, а подписал он его под давлением [231]. Со своей стороны, Титов и Иван Потупчик отрицали противозаконные действия органов и указывали на свидетельства о тесной связи между Данилой и Ефремом [231об.]. Эта неприглядная перебранка сказалась на решении суда единственным образом: прокурор потребовал, чтобы Титов ответил по статье 111 Уголовного кодекса за то, что не предпринял никаких шагов по охране жертвы преступления [234об.]. На этом власти потеряли к Шатракову интерес. Пятеро обвиняемых по большей части придерживались своих ролей в этом заранее написанном сценарии. Звездная партия досталась Даниле, чьи показания в их последней версии на допросах, которые вели Федченко и Шепелев, вполне созвучны общему хору: Кулуканов предстает основным подстрекателем преступления (он передавал сведения о передвижениях мальчиков в тот роковой день, способствовал самому убийству и сокрытию запятнанной кровью одежды). К своим показаниям Данила еще добавил, что на следующий день после убийства Кулуканов дал ему стакан водки, чтобы купить его молчание. Данила заявил, что совершил преступление ради 30 рублей, мотивом послужила и драка 26 августа из-за седелки [223об., 224, 226об., 176, 193об.]. В показаниях Ксении Морозовой тоже появились новые красочные детали. Она нарисовала яркую картину ужасной домашней обстановки. «Старик у меня очень суровый и житье с ним было тяжело и не любил когда ему возражали …Старик уж очень не любил Павлика а ко мне внучата относились хорошо», — утверждала Ксения. Когда мальчики приходили к ним, Сергей был недоволен: «зачем паршивцы пришли». После суда над отцом Сергей продолжал угрожать Павлу, правда, называл его теперь не «сукиным сыном», а помягче — «паршивым щенком»: «Павел выбил стекла и старик его выгнал и сказал что паршивый щенок на свете жить больше не будешь». С мрачным описанием старика в рассказе Ксении контрастировал светлый образ ее внука, восставшего против несправедливого деда и вообще отстаивавшего правоту: «Павел был боевой и смелый парень и если есть провинки за кем он доложит» [219—220]. Судебное заседание разворачивалось по написанному сценарию и в отношении «пособников» преступления — Арсения Силина и Арсения Кулуканова. Силин еще раз заявил: во время убийства находился в Тавде и ничего не знал; с Павлом был в хороших отношениях и не подозревал, что тот активист; понятия не имел о взаимоотношениях Павла с дедом. Силин повторил историю о продаже мануфактуры Даниле, а про Сергея Морозова сказал: «Старик был суровый очень» [228]. Кулуканов, в свою очередь, продолжал отрицать свое участие в убийстве и в ответ на показание Данилы о стакане водки с презрением сказал: «Я вино совсем не пью» [226]. Он еще раз заявил, что золотых монет у него отродясь не бывало и что он понятия не имеет, кто донес, что он спрятал телегу [226—226об.]. Все сказанное Кулукановым вполне соответствовало месту, отведенному ему в этой истории. Если бы он вдруг раскаялся и признал свою вину в зале суда, это, возможно, добавило бы действию драматизма. Но занятая им позиция даже лучше вписывалась в сценарий: ведь Кулуканов должен был предстать перед народом безжалостным, лживым и хитрым кулаком, поэтому никого не удивляло, что он отрицал свою вину, — весь зал знал цену его уверткам. Заявление Кулуканова о том, что он спиртного в рот не берет, вызвало у присутствующих не меньшее возмущение: совсем заврался старый брехун. Нарушил общее согласие только Сергей Морозов. Сначала он, как полагалось по плану, подтвердил свои предыдущие показания относительно участия в убийстве: «Я держал внука Федора и Данила резал». Подтвердил, что его отношения с Татьяной и ее детьми были плохими. Татьяна всегда пыталась присвоить чужое имущество — скотину и вещи, принадлежащие ее мужу. Он недолюбливал мальчиков, потому что те всегда насмехались над ним. Ему не давал покоя донос Павла на отца и Кулуканова. Кроме того, Сергей выдал свою жену: да, она знала об убийстве, она вообще неблагонадежна и привлекалась к суду за воровство еще до революции. Он помог Кулуканову собрать зерно с общественных полей и спрятать его, несмотря на то что члены сельсовета говорили ему, чтобы он этого не делал [221об.—223]. Пока все шло гладко, и эти показания, как и в случаях с Ксенией и Данилой, представляли собой приукрашенную и доработанную версию, которой Сергей придерживался раньше. Но затем Сергей неожиданно изменил свою позицию. В протоколе не зафиксированы его точные слова, но записано: «От показаний Морозов отказывается. На вопрос Прокурора “хочет ли говорить верно?” подсудимый Морозов ответил: “Нужно держать язык короче”» [223об.]. Главный подозреваемый неожиданно отказался признать свою вину. Впрочем, на решение суда эта заминка никак не повлияла. Сергей, Данила, Ксения Морозовы, а также Арсений Кулуканов были признаны виновными в преступлении, которое им вменялось. Зачитывая их смертный приговор (расстрел), трибунал повторил версию убийства, уже рассказанную Данилой и Сергеем: оба они непосредственно участвовали в убийстве мальчиков, организованном при подстрекательстве Кулуканова. Ксения обвинялась также в попытке ввести следствие в заблуждение. Свидетельств об участии в преступлении Силина не обнаружилось [235—239]. Это стало единственной неожиданностью во всем судебном процессе в глазах аудитории, хотя и его можно было предсказать, исходя из того, как небрежно, бегло и вяло допрашивался Силин. Похоже, следователи и не рассчитывали, что его обвинят. В то же время рассказанная Силиным история о проданной Даниле мануфактуре послужила важным свидетельством против последнего. Силин мог, конечно, повторить эти показания и в качестве свидетеля, но это выглядело бы не столь драматично. То обстоятельство, что Данила осуществлял коммерческие сделки с другим подозреваемым в совершении этого жуткого преступления, придавало покупке сукна особо скверный оттенок. Можно подумать, Силина привлекли к суду, чтобы он выступил в качестве катализатора драматического эффекта.Работа с подозреваемыми
На каждой стадии расследования сотрудники ОГПУ и их коллеги в органах милиции и прокуратуре создавали стройную и захватывающую историю о «настоящем преступлении»{123}. На более поздних этапах следствия они были озадачены созданием нарратива, который бы оправдал вынесенный приговор в глазах конкретной аудитории в зале суда и более широкой — во внешнем мире. Власти следовали правилам политической целесообразности (по выражению П. Соломона, «кампанейского правосудия»), согласно которым законность обусловлена необходимостью разоблачить врагов государства и привлечь их к ответственности за совершенные преступления{124}. Но, рассуждая об идеологической подоплеке и художественной, вымышленной природе следственных и судебных записей, нельзя забывать, что речь идет о живых людях, подвергавшихся физическому и психическому давлению. Почти все без исключения протоколы представляют собой вполне складные повествования, подписанные свидетелем или подозреваемым. Способы получения информации во время допросов нигде не описаны, но из некоторых материалов Федченко видно, что он широко использовал наводящие вопросы[108]. Этой же цели (навязать готовый ответ) служит излюбленный прием всех следователей — очная ставка. Главным образом его применяют, когда один из подозреваемых уже начал «рассказывать правдивую историю», а другой еще сопротивляется. Например, на ранней стадии следствия Данилу Морозова, на тот момент настаивавшего на своей невиновности, свели с его дедом, который уже успел показать: Данила, мол, подозрительно рано узнал, что мальчиков зарезали и сколько ударов ножом им нанесено [21]. Были и другие способы получить желаемые ответы. Без сомнения, следователи применяли неофициальный прием, в современной американской юридической системе известный как «сделка с обвиняемым»: обвиняемому предлагали признать свою вину или дать показания на других в обмен на более мягкий приговор. Прямо о таких «сделках» в протоколах не говорится, но намеки на них можно найти, и в связи с освобождением Химы Кулукановой или оправданием Арсения Силина, и в связи с некоторыми подробностями в показаниях других обвиняемых. Так, 6 ноября Сергей Морозов сказал Федченко: «по приходе домой и скинув окровавленное платье у нас не было намерения выстирать его с тем чтобы уничтожить следы преступления» [179об. — 180]. Легко предположить, что следователь сказал Сергею (покривив душой): если тот сам признается в непреднамеренном убийстве, наказание будет менее суровым, чем если другие засвидетельствуют, что он участвовал в заранее спланированном преступлении[109]. В протоколах нет упоминаний об избиениях на допросах, но можно догадаться, в какие дни применялось насилие. Например, на ранней стадии следствия Данила Морозов и Ефрем Шатраков, оба отрицавшие участие в убийстве, вдруг изменили свои показания на промежуточном допросе [22об., 24об.]. Первого допрашивал Иван Прокопчук, второго — Яков Титов. Позже Ефрем утверждал, что его били, это утверждение было, видимо, признано трибуналом на показательном суде [234об.]. Второй случай, когда в процессе следствия скорее всего применялось насилие, связан с прибытием оперуполномоченного Федченко из Нижнего Тагила. Уголовное следствие установило применение побоев по отношению к Ксении Морозовой [264об.]. Это же подтверждает медицинская справка от 6 ноября: «Тов. Морозова была произведена операция видения яичника. Настоящее время рана подживает требует излечения через день Морозова имеет резко выраженную старческую дряхлость 6.XI. 1932 Врач (нрзб.)» [190]. 5 ноября Ксения Морозова подверглась допросу, на котором присутствовал не только Федченко, но и оперативный работник ОГПУ по фамилии Трусов. Последний засвидетельствовал, что слышал, как Сергей сказал, что он и Данила «покончили» с мальчиками [173]. В других протоколах также прослеживается связь между признаниями подозреваемых и присутствием на допросе более чем одного сотрудника органов[110]. Точности ради надо сказать, что по закону признание должно быть засвидетельствовано несколькими лицами: так, протокол о признании своей вины Данилой от 6 ноября подписан Арсением Силиным, а также Андрианом Искриным и Лихобабиным, заместителями уполномоченных ОГПУ. Однако трудно себе представить, что работники ОГПУ на допросах бездействовали. Сам факт того, что медицинское свидетельство Ксении выписано на следующий день после допроса в присутствии нескольких сотрудников органов, подтверждает гипотезу о применении грубой силы с целью выбить признание. Садизм, тем не менее, был для сотрудников органов не самоцелью, а способом заставить заключенного рассказать «правильную историю». Допросы являлись актом ритуального унижения: подозреваемых сталкивали с помощью противоречивых показаний и заведомо ложных признаний, люди теряли свое «я» и соглашались на «перевоспитание». «Виновных» (а по логике процедуры дознания никтоиз подозреваемых не мог считаться невиновным) следовало довести до безоговорочного самоотвержения и признания всемогущей силы власти. Согласно протоколам, Данила Морозов достигает этого состояния к концу процесса, когда «просит пролетарский суд судить по закону» [232]. Высказанная Арсением Кулукановым просьба о снисхождении, а не о наказании означала, что уроки дознания усвоены не до конца. Кулуканов отказался делать на допросах какие-либо признания, в то время как остальные подсудимые робко повторяли слова, вложенные им в уста. Именно он бросил вызов следствию, подав на апелляцию после оглашения приговора. Парадокс, однако, состоит в том, что признание вины не подразумевало прощения. Кулуканова приговорили к расстрелу, но тот же приговор получил и Данила. Процесс очищения требовал, чтобы сломленные на допросах враги не только повторяли на суде все, что им прикажут; он требовал их физического уничтожения — «ликвидации как класса». Похоже, ни у кого в зале суда оглашенный приговор не вызвал протеста, несмотря на некоторые нестыковки и даже противоречия, обнаружившиеся по ходу процесса. «Народные обвинители» произнесли заключительные речи, от имени всего советского народа требуя наказать подсудимых по всей строгости закона. Защитник, не игравший вообще никакой роли в разбирательстве, сложил с себя даже формальную ответственность за обвиняемых. А когда вердикт был зачитан, собравшийся в зале суда народ, по словам газеты «Рассвет коммуны», выразил свое «единогласное одобрение» вставанием и пением «Интернационала». Итог судебного процесса отвечал всем ожиданиям следователей. Смертный приговор был вынесен и — после отклонения апелляции — приведен в исполнение 7 апреля 1933 года[111] [240]. Это стоило немалых усилий: требовалось добыть, а точнее говоря, выбить из обвиняемых необходимые свидетельства, переработать их, а в некоторых случаях и выдумать. Нельзя было представить это убийство в виде случайного проявления жестокости, исхода бытового имущественного конфликта из-за конфискованного ружья или седелки. Следствие стремилось истолковать убийство Морозовых как политическое событие, как убийство активистов. А такое преступление требовало идеологически подходящих исполнителей — кулаков. Подозрение естественным образом сосредоточилось на Арсении Кулуканове и Арсении Силине, так как ранее оба привлекались к суду по антикулацкой линии. Шатраковы, которые слыли кулаками только среди местных жителей, намного хуже вписывались в эту роль. Большим подарком для следователей стало то обстоятельство, что главные «подозреваемые кулаки» оказались свойственниками братьев Морозовых, т.е. членами патриархального клана, с которым боролся Павлик. То, что Кулуканов и Силин были зятьями Сергея Морозова, постоянно подчеркивалось в ходе следствия — смысл здесь заключался в том, чтобы представить Морозова главой клана, или, как таких называли в деревне, «большаком». Никто из тех, кто расследовал дело, не удосужился задуматься над тем неудобным обстоятельством, что второй зять Сергея Морозова — Денис Потупчик — оказался ценным помощником следователей, а дочь Морозова Хима Кулуканова предпочла свидетельствовать против отца. Все это вскрывало неприглядную истину: в эпоху подспудной гражданской войны патриархальный сельский клан совсем не отличался сплоченностью, вопреки утверждениям следователей. «Кулацкий заговор» не фигурировал в протоколах первых допросов, но к тому моменту, когда Спиридон Карташов завершил сбор свидетельских показаний, эта версия уже оформилась. А разрабатывалась она на допросах, проводимых Быковым с середины сентября до начала октября. В этот период сложилась основная часть весьма скудной доказательной базы, состоявшей главным образом из описей имущества подозреваемых. И все же для завершения дела потребовались еще две стадии расследования. И не потому, что следствию были необходимы качественно новые материалы, — как мы уже знаем, за это время добавился только один судебный протокол. Частичной причиной этой задержки стали репетиции показательного процесса с подсудимыми, направленные на то, чтобы принудить их сделать официальные признания. Но важнее всего другое: убийство Морозовых, которое в середине сентября значилось событием районного масштаба, к концу октября приобрело всесоюзное значение. Оно привлекло внимание журналистов — членов ЦК комсомола. Эти авторы обрушили свои заранее заготовленные обличительные статьи на головы «инертных» и «некомпетентных» провинциальных недотеп, которые вели это взрывоопасное дело, и в конце концов, как и в случае с Гришей Акоповым, придали суду по делу об убийстве Морозовых общенациональный статус. Больше того, как мы увидим в следующей главе, им удалось сформировать общественное мнение, вызвать массовые требования крови преступников и начать прославление Павлика Морозова как советского святого.Глава 4. ИДЕЙНЫЙ БОЕЦ, МАЛЬЧИК-МУЧЕНИК
Показательный суд над убийцами Павлика и Федора Морозовых оказался, без сомнения, самым значительным событием года в жизни Тавды, а может быть, и всего Урала. Цифры, приведенные в прессе того времени (2000 человек, присутствовавших на слушаниях в клубе им. Сталина, и 1000 детей, собравшихся у здания суда с флагами и транспарантами на демонстрацию), разумеется, преувеличены. Но если клуб, вмещавший, по официальным данным, 600 человек, был, как утверждает статья во «Всходах коммуны», заполнен до отказа, то его аудитория составляла не менее 700—800 человек{125}. У процесса имелась и более широкая аудитория, следившая за его ходом как по местной, так и по центральной комсомольской и пионерской периодике. Впрочем, первоначально убийство Морозовых освещалось довольно скромно. Первый газетный репортаж, опубликованный 17 сентября, не попал ни на первые газетные полосы, ни вообще в центральную прессу. Ему отвели место на «комсомольской странице» под названием «Смена», выходившей нерегулярно и обычно публиковавшей обзоры официальной хроники и разрозненные новости внутренней и международной жизни. Авторы не стремились вызвать у читателя чувство ужаса перед жестокостью убийства двух детей или жалости к жертвам. Вместо этого они крупными буквами и чрезвычайно неловким слогом сообщали об очередном проявлении кулацкого насилия:«КУЛАЦКАЯ БАНДА УБИЛА ПИОНЕРА МОРОЗОВА. Расстрелять распоясавшихся кулаков и подкулачниковКаким бы корявым ни был язык этой статьи, она четко формулирует два основных тезиса: убитые мальчики-активисты неустанно разоблачали злодеяния кулаков в родной деревне, а кулаки и их подручные, люмпенизированные «подкулачники», в своих зверствах не останавливаются ни перед чем. Эта история по времени относится ко второй стадии следствия, когда на авансцену вышла еще не до конца оформившаяся идея кулацкого заговора. Сочиненная на раннем этапе формирования культа Павлика статья примечательна еще и отсутствием некоторых мотивов: в ней ничего не говорится о доносе Павлика на отца, нет никаких сведений о его самоотверженной пионерской деятельности и подробностей его образцовой жизни. Статья ограничивается противопоставлением мальчиков — «пионера Павлика» и его младшего брата — «шайке кулаков и подкулачников». Убийство Морозовых рассматривается как проявление классовой борьбы в чистом виде. «Тавдинский рабочий» продолжал эту линию еще на протяжении нескольких месяцев{126}, вплоть до и даже во время суда (о чем речь пойдет ниже). Однако вскоре после первого репортажа газета утратила монополию на освещение истории убийства Морозовых. Областное бюро детской коммунистической организации Свердловска (головное отделение местной пионерской организации) 20 сентября обсудило это преступление на своем заседании и строго осудило Тавдинский райком комсомола, который, как гневно констатировалось, не передал ему своевременной и детальной информации по делу. Тавдинские работники имели дерзость освещать событие до окончания расследования без согласования своей линии с вышестоящим органом, а потом ограничились отправкой вырезки из газеты от 17 сентября, как будто позиция бюро не имела никакого значения. Областное бюро пионерской организации приняло решение доложить об этом в областной комитет комсомола и послать своего инспектора в Тавду: разобраться в происходящем, а также провести в школах Свердловска собрания, посвященные убийству юных героев, и сделать это событие достоянием гласности. Решили также призвать к усилению классовой бдительности по отношению к кулакам по всей Свердловской пионерской организации{127}. Перечень решений бюро вместе с резкой критикой Тавдинского райкома был опубликован во «Всходах коммуны» 23 сентября. Таким образом, эта газета первой сообщила об убийстве Морозовых за пределами Тавдинского района, а днем позже об этом написала и свердловская комсомольская газета «На смену!»{128}. Оба сообщения по принципу подачи материала не слишком отличались от статьи в «Тавдинском рабочем». «Всходы коммуны» лишь сообщали, что четырнадцатилетний Павлик Морозов и его девятилетний брат «вскрыли и разоблачили …кулацкую шайку из 9 человек» и что Данила Морозов и Ефрем Шатраков (так! — К.К.) в отместку убили мальчиков. Примерно то же самое говорилось в газете «На смену!», напечатавшей материал «юнкора», который утверждал, что Павел «помога[л] милиции» и «сумел раскрыть кулацкую шайку, застав ее на месте прятания хлеба, имущества и других предметов». В ней приводился тот же искаженный список подозреваемых, что и в «Тавдинском рабочем». И только после того, как эта история проникла на страницы центральной прессы, подход начал меняться самым принципиальным образом.
Пионер деревни Герасимовки Морозов Павел — 14 лет и его брат Федор — 9 лет сознавали, что кулаки и подкулачники враги Советской власти и кроме вреда ждать от них нечего, а поэтому пионеры всеми силами старались разоблачить их вредительскую работу. Пионер Павел, активно способствовавший работе милиции, сумел раскрыть кулацкую шайку сразу на месте, где они прятали свое кулацкое имущество, хлеб и другие предметы. Группа кулаков заставляла пионера Павлика из пионеров выйти, а если он это не сделает, угрожали убийством, однако несмотря ни на что, пионер Павел не только не вышел из пионеров, а еще упорное время начал проводить свою работу дальше, за что вместе со своим братом Федором 3-го сентября был убит. Распоясавшаяся кулацкая шайка, в количестве 9 человек, задержана. Материал следствия закончен, палачи-убийцы, представляющие из себя группу кулаков и подкулачников, сознались: Морозов Даниил Иванович, Широков (так! — К.К.) Ефрем Антонович, Морозов Сергей Сергеевич, Морозова Аксинья Ильинична, Кодуканов Арсентий, Кодуканова Хима Сергеевна, Шитраков Антон Николаевич, Шитраков Дмитрий, Силин Арсентий Николаевич выжидали случая, когда удобнее будет произвести расправу с Павлом и Федором. Уловив момент, когда их мать 3-го сентября уехала в Тавду, а Павел и Федор ушли в лес за ягодами, кулаки стали выжидать возвращения братьев из леса, которые ушли тогда с утра. Ничего не подозревавшие братья Павел и Федор, возвращаясь обратно, встретили по дороге домой Морозова Данила, Шитракова (так! — К.К.) Ефрема которые не допустив братьев домой, в полкилометре от Герасимовки их убили, нанеся Павлу 4 ножевых раны в грудь, а Морозову Федору туда же 3 ножевых раны, отчего последовала немедленная смерть. Факт о том, что кулаки и их агенты все еще существуют и свою кулацкую активность направляют вплоть до террористических актов налицо. Чувствуя неизбежную свою кулацкую гибель, кулаки и их агенты все еще надеются вернуть старое прошлое, чтобы снова держать в кабале батраков и бедноту, но это им не удастся. Задача “ликвидировать кулачество как класс” будет осуществлена бесповоротно, решительно и окончательно. За убийство пионера и его брата надо расстрелять кулачество! Вот какого приговора ждут трудящиеся Тавды и района.
Титов»[112].
Павлик в центральной прессе
Механизм распространения этой истории за пределы Урала трудно установить с полной определенностью[113]. Елизар Смирнов, командированный на процесс журналист «Пионерской правды», впоследствии вспоминал: «Осенью 1932 года один работник газеты “Пионерская правда” в поисках интересной информации о жизни пионеров и школьников нашей страны просматривал районные газеты. В одном из номеров газеты Тавдинского района Свердловской области его внимание привлекла маленькая заметка, затерявшаяся на четвертой странице[114]. В ней сообщалось о зверском убийстве в деревне Герасимовке. Жертвой кровавой расправы стали два брата — пионер Павлик Морозов и девятилетний Федя Морозов»{129}. Замечание Смирнова о том, что источником информации послужила маленькая заметка, выглядит правдоподобным. Первый репортаж в «Пионерской правде» не внес значительных изменений в обычный способ подачи истории Павлика, принятый в это время у провинциальных журналистов. В коротком сообщении на четвертой странице газеты в сухом документальном стиле говорилось об убийстве «двух пионеров» четырнадцати и девяти лет. Мальчики представали неутомимыми активистами, которые беспощадно разоблачали «кулацкую шайку» в своей деревне и были сражены ударами предательского ножа, когда они возвращались домой из леса 3 сентября. Еще в газете утверждалось, что «по всему Уралу прокатились митинги протеста против кулацкой вылазки». Корреспондент «Пионерской правды» повторил даже ошибку в числе замешанных в преступлении кулаков (девять), позаимствовав его из статьи в «Тавдинском рабочем» и не удосужившись проверить информацию{130}.[115] И все же между этим пробным изложением событий в «Пионерской правде» и более ранними версиями в провинциальных газетах есть значительное различие. Прежде всего, раньше ни одна газета ничего не говорила о доносе Павлика на отца, или, как первоначально сообщалось в «Пионерской правде», о доносе обоих братьев Морозовых на отца. По версии газеты, «активисты пионеры Павел и Федор вскрыли и разоблачили кулацкую шайку, которая проводила в сельсовете вредительскую работу, направленную к срыву всех мероприятий, проводимых партией и советской властью. Они даже не остановились перед разоблачением контрреволюционной деятельности своего отца, председателя совета»{131}. 15 октября газета, где к тому времени уже приняли решение, что отца «разоблачил» только один из мальчиков, развернула эту часть истории в целый нарратив. Павлик публично отрекся от своего отца: «Я, дяденька судья, выступаю не как сын, а как пионер! И я говорю: мой отец предает дело Октября!»{132} Таким образом «Пионерская правда» усилила тему «активизма» Павлика, изобразив его готовым на все во имя преданности делу революции. Другой новацией стало введение фотоматериала. Статья от 15 октября была напечатана с портретом Павлика, вырезанным, по-видимому, из подлинного группового снимка учеников Герасимовской школы и подретушированным с целью придать взгляду мальчика больше твердости. Но наиболее важным новым оттенком публикаций в «Пионерской правде» был напряженный, даже жутковатый интерес корреспондентов к подробностям преступления. Газета, смакуя детали, описывала особую жестокость, с которой кулаки зарезали мальчиков: их кровь, пролившаяся из глубоких ран, обагрила листья и ягоды клюквы, рассыпанные вокруг. И если «Тавдинский рабочий» писал о погибших активистах, «Пионерская правда» — повествовала о мучениках. В ее интерпретации, преступники хотели не только отомстить активистам, но и посеять страх среди односельчан: «Чувствуя свою близкую гибель в ширящейся коллективизации, остатки кулачества упорно пытаются тормозить социалистическую перестройку деревни путем вредительства, запугивания, путем убийств лучших, активных товарищей»{133}. Это происшествие — вызов всей Советской системе, ни больше ни меньше, попытка подорвать преданность тех, кто поддерживал «мероприятия, проводимые» государством. Тема мученичества продолжилась в следующем номере «Пионерской правды» от 17 октября. Здесь утверждалось, что пионеры и школьники Герасимовки провели собрание и над еще свежими следами крови своего павшего товарища («Осенние дожди еще не смыли пятен крови с листьев, на которых лежал убитый Павлик»{134}) поклялись продолжать его дело. С точки зрения законов природы, это заявление звучит, конечно, абсурдно (невозможно представить себе, что за полтора месяца осенние дожди не смыли следы крови в лесу), но его метафорическое значение довольно прозрачно: кровь убиенных святых взывает к советскому народу и требует отмщения. Другие материалы «Пионерской правды» не внесли значительного вклада в развитие легенды. 17 октября сообщалось, что в Герасимовке объявилась старушка с «письмом от господа бога», оказавшаяся переодетым агентом кулаков. «В “письме от бога”, состряпанном ею, кулачка призывала не выполнять хлебозаготовок и не вступать в колхоз». Еще через шесть дней было обнародовано известие, что по всем школам собираются подарки (например, учебники) для отправки их детям в родную деревню Павлика{135}. Затем без всяких объяснений освещение этой истории прекращается на три недели. Однако в середине ноября тема убийства Морозовых заявляет о себе с новой силой. «Пионерская правда» возмущена затягиванием следствия и 14 ноября обращается к Вышинскому с просьбой о его прямом вмешательстве в дело. Наконец, 21 ноября на первой странице газеты появляется сообщение, что дата начала судебного процесса определена: «Нами получена из Тавды телеграмма о том, что суд на (так! — К.К.) кулаками-убийцами пионера Павлуши Морозова и его брата состоится 25 ноября в селе Герасимовки (так! — К.К.) Тавдинского района Уральской области. Для участия в работах суда вчера вылетел на самолете в Свердловск член редколлегии “Пионерской правды” тов. Е. Смирнов». Плеоназм «вылетел на самолете» подчеркивает, какое значение придавалось этому процессу: в начале 1930-х годов авиацию главным образом использовали в чрезвычайных случаях, например для спасения полярников или для рекордных перелетов над территорией страны{136}.«Кулачьё оскалило зубы»
Описание дела Морозовых в местных газетах мало отличалось от официального протокола суда[116]. Разница состояла в упрощении свидетельских показаний; да их и вообще было мало: все внимание уделялось заявлениям подозреваемых, которые фиксировались довольно тщательно, хотя иногда тоже упрощались. Так, в судебном протоколе со слов Данилы записано: «Старик вам правду говорил, но я подтверждаю, что преступление мое — с дедом»[225]. А в газете «Всходы коммуны» от 30 ноября Данила говорит: «Убили мы с дедом». Что еще важнее, спор между Павликом и Сергеем из-за конской упряжи получил однобокое освещение и выглядел не деревенской сварой, а противостоянием двух сторон, в котором Павлик вел себя с благородной сдержанностью[117]. Если местные газеты и опускали некоторые детали, то, по крайней мере, почти ничего не добавляли от себя. «Пионерская правда» вела себя по-другому. Скажем, она напечатала «дословный» рассказ Ксении Морозовой о том, как Павлик донес на отца, в то время как Ксения ничего такого на суде не говорила[118]. Репортажи из зала суда сопровождались материалами, написанными далеко не сухим стилем документа. 27 ноября, в первый день слушаний, в газете появился душераздирающий материал о похоронах Павлика. На траурном митинге пионеры пели «Песню о маленьком барабанщике»:Донос как гражданский подвиг
«Пионерская правда», расцвечивая материалы о деле Морозовых разными подробностями, преследовала двойную цель: возвысить Павлика до статуса гражданина-героя и очернить его убийц. Мотив «разоблачения отца» в основном использовался при решении первой задачи. Собственно к мотиву журналисты, писавшие о Павлике, не добавили ничего нового. Советская пресса освещала похожие истории (как уже упоминалось в главе 1) в конце 1920-х — начале 1930-х годов. В национал-социалистской пропаганде имеется свой пример такого рода — повесть «Юный гитлеровец Квекс», вышедшая из-под пера немецкого писателя Карла Алойса Шензингера и опубликованная в один годе историей Павлика Морозова. В 1933 году Ганс Штейнхоф снял по повести фильм, получивший еще большее признание, чем книга. С первого взгляда видно, что герой этой повести — зеркальное отражение Павлика Морозова. Несмотря на побои со стороны своего жесткого и часто пьяного отца-коммуниста, смелый Хайни Фолкер (позже получивший фашистскую кличку Квекс) не отступает от своего решения стать членом гитлеровского молодежного движения. Вскоре он, рискуя жизнью (его едва не отравили газом), предупреждает о запланированном коммунистами нападении на юных гитлеровцев. За такой смелый поступок Хайни Фолкера принимают в ряды юных гитлеровцев и разрешают поселиться в одном из общежитий организации. В отместку злобные коммунисты убивают его. Мальчик-мученик Квекс потрясает товарищей силой своего духа: умирая, он на последнем дыхании запевает марш нацистов{145}. Квекс, в отличие от Павлика, — герой вымышленный и отличается большей неуверенностью и уязвимостью, чем его советский двойник[120] (по крайней мере, если сравнивать с образом Павлика в ранних версиях), но в остальном соответствий между ними очень много. Сходство этих юных героев могло бы показаться случайным, если бы история о доносе обсуждалась на уровне только местной, а не центральной прессы. Трудно представить, что перегруженные рутинной работой сотрудники «Тавдинского рабочего» или «Всходов коммуны» были в курсе направления развития нацистской пропаганды. Но журналисты «Пионерской правды», введшие в оборот мотив разоблачения отца, будучи пламенными интернационалистами, часто писали о молодежных движениях за рубежом. Шензингер взял за основу сюжета своего фильма убийство коммунистами в Берлине юного фашистского активиста Герберта Норкуса, погибшего 24 января 1932 года, о чем много писали в немецкой фашистской прессе того времени{146}. В этом контексте нельзя исключить прямого заимствования. Возможно, «Квекс» (или его реальный прототип Норкус) подтолкнул коммунистов-агитаторов к поиску советского аналога этому неимоверно популярному в фашистской Германии герою, и они стали подбирать подходящую кандидатуру среди жертв реальных убийств. При этом было важно, чтобы биография жертвы имела те же мотивы (или по крайней мере чтобы их можно было легко вписать), что и история героя Шензингера: неповиновение отцу и последующее его разоблачение[121]. С другой стороны, кажется еще более правдоподобным, что оба героя — Павлик и Квекс — независимо друг от друга повторяют образ злодейски убитого врагами мальчика, распространенный в немецкой коммунистической мифологии 1920—1930-х годов. Как фашизм, так и коммунизм, утверждая собственную легитимность, пропагандировали культ смерти, а в начале 1930-х стремились перехватить друг у друга символику детского мученичества. Среди немецких коммунистов большой популярностью пользовалась песня «Маленький трубач», в которой сраженного «вражеской пулей» «юного красногвардейца» провожают в последний путь оставшиеся в живых взволнованные товарищи. Эта песня была переделана в «Песню Хорста Весселя». В ней так же, с почестями, предают земле тело застреленного врагом знаменосца, который до последнего вздоха высоко держал знамя со свастикой[122]. Советский поэт Михаил Светлов, переписавший песню по-русски, подошел к делу творчески: «юный трубач» превратился у него в «юного барабанщика», которого сразила неизбежная вражеская пуля. Герой пал на «сырую землю», но навсегда остался жить в памяти товарищей. По утверждению «Пионерской правды», именно эту песню исполняли пионеры на похоронах братьев Морозовых. Так реальное убийство стало частью мира, созданного поэтическим воображением. В коммунистической пропаганде конца 1920-х годов иностранных пионеров-мучеников, подвергавшихся гонениям и угрозам, стали вытеснять такие же советские пионеры-мученики. Неудивительно, что тексты, посвященные первым, перерабатывались и уступали место новым сочинениям.Мальчик-мученик
Необходимо заметить, что у образов мучеников Павлика и Федора есть и другой источник. Порою Павлик изображался своего рода коммунистическим Иисусом: по версии журнала «Пионер», Даниле заплатили не тривиальные три пятирублевые и пять трехрублевых купюр, как сказано в протоколе допроса, но тридцать рублей царскими золотыми монетами[123]. Впрочем, хотя Даниле регулярно придавали облик герасимовского Иуды, аналогия между Павликом и Христом остается поверхностной и не получает развития — вероятно, потому, что Иисус ко времени распятия был, в отличие от Павлика, уже зрелым человеком, а его смерть — публичной казнью, а не убийством. Жизнеописания «своих» святых содержат куда более впечатляющие параллели с гибелью братьев Морозовых. Невинные жертвы взрослых злодеев, Павлик и его брат повторили судьбу двух главных святых мучеников средневековой Руси — Бориса и Глеба, убитых, согласно традиционному преданию, их старшим братом Святополком, а также царевича Димитрия, зарезанного в 1591 году, как считалось, по приказу Бориса Годунова. Гипотетических убийц Святополка и Бориса изобличали как «царей Иродов». Подобно расправе над братьями Морозовыми, эти события приобрели мощный политический резонанс — разоблачение убийц должно было придать обвиняющей стороне политическую легитимность. Главным поборником культа отроков Бориса и Глеба был князь Ярослав, брат Бориса, Глеба и Святополка и соперник Святополка в борьбе за киевский престол. Осуждение Бориса Годунова оказалось выгодно боярину Михаилу Романову и его потомкам, чьи притязания на царский трон с династической точки зрения были не более основательными, чем у Годунова. Таким образом, в России существовала давняя традиция детоубийства, важной составляющей борьбы за политическую власть. (Впрочем, не только в России: воцарение английской династии Тюдоров произошло после междоусобной борьбы, очень похожей на ту, которая предшествовала приходу к власти Романовых, и Тюдоры с не меньшим рвением поддерживали, в свою очередь, легенду о короле-детоубийце Ричарде III).{147} Убийство Морозовых имело отголосок и в более близком прошлом. Культ Павлика резонировал с другим недавним случаем «детского мученичества» — казнью детей Николая II в Екатеринбурге, столице области, где находилась родная деревня Павлика. Это событие редко упоминалось в советской прессе[124], но убийство цесаревича Алексея имело огромное значение в первую очередь для той части населения, которая враждебно или неоднозначно относилась к советской системе. В 1920-х годах сложилась устоявшаяся традиция «подпольной» трактовки этого события. В самом благоприятном для режима варианте (например, в стихотворении Марии Шкапской, которая проводит аналогию между судьбами Людовика XVII и цесаревича) смерть Алексея воспринималась как достойное сожаления, но исторически необходимое пролитие невинной крови. При наиболее непримиримой позиции (как, например, в стихотворении Марины Цветаевой «Царь и Бог! Простите малым…», написанном в 1918 году на первую годовщину Октябрьской революции) казнь царевича лишала советскую власть какой бы то ни было претензии на легитимность[125]. Учитывая неоднозначное отношение к решению судьбы царских детей, большевики стремились подчеркнуть, что враги советского государства куда более безжалостны к детям. Очевидно, широкое освещение убийства Морозовых на Урале имело прямое отношение ко все еще свежей памяти людей о злодействе, совершенном большевиками по отношению к семье Романовых. По воспоминаниям местных жителей, чье детство пришлось на предвоенные или первые послевоенные годы, страшная судьба семьи последнего царя еще долго будоражила воображение людей и порождала всяческие слухи. Некоторые верили, что Алексей и Анастасия выжили, но большинство считало, что погибли все, и это вызывало замешательство и ненужное сомнение у местных детей. Смысл казни самого царя был всем очевиден, но зачем потребовалось убивать жену и детей, многие понять не могли[126]. Так или иначе, необходимость создать альтернативу царевичу Алексею, возможно, послужила подспудной мотивацией легенды о Павлике Морозове — вариации на тему «избиения младенцев», но на мотивы, составляющие сюжет самой легенды, она особого влияния не оказала. В стране с господствующим атеизмом важно было подчеркнуть разницу между Павликом и аристократическими отпрысками, а не отождествить его с ними. Согласно пионерской печати, гордый вызов Павлика, брошенный им своей судьбе, составлял яркий контраст духу смирения, с которым принял свою судьбу святой Борис («Да аще прольетъ кръвь мою, то мученикъ буду господу моему, а духъ мои прiметъ владыка»), или мольбе, обращенной святым Глебом к убийцам («Не дейте мене, братия моя милая и драгая! Не дейте мене, ни ничто же вы зъла сътворивъша! Не брезете, братие и господье, не брезете! Кую обиду сътворихъ брату моему и вамъ, братие и господье мои?»){148} В житиях святых можно найти сходство злодеев с преступными родственниками Морозова (коварный Святополк из «Сказания о Борисе и Глебе» имеет много общего с Данилой), но добродетель мучеников — совершенно иная по сравнению с праведным гражданским негодованием Павлика. Вполне вероятно, что его брат Федор исчез из дальнейших версий легенды не потому, что был слишком юн для пионера — он мог бы стать примером для октябрят, — а потому, что легенда о двух невинных малолетних жертвах вызвала бы слишком очевидные параллели с житием Бориса и Глеба.Ритуальное убийство: Павлик и дело Бейлиса
Но история Павлика имеет, как видно из подзаголовка, более очевидное сходство с другим делом; по сравнению с мученичеством Бориса и Глеба оно развернулось в совсем недавние времена и было более пригодным для политических манипуляций, чем гибель наследника престола. В 1910-х годах произошел первый в современной русской истории странный случай детоубийства, взбудоражившего общество. Речь идет о так называемом деле Бейлиса. В 1911 году в канаве на окраине Подола в Киеве обнаружили труп тринадцатилетнего школьника Андрея Ющинского со следами многочисленных колотых ран. Местная полиция поначалу отнеслась к этому убийству как к обычному делу, посчитав, что преступником или преступниками были люди, связанные с матерью школьного товарища Ющинского Жени Чеберяка, которая держала дешевый притон, популярный среди местных уголовников. Однако после политических демонстраций, устроенных радикальными националистическими группами на похоронах Ющинского, дело привлекло внимание некоторых шовинистически настроенных членов царского правительства, и убийцу стали искать в среде, представлявшей больший политический интерес, чем шайка воров. Козлом отпущения выбрали еврея Менделя Бейлиса, жившего по соседству с жертвой. Судебное разбирательство, продолжавшееся почти два года, оказалось в центре внимания всей образованной части российского общества{149}. Дело Бейлиса обычно (и совершенно справедливо) ассоциируется с крайним проявлением российского предреволюционного антисемитизма, с одной стороны, и с торжеством либеральных правовых ценностей, с другой. Абсурдные обвинения Бейлиса в том, будто он вместе с другими, неизвестными преступниками зарезал Ющинского в качестве ритуальной жертвы, не вызвали сомнений у настораживающе большого числа хорошо образованных, культурных русских людей, некоторые из которых выступали на стороне обвинения{150}. Тем не менее, либеральное общественное мнение, представленное защитой, в конце концов восторжествовало, и Бейлиса оправдали. Обвинения в ритуальном убийстве были опровергнуты в ходе дела не только очевидной невиновностью Бейлиса, но и, в большей степени, убедительными доказательствами несостоятельности самого мифа о кровавых жертвоприношениях. В начале процесса свидетель защиты из Киевской духовной семинарии поставил под сомнение сам факт, что еврей, которому Талмуд запрещает употребление даже крови животных, мог осквернить себя человеческой кровью. Все известные случаи подобного каннибализма оборачивались манифестацией «злостного суеверия и шулерства отдельных лиц»{151}. Но дело Бейлиса стало не только правовым опровержением антисемитских фантазий. Это был также суд над человеком, обвинявшимся в детоубийстве. Заявления, звучавшие как в зале заседаний, так и за его пределами, не оставляли сомнений, что возраст Ющинского играл решающую роль. Уже на похоронах члены «черной сотни» распространяли такие листовки: «Русские люди! Если Вам дороги ваши дети, бейте жидов! Бейте до тех пор, пока хоть один жид будет в России! Пожалейте Ваших детей! Отомстите за невинных страдальцев! Пора! Пора!»{152} На самом процессе один из обвинителей, А.С. Шмаков, говорил о «мученической смерти» Ющинского: «Среди беспримерных страданий, испив чашу скорби и горя до дна, в иной, лучший мир ушел кроткий, невинный страстотерпец за веру Христа»{153}. В то же время Ющинского не изображали паинькой, наоборот, подчеркивалось, что «мальчик рос не в нормальных семейных отношениях, он рос без контроля»{154}. В своем контрударе защита вознесла до небес гражданские добродетели Ющинского, сделав из него героя иного плана. Согласно этой версии, бандиты зарезали мальчика из-за его непримиримого отношения к воровскому притону Веры Чеберяк. «Если бы он был в этой шайке воров, то он не был бы измучен», — заключил Н. Карабчевский{155}. Наконец, сам Мендель Бейлис завершил свое краткое последнее слово проникновенным обращением к присяжным: «Я прошу вас, чтобы вы меня оправдали, чтобы я мог еще увидеть своих несчастных детей, которые меня ждут 2,5 года»{156}. Таким образом, все стороны процесса стремились усилить свою позицию, апеллируя к романтизированному образу детства. Бейлис отстаивал свой статус образцового семьянина и любящего отца. В глазах обвинения Ющинский был святым мучеником, хотя и не благовоспитанным ребенком. А защита превратила этого выходца из впавшей в нищету, но, в сущности, достойной уважения рабочей семьи в светского героя, образец гражданской добродетели. Последняя трактовка противоречила свидетельским показаниям, согласно которым, в семье с мальчиком обращались плохо. Это навело полицию на подозрение, что произошло так называемое «внутрисемейное» преступление[127]. Если бы на месте Ющинского обнаружили взрослогочеловека с такими же жуткими колотыми ранами, обвинение в ритуальном убийстве едва ли приобрело такую силу. Подавляющая часть обвинений в ритуальном убийстве, выдвинутых в России в XIX — начале XX века, связана с детьми{157}.[128] Процесс Бейлиса удивительным образом напоминает обстоятельства морозовского дела. Убийство братьев Морозовых тоже сначала расценивалось местными следователями как заурядное бытовое преступление, но после вмешательства начальства из центра оно приобрело, как и дело Бейлиса, большое политическое значение. Тела мальчиков — Ющинского и Морозовых — нашли чуть в стороне от мест их проживания. В обоих случаях нерасторопность следователей сразу после обнаружения трупов привела к отсутствию улик и предоставила простор для диких предположений{158}. И там и там жертвы преступлений получили многочисленные удары острым предметом, после чего с их телами были проделаны странные действия: на братьев Морозовых высыпали клюкву, перепачкав их ягодным соком, Павлику на голову надели мешок, а Федора «оттащили в левую сторону»[129]; труп Ющинского был, судя по всему, перенесен с места убийства в пещеру, где его обнаружили наполовину раздетым и посаженным в странную позу[130]. Для определения объема потерянной Ющинским крови судья употребил меру, используемую в кулинарных рецептах, — «пять стаканов». В свою очередь, клюквенный сок, которым оказались перепачканы братья Морозовы, есть не что иное, как инверсия того же каннибальского мифа: там евреи пили кровь своих жертв, тут — густая и красная, как кровь, но вполне съедобная субстанция (в русской кухне клюква часто подавалась к мясу){159}.[131] Наконец, оба преступления осуществлены — по интерпретации обвинителей — убийцей или убийцами согласно заранее выработанному плану. Одна из характерных особенностей двух этих процессов — обвинение подозреваемых в принадлежности к широкой конспиративной сети — свойственна еще одному делу об убийстве. В 1934 году были изнасилованы и убиты две девочки — Настя Разинкина и Оля Шалкина. Находчивая центральная власть, как и в случае с Павликом, сразу объявила это преступление делом рук «шайки бандитов», состоящей из «кулацких элементов». Также было заявлено, что местное руководство не распознало политической подоплеки этого происшествия по причине своей некомпетентности и политической близорукости[132]. Указание на дьявольские происки контрреволюционных банд перекликалось с трактовкой дела Павлика Морозова, однако сходства в технических деталях двух убийств вроде множественных ран или разбросанной клюквы не наблюдалось. По количеству живописных деталей отчеты по делу Морозовых в контексте своего времени уникальны, но больное антисемитское воображение все-таки находило в нем отличительные признаки ритуального убийства: малый возраст жертв, орудие преступления (нож) и оттенок каннибализма. Морозовское убийство напрямую никогда не называлось ритуальным. Никто не обвинял кулаков в том, что они пили кровь детей или совершали нечестивые ритуальные действия перед тем, как убить своих жертв. Некоторые подробности (надетый на голову Павла мешок, рассыпанные ягоды, перемещенный труп) просочились в пионерскую прессу из официальных записей следствия. Однако молодые журналисты в своих репортажах не повторяли как попугаи протокольную информацию. Они работали творчески, опуская одни подробности и добавляя другие. При этом обращает на себя внимание приверженность корреспондентов к «кровавой», «каннибальской» стороне. Примечательны также некоторые фотографии из зала суда: на одной из них Сергей Морозов специально снят в профиль, чтобы хорошо был виден его крючковатый нос{160}.[133] Кулуканов предстает в газетных статьях хитрым и алчным организатором преступления чужими руками, под стать стереотипному представлению о «сионских мудрецах». Пропагандисты «Пионерской правды» и «Пионера», конечно, не имели в виду, что убийцы Морозовых были евреями или действовали заодно с евреями. Принципы интернационализма и обличение любых предрассудков, основанных на этнической принадлежности (или «национальности», как это называлось в советской терминологии), оставались священными догматами пионерского движения в конце 1920-х — 1930-х годах. Пионерская пресса отводила больше места освещению международной детской недели — пропагандистскому мероприятию, включавшему в себя праздники солидарности пионеров всего мира, — нежели коллективизации{161}.[134] Она регулярно публиковала новости интернационального движения и обрушивалась на проявления межэтнической неприязни, случавшиеся на улицах и в школьных дворах{162}. Одно из серьезных обвинений, выдвигавшихся в адрес кулаков, — обвинение в антисемитизме[135]. Однако несмотря на все это, антикулацкая пропаганда, изображая врагов советской власти, черпала свои приемы из традиционного репертуара антисемитских измышлений[136]. Суд по делу об убийстве Морозовых происходил как раз в юбилей дела Бейлиса. 1933 год был отмечен публикацией в Советском Союзе книги А.С. Тагера «Царская Россия и дело Бейлиса», где давался подробный анализ скандала, который разразился вокруг убийства Ющинского, и распространенного в эти годы в западных провинциях Российской империи «кровавого навета» в целом. Эта критика антисемитизма имела свои специфические причины: среди монархической части русской эмиграции сложилась устойчивая традиция считать гибель семьи Романовых результатом еврейского ритуального убийства[137]. Невозможно исключить, что подобного рода воззрения существовали и в Советской России. Судя по письмам, адресованным советским государственным деятелям и официальным организациям, антисемитские настроения, несомненно, имели довольно широкое хождение в массах[138]. Похоже, что в некоторых городах, включая Екатеринбург 1920—1930-х, еще существовали подпольные монархические группы[139]. Таким образом, власти преследовали двойную цель: они хотели заклеймить кулаков и вызвать положительные чувства в адрес евреев. Поэтому кулаков выставляли антисемитами, но делалось это с помощью тех же стереотипов, которые традиционно использовались для очернения евреев, — в частности «кровавого навета». Вероятно, именно такое истолкование лучше всего подходит для объяснения приписанных Сергею Морозову слов об «иудейском суде». Христа, конечно, судил римский суд, но его определение как иудейского привлекало внимание общественности к «еврейскому вопросу». Логика борьбы с антисемитизмом за счет подспудного насаждения веры в «кровавый навет» может показаться извращенной, но такая практика свойственна советской пропаганде и вполне соответствует принципам марксистско-ленинской диалектики. Так, в 1920—1930-х годах для истребления религиозных чувств коммунисты-пропагандисты пытались внедрить новую обрядность. Яркие примеры тому — празднования «красных свадеб», «красных крестин» (или «октябрин») и «красной пасхи»[140]. Эта идея сродни основополагающей формуле соцреализма — «национальное по форме, социалистическое по содержанию», — восходящей к старинной поговорке о «новом вине в старых мехах». Можно предположить, что свердловский мученик Павлик был избран в герои культа не столько для того, чтобы заместить призраки царских детей, убитых в 1918 году, сколько для создания обновленного идеологического противовеса Андрею Ющинскому, тринадцатилетнему мальчику, который якобы принял мученическую смерть от рук Менделя Бейлиса. Такое превращение еврейских злодеев из старого поверья в кулаков одновременно отвлекало народную ненависть от ее традиционного объекта и позволяло изобразить врагов нового государства в черном цвете. Несмотря на все вышесказанное, создатели более поздних версий гибели Павлика не изображали кулаков «ритуальными убийцами-антисемитами», хотя в биографии героя, написанной Александром Яковлевым в 1936 году, намек на это еще угадывается: здесь приписанный Сергею Морозову призыв «Бей Пашку!» напоминает знаменитый лозунг «Черной сотни» «Бей жидов! Спасай Россию!»{163}. «Разоблачительные» фотографии Сергея и Ксении Морозовых не воспроизводились в канонических автобиографиях, а Данила и Сергей изображались скорее похожими на обычных преступников из детективных романов: «— Ай! — раскинул руки Павлик и упал на колени. Но тут же поднялся. Данила замахнулся снова. Голыми руками Павлик хватал острие ножа и отводил удары от груди. Схватка была неравная. Данила подмял Павлика под себя. После пятого удара ножом в грудь Павлик лежал мертвым»{164}.[141] Другими словами, связь между делом Морозовых и делом Бейлиса имела значение в 1932—1933 годах, но стерлась по мере развития морозовской легенды[142].Кто был ничем, тот спишет всем
Важнейшей пропагандистской задачей как в случае с Бейлисом, так и в случае с Павликом Морозовым являлось превращение жертвы убийства в образец гражданской доблести. В первом случае ее решала защита, во втором — обвинение. Оба мальчика — Андрей Ющинский и Павлик Морозов — с детства испытывали лишения и с готовностью отстаивали правду и разоблачали преступников. В житиях святых мучеников «иродианской традиции» такое сочетание исходной обделенности и принципиальности отсутствовало. Мученики в раннехристианских и древнерусских преданиях происходили из княжеских или по крайней мере благородных семей, хотя некоторые из них пренебрегали своим статусом и добровольно обрекали себя на нищету. Коммунистический же святой происходил, как правило, из низов. Это относится и к мученикам-детям. Говоря словами напечатанного в 1932 году «сборника инструктивных материалов» «Детское коммунистическое движение», «дети — часть своего класса»{165}. В соответствии со стереотипом, нищета служила гарантией благородства как для взрослых, так и для детей. Этот взгляд отразился, в частности, в «Сказке о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» Маяковского (1925): отвратительного, толстого, жадного и тупого буржуя Петю буквально распирает от достатка и самодовольства, в то время как тонкий Сима ведет исполненную достоинства жизнь в своей хижине. И дело было не только во врожденных свойствах личности. Предполагалось, что дети рабочих и крестьян растут быстрее и, следовательно, скорее станут политически сознательными активистами, в соответствии с идеалом, насаждаемым детям раннесоветской пропагандой. Господствовавший этос акселерации, максимально сокращавший дистанцию между рождением и взрослостью, нашел наглядное отражение в картине Самуила Адливанкина «В гостях у танкистов» (1932), на которой ребенка в большой буденовке с красной звездой поднимают крепкие руки мужественных солдат, или в плакате Дмитрия Моора «Я — безбожник!» (1924), изображающем малыша в отцовской шинели и опять-таки с буденовкой на голове[143]. В этот период героев «взращивали» из тех, кого в 1934 году «Правда» называла «чумазыми котельными жителями»{166}. Считалось, что главное — научить детей отстаивать свои права. Одно из руководств по воспитанию даже уверяло родителей, что примерные дети скорее всего страдают от психологической травмы: «Родители хотели бы иметь такого ребенка, который был бы смирен, послушен, молчалив и т.п., не зная того, что такие смирные, послушные, молчаливые дети, в сущности, больные дети. И родителям, которые имеют таких детей, вместо того, чтобы радоваться и восхищаться ими, поскорее надо обратиться к хорошему врачу и педагогу за советом, как излечить их от этого. Родители должны знать, что ребенок, который должен радовать их, это — сильный, подвижной, радостный ребенок, предприимчивый и настойчивый в достижении намеченного»{167}. Излюбленным героем 1920-х — начала 1930-х годов был отверженный сирота или беспризорник, который, пройдя перековку в советском детском доме, превратился в человека образцовой социальной и политической сознательности. Так, герой невероятно популярного фильма «Путевка в жизнь» (1931), уличный сирота и бывший мелкий воришка татарин Мустафа (на языке времени быть татарином означало принадлежать к угнетенной и «отсталой» этнической группе), становится вожаком детдомовского коллектива и живым примером «исправления трудом». В фильме утверждалось: воспитывать активистов из детей рабочей и крестьянской бедноты значит осуществлять «диктатуру пролетариата» в миниатюре. В пропагандистских произведениях подчеркивалось, что такие дети ни перед чем не остановятся ради защиты советской системы, которая открыла перед ними дорогу в светлое будущее. В финале фильма «Путевка в жизнь» Мустафа бросает вызов главарю банды, к которой раньше принадлежал сам, и платится за это жизнью. Его тело, найденное товарищами по детдому, торжественно возлагают на локомотив, чтобы отправить его в последний торжественный путь по железной дороге, построенной перевоспитавшимися беспризорниками. Похороны Мустафы, таким образом, знаменуют трансформацию отверженных подростков в полезных членов общества. «Трансформационный» нарратив «кто был ничем, тот станет всем» лежал в основе пропагандистской работы уральских журналистов, преданных принципам классовой борьбы и «пролетарским ценностям». Его главным проводником стал молодой свердловский корреспондент Павел Соломеин, освещавший убийство Морозовых во «Всходах коммуны». 8 октября Соломеин послал в газету свой первый подробный репортаж из Герасимовки. По его словам, деревня находится в 60 километрах от райцентра Тавды (сильное преувеличение: реальное расстояние составляло менее 40 километров). «Нет там ни партийной, ни комсомольской ячейки», — писал Соломеин, тоже несколько искажая обстоятельства ради достижения большего драматического эффекта. При этом, по утверждению автора, в Герасимовке действовал пионерский отряд, благодаря которому Павел и Федор Морозовы осознали, что должны биться с кулаками не на жизнь, а на смерть. Узнав правду об отце, Павел задался вопросами: «Какой он бедняк? Какой же он председатель? Какой же он отец пионера, если продался кулакам?» Он «пошел в Тавду и рассказал о проделках отца». Героизм Павлика преобразил Герасимовку: как только весть о его убийстве разнеслась по деревне, ее жители начали проводить сходки, массово вступать в комсомол, а в Тавде местные коммунисты стали проявлять намного большую активность{168}. 27 октября Соломеин снова возвращается к истории Морозова. Сначала он описывает, как Данила напал на Павлика с криками «Коммуниста бью!», а потом неминуемо переходит к сцене убийства. Когда Данила и его дед нанесли первый удар, мальчик упал, и «кулацкий нож вонзился в его шею. Прежде чем вскричать, Павлик услышал предсмертный крик Феди». Окончив свое черное дело, кулаки с ликованием воскликнули: «Слава тебе, господи!» Но бдительный Соломеин, предчувствуя новые угрозы со стороны кулаков, вопрошает: «На долго ли?»{169},[144] Эти репортажи интересно сопоставить с хронологией расследования. Данила и Сергей сознались в убийстве только 6 ноября. Другие газеты еще продолжали обвинять в преступлении Данилу и Ефрема Шатракова или целую цепочку «кулаков и подкулачников». Соломеин же уверенно указывает на Данилу и Сергея Морозовых как на убийц уже 27 октября. Возможно, у него был прямой источник информации в Герасимовке, или он получил сводку от сотрудников ОГПУ в Тавде. Репортажи во «Всходах коммуны» стали первым последовательным рассказом о жизни Павлика. Позднее Соломеин переработал их в полномасштабную биографию, опубликованную в 1933 году и сохранившую псевдодокументальный стиль, свойственный его газетным публикациям. И статьи, и книга основаны на многочисленных интервью, взятых автором в Герасимовке{170}. В отличие от позднейших биографов Павлика Морозова Соломеин пользовался самостоятельно собранным материалом. Он представил историю Павлика как сказание о мальчике из безысходно бедной и невежественной семьи, выросшем в убогой, отсталой деревне, но беззаветно преданном делу коммунизма. Соломеин заостряет черты беззакония и хаоса, царивших в это время в родных краях Павла. Он описывает гибель пятнадцати коммунистов во время «кулацкого восстания», возглавленного белогвардейским офицером в деревне Тонкая Гривка в 1921 году{171}.[145] Он неустанно подчеркивает экономические лишения, выпавшие на долю Павлика. Читатель узнает, что мальчик с раннего возраста обрабатывал землю, пахал, боронил и сеял. «Иначе нельзя. Ведь он сам хозяин — глава семьи. А какой хозяин он будет, если государству не продаст хлеб? Все это учитывал Павлик, хотя и трудно было работать». В семье мальчика царили не только беднота и отсталость, но и насилие. В лучшем случае ему приходилось терпеть издевательства («Пионеров не кормлю… Вон, коммунист проклятый!»{172}), а в худшем — прямое физическое насилие. Соломеин описывает ужасающую сцену, в которой отец в наказание за упрямство обливает Павлика горячим маслом со сковороды. Мальчик получает страшные ожоги, но он никогда не плачет. «Только когда грязное, присохшее к телу полотенце отрывали от гнойных ран, морщился, стискивал зубы, но не плакал. Даже на мать часто обижался: — Ну, чего ты, матка, воешь, как Китай (собака Морозовых. — К.К.) на луну? Ведь не умер… Выздоровлею»{173}. После ареста отца Павлика, его то и дело избивают двоюродный брат и дед: Данила набросился на него на рыбалке, затем схватился с ним из-за лошадиной упряжи. Нападения следуют одно за другим. Тем удивительнее стремление деревенского мальчика к самосовершенствованию, тяга к учебе. Как пишет Соломеин, «неспокойный рос Павлик». От избытка энергии он в младенчестве выпрыгнул из колыбели, в память о чем у него надолго остался шрам. Ребенком донимал мать просьбами послать его учиться «с ревом из хаты выгнал: “Записывай в школу!”» А позже стал образцовым учеником, несмотря на то что учиться ему пришлось в школе, где на сто ребят приходился всего один учитель{174}. Но главное, Павлика отличала преданность делу. Он первым принял участие в сдаче зерна («Я маленький, но первый сдаю причитающиеся с меня два центнера») и «с развевающимся кумачным флагом» возглавил «красный обоз» на торжественном шествии по случаю сдачи урожая государству{175}. Он неукоснительно выполнял свой гражданский долг и выводил на чистую воду нарушителей закона, в том числе родного отца. Он был вожаком для всех детей при организации рейда в амбар Силина или расклейки пропагандистских лозунгов по всей деревне{176}. Таким образом, книга о Павлике Морозове отражала убогость русской деревни в настоящем и обещала ей светлое будущее впереди. Чтобы сделать этот контраст еще выразительнее, пионерская пресса поэтизировала образ Павлика. Так, в «Пионерской правде» от 15 сентября 1932 года он назван «светловолосым». В более прозаическом описании Соломеина цвет волос Павлика остается «русым», каким, видимо, и был в действительности. Но так или иначе, Павлик служил идеальным инструментом и метонимическим обозначением перемен, происходящих на его малой родине и во всем Советском Союзе: в начале 1930-х тайга была одной из основных метафор «темноты» в изображении «перехода от тьмы к свету»{177}. «Трансформационный нарратив» — не единственный литературный стереотип, с которым к 1933 году ассоциировалась фигура Павлика. Его изображали и революционером-мучеником; и жертвой советского времени — в противовес убитым детям из царской семьи и святым православным отрокам из далекого прошлого; и добычей кулаков, которые сыграли здесь роль злодеев, обычно отводившуюся евреям в антисемитских фантазиях о ритуальных убийствах. В начале 1930-х годов появляется целый ряд других историй о пионерах, ставших жертвами преступлений. Через три недели после завершения суда по делу об убийстве Павлика «Пионерская правда» сообщила: в другой части Уральской области, в Курганском районе, убит пионер-активист и «ударник учебы» Коля Мяготин. Сын погибшего в 1920 году на Гражданской войне рабочего стал жертвой мести за разоблачение воров и укрывателей зерна в родной деревне{178}. Годом позже, в декабре 1933-го, ленинградская пионерская газета «Ленинские искры» известила о кончине пионера из Луги Коли Яковлева: он умер от трех ножевых ранений, нанесенных ему неизвестными преступниками{179}. В секретном докладе, составленном в начале 1933 года в Центральном комитете комсомола, братья Морозовы входят в число не менее восьми детей, якобы убитых кулаками[146]. В этом документе Павлик фигурирует не как кулацкая Жертва с большой буквы, но как один из многих ему подобных. Павлик даже не был первым из убитых детей, чья гибель изображалась в прессе как смерть пионера-активиста. Столь почетное место еще в декабре 1930 года было отведено Грише Акопову. В этом случае журналисты «Пионерской правды» тоже обвинили местные власти в затягивании дела и тоже привлекли к нему внимание верхов. И позднейшие истории, например случай с Колей Яковлевым, получали подробное освещение. А некоторые жертвы, в частности Мяготин, на первый взгляд кажутся гораздо более перспективными претендентами на канонизацию, чем Павлик. Почему же слава именно этого героя затмила славу всех остальных? Пытаясь задним числом ответить на этот вопрос, можно предположить, что более захватывающей историю Павлика сделал донос на отца. Однако, как мы еще увидим, в более долгосрочной перспективе именно тема доноса стала вызывать известные затруднения. Могли сыграть свою роль и фотоиллюстрации: визуальный материал по делу был представлен в изобилии. Однако фотографические портреты пионера-героя не приобрели того иконического статуса, как изображения детей, ставших жертвами убийств в не столь давние времена (в частности, видеозапись Джеймса Балджера, которого уводят убийцы[147]). В книгах о Павлике Морозове чаще опубликованы рисунки, а не фотографии. Более важную роль в становлении культа Павлика сыграл его родной край, своего рода зона фронтира русских поселенцев, находящаяся, по выражению поэта Митрейкина, «между Европой и Азией», и все же отчетливо русская, расположенная в провинции, одновременно удаленной, но и несомненно «нашей». «Дикий восток», где погиб Гриша Акопов, не вполне подходил на роль арены для развития драматического сюжета о звериной угрозе цивилизации — реакция в данном случае вполне могла быть такой: «А чего еще ждать от такого места?» Напротив, местность на границе между Уралом и Сибирью, хотя ее и населяли многочисленные этнические меньшинства[148], была давно освоена русскими. Кроме того, как нельзя лучше подходила сама фамилия Морозов с ее этимологией. Она не вызывала смутных украинских или белорусских ассоциаций, как, допустим, Коваленко или Потупчик. Это хорошая русская фамилия, отчетливо простонародная (Морозовых много), но в то же время в ней слышатся отголоски мифологии русских как северного народа, крепкого и выносливого. В этом смысле имя Павел Морозов мало чем отличается от английского имени Джон Булл, столь же распространенного, сколь и воплощающего особую, глубоко маскулинную сторону национальной идентичности. В первые месяцы после убийства жизнь и смерть Павлика постепенно приобретали все большую известность и обрастали все новыми слоями культурных значений. И все же культ героя еще не имел всепроникающего характера. С осени 1932 года и до осени 1933-го об убийстве братьев Морозовых писали центральные газеты и журналы, предназначенные исключительно для детской аудитории. В периодическом бюллетене ТАСС, широко распространявшемся в провинции, освещать дело рекомендовалось именно пионерской прессе{180}. «Правда» и «Известия» на это событие не откликнулись, несмотря на то что как раз в это время «Известия» регулярно публикуют на первых страницах черные списки председателей колхозов и директоров заводов Урала и Западной Сибири, халатно относящихся к своим обязанностям (таким образом подчеркивалось пропагандистское значение этого края). В конце 1932 — начале 1933 года гвоздем программы показательных процессов стал суд над английскими инженерами, обвиненными в промышленном саботаже, а вовсе не торопливый расстрел нескольких членов семьи Морозовых где-то в тайге. С точки зрения взрослой аудитории, это дело не заслуживало упоминания даже на последней странице «Правды» и «Известий». Специально освещавшая проблемы села «Крестьянская газета» также не уделяет ему места, а «Комсомольская правда», старшая сестра «Пионерской правды», помещает только скупые и редкие отчеты[149]. Даже в детской периодике убийство Морозовых поначалу не считалось событием, заслуживающим первой полосы. За исключением дней, когда шел сам суд, информация об этой истории появлялась на третьей и четвертой страницах, т.е. там, где публиковались второстепенные репортажи и, в годы коллективизации, сообщения о «зверских кулацких вылазках» в провинции. Положение дел изменилось в конце 1933 года, когда Павлик Морозов стал — и остается вплоть до сегодняшнего дня — самым знаменитым пионером всех времен и народов. В стране, где печать подвергалась цензуре, а общественное мнение строго контролировалось, такое не могло случиться само по себе. Это произошло по указанию сверху, и в качестве патрона Павлика выступил один из самых влиятельных людей в Советском Союзе — Максим Горький.Глава 5. ГЕРОЙ ВСЕСОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Павлик и Горький
Определяющий момент в возвышении Павлика до статуса всесоюзного героя наступил в сентябре 1933 года, когда Павел Соломеин послал свою книгу о нем писателю Максиму Горькому. Горький, которому в то время было чуть за шестьдесят, еще до революции воспевал (прежде всего в своей знаменитой автобиографической трилогии) путь писателя от жестоких и отсталых устоев мелкобуржуазной семьи его отчима к радости и свету просвещения и политической грамотности. Возможно, Соломеин искренне полагал, что Горькому будет интересно прочесть историю мальчика, чья жизнь напоминала его собственную. Вероятно также, что Соломеиным двигало благонравное стремление к самосовершенствованию: с 1890-х годов Горький получал много писем от своих поклонников, писателей-рабочих, стремящихся повторить его восхождение от мальчика на побегушках до литературного мастера. Как и другие русские писатели, Горький считал, что отвечать на такие письма и давать советы — часть его профессионального долга. Не исключено, кроме того, что основные мотивы Соломеина не были столь уж идеалистическими. Горький, проживший большую часть 1920-х годов за границей, в Сорренто, в конце десятилетия начал откликаться на настойчивые и теплые приглашения вернуться на родину, которые поступали со стороны советских правящих кругов, вплоть до самого Сталина. С 1928 года, в период «культурной революции», Горький регулярно посещал Советский Союз и ко времени своего окончательного возвращения на родину в 1931 году приобрел недосягаемый авторитет в советском литературном истеблишменте. Никакой другой писатель не был так приближен к Сталину и Политбюро, никто не имел такого влияния на формирование культурной политики и, в первую очередь, на создание доктрины соцреализма в 1932 году. Тогда Горький даже обдумывал план официальной биографии Сталина. К тому же в эти годы имя Горького ассоциировалось прежде всего с вопросом воспитания детей. В письмах к Сталину, написанных в период между концом 1931-го и поздним летом 1934 года, он несколько раз обращался к «детской» теме. Например, в ноябре 1931-го подчеркнул, насколько важна пропаганда заботы советского государства о подрастающем поколении для взаимоотношений с Западом. В следующем месяце высказал свои соображения о необходимости создания «книги по вопросу охраны матери и ребенка»: такая книга — одна их тех, «которых у нас еще нет, но которые должны быть написаны». В письме 2 августа 1934 года Горький обещает опубликовать в прессе краткий материал на тему советской молодежи (и 8 августа в «Правде» выходит в свет статья под названием «Советские дети»). Он также привлекает общественное внимание к теме защиты детей от «мещанской заразы»{181}. О своей озабоченности этой темой писатель говорил и в частных беседах, и публично. В 1929 году Горького приглашают на Первый (и, как оказалось, единственный до конца сталинской эпохи) всесоюзный пионерский слет. С конца 1920-х и до начала 1930-х годов он регулярно фотографируется с группами детей (позже эта практика широко распространилась среди советских политических деятелей). Учитывая авторитет Горького и его закрепившийся интерес к «детской» теме, именно к нему часто приходили за советом руководители детских художественных проектов[150]. Он был со всех точек зрения идеальным покровителем для провинциальных журналистов, пишущих для детской аудитории и мечтающих прорваться в элитарный столичный мир словесности. Поступок Соломеина, однако, имел катастрофические последствия для его карьеры. Получив и просмотрев его сочинение «В кулацком гнезде», Горький послал автору чрезвычайно резкое письмо, которое писатель-новичок меньше всего рассчитывал получить. «Героический поступок пионера Павла Морозова, будучи рассказан более умело и с тою силой, которая обнаружена Морозовым, — получил бы очень широкое социально-воспитательное значение в глазах пионеров», — говорилось в письме. Но Соломеин, по мнению Горького, этой силой не обладал: «Ваша книга написана так, что не позволит ни детям, ни взрослым понять глубочайшее значение и социальную новизну факта, рассказанного Вами. Читатель, прочитав ее, скажет: ну, это выдумано, и — плохо выдумано! Материал — оригинальный и новый, умный — испорчен. Это все равно, как если бы Вы из куска золота сделали крючок на дверь курятника или построили бы курятник из кедра, который идет на обжимки карандашей»{182}. И хотя Горький в конце немного смягчился по отношению к Соломеину («Люди, которые заставили Вас испортить ценный материал, конечно, виноваты более, чем Вы») общий эффект был сокрушительным. Написанную Соломеиным биографию Павлика Морозова напечатали во второй раз только в 1960-х годах, после смерти автора, и то в существенно переработанном виде. Однако притом что отсылка Горькому книги «В кулацком гнезде» никак не поспособствовала личным интересам ее автора, для прославления Павлика Морозова этот эпизод сослужил хорошую службу. Похоже, Горький, до того как раскрыл книгу Соломеина, не слышал о существовании Павлика Морозова. В своей статье против кулаков, напечатанной в «Правде» 23 ноября 1933-го, он заметил: «И еще недавно, в 1933 году, они убили мальчика, пионера Павлика Морозова»{183}. Такая серьезная ошибка в датировке указывает на то, что Горький ничего не знал об убийстве (получается, кстати, что и редколлегия «Правды» не знала о таких существенных деталях биографии мальчика, раз ошибка не была исправлена)[151]. Причины такой неосведомленности легко понять. Маловероятно, что писатель внимательно следил за пионерской прессой, во всяком случае осенью 1932 года, когда все его внимание было приковано к празднованию пятнадцатилетнего юбилея большевистской революции, а также к торжествам по поводу юбилея его собственной литературной деятельности — события, увековеченного, среди прочего, переименованием главной московской улицы в «улицу Горького». Так что у пионера-героя не было шансов привлечь к себе внимание великого писателя — пока Соломеин не прислал ему свою книгу. Тем не менее, когда Горький ознакомился с историей Павлика Морозова, он сделал все для его прославления. Конечно, не без содействия Горького возникло новое, более «правильное» жизнеописание, вышедшее из-под пера Александра Яковлева и опубликованное в 1936 году[152]. Напрашивается предположение, что поначалу Горький собирался сам осуществить этот проект, но потом передал его другим по причине своей большой занятости и начавшего ухудшаться здоровья. Впрочем, никаких письменных подтверждений этому нет, но остались свидетельства о радении Горького по поводу установления памятника юному герою. В первый раз он поднял этот вопрос в октябре 1933 года в речи на слете комсомола, представив Павлика образцом борца за коллективизацию: «Борьба с мелкими вредителями — сорняками и грызунами — научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь уместно напомнить подвиг пионера Морозова, мальчика, который понял, что человек, родной по крови, вполне может быть врагом по духу и что такого человека — нельзя щадить. Родные по крови, по классу убили Павла Морозова, но память о нем не должна исчезнуть, — этот маленький герой заслуживает монумента, и я уверен, что монумент будет поставлен»{184}. К 1934 году эта тема стала idee fixe. На Первом съезде писателей в августе 1934-го Горький организовал сбор средств на памятник, побуждая знаменитых писателей делать свои пожертвования. Более того, в заключительной речи на съезде он назвал сооружение памятника главной задачей Союза писателей на ближайшие несколько лет: «Мы должны просить разрешения союзу литераторов поставить памятник герою-пионеру Павлу Морозову, который был убит своими родственниками за то, что, поняв вредительскую деятельность родных по крови, он предпочел родству с ними интересы трудового народа»{185}.[153] Шесть месяцев спустя, в феврале 1935 года, Горький, публично ратовавший за увековечение Павлика Морозова, обрушился на секретаря Союза писателей А.С. Щербакова за необъяснимую задержку строительства{186}. Вследствие этого в марте 1935 года появилось постановление Центрального комитета комсомола о возведении памятника Павлику (правда, без указания конкретного места){187}. С этого момента кампания по сооружению монумента стала разрастаться. Так, в одном из пунктов повестки дня на заседании Политбюро 17 июля 1935 года говорилось «О постройке памятника пионеру Морозову. Обязать Московский Совет построить в г. Москве, в память погибшего от руки кулаков пионера Павлика Морозова — памятник». Решение по этому вопросу приняли единогласно{188}. Конечно, Горький работал в этом направлении не один, но его положение в сталинском истеблишменте приравнивалось к чему-то вроде комиссии в одном лице, которая просматривала проекты культурной политики и отправляла их на утверждение (или отказ) партийной верхушке{189}. И без сомнения, Горький был самой значительной фигурой в Советском Союзе из тех, кто открыто пропагандировал культ Павлика.Павлик и Сталин
Примечательно, по контрасту, насколько пассивен в этом вопросе сам Сталин. В 1938 году один из биографов Павлика, Елизар Смирнов, заявил, ссылаясь на поддержку с самых верхов: «Год тому назад товарищ Сталин предложил Московскому совету поставить у Красной площади памятник Павлику Морозову. Лучшие скульптуры, художники, а также сотни пионеров думали над проектом памятника. Теперь проект утвержден. Скоро у Александровского сада, при входе на Красную площадь, будет поставлен памятник»{190}. Но подобное заявление — оснований для которого не нашлось в доступных архивных материалах — больше никогда не повторялось, и похоже, что Смирнов на самом деле имел в виду решение Политбюро, принятое тремя годами раньше. Сталинское пристальное внимание к деталям хорошо известно. Как написано в прославляющем вождя предисловии к Большой советской энциклопедии, «круг вопросов, занимающих внимание Сталина, необъятен: сложнейшие вопросы теории марксизма-ленинизма — и школьные учебники для детей; проблемы внешней политики — и повседневная забота о благоустройстве пролетарской столицы; создание Великого северного морского пути — и осушение болот Колхиды; проблемы развития советской литературы и искусства — и редактирование устава колхозной жизни»{191}. Несмотря на неумышленную комичность отдельных формулировок, суть они выражают правильно: Сталин действительно лично интересовался всем, включая школьные учебники. Например, он непосредственно участвовал в ревизии учебника истории в середине 1930-х годов. Он также удостаивал своим вниманием детскую литературу и следил за тем, чтобы в свет не выпустили книгу о его собственных юных годах{192}. Сталин, несомненно, следил за развитием морозовского культа и допускал его существование. Но при этом — воздерживаясь от определенных высказываний в поддержку этого культа. Здесь важно отметить чувство иерархии, проявившееся в панегирике из Большой советской энциклопедии. Тема детства входила в сферу внимания Сталина, причислялась к важным вопросам — и все-таки не к таким важным. Советскому политику столь высокого ранга просто не пристало нянчиться с подобными проблемами и тратить на них много времени. К тому же Сталин предпочитал детей совершенно иного психологического склада, непохожих на Павлика. Когда в 1935—1936 годах культ жанра иконы «властителя с младенцем» стал набирать силу, Сталин, как правило, выбирал для совместного фотографирования маленьких симпатичных девочек с бантом на голове. А его трогательная любовь к дочери Светлане, которой он писал нежные и даже игривые письма, называя ее «маленькой хозяюшкой» и т.п., контрастировала со сложными взаимоотношениями с двумя сыновьями. Реципиенты легенды о Павлике Морозове отличались друг от друга в зависимости от того, с кем они себя отождествляли — с отцом или с сыном. Ясно, что для вождя главная фигура в этой истории — отец. По стандартной версии биографии Сталина, его отец был грубым пьяницей, однако именно это обстоятельство способствовало тому, что Сталин определил для себя роль образцового патриарха. Отдавая должное пропагандистской пользе легенды о Павлике Морозове, он не препятствовал ее распространению, тем самым способствуя (или по крайней мере не мешая) ее продвижению, но теплых чувств к ее герою не испытывал. Сталин ни разу публично не высказался о Павлике, ни в положительном, ни в отрицательном смысле, но, как говорила молва, его личное отношение к мальчику никак нельзя было назвать одобрительным. Однажды он вроде бы даже сказал: «Ну и мерзавец! Донес на собственного отца!»[154]От Красной площади к школьной парте
Таким образом, повышение статуса легенды о Павлике Морозове нельзя объяснить личным влиянием Сталина. Странным образом она шла вразрез не только с персональным вкусом диктатора, но и с общепринятыми представлениями об идеальном детстве, которые в середине 1930-х годов претерпели существенные изменения. Как и все в культуре сталинской эпохи, эти представления тесно связаны с приоритетами, намеченными в пятилетнем плане. В первую пятилетку (1928—1932) особого внимания проблемам детства не уделяли. В соответствии с идеей того времени, образцовый ребенок должен быть юным активистом, поэтому детей вовлекали во всеобщие политические кампании, связанные с коллективизацией, индустриализацией и культурной революцией. Во втором пятилетнем плане, напротив, среди основных задач названо образование, и главное внимание уделяется преподаванию предметов в школе{193}. В 1920-х годах образовательную политику определяли коллективные формы обучения, такие как «бригадный метод», по которому знания детей оценивались не индивидуально, а по «бригадам», или «командам», в целом. На практике это означало, что наиболее старательные и успевающие ученики избирались представителями бригады для ответа на устных экзаменах — процедуре, которая очевидным образом позволяла ленивым, стеснительным или забитым детям отсидеться в тени. Однако в 1932 году «бригадный метод» был официально отменен, и успехи учеников стали оцениваться индивидуально. В школах появились свои малолетние «ударники учебы», наподобие ударников труда на заводах и фабриках. Страницы «Пионерской правды» запестрели характерными портретами школьных звезд, которые, в отличие от детей-активистов 1920-х, в большинстве случаев оказывались девочками, а не мальчиками, и которым, как сообщалось в хвалебных статьях, удавалось совмещать приверженность к добродетельным поступкам в широком смысле с отличными показателями в учебе{194}. С 1932 года центральное место в сводках пионерского движения занимает «качество учебы». К этому времени пионерские отряды обосновались в школах, а не на рабочих местах или жилых домах{195}. Что давало возможность усилить контроль над школьной дисциплиной за счет пионерской: слабых учеников или нарушителей порядка могли подвергнуть общественному порицанию и исключить из пионеров. С другой стороны, это также означало, что академические успехи стали престижными в пионерском движении.Дух времени отражен в репортажах «Пионерской правды» за 1934—1935 годы. Так, например, 18 февраля 1934-го газета убеждала ребят: «Изучай наказ вождя, отвечай ему хорошей учебой, хорошей работой!»; а 8 сентября 1935-го появилась статья «Какой будет форма школьников?» Такое отношение к детям в 1920-х годах считалось бы реакционным и буржуазным. Оно стало предвестником эпохи, в которой дети все больше отстранялись от серьезных политических и социальных проблем. Эта идея продвигалась также на Первом съезде советских писателей в 1934 году, где известные детские авторы утверждали: сказки, которые, по мнению многих педагогов 1920-х, включая Надежду Крупскую, наносили вред правильному воспитанию детей, отдаляя их от реальной жизни, в действительности являются идеальным детским литературным жанром. Сверх того, в 1936 году официальная идеология стала широко поддерживать ценности традиционной семьи, преданные анафеме партийными активистами 1920-х. В том же году были запрещены аборты и создан институт поддержки беременных женщин и молодых матерей, расширена сеть детских пособий и приняты поправки к закону, усложняющие бракоразводный процесс. Дети представлялись теперь не домашними бунтарями, а такими членами семьи, о которых необходимо заботиться, но которые занимают подчиненное по отношению к родителям место.Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство
Еще раньше началась настойчивая пропаганда счастливого детства и материнства. Промежуток между второй половиной 1935-го и первой половиной 1936-го можно назвать советским «годом ребенка»: в этот период проблемы детей приобрели (как никогда в истории страны) огромное значение. В 1935 и 1936 годах, в августовских номерах партийной газеты «Правда» обсуждались не только новые постановления относительно детей («Постановление об охране материнства и детства» от 27 июня 1936, закон об уголовной ответственности несовершеннолетних от 7 апреля 1935), но и широкий спектр тем, имеющих отношение к новому поколению: детские сады, детское кино, дворцы пионеров, вундеркиндизм и даже производство игрушек, конфет и шоколада для детей. Контраст между почти полным отсутствием таких «безобидных» тем в начале 1930-х и, наоборот, их массовостью с середины 1935-го до начала 1937 года воистину впечатляет. Материалы о потребительских товарах для детей имели политическую подоплеку, выходящую далеко за сферу компетентности отдельной семьи. В 1933 году Сталин заявил, что все советские граждане имеют право на «зажиточную жизнь». В 1935-м, на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц—стахановцев он произнес свое знаменитое изречение: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее». Излюбленным пропагандистским образом советского народа в это время являлось изображение «советской семьи за праздничным столом»{196}. В расширенную картину этой «зажиточной», «веселой» жизни входило и «счастливое детство», которое, как утверждалось, было у всех советских детей. В 1935 году появился официальный лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»[155]. А в первом номере «Пионерской правды» за 1936 год был опубликован материал под названием «Мечты счастливых», где дети рассказывали о своих желаниях: кататься на лыжах и коньках, научиться играть в шахматы и, разумеется, увидеть Сталина. Пионерское движение постепенно оказывало все большую практическую поддержку в осуществлении таких «мечтаний». С 1934 года круг детских увлечений сильно расширился. В 1936-м открылся первый Дворец пионеров, крупный центр детского досуга, где дети занимались в разных секциях по интересам и участвовали в пионерских торжествах, в том числе в праздновании Нового года с наряженной елкой, песнями, танцами и подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Те, у кого не было возможности посещать Дворец, занимались в каком-нибудь кружке в районном Доме пионеров, хотя эти занятия не всегда совпадали с их «мечтами»[156]. Представление об идеальном детстве изменилось, появились и новые юные герои. С середины 1930-х годов начался ажиотаж вокруг вундеркиндов. Программа «Юные таланты» представляла маленьких писателей, музыкантов и художников в Большом театре, в турах по стране, в выступлениях перед партийными руководителями{197}. Особенно выдающихся могли даже показать самому Сталину. Об этом писались воспоминания — на зависть другим{198}. Удивительно, с какой аполитичностью сообщалось о достижениях детей в прессе. Никто из них, скажем, не распространил 2000 предвыборных листовок, не организовал крупномасштабного политического собрания в школе или выставки в ознаменование двадцатилетнего юбилея Октябрьской революции, не говоря уж об участии в борьбе с «врагами народа». Конечно, в статьях, как правило, говорилось, что эти дети — пионеры, но основной упор делался на их достижения в областях, не имевших никакого отношения к политике: в музыке, учебе, иногда в труде{199}.[157] Герои таких публикаций — в основном дети из больших городов, из семей советского среднего класса (последнее обстоятельство еще раз подтверждает, насколько аполитичным был образ идеального ребенка в это время). В этих обстоятельствах не кажется удивительным, что слава Павлика Морозова достигла своего апогея в середине 1930-х, распространилась по всему Советскому Союзу, после чего пошла на убыль. Исключительное решение Политбюро от 17 июля 1935 года о воздвижении памятника Павлику не было претворено в жизнь. Правда, его еще раз приняли на заседании Политбюро 29 июня 1936 года (на этот раз с точным указанием места: «Установить памятник Павлику Морозову около Александровского сада при въезде на Красную площадь по Забелинскому проезду»){200}.[158] Но дело в том, что 18 июня 1936 года Горький, главный вдохновитель культа Павлика, внезапно умер[159]. И повторное решение об установке памятника через одиннадцать дней после его кончины явилось, без сомнения, данью памяти писателя. А впоследствии не нашлось никого, обладающего достаточным авторитетом, кто претворил бы это решение в жизнь. Журналисты «Пионерской правды», пытаясь восполнить утраченное покровительство, в течение 1937 и 1938 годов вели целенаправленную кампанию, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки. 2 сентября 1937 года газета обрушилась на московские городские власти за проволочку в сооружении памятника. К этому времени сроки его установки были уже трижды сорваны, эскизы никуда не годились, а первоначальный бюджет оказался израсходован. Критика возымела кое-какое действие, и в следующем году прошел конкурс на лучший проект памятника; для воплощения в бронзе выбрали эскиз Исаака Рабиновича{201}. Но Павлику не суждено было стоять на Красной площади: план, по которому он стал бы самым знаменитым ребенком в советской монументальной истории (а может быть, и в монументальной истории всех народов), тихо замотали. А фильм Эйзенштейна «Бежин луг», снятый под непосредственным впечатлением от биографии Павлика Морозова, в конце концов запретили. По слухам, сталинское осуждающее заключение — «Мы не можем допускать, чтобы всякий мальчик действовал, как советская власть» — послужило решающим фактором в решении закрыть фильм{202}. Не следует, однако, преувеличивать степень упадка репутации Павлика. Пионерские журналы продолжали печатать о нем материалы, тексты множились. Помимо биографии, написанной Яковлевым, и других «фактических» свидетельств, этот список включает в себя «Бежин луг» Эйзенштейна, «Песню о пионере-герое» Алымова и Александрова (процитирована в главе 2), а также стихотворение Сергея Михалкова. Михалков в те годы был чрезвычайно амбициозным молодым человеком, который со временем стал не только советским детским «поэтом-лауреатом» de facto, но в 1943 году также и автором советского гимна (в 2001 году этот выдающийся долгожитель переписал текст для российского национального гимна). В стихотворении Михалкова мальчик, живя в «сером тумане» таежного края (это, разумеется, символ), «от большого тракта в стороне», бесстрашно разоблачает неблаговидные поступки своего отца:Школьный зубрила и примерный пионер
Приписывать образу Павлика новые черты начали очень рано. Уже 15 октября 1932 года первый подробный репортаж в «Пионерской правде», помимо призыва вверху страницы «Выше классовую бдительность!», имел подзаголовок крупным шрифтом: «Ответим на вылазку кулачья ударной борьбой за знания»{204}. В биографии, написанной Соломеиным, Павлик в основном занимается в школе тем, что агитирует учеников создать пионерский отряд[160]. Значительно большее внимание автор уделяет политическим кампаниям, которые проводит юный активист, чем его работе над школьными домашними заданиями. Эта трактовка не соответствовала духу времени уже в 1933 году, когда книга вышла в свет. Отчасти такой промах можно объяснить тем, что Соломеин не до конца понимал, какими качествами должен обладать герой сталинской эпохи{205}. В конце концов, он был всего лишь провинциальным журналистом и малообразованным человеком. И все же нельзя сводить дело к недочетам Соломеина. Стремительная смена эстетических ценностей, происходившая в советском обществе в 1932—1933 годах, могла сбить с толку куда более искушенного писателя. Критикуя книгу Соломеина, Горький не соразмерял свои представления о Павлике Морозове с уже устоявшимся образом; скорее, он увидел в нем потенциал для превращения его в легендарного героя нового, сталинского типа. То ли под непосредственным влиянием Горького, то ли в соответствии с общим духом времени, а может быть, в силу обоих этих обстоятельств дальнейшие биографии Павлика принимают куда более агиографический характер, чем у Соломеина. Так, к общей картине добавляется мотив «Павлик — отличник учебы». Яковлев превращает мальчика в лучшего ученика в классе, способного не отставать, даже когда ему приходится пропускать школу из-за необходимости работать{206}. В эпической поэме Вали Боровина, напечатанной в том же 1936-м, Павел «знал свои уроки на «отлично»{207}(незаурядное достижение, учитывая, что оценки «отлично» не существовало до осени 1932 года). По утверждению Смирнова, не только «самостоятельность», но и «ум» Павла вызывал раздражение у его деда{208}. Помимо придания образу героя этого нового качества — стремления к отличной учебе и примерной школьной дисциплине, авторы повествований о жизни Павлика добросовестно отражают новые веяния в пионерском движении: главной становится обрядовая сторона, а не воспитание революционной сознательности у детей. Эту перемену ощутил на себе и точно передал поэт Наум Коржавин, ставший пионером в 1935 году: «Но на самом деле вступил я уже не в ту организацию, о которой мечтал. Я оставляю в стороне то, что не нашел в этой организации тех идеальных пионеров, о которых читал в пионерских газетах, журналах и даже книгах, вряд ли они и раньше существовали. Я говорю о самом характере этой идеальности, о ее, так сказать, направленности. Из этой направленности был тихо, на ходу, удален революционный дух, к которому я тогда так тяготел, и заменен межеумочной абракадаброй»{209}. В статье, напечатанной в «Правде» в 1934 году, говорилось, что дед убил Павлика «за колхозную пропаганду», тем самым революционная деятельность Павлика сводилась к раздаче листовок[161]. В книге Смирнова 1938 года больше внимания уделено строевой муштре в пионерском отряде, чем активизму, и сцена пионерской клятвы описана подробнее, чем собственно революционные убеждения Павлика{210}. К концу 1930-х годов пионерский галстук приобрел статус религиозного символа, пионерам внушали, что они должны носить его всегда. Соответственно фотографию Павлика подретушировали, и теперь на его шее гордо красовался красный галстук. Он же должен был стать центральной точкой памятника Павлику по проекту Рабиновича{211}.[162] В 1920-х галстук еще не являлся обязательным атрибутом пионера даже на демонстрациях, а пионерская форма была большой редкостью и давалась в качестве награды за образцовое поведение. Десять лет спустя пришлось переписать прошлое, чтобы показать: красный галстук всегда представлял собой неотъемлемый символ принадлежности к пионерам[163]. Затушевывание активной политической роли Павлика и превращение его в своего рода бойскаута не были единственными изменениями в образе юного героя. Не остался без внимания и «культурный досуг», которому пионерское движение придавало теперь большое значение. Книга Яковлева 1936 года начинается с того, как Павлик собирается на охоту — и не ради пропитания, что было бы естественным в реальной жизни того времени, а скорее из спортивного интереса. Всеобщее помешательство на вундеркиндах отразилось и здесь, в описании необыкновенных способностей Павла: в то время как его отец возвращается домой с пустыми руками, мальчику удается самостоятельно подстрелить двух птиц{212}. По мере того как миф о Павлике приспосабливался к распространившейся в середине 1930-х годов идеологии «счастливого детства», тема «юного осведомителя» звучала все более приглушенно. Даже в начале 1930-х донос на родителей далеко не всегда вызывал безоговорочное восхищение. Конечно, история Павлика была не единственной, где подчеркивалось, что дети обязаны разоблачать родителей-преступников, однако помимо торжествующего ликования «Пионерской правды» звучали все-таки и другие голоса. Например, в пьесе Александра Афиногенова «Страх» (1931) Наташа, десятилетняя пионерка, сообщает одному из сослуживцев своего отца, что тот из карьеристских побуждений солгал о своем происхождении. Но она решается на донос в состоянии глубокого душевного расстройства:«НАТАША. Но почему мне так плакать хочется? Пионеры не плачут, пионеры всегда веселые. (Заплакала, уткнувшись в подушку дивана).Теперь, в соответствии с новыми принципами, разоблачающему родителей пионеру следовало испытывать душевное смятение. Донос стал рассматриваться как трагическая необходимость, а не как дело, приносящее моральное удовлетворение. Интересно в этом контексте обращение Сергея Эйзенштейна к фигуре Павлика в фильме «Бежин луг». Сам режиссер утверждал, что его фильм основан непосредственно на истории семьи Морозовых{214}. Однако он внес в нее многочисленные изменения. То, что темноволосый, угрюмый Пашка, описанный Соломеиным, превратился в жизнерадостного Степка, блондина арийского типа a la Квекс (для этого потребовалось покрасить волосы исполнителю роли){215}, не было новшеством. Напомню, что уже во втором репортаже «Пионерской правды» (1932) Павлик изображен «светловолосым». Важнее, что изменены обстоятельства убийства. В «Бежином луге» Степок раскрывает обман своего отца случайно, наблюдая вместе с другими деревенскими пионерами за колхозным гумном. Таким образом, раскрытие преступления становится коллективным, а не личным делом. И хотя Степок, как полагается, оказывается жертвой злодейского убийства, донос следует за этим преступлением, а не предшествует ему. У Эйзенштейна Степок не бросает яростный вызов своему отцу, беспощадно разоблачая его в суде, а только сообщает мертвеющими губами своим товарищам-пионерам, что убийца — его отец: «Отец… стрелял… ищите в лесу… там»[165]. И хотя мотив доноса обычно фигурирует в позднейшей историографии Павлика[166], начиная с середины 1930-х он звучит намного приглушеннее, чем раньше. В октябре 1932 года «Пионерская правда» писала: «На суде в качестве свидетеля выступал светловолосый пионер Павел, и голос его не дрогнул, когда он говорил: — Я, дяденька судья, выступаю здесь не как сын, а как пионер! И я говорю: “Мой отец предает дело Октября!”»{216} Олег Шварц в 1933 году, вскоре после завершения процесса, также утверждал, что Павел разоблачал отца «уверенным и четким» голосом{217}. В повести Виталия Губарева «Один из одиннадцати», напечатанной в газете «Колхозные ребята» в том же 1933 году, Павлик относится к доносу дельно: «Таких не жалко!… Дай-ка, Яшк, карандаш и чистую бумагу. Напишем в ГеПеУ…». Более того, Губарев вводит в повесть новый персонаж, Олю Ельшину, дочь пропагандиста-рабочего с бритой головой, отправленного в деревню «укрепить здесь дела». Как оказывается, яблоко от яблони недалеко падает — девочка не уступает отцу в чувстве коммунистического долга. Когда тот говорит «Не у всякого пионера решимости хватит разоблачить родного отца!», Оля отвечает: «Нет, у всякого!»
Входит Бобров.
БОБРОВ. Наташа, девочка моя, ты одна… (Взял ее за руку). НАТАША. Я не могу больше… Я… хотела тете Кларе сказать. Папу жалко, я все молчу, молчу. Даже грудь раздавливает от молчания. БОБРОВ. Тебя обидел отец? НАТАША. Он меня не обидел. Он всех обманул. Ой, дядя Коля, почему мне так плакать хочется? Я тебе расскажу про папину мать, хорошо? У нас ведь дружба с тобой? БОБРОВ. Конечно, скажи, друг все поймет»{213}.[164]
«— Ну, представь себе, остроносая, что твой отец — секретарь партячейки — стал дружить с кулаками… Оля не ждала этого оборота. С ее лица медленно сползла улыбка. — Я бы… — Что бы ты? — Я бы его перевоспитала… Ельшин рассмеялся, обнимая ее. — Ну а если бы и это не подействовало? — Тогда… — Оля сделала глубокий вздох, словно набираясь решимости, — тогда я бы взяла и разоблачила его перед всеми»{218}.[167]А уже через три года Яковлев описывает, как Павел, «волнуясь, путаясь», рассказывает обо всем учительнице, а потом так же «волнуясь», делает заявление в суде{219}.[168] Даже в версиях времен Большого террора Павел не представлен рьяным доносчиком. У Смирнова учительница убеждает Павлика:
«— Ты же знаешь: пионер первый помощник партии и комсомола и всегда стоит за дело Ленина, — сказала Зоя Александровна, — а поэтому и про отца нужно сказать, если он враг. — При этих словах Павлик покраснел. Учительница в упор спросила: — А кто враг? — Мой тятька! — крикнул Павлик и побежал в избу».Друзьям также приходится уговаривать Павлика перед судебными слушаниями: «Держись, Пашка, пионерия тут!… Смотри же, Паша, не бойся… Говори всю правду»{220}. В юбилейной заметке, напечатанной в «Пионерской правде» 4 сентября 1939 года, Павлик дает показания на суде сокрушаясь: «Мне больно это говорить, но мой отец — враг партии и народа, его нужно покарать!» Повесть Губарева «Один из одиннадцати» не переиздавалась; в 1940 году писатель опубликовал полностью обработанный вариант жития Павлика, из которого исчезла решительная пионерка Оля Ельшина[169]. Параллельно с изображением нарастающего нежелания сына выступать в качестве свидетеля обвинения усиливается и планомерное очернение его отца — дабы убедить аудиторию, что тот заслуживает разоблачения. В позднейших версиях биографии Павлика, например у Смирнова, отец представлен не только мошенником и пьяницей, но и жестоким мужем и отцом, регулярно применяющим насилие к жене и детям{221}. Теперь донос становится актом не только гражданского долга, но и самозащиты и перекликается с делом Кости Чеклетова, получившим широкую огласку в 1930 году: тот сообщил пионерскому отряду о поведении своих спившихся и озверевших отца и мачехи, ежедневно избивавших Костю ногами, палками и бутылками. История Кости закончилась уголовным расследованием и показательным процессом{222}.[170]
Террор и молчание
Таким образом, переработка легенды о Павлике, осуществленная в середине 1930-х годов, привела не только к появлению в ней нового мотива — Павлик как примерный ученик, но и к утрате двух исходных — Павлик как поборник идеологической чистоты внутри семьи и Павлик как воплощение политической бдительности в обществе в целом. Такая манипуляция мотивами может на первый взгляд показаться странной и провоцирует на вопросы. В самом деле, почему Павлика «возвысили» именно в тот момент, когда представления об идеальных отношениях между родителями и детьми стали меняться? И зачем тратить столько усилий на утверждение нового героического образа мальчика-активиста образца 1920-х годов, когда пионерскую работу предполагалось укоренить в институциональных рамках школы? Наконец, для чего понадобилось спускать на тормозах тему доноса в годы Великого террора, когда доносительство как социальная практика приобрело небывалый размах? Отчасти ответы на эти вопросы заключаются в идеологическом колорите эпохи. Писатель Бернард Маклаверти определил отношение к так называемому «смутному времени» в Северной Ирландии 1970-х и 1980-х годов как к «слону в гостиной»: проблема настолько огромна, что занимает все пространство, но никто не решается заговорить о ней. Сталинская культура, со своей стороны, напоминала гостиную, в которой все присутствующие знали, что под стоящим в углу колпаком для чайника находится вовсе не серебряный предмет посуды, а отрезанная голова, но продолжали увлеченно и безостановочно обсуждать красивый рисунок на чехле[171]. Пока политический террор распространялся в масштабах, невиданных даже в советской истории, нарастала и «гуманистическая» риторика, табуировавшая прямые упоминания о доносительстве, арестах и страданиях заключенных[172]. В обществе, где все контролировалось цензурой, было запрещено упоминать о ее существовании; подобным же образом скрывали и такую опору системы террора, как доносительство. Если судить по советской прессе, чистки проходили только на самом высоком уровне, к ответу призывались лишь государственные преступники. Этих людей публично очерняли те, кто имел право говорить от имени народа, например генеральный прокурор Андрей Вышинский. Однако сама механика изобличения «врагов народа» всегда оставалась в тени. В таких обстоятельствах доносчик, сколь благородными ни были бы его побуждения выявить преступников и передать их в руки правосудия, — как минимум не самый подходящий объект для героизации. Его присутствие обнажает тщательно скрываемые механизмы. Так что, по точному определению Сталина, Павлик представлял собой всего лишь подростка, самолично взявшего на себя функции советского государства. Теперь важно было подчеркнуть не только то, что осведомитель действует из абсолютно бескорыстных, чистых побуждений, но и что он является всего лишь медиатором и исполняет волю высшей власти. Вот почему в позднейших версиях этой истории возникает фигура взрослого человека, школьного учителя или уполномоченного ОГПУ, перед которым герой раскрывает душу. Превращение Трофима Морозова в домашнего тирана, а Павла — в преследуемого ребенка приглушало вызывавшую противоречивые чувства первоначальную версию мифа, в которой сын не останавливался ни перед чем, чтобы добиться уничтожения своего отца. Новый подход соответствовал начавшемуся с 1935 года восхвалению Сталина как безгранично доброго и в то же время строгого отца всех советских детей. Он также отвечал установке, появившейся в середине 1930-х: необходимо укреплять авторитет родителей в глазах детей, а не наоборот. Новые правила поведения пионеров, обнародованные в 1937 году, предписывали членам организации проявлять не только уважение к старшим, но и «любовь к родителям»{223}. В этом контексте донос Павлика на отца провоцировал ненужное беспокойство. Заслуживает внимания тот факт, что в рекомендациях к заседанию Политбюро 1935 года Павлик охарактеризован только как «жертва кулаков», а не как непреклонный борец за справедливость внутри семьи{224}. Эту коллизию можно было бы развернуть, изобразив Павлика изобличающим отца по крови во имя другого отца — Сталина. Но была одна практическая загвоздка: миф о Павлике возник раньше, чем началась полномасштабная пропаганда культа Сталина среди детей. По этой причине мотив «преданности Сталину» возникает только в позднейших версиях жизнеописания Павлика, даже в них не получая большого развития[173]. Как правило, отказ от биологического отца во имя долга перед символическим отцом подразумевается, но не артикулируется прямо. Как бы то ни было, главная заслуга мальчика состояла не столько в доносе на отца как таковом, сколько в участии в кампании всеобщей слежки и в предпочтении общественных интересов личным. Как мы видели, Горький видел в Павлике Морозове героя, для которого «духовные связи» важнее «кровных»{225}. В этом смысле доносительство в качестве общественно-полезного дела еще долго пропагандировалось, даже после того как тему доноса Павлика на отца стали постепенно затушевывать. Особенно прославлялись дети, которые привлекали внимание властей к подозрительным иностранцам, шнырявшим в пограничных зонах, — о них рассказывалось в десятках газетных репортажей и художественных произведений начиная с 1936 года{226}.[174] Такого рода приверженность гражданственному доносительству сохранилась и в более поздних версиях биографии Павлика. Герой мог тяжело переживать виновность собственного отца, но это не мешало ему оставаться убежденным разоблачителем кулаков — укрывателей зерна в своей деревне{227}. Пропаганда прилагала много усилий, чтобы представить донос не как постыдное, тайное наушничество, а как очистительную, общественно-полезную процедуру. Опубликованное в 1940 году пособие по педагогике инструктировало учителей, каким образом убеждать детей выступать с публичными обвинениями. Если учителю не удавалось побудить их к открытым разоблачениям, он не имел права принимать меры на основании информации, полученной в частных беседах. Кроме того, в пособии подчеркивался бескорыстный и открытый характер действий Павлика: «Учитель знакомит учащихся с героическими подвигами Павлика Морозова и других детей, охранявших и охраняющих общественную собственность от врагов народа, вредителей и показавших образцы подлинного социалистического отношения к труду и общественной собственности, пример беззаветной любви и преданности к нашей социалистической родине». Учителю также следовало проводить беседы о необходимости уважать общественную собственность{228}. Но стремление выставить определенные действия Павлика в качестве образца для подражания вовсе не было ни единственной, ни главной целью распространения легенды. Очень сомнительно, что власти в СССР хотели стимулировать массовое детское доносительство. Есть свидетельства того, что спецслужбы не были склонны воспринимать детей в качестве серьезных источников информации. Известен, например, такой экстраординарный случай: девочка-подросток заявила в НКВД о собственном политическом инакомыслии, после чего с трудом убедила органы арестовать ее. А когда будущий поэт Лев Друскин и его товарищи по детскому клубу в Ленинграде позвонили в НКВД и попытались защитить арестованного в 1937 году директора клуба, сотрудник органов грубо велел им не лезть не в свое дело{229}. В сталинском обществе никогда не практиковали ничего вроде телефонов доверия для детей, распространенных сегодня во многих западных странах и в России. Не существовало такого номера, который можно было бы набрать, чтобы заявить на папу или на кого-то другого. Доносы детей друг на друга как средство поддержания школьной дисциплины поощрялись, к доносам же, за которыми стояло соперничество со взрослыми за авторитет и право участия в политической жизни страны, относились с глубоким подозрением.«Жизнь за родину»
В общем и целом можно сказать, что Павлик Морозов являлся одновременно и чем-то большим, и чем-то меньшим, чем просто пример доносительства. Он олицетворял модель поведения пионера, которую школьная учительница из книги Яковлева разъясняла классу: «Настоящий пионер тот, кто учится очень хорошо, поддерживает дисциплину, работает в отряде, читает книги и газеты. Настоящий пионер — всем пример»{230}. И в то же время подчеркивалось, что Павлик — не просто пример для подражания; его героизм недостижим, его подвиг нельзя повторить в обычной жизни; патриотизм и гражданский долг Морозова возвысили его до таких вершин, откуда нет возврата. В 1934 году «Правда» опубликовала статью, в которой история Павлика начиналась со слов «убитый дедом»{231}, чтобы сразу было понятно: мертвый герой отличается от живых читателей рассказа про него. «Пионерская правда» к шестой годовщине смерти мальчика сделала такое обобщение: «Все советские ребята хотят быть похожими на Павлика Морозова, они готовы отдать все свои силы, а если нужно, то и жизнь, за любимую родину»{232}. Павлик — яркий пример детской «революционной сознательности и мужества», он совершил высший акт самопожертвования, отдав за идею свою жизнь. Именно невероятность его героизма и вызывала такое восхищение. В детской литературе XX столетия, как это отметила Элисон Лури, гибель главного героя встречалась редко и только в исключительных случаях{233}. В позднесоветскую эпоху смерть была одной из тем, которые детские издательства считали совершенно несовместимыми с их читательской аудиторией{234}. В 1920-х годах советская литература — при всей ее горячей неподкупности в некоторых других аспектах — также придерживалась этого правила. Произведения для детей более старшего возраста часто рисовали мир в невыносимо мрачных красках. Так, в повести Виталия Бианки «Карабаш» любимая собака героини умирает от бешенства, а в повести Александра Неверова «Ташкент — город хлебный» маленький мальчик, спасаясь от голода 1921 года, прошел пол-Евразии, пережил по дороге смерть своего еще более юного попутчика, чтобы в конце концов, добравшись до Ташкента, на который возлагал несбыточные надежды, с горечью воскликнуть: «Неужели здесь тоже голодают?!» И все-таки главный герой всегда выживал. Смерть политических героев была исключением из правил, перед ними неистово преклонялись с первых дней революции. В 1920 году одна школьница написала в издававшуюся местным отделением Пролеткульта газету о том, как глубоко потрясли ее похороны большевиков — политических жертв: «Не раз мне приходилось присутствовать на похоронах даже близких мне людей, но ни разу я не испытывала того чувства, которое наполняло меня на похоронах тов. Жаброва. Не мелкое чувство жалости, нет! я даже завидовала тому, что он сумел бороться и так славно погибнуть за лучшее будущее»{235}. Смерть Ленина в 1924 году вызвала общенациональную скорбь, вместе со взрослыми скорбели и дети, которым школьные учителя давали на уроках задания писать стихи и рисовать картинки в память умершего вождя{236}. Почести отдавались не только погибшим взрослым, но и детям. В мае 1925 года, например, пионерский отряд в Свердловске отмечал День Морфлота. На торжестве произносились речи о Коминтерне, а также были организованы «похороны октябренка» на основе дидактического материала о «старых и новых похоронах»[175]. В начале 1930-х годов смерть юного героя стали регулярно описывать в произведениях, рассчитанных на детскую аудиторию. Помимо фильма Николая Экка «Путевка в жизнь»[176] можно вспомнить поэму Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки»: умирающая Валентина бросает вызов своим родителям и, вместо того чтобы перекреститься, слабой рукой отдает пионерский салют:Всесоюзный герой
Когда слава Павлика достигла апогея, легенда о нем получила свое развитие в нескольких направлениях. Первое: Павлик— идеальный пионер-герой, отвечающий всем требованиям современности: прилежание в классе, забота о товарищах, умеренное участие в политической жизни[179]. Второе: Павлик — самая яркая звезда в созвездии детей-мучеников, чья исключительная жертва ради народа напоминала детям, достигшим славы другим путем, о том, что они должны еще много «работать над собой». Третье: политическая бдительность героя отошла на второй план, а разоблачение собственного отца стало вызывать более сдержанную и неопределенную оценку — теперь такой поступок казался скорее экстремальным и вынужденным проявлением гражданского долга, а недостойным похвалы выражением революционного рвения. Легенда о Павлике, видоизменявшаяся в зависимости от требований времени, стала центральным мифом культурной политики и распространилась по всей стране, в том числе и в родном краю мальчика, на Урале. В первые месяцы после его смерти местные газеты, как мы видели, еще сохраняли некоторую независимость в трактовке события и продолжали продвигать свою линию «классовой борьбы» даже на суде, т.е. спустя два месяца после того, как центральная пресса взяла все в свои руки. Местное руководство запланировало с размахом отметить первую годовщину смерти Павлика. 24 августа 1933 года «Комсомольская страница» «Тавдинского рабочего» опубликовала длинный список торжественных мероприятий. Для начала было решено «поставить борьбу за досрочное выполнение плана уборки урожая», организовать пионерские слеты и комсомольские собрания. 3 сентября вышел спецномер «Комсомольской страницы», состоялись торжественные пионерские собрания (в том числе с выступлением Татьяны Морозовой), беседы и речи по радио, в каждой школе района открылись«уголки» Павлика Морозова. Предполагалось, что все это послужит толчком для развития пионерской работы: планировалась «мобилизация комсомольской и пионерской организаций района на то, чтобы с первых же дней учебы обеспечить направление детской инициативы и энергии на правильную постановку работы в отряде, школе …проводя все это под лозунгом “воспитать в отряде таких пионеров, каким был Павлик Морозов”»{244}. 3 сентября «Тавдинский рабочий» вместе со списком запланированных мероприятий напечатал интервью и фотографию похожей на святую Татьяны Морозовой в платочке, а также сообщил об успешной работе герасимовского пионерского отряда, насчитывавшего четырнадцать детей. Поздней осенью этого же года началась кампания по сбору средств на памятник{245}. В первый год после смерти Павлик имел статус «местного героя» — на это указывает тот факт, что его первая биография напечатана не в центральном издательстве, публикующем произведения, в том числе для детей и подростков, как, например, «Молодая гвардия», а в свердловской «Уралкниге». Сейчас нельзя с точностью сказать, в какой степени культ Павлика был принят местным населением. В декабре 1933 года «Тавдинский рабочий» негодовал по поводу слишком маленькой суммы, которую удалось собрать на мемориал[180]. Но местные партийные и комсомольские руководители, несомненно, приложили все усилия для распространения этой легенды. К 1934 году ситуация изменилась. «Тавдинский рабочий» отметил юбилей Павлика одной-единственной канонизированной статьей, которая вполне могла бы появиться в любом советском журнале или книге. «Павлик сочетал в себе все лучшее. Он был хорошим пионером, лучшим из лучших учеников[181], прекрасный общественник, лучший помощник матери и хороший друг младшим братишкам». В статье тамошние читатели, хорошо представляющие, где находится Герасимовка, прочли, что она лежит в сорока верстах от районного центра. Помимо другой (и не всегда точной) информации газета сообщала также, какой отсталой была эта деревня в конце 1932 года. К местной жизни относилась лишь небольшая подробность в самом конце: численность пионерского отряда Тавдинского района выросла с тридцати шести до пятидесяти трех человек; и вообще пионеров стало на несколько сот больше, чем в предыдущие годы; а в краю, в котором раньше жил Павлик, теперь организован «не один колхоз»{246}. С этих пор жители Тавдинского района узнавали о Павлике из московских изданий, и так происходило вплоть до 1960-х годов. Конечно, на Урале продолжали вести работу по увековечению памяти мальчика-героя. В 1934 году в Герасимовке был создан новый колхоз, названный в его честь. (В октябре сообщалось, что колхоз лидирует по выработке продукции с большим отрывом{247}.) В июле 1939 года Областной исполнительный комитет Коммунистической партии в Свердловске принял решение отреставрировать дом, в котором мальчик вырос, и поставить там его статую. Это решение одобрил Областной Совет депутатов в августе следующего года{248}. Местное руководство в самой Герасимовке тоже предпринимало шаги для увековечения памяти Морозова. В 1940 году исполком сельсовета установил бюст пионера; предварительно его осмотрели на предмет портретного сходства родной брат Павлика Алексей, двоюродный брат и двое друзей (все послушно сказали, что похож){249}. В 1941 году в Герасимовке, в бывшем здании сельсовета открылся музей Павлика Морозова[182]. И все-таки отчетливо ощущалось, что он вышел за рамки местной достопримечательности. По словам женщины, свидетельницы культа Морозова в 1930-х годах: «То, что уральский… конечно, все гордились. Но то, что он общесоюзный герой, это безусловно… Мы считали, что он — Герой СССР»{250}.[183] Начиная со второй половины 1930-х годов местные газеты постоянно перепечатывали материалы, опубликованные в центральной прессе; в них искажены не только факты биографии Павлика, но и география Урала. Распространяя обобщенный пропагандистский миф по всему Советскому Союзу, уральские и московские газеты представляли Герасимовку чудо-деревней, местом проживания примерных пионеров, которые или добросовестно занимались на учениях по гражданской обороне, или сидели на уроках в новенькой сельской школе имени героя, где был особый уголок Павлика Морозова[184]. «Тавдинский рабочий» с благоговением описывал поездку этих примерных пионеров в сопровождении Татьяны Морозовой и брата Павлика Алексея в Москву в 1934 году{251}. Даже призыв увековечить память о Павлике не восходит непосредственно к его родным местам: в 1933 году, предлагая поставить памятник, местное руководство ссылается на авторитет Максима Горького{252}. А с 1936 года все канонические тексты о Павлике печатаются не в Свердловске, а в Москве, сердце советского издательского мира.«Мы все его жалели»
Таким образом, к 1936 году Павлик превратился в известную всем легенду, утратившую какую бы то ни было связь с обстоятельствами своего возникновения и первоначальным значением. Как же реагировали на пропаганду этой легенды сами дети? Юрий Дружников полагает, что влияние Павлика Морозова на реальную жизнь было огромным. «Приходится признать, что Сталину и его мафии удалось создать армию подражателей Морозову. Миф стал реальностью советской жизни»{253}. В подтверждение он приводит лавину появившихся в молодежной прессе 1933 года рассказов о детях-доносчиках, которых награждали путевками в пионерские лагеря и поощряли другими способами{254}. Однако главный тезис книги Дружникова состоит в том, что советская пропаганда не имела никакого отношения к реальности. На этом фоне использование советской пропаганды в качестве источника достоверных сведений о том, как дети воспринимали легенду на самом деле, выглядит довольно странно. Если оторваться от газетных репортажей и взглянуть на мемуары и материалы устной истории, перед нами возникает куда более сложная картина. Нет сомнения в том, что культ Павлика соответствовал настроениям значительной части если не детей, то молодежи. Сильный импульс его развитию задали, как мы видели, журналисты «Пионерской правды», молодые люди, сочувствовавшие гипотетическому вызову, который Павлик бросил патриархальным авторитетам. Эта молодежь верила в оправданность коллективизации. Фрума Трейвас, журналистка, работавшая в «Пионерской правде» в 1930-х годах (в момент гибели Павлика ей двадцать семь лет), позже вспоминала об атмосфере того времени; «Конечно, материалы газеты воспитывали детей на любви к Родине, партии, к Сталину, боже мой…» Голодающие крестьяне, которых она увидела в Челябинской области, вызвали ее сострадание лишь отчасти: «Страшно было смотреть, но ведь они кулаки, эксплуататоры, они против Советской власти. Вот Павлик Морозов — это герой, ну и что, что выдал отца…»{255} У многих первых создателей мифа о Павлике имелись и другие причины идентифицировать себя со своим героем: они сами происходили из бедных и часто неблагополучных семей. Здесь уже упоминались трудные отношения Горького с отчимом. Павел Соломеин, в свою очередь, ушел от своего свирепого отчима, жил в детской колонии{256} и, подобно многим воспитанникам таких учреждений, вынес оттуда воинствующую преданность «спасшей» его системе. Еще одним примером провинциального молодого человека, чье воображение потрясла легенда о Павлике Морозове, может служить курский поэт Михаил Дорошин (1910 г.р.). Его поэма о пионере-герое, написанная под впечатлением газетных репортажей, впервые появилась в «Пионерской правде» 29 марта 1933 года[185]. В ней Герасимовка представлена архетипом сибирской глуши: там живут под постоянной угрозой, но не столько со стороны животного мира, сколько со стороны людей:Глава 6. ПАВЛИК В ТЕНИ
Содержание «Пионерской правды», как и других советских газет конца 1930-х годов, было предсказуемо, как это свойственно ритуальному действию. В первом номере года обязательно присутствовала новогодняя тема: на развороте, чаще всего с иллюстрациями, на которых изображались нарядная елка и радостно улыбающиеся дети. В последующих январских номерах писали о том, как весело дети проводят зимние каникулы: катаются на санках и на лыжах, играют в игры вроде «Найди шпиона». В годовщину смерти Ленина, 21 января, публиковались агиографические статьи о великом вожде, в которых прославлялась его крепкая дружба со Сталиным. В том же духе отмечались день Красной армии (23 февраля), годовщины смерти героев-коммунистов, а также такие важные советские праздники, как, например, День конституции (5 декабря). На протяжении всех 1930-х годов Павлику отводилось собственное место в ряду этих знаменательных событий, и каждое 3 сентября, в день его смерти, всегда появлялись какие-нибудь мемориальные материалы о мальчике. Этот обычай сохранялся и после августа 1935 года, когда был принят закон, установивший единое начало учебного года в масштабах всей страны и превративший тем самым 1 сентября в новый важный праздник — День знаний. Дети приносили своим учителям цветы, на торжественных линейках в школьных залах и дворах произносились речи, в которых школьникам напоминали об обязанности прилежно учиться и проявлять таким образом свой патриотизм и благодарность родине, партии и великому вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину. Советские памятные даты отмечались в газетах так же аккуратно, как в отрывных календарях, ставших чрезвычайно популярными в конце 1930-х — 1940-х годах (публикации для младших возрастов включали «Детский календарь» с цветными изображениями Ленина, Сталина, героев сказок и счастливых советских семей), поэтому любое изменение в привычном распорядке не могло быть случайным. В связи с этим обращает на себя внимание тот факт, что в первую неделю сентября 1940 года «Пионерская правда» ничего не напечатала о Павлике Морозове. Вместо этого 5 сентября, в день, когда было естественным ожидать материала о Павлике, газета начала публиковать с продолжением книгу о пионере-герое совсем другого типа{270}.Тимур и его команда
В отличие от Павлика у этого героя не было реального прототипа. Он родился в воображении автора приключенческих книг Аркадия Гайдара, написавшего, в частности, «Военную тайну». Вышедшая из-под пера одного из самых популярных детских писателей сталинского времени повесть «Тимур и его команда» печаталась в «Пионерской правде» на протяжении нескольких месяцев, а потом выдержала множество книжных изданий. Это живая, хорошо сделанная и занимательная книга. Ее действие происходит во время войны, какой — прямо не говорится, но первые читатели, конечно, догадывались, что речь идет о советско-финской войне, начавшейся предыдущей зимой. В центре повествования — группа детей, живущих в дачной местности недалеко от Москвы; они организовали своего рода патруль, взяв на себя ответственность за охрану домов офицеров, сражающихся на фронте. Вожаком этого патруля и был Тимур, чье имя дало название повести. После ряда столкновений с хулиганами, орудующими под предводительством некоего Мишки Квакина, тимуровцам удается запереть членов шайки в пустой будке, на которой они вывешивают объявление: «ПРОХОЖИЕ, НЕ ЖАЛЕЙ! Здесь сидят люди, которые трусливо по ночам обирают сады мирных жителей». Все заканчивается восстановлением порядка: «Я стою… я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже»{271}. Деятельность Тимура и его команды не похожа на подвиг Павлика Морозова или даже Мальчиша, созданного тем же Гайдаром. Деятельность тимуровцев скромнее и не угрожает им трагической смертью, как в случаях Павлика и Мальчиша; она направлена на борьбу с малолетними хулиганами, а не взрослыми преступниками. Вдобавок Тимур получил одобрение со стороны полковника Красной Армии Александрова, отца двух героинь повести. В конце книги, когда Александров узнает о происходящем, он тепло поздравляет геройского мальчика: «Отец встал и, не раздумывая, пожал Тимуру руку»{272}. Одна из двух дочерей Александрова Ольга воображает себя главной в детской общественной и политической жизни и потому не одобряет активность Тимура, но теперь и она вынуждена признать, что его деятельность идет на пользу коллективу. В решающей сцене примирения старший мужской персонаж появляется уже не в качестве «полковника Александрова», но в роли «отца», символизируя тем самым мудрое родительское покровительство, распространившееся и на росшего без отца Тимура, и на всю молодежь в целом. Тимур, таким образом, воплощал собою объединяющую силу социальной сплоченности, в то время как Павлик соответствовал скорее герою западного скаутского романа или даже протагонисту популярнейших приключенческих повестей Инид Блайтон о «знаменитой пятерке»[201]. Как и другие успешные авторы, которые не только сумели выжить, но и вполне преуспевали при сталинском режиме (достигнуть такого положения детским писателям, видимо, было несколько легче, чем их собратьям во взрослой литературе), Аркадий Гайдар обладал особым политическим чутьем. Само имя «Тимур», мало распространенное в России, выбрано, вероятно, не только в честь собственного сына Гайдара, но также в честь приемного сына Климента Ворошилова (после смерти М.В. Фрунзе К.Е. Ворошилов усыновил его детей — сына Тимура и дочь Татьяну)[202]. Когда Гайдар работал над этой книгой, Ворошилов был одним из ближайших соратников Сталина. Художник Александр Герасимов к этому моменту только что закончил писать свою «икону» — картину «И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в Кремле», на которой маршал изображен плечо к плечу, шинель к шинели рядом с вождем на фоне панорамы Замоскворечья, простирающегося за Кремлевской стеной. Ворошилов ассоциировался прежде всего с военной доблестью: в 1925 году назначен наркомом по военным и морским делам, с 1934 по 1940 год был наркомом обороны, а в 1935-м получил восстановленное в советской военной иерархии звание маршала. Но при этом он был любимцем пионерской прессы и получал от детей сотни писем с просьбами прислать автограф или посоветовать, как жить. Автографы маршал не любил и обычно не присылал их (пока в 1968 году его помощник не обзавелся пачкой фотографий Ворошилова с готовой подписью). Зато щедро давал многословные наставления: «А при коммунизме каждый человек, все люди без исключения должны стать и станут трудолюбивыми, сознательными, честными, всесторонне развитыми, иначе говоря, как указано в Программе, будут удачно сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство»{273}.[203] Между звездным рангом маршала Ворошилова и скромным званием полковника Александрова пролегала огромная дистанция. И все же Александров, тоже военный, взявший под свое крыло чужого мальчика, был отдаленным alter ego Ворошилова. Таким образом, Ворошилов тоже воспринимался как символический отец Тимура, и под «виртуальным» покровительством высшей сталинской элиты оказался мальчик-герой нового типа, который сотрудничает со взрослыми, выполняет безопасную и скромную общественную работу, а также соблюдает субординацию, ведя агитационную и разоблачительную деятельность сообразно своему возрасту. Появление Тимура четко обозначило очевидный поворот в задачах пионерии. В 1920-х и 1930-х годах активисты беспокоились, чтобы пионерская организация не дала крен в сторону скаутов — патриотического, но, с политической точки зрения, консервативного детского движения, уделявшего больше внимания досугу и буржуазной филантропии, чем социальному активизму. Тимур в качестве идеала пионера-героя ознаменовал перемену отношения властей к скаутам: теперь советизированные формы скаутского активизма стали официальным направлением развития пионерского движения. О поддержке новой линии со стороны руководителей пионерской организации говорит тот факт, что книга Гайдара продвигалась намного усерднее, чем канонические биографии Павлика. Это видно по тиражам, которые в централизованной советской системе безошибочно отражали не только истинную популярность книги, но и официальное мнение о ее значении. Общий тираж канонических биографий Павлика Морозова в 1930-е годы — учитывая славу героя — на удивление небольшой. Книга Соломеина после первого издания тиражом в 10 000 экземпляров больше не выходила. Биография, написанная Александром Яковлевым, выдержала всего два переиздания: 1936 и 1938 годов, так что общий тираж всех трех изданий составил 105 000 экземпляров. «Павлик Морозов» Смирнова вышел только один раз (1938 год, 50 000), как и поэма Вали Боровина «Морозов Павел» (1936 год, 10 000){274}. Эти цифры, в общей сложности составляющие 175 000, выглядят очень убедительно, если сравнивать их с тиражами поэтов, писавших для «элитной» взрослой аудитории: например, тираж книг Пастернака обычно не превышал 5000 экземпляров или около того. Но в то же время они значительно уступали тиражам «Военной тайны» Гайдара (восемь изданий общим тиражом 555 600 с 1935 по 1939 год){275}. А повесть «Тимур и его команда» значительно обогнала по этому показателю биографии Павлика, опубликованные в 1930-х годах, и послевоенные издания книги Губарева (общий тираж 90 000 с 1947 по 1948 год). Только за время Великой Отечественной войны «Тимур» был переиздан четырежды, достигнув общего тиража в 200 000, и далее количество экземпляров составляло по 200 000—300 000 в год[204]. В 1947 году «Тимур» оказался в выборке выдающихся детских книг, опубликованной на обложке официальной ежегодной библиографии «Детская литература», разделив славу с баснями Крылова, пушкинской «Капитанской дочкой», «Детством» Толстого, Жюлем Верном, детскими стихотворениями Маяковского, сборником русских народных сказок и «Рассказами о Ленине» Кононова. В списке значились также современные произведения, в основном на военную тему, и другие, написанные лучшими детскими писателями современности: Маршаком, Абрамовым, Львом Кассилем, Сергеем Михалковым, Вениамином Кавериным и Валентином Катаевым. Ни одной из биографий Павлика Морозова в списке не было{276}. Продвижение двух героев в странах Варшавского пакта также удивительно разнилось: «Тимур» на протяжении 1940-х годов был напечатан семь раз в Восточной Германии и Румынии, тогда как ни одна книга о Павлике Морозове не попала в эти политически важные «советские колонии»{277}. Распространение письменных текстов не было единственным способом пропаганды Тимура среди юношества. В 1940 году режиссер Александр Разумный снял по повести детский блокбастер; фильм имел такой успех, что Гайдар немедленно приступил к работе над его продолжением. «Клятва Тимура» вышла в свет в 1942-м, через год после гибели писателя на фронте. Кино оставалось чрезвычайно популярным среди советских детей, у которых была практически неограниченная возможность ходить в кинотеатры — советские педагоги из поколения в поколение высказывали свои опасения относительно пагубного влияния кинематографа. С середины 1930-х годов решением этой проблемы стало продвижение детских семейных фильмов. Ясно, что фильм о Павлике Морозове не мог попасть в эту категорию, и наоборот, фильм о социально активном, но послушном и обаятельном мальчике имел все шансы на успех. В то же время интересно отметить такой факт: когда повесть Гайдара вышла впервые, ее оценка не всегда была комплиментарной. В 1941 году, например, журнал «Пионер» опубликовал несколько писем детей с жалобами на то, что Тимур, по их мнению, «неуверен в себе» и слабо выражает свое несогласие{278}. Подобная терпимость в отношении пусть даже доброжелательной критики официально одобренной повести — явление исключительное; оно указывает на высокую степень уверенности властей во всеобщей популярности книги среди детей. Устная история полностью подтверждает это впечатление: даже те взрослые, которые критиковали другие аспекты советской жизни, сохранили теплое чувство к этому герою. Например, мужчина, родившийся в 1935 году и бывший активным диссидентом в 1970-х — начале 1980-х, вспоминает, что ему нравился фильм, и сравнивает Павлика Морозова и Тимура в пользу последнего: «Он, по крайней мере, хотел помогать людям»{279}. Женщины того же поколения, которых я интервьюировала, при упоминании Тимура просто млели. «Мы в это время (т.е. когда вышел фильм. — К.К.) были уже подростки… И мы были в него просто влюблены…» — вспоминает одна из них (1931 г.р.). «Он был светоч для нас», — добавляет другая{280}. Еще одним доказательством необыкновенной популярности этого героя служат регулярно появлявшиеся в детской прессе уважительные ссылки на него: «Тимур бы так никогда не поступил» (или «сделал бы по-другому»). В 1944 году в «Пионерской правде» появилась статья «Обходился же Тимур без няньки». В ней подвергались критике дети-лентяи, прибегавшие к лживым уловкам, чтобы увильнуть от работы: например, маме они говорили, что не могут помочь ей в домашней работе, так как должны делать уроки, а учительнице в школе — что не сделали домашнего задания, так как были заняты работой по дому{281}. Наиболее действенным методом поощрения детей в их желании быть похожими на кумира была организация команд «тимуровцев»: они собирали металлолом и другое вторсырье, разносили почту, собирали деньги на боевые самолеты, помогали нянчить детей, участвовали в проверке затемнений и других мер противовоздушной обороны{282}.[205] Создание самоуправляемых детских тайных обществ наподобие команды Тимура в 1930-х годах вызвало бы недовольство у любого советского официального лица, в чье поле зрения попала бы такая организация — тогда такие инициативы строго преследовались{283}. В 1940-х годах отношение к ним стало немного менее жестким, но они по-прежнему находились на грани допустимого. В 1944-м Лев Кассиль опубликовал приключенческую повесть «Дорогие мои мальчишки», в центре которой находилась группа мальчиков из волжского городка, по секрету от взрослых игравших в романтическую игру и называвших себя «синегорцами». Позже они активно участвовали в антифашистском сопротивлении. Центральный конфликт книги заключается в конфронтации между «синегорцами» и руководительницей местного Дома пионеров, считавшей их деятельность незаконной. Так же как и в «Тимуре», эту придирчивую воспитательницу поправил старший товарищ — секретарь городского комитета коммунистической партии. Он сначала пожурил мальчишек за скрытность, но потом решил, что их деятельность безвредна, и дал свое отеческое одобрение{284}. Детям не разрешалось самостоятельно организовывать свои общества — нужно было обязательно получить согласие взрослых, а еще лучше (в жизни, а не в литературе) действовать под непосредственным руководством старших. Однако детская социальная активность внутри пионерского движения, выражавшаяся, в частности, в игре в «тайные общества» под строгим контролем взрослых, допускалась. Соответственно, тимуровское движение не приостановило своего развития после 1945 года, в отличие от других детских движений того времени, а продолжало пропагандироваться до конца сталинской эпохи и после нее в течение еще четырех с половиной десятилетий{285}.Закон молчания
Популярность тимуровского движения между 1941 и 1945 годами проливает дополнительный свет на ту роль, которую советское руководство отводило детям в войне. В 1941 году, вскоре после нападения Германии на Советский Союз, Аркадий Гайдар написал пламенную статью, в которой призывал детей и молодежь учиться стрелять, чтобы принять непосредственное участие в защите родины. В егосочинениях «Берись за оружие, комсомольское племя!» и «Дети и война», напечатанных в том же 1941-м, подчеркивалось, что усилия молодых людей могут сыграть жизненно важную роль в ходе войны: «Комсомолец, школьник, пионер, юный патриот, война еще только начинается, и знай, что ты еще нужен будешь в бою»{286}. Многие подростки действительно оказались в партизанских отрядах и подпольных организациях. Самые известные примеры юных партизан — Зоя Космодемьянская, повешенная фашистами в 1941 году, и группа подростков с Украины, прославленная Александром Фадеевым в романе «Молодая гвардия» (1945), который положил начало новому мифу[206]. Однако пропаганда военных лет, рассчитанная на детей пионерского возраста, сосредоточивалась не столько на случаях беспредельного героизма, сколько на более скромном вкладе в победу и особенно на роли детей в поддержании бдительного надзора за шпионской деятельностью вражеских диверсантов и за перемещениями войск противника по окружающей местности. Дети должны были сообщать об этом патриотически настроенным взрослым, ответственным работникам. Клишированные истории, печатавшиеся в таких газетах и журналах, как «Пионерская правда» и «Пионер», рассказывали о детях, которые сообщали важную военную информацию партизанским отрядам и раскрывали в подозрительных незнакомцах шпионов (впрочем, иногда они оказывались переодетыми советскими разведчиками). В ответ сознательные дети получали сердечную признательность взрослых. Например, в «Ночной грозе» Александра Кременского («Пионер», 1942) партизан дает мальчикам в благодарность за сообщение сведений о расположении немецких войск неподалеку от их деревни кусочки сахара и делится с ними хитростями рыболовного мастерства. В «Корреспонденции бойца Синюкова» Вадима Кожевникова подросток успешно проводит партизан по окраине местности, патрулируемой фашистами{287}. В центре внимания документальных репортажей — дети, выступающие перед солдатами в госпиталях или собирающие металлолом, лечебные травы и другие полезные вещи{288}. Те же каноны продолжали действовать в первые послевоенные годы. В классе детям рассказывали прежде всего о подвигах доблестных взрослых, например о замечательном летчике из романа Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1947), который вновь научился водить самолет после того, как потерял обе ноги, или о мужественном детдомовском пареньке Александре Матросове, который заслонил своим телом амбразуру дзота, прикрывая товарищей от пулеметного огня. Но детям также рассказывали о подвигах тех, кто был им ближе по возрасту, прежде всего о Зое Космодемьянской и Володе Дубинине. Официальные биографии (существуют сомнения в том, насколько они соответствуют реальным фактам)[207], по-разному — в зависимости от возраста героев — описывают их пути к мученичеству. Юный пионер Володя Дубинин не был на фронте и не брал в руки оружия, хотя и ходил в разведку вместе с партизанским отрядом, действовавшим в окрестностях его родного города Керчь на побережье Азовского моря. Он погиб от разрыва мины, помогая саперам расчистить вход в местную каменоломню. Зоя, называвшая себя «партизанкой Таней», участвовала в боевых действиях и была подвергнута схватившими ее врагами страшным пыткам. Зою избивали и наносили раны ножом, ей отрезали грудь, а потом проволокли по снегу и повесили на глазах у насильно согнанных жителей деревни. Эти истории связывал один общий акцент на непоколебимой стойкости юных героев и их подчинении старшим товарищам. В рассказах о юных героях все сильнее подчеркивалась роль идейных родителей, которые многолетними усилиями прививали детям правила достойного общественного поведения. Такие книги превращались в особый подвид рекомендательной семейной литературы, подчеркивающей преимущества всестороннего советского воспитания. Официальная биография Володи Дубинина «Улица младшего сына», написанная Львом Кассилем и Максом Поляновским, сопровождалась фотографиями, изображавшими нормальное детство героя — не в смысле «типичное», а в смысле «воспитывающее пример для подражания, достойный восхищения». Володя Дубинин у Кассиля и Поляновского предстает веселым, живым мальчиком; он попадает в разного рода переделки, но растет в «хорошем доме», у любящей мамы и папы-моряка, которым искренне гордится. И с раннего детства, с того самого случая, когда Володя защитил во дворе малыша от хулиганов, было ясно, что он станет героем{289}. Такое же «образцовое детство», только с еще большим нравоучительным пафосом, изображено в официальной биографии Зои Космодемьянской и ее брата Шуры, написанной их матерью{290}. Литературная обработка книги, а возможно, и реальное авторство принадлежат педагогу Фриде Вигдоровой — ее имя также значится на титульном листе. Прославившаяся в 1960-х годах благодаря поддержке, оказанной ею осужденному за «тунеядство» Иосифу Бродскому, Вигдорова на излете сталинской эпохи была известна как автор дневника, в котором она рассказывала о своей работе учительницей в советской школе. «Житие» Зои Космодемьянской предлагало идеальную модель счастливой советской семьи сталинской эпохи. Младшие Космодемьянские имели образцовое социальное происхождение: отрыв от крестьянской «отсталости» произошел в семье в предыдущем поколении — их родители были сельскими жителями, неустанно занимавшимися самообразованием, выучившимися на учителей и перебравшимися в город еще до рождения детей. Зоя и Шура получили образцовое воспитание, восприняв ценности трудовой жизни и политической сознательности от обоих родителей. При этом главным их наставником и руководителем всегда оставался отец. Космодемьянская, вещавшая устами Вигдоровой, утверждала: «Анатолий Петрович научил меня понимать: воспитание в каждой мелочи, в каждом твоем поступке, взгляде, слове»{291}. Каждый день в семье был расписан по установленному распорядку; в нем гармонично сочетались труд и досуг: после ужина дети читали и выполняли домашние задания, а родители готовились к урокам или занимались по программе курсов «повышения квалификации», где они «без отрыва от производства» изучали методику преподавания. Справившись с этими сложными, но вдохновляющими обязанностями, они садились играть в какую-нибудь спокойную, но требующую интеллектуальных усилий игру, вроде домино или «Вверх и вниз», где продвижение осуществлялось на самолетах, летящих к расположенным в верхних слоях атмосферы футуристическим дворцам, символизирующим светлое будущее. Конечно, у детей были свои интересы и за пределами семьи, но они неизменно свидетельствовали об их политической сознательности. Главные события их жизни связаны с пионерским движением: прием в пионеры, поездки в пионерские лагеря, игры, которым они научились из «Пионерской правды». Им, как образцовым пионерам, присущ куда более изощренный набор достоинств, нежели тот, которым даже в позднейших версиях легенды отличался Павлик Морозов. Они не только преданы делу коммунизма, но и глубоко впитали в себя героическое прошлое пионерской организации и тот стиль поведения, которого она требовала от своих членов. Зоя и Шура усердно читали книги о знаменитых пионерах, включая «Тимура и его команду», а среди их кумиров были героиня Гражданской Таня Соломаха, чьим именем Зоя назвалась во время войны, и Павел Корчагин из романа Н. Островского «Как закалялась сталь» (1933). Шура и Зоя участвовали в кампании против жестокого обращения с животными, проводившейся пионерским движением в 1930-е годы, и сохраняли целомудрие в отношениях с противоположным полом. Брат и сестра вели себя так, как подобало достойным членам общества в позднесталинскую эпоху. «И Зоя, и Шура очень сдержанно, даже осторожно проявляли свои чувства. По мере того, как они подрастали, эта черта в характере обоих становилась все определеннее. Они, как огня, боялись всяких высших слов. Оба были скупы на выражение любви, нежности и восторга, гнева, неприязни. О таких чувствах, о том, что переживают ребята, я узнавала скорее по их глазам, по молчанию, по тому, как Зоя ходит из угла в угол, когда она огорчена или взволнована»{292}. Основное достоинство юных Космодемьянских состояло не столько в пылкой отваге, сколько в стремлении «ничего не выдать» — оно и определило способность «партизанки Тани» оказать сопротивление нацистским палачам. Отвечая на настойчивые расспросы о местонахождении Сталина, Зоя твердо повторяла одно: «Товарищ Сталин на своем посту». Зоя и Шура Космодемьянские были интегрированы в патриархальную систему отношений еще глубже, чем Тимур. К этому времени родители (разумеется, только политически грамотные) стали основными проводниками социальных норм. В биографиях образцовых молодых людей подчеркивалась их приверженность «коммунистической морали», готовность подчиняться отдельным взрослым наставникам и социалистическому обществу в целом. В 1943 году были введены школьные правила, требующие от школьников почтительности по отношению к учителям и другим взрослым, а также послушания. Все это приобрело особое значение в военное время, когда миллионы детей осиротели и миллионы семей распались, когда подростки оказались предоставленными самим себе, пока их отцы воевали на фронте, а матери трудились на оборонных заводах. В последние годы войны и сразу после нее вопрос о том, как обеспечить контроль над советской молодежью, вышел на первый план. В любой подробности биографии Космодемьянских можно увидеть отличие от легенды о Павлике. Оно состоит не только в очевидном контрасте между послушанием Зои и Шуры и бунтарством Павлика. Высшей добродетелью теперь считалось не доносительство, а умение молчать, даже под угрозой смерти. И герой, чья главная заслуга состояла в том, что он не молчал, оказался в тени.Уходя в историю
В годы войны Павлик лишился только что обретенного им статуса главного пионера-героя страны. Упоминания о нем в прессе практически исчезли, а если и появлялись, то почти всегда имели к нему лишь косвенное отношение. Так, в 1945 году «Пионерская правда» напечатала статью о школьном друге Павлика, однако на сей раз дело было не в былой дружбе, а в том, что этот друг заслужил славу героя войны{293}. Война задержала строительство мемориала Морозову в Свердловске, а памятник и музей в Герасимовке пришли в плачевное состояние. «Домик, где родился и рос П. Морозов, виду (так! — К.К.) бесконтрольности Верхне-Тавдинского РК ВЛКСМ, растаскивается на дрова, памятники на могиле и на месте гибели П. Морозова нуждаются в немедленном ремонте», — сообщалось в документах Свердловского обкома комсомола в сентябре 1945 года{294}. Однако вскоре после окончания войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов, культ Павлика начинает возрождаться, хотя и не достигает звездных высот предвоенного времени. В 1948-м, к тридцатилетию Павлика и одновременно к тридцатилетию Комсомола, в Москве устанавливают наконец памятник пионеру-герою. Тем не менее, это мероприятие не принимает намеченных в 1935—1936 годах масштабов. Статуя, изготовленная по выполненному десятью годами ранее и уже устаревшему проекту Рабиновича, не попала ни на Красную площадь, ни в какое-либо другое символически значимое место в центре Москвы. Ее установили в Парке культуры и отдыха имени Павлика Морозова на Пресне, в заводском районе столицы, где, в частности, находилась огромная текстильная фабрика «Трехгорка». Правда, такое расположение памятника не свидетельствует о полном пренебрежении к памяти героя. Пресня играла немаловажную роль в советской мифологии как место революционных сражений 1905 года и октября-ноября 1917-го[208]. После революции в память о тех событиях ей присвоили почетное название «Красная Пресня». Считалось, что именно здесь в мае 1922 года был создан первый пионерский отряд{295}. В 1930-х годах Краснопресненский райком был «самым престижным в Москве»{296}. Сама «Трехгорка», темно-красный кирпичный монстр, растянувшийся вдоль Москвы-реки, являлась одним из передовых предприятий советской столицы наряду с Московским автосборочным заводом и металлургическим заводом «Серп и молот». При фабрике работали якобы образцовые ясли[209], прославлявшиеся в брошюрах с изображениями малышей, которые радостно улыбались под транспарантами со словами благодарности за счастливое детство, обращенными к Сталину. В 1930-м вышла книга интервью с работницами «Трехгорки», где фабрика названа ключевым фактором их возрождения к новой жизни, провозглашенной в легенде о Павлике Морозове{297}. «Трехгорка», кроме того, имела прямое отношение к культу Павлика, поскольку именно здесь принимали Татьяну Морозову и герасимовских пионеров во время их поездки в Москву 1937 года{298}. В то же время несомненно, что по сравнению с Красной площадью местонахождение памятника свидетельствовало о понижении статуса Павлика. Оно переводило его в категорию мучеников революции второго или третьего ряда и — поскольку памятник находился в детском парке — подчеркивало ограничение целевой аудитории мифа младшим возрастом. С точки зрения перехода Павлика в исключительно пионерские герои показателен список официальных лиц, участвующих в открытии мемориала 19 декабря 1948 года. Из важных взрослых в делегацию вошел только секретарь МК и МГК ВЛКСМ Н.П. Красавченко, в основном же она состояла из «сводного отряда председателей советов пионерских дружин, отличников учебы Москвы». Никто из высших партийных работников даже городского уровня на церемонии не присутствовал{299}. Тем не менее, и «свергнутый» с общенационального уровня, Морозов все же оставался значимой фигурой в отведенной ему нише пионера-героя. В 1947 году «Пионерская правда» широко освещает пятнадцатую годовщину смерти Павлика, совпавшую с двадцатипятилетием пионерской организации. Под мемориальные материалы была отведена целая полоса; в них о доносе упоминается довольно скупо: «…на суде он, подавляя в себе родственные чувства, бесстрашно рассказал, как его отец продавал врагам подложные документы, помогал им скрываться и незаметно вредить нашей Родине». Возвращение к первоначальной версии преступления Трофима, несомненно, связано с тем, что изготовление подложных документов выглядело в глазах поколения, не испытавшего коллективизации, более серьезным, чем «укрывательство зерна»: «поддельные документы» ассоциировались со шпионажем и изменой. Детям внушалась мысль о безграничных достоинствах Павлика и особенно о его доброте: он, например, помогал товарищам делать домашние задания — этот мотив возник в связи с начатой в 1947 году кампанией против «выручательства» в классе с помощью подсказки{300}. Также говорилось о том, как много знаменитых людей восхищалось этим мальчиком{301}. В том же году появилась новая биография Павлика, написанная Виталием Губаревым. Ее первоначальный вариант, напечатанный в 1940-м под названием «Сын», не вызвал большого резонанса[210]. Послевоенная версия книги Губарева, в которую были вставлены две главы о стычках Павлика и его друзей с неким Петей Саковым, двойником гайдаровского Мишки Квакина[211], больше походила на приключенческий роман, чем на житие советского святого. Самая короткая и незатейливая из всех, она, однако, оказалась с точки зрения соответствия официальной линии и самой долговечной[212]. В ней смягчались два центральных мотива — донос и убийство. В сцене убийства Павлик и Федя, два невинных ребенка, искренне пытаются преодолеть чувство тревоги, возникшее у них при появлении деда и Данилы, но становятся жертвами ненависти кровных родственников (само убийство происходило «за сценой»):«— Набрали ягод, внучек? — Голос у деда сиплый, ласковый. — Ага. — Ну-ка, покажь… Хватит на деда дуться-то… Павел обрадованно улыбнулся, снял с плеча мешок. — Да не дуюсь я, дедуня… Смотри, какая клюква. Крупная! Он открыл мешок, поднял на деда глаза и отшатнулся: серое лицо старика было искажено ненавистью. — Дедуня, пусти руку… Больно! Тут мальчик увидел в другой руке деда нож, рванулся, закричал: — Федя, братко, беги!… Беги, братко!… Данила тремя прыжками догнал Федю…»{302}Тема превращения мальчика исключительно в жертву звучит и в сцене доноса, где Павлик напоминает трепещущую Наташу из «Страха» Афиногенова. Нет даже сцены выступления в суде: вместо этого пионер раскрывает тайну преступления отца в беседе один на один с сотрудником ОГПУ, которому приписывается «отцовская» роль:
«И Павел припадает к большой груди этого человека, совсем мало знакомого, но такого родного и близкого, и вздрагивает от прорвавшихся наконец рыданий. — Дяденька Дымов… дяденька Дымов… — шепчет он, задыхаясь. — Предатель отец. Дымов торопливо гладит его по голове, по мокрой спине и говорит глухо: — Не надо, Паша… ну, не надо, мальчик… — и чувствует, как у самого теплая слеза сползает на щеку. — Ну, не надо, Паша! Ты… ты настоящий пионер!»{303}Губарев не только представляет героизм мальчика в «разбавленном виде». Он вводит еще ряд изменений, в частности включает в повествование новых персонажей, прежде всего двоюродную сестру Павлика Мотю — это дань теме настоящей дружбы, которую в конце 1930-х и в послевоенные годы усердно пропагандировала пионерская пресса[213]. Мотя Потупчик — реальное лицо, упоминавшееся в качестве подруги Павлика в местных рассказах о Герасимовке, которые печатались в середине 1930-х. Однако ее стереотипный образ всецело принадлежит Губареву. Пылко преданная Павлику, она в то же время уступает ему в политической сознательности и силе духа. В сцене, вписанной в версию 1947 года, Мотя в ответственный момент засыпает на полянке. Павлик и его «команда» упрекают ее: «Девочки, это самое, всегда подводят»{304}. Однако главный герой все же относится к Моте снисходительнее, чем его товарищи, и утешает чувствительную девочку, когда та переживает из-за насмешек ребят над их дружбой («жених и невеста!»). Книга Губарева появилась как раз вовремя, чтобы стать канонической биографией Павлика Морозова (в 1952 году автор также создал ее сценическую версию){305}. Однако она не стала последним словом, сказанным о Павлике в сталинскую эпоху. В 1950-м вышла целая эпическая поэма, написанная Степаном Щипачевым (1898—1980). Этот плодовитый, хотя и не слишком одаренный поэт присоединился к рядам мифографов Павлика, которые и сами пережили трудное детство. В автобиографической поэме «Путь» он изображает себя мальчишкой, бегающим босым даже в зимнюю пору и с ранних лет работающим пастухом{306}. Степан Щипачев родился в Пермской области, на западном склоне Уральских гор, и, можно сказать, был отчасти земляком Павлика; но эта параллель не выражена в его произведении. В поэме «Павлик Морозов», удостоенной в 1951 году Сталинской премии второй степени, нет подробного описания событий, случившихся в Герасимовке, в ней переданы размышления об историческом значении сталинизма в целом:
Глава 7. ПАВЛИК ПОСЛЕ СТАЛИНА
5 марта 1953 года с «гением всех времен и народов», «генералиссимусом» и «корифеем всех наук» Иосифом Сталиным случилось наконец то, что не предусматривалось ни в одном культовом документе: он умер. Кончина вождя вызвала у некоторых скрытое ликование, но большинство ощутили ее как глубокую утрату. Однако уже к 1954 году в воздухе, по крайней мере в среде партийной верхушки, появились признаки того, что у психоаналитиков называется «обратным переносом». После разоблачения Н.С. Хрущевым так называемого «культа личности» на закрытой сессии XX съезда КПСС в 1956-м начался болезненный процесс пересмотра роли Сталина в истории и изменения отношения к его памяти. Со времени XXII съезда 1961 года обсуждать прошлое стали открыто, начали снимать памятники и переименовывать города, учреждения и улицы, носящие имя Вождя. Особым потрясением для некоторых стало опубликование в 1962 году «Нового курса истории КПСС». Например, служащий Кировского завода Андрей Голиков так отреагировал на замену сталинского «Краткого курса»: «Тут уж полный и беспощадный “разгром” Сталина. Волосы встают дыбом, когда читаешь “обвинения”, приписываемые Сталину “Новым Курсом” /!!/ (восклицательные знаки поставлены автором письма. — К.К.), но ничего, “Сталин” выдержит, а история нашей партии будет писаться значительно позднее, спустя десятилетия, тогда будет видно»[216]. На самом деле сдвиг в отношении к Сталину на высшем уровне произошел раньше, чем мог предположить Голиков. После смещения Хрущева с поста генерального секретаря в 1964-м переоценку личности Сталина приостановили. Тем не менее, возврат этой исторической фигуры к прежнему статусу был уже невозможен, а упоминание ее имени стало вызывать у многих скорее замешательство, нежели преклонение. Дети представляли собой основную целевую аудиторию сталинского культа, так что приоритетной задачей нового времени неминуемо стало вычеркивание из учебников и других школьных пособий цитат и ссылок на Сталина и устранение «искажений истории», произошедших под влиянием личных пристрастий вождя{317}. В учебниках и на уроках подробности «ошибок прошлого» не обсуждались, но какая-то информация о докладе Хрущева по крайней мере до старшеклассников доходила. Так, Андрей Голиков узнал о том, что случилось на XX съезде, от своей 18-летней дочери: «“Папа, это верно, что Сталин враг народа, что он расстреливал безвинных людей?” Эти слова как гром прозвучали в моей голове. Я с тревогой поинтересовался откуда они это взяли. Анна заявила, что об этом им сегодня рассказывали в школе на уроке»{318}. Из школ и других общественных мест, посещаемых детьми, убирались портреты «отца народов». В начале 1963-го в финансовом отчете Дома детской книги в Ленинграде значится сумма в 300 рублей (примерно 500% месячной зарплаты низкооплачиваемого рабочего того времени), потраченная в течение 1962 года на «ликвидацию изображений Сталина»{319}. Дети, конечно же, ощущали на себе непосредственные результаты новой политики, несмотря на то, что были предприняты все меры, чтобы смягчить для них процесс грандиозной смены символов. Так, историческое значение сталинского руководства вообще не дискутировалось, а имя Сталина на страницах детских журналов критике не подвергалось. После 1956 года некоторые учителя обсуждали сталинский режим со своими учениками, но не по программе, а исключительно по собственной инициативе, как говорится, на свой страх и риск{320}. Свержение и разоблачение одного героя не должны были подрывать в глазах детской и юношеской аудитории саму идею героизма или культа как таковую. Политработники, учителя и воспитатели стремились, насколько возможно, сохранить преемственность репрезентативных традиций прошлого и заменяли культовые изображения Сталина, которые раньше украшали детские сады, школы и пионерские лагеря, на портреты Ленина. И все же, хотя основополагающие принципы картины мира в значительной степени сохранились, представление о том, какими должны быть сами дети, претерпело существенные изменения. В сталинской иконографии рядом с вождем чаще всего изображалась послушная девочка, кротко взирающая на объект своего обожания. А в постсталинскую эру восстанавливается преобладавший в 1920-х годах образ решительного и деятельного ребенка, как правило, мальчика. В послевоенное время, с начала 1960-х, начинается прославление юных героев-партизан, часто изображавшихся более ловкими, чем вражеские лазутчики: таким, например, представляли тринадцатилетнего партизана Леню Голикова, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза{321}. Самым популярным жанром детской литературы в это время становится приключенческий роман с мальчиком в качестве центральной фигуры. В популярном фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» (1964) сатирически изображен пионерский лагерь, жизнь в котором строго регламентирована и полна нелепых запретов. Герой фильма, маленький озорник, сразу нарушил установленные законы, за что был изгнан из лагеря, но продолжал жить в нем нелегально, в укрытии, организованном для него другими детьми. Антигероем фильма оказалась дочка большого партийного руководителя, доносчица, которая постоянно шпионила за детьми и докладывала об их провинностях лагерному начальству. Кульминацией фильма стал парад в честь «царицы полей», в разгар которого дочка-наушница должна была появиться из сделанного из папье-маше огромного кукурузного початка — любимой сельскохозяйственной культуры Хрущева. Однако на глазах у маленьких и взрослых зрителей из кукурузы вылез взъерошенный белобрысый мальчишка, своевольно перебравшийся туда из своего убежища и превративший таким образом фальшивое действо в настоящий карнавал. Как и в случае с Тимуром, мелкого нарушителя порядка тут же взял под покровительство большой партийный руководитель. Оказывается, он, как и все, терпеть не может наушничества и считает, что «мальчишки всегда останутся мальчишками». Вполне вероятно, что возвращение моды 1920-х на решительный стиль поведения детей отчасти произошло из-за личных вкусов партийной элиты. Уже в 1936 году Хрущев публично одобрительно высказался в адрес маленьких сорванцов{322}. Он, как и многие партийные активисты того времени, начал заниматься политикой в годы, когда отважные дети ставились всем в пример. Однако было бы ошибочным объяснять перемены в линии партии исключительно особенностями личных биографий ее руководителей, без учета политической целесообразности новых тенденций. В конце 1950-х — начале 1960-х годов для советского визуального искусства, литературы и политической пропаганды обычным делом становится обращение к образам 1920-х. Это был возврат к подлинным основам советской культуры, берущей начало в революционную эпоху, еще не испорченную сталинскими извращениями. Необходимость заполнить идеологический вакуум, возникший после развенчания мифа о Сталине как идеальном отце детей всех народов, привела к созданию нового образа — доброго и простого «дедушки Ленина», часто изображавшегося приветливо склонившимся над своими юными собеседниками{323}. В 1970 году журнал «Огонек» опубликовал подборку фотографий, на одной из которых Ленин прогуливается по парку в Горках, держа за руку своего маленького племянника Виктора[217]. Новые тенденции, однако, не были однонаправленными. Дисциплина в постсталинскую эпоху по-прежнему считалась основополагающей ценностью советской идеологии. В руководстве для родителей (1967) говорилось: «Жизнь очень строго требует от каждого поступать не по капризу, а сообразуясь с условиями, интересами коллектива, общества. Часто приходится делать не то, что хотелось бы в данный момент, а то, что нужно… Весь строй жизни семьи должен приучать ребенка к порядку, к выполнению определенных обязанностей, к соблюдению правильного режима, вырабатывать умение подчинять свои желания нуждам и интересам других»{324}. Центральной ролевой моделью оставался, как и раньше, Павлик Морозов, для которого подчинение интересам коллектива, долг и преданность идее стояли превыше всего.Подросток-бунтарь
Таким образом, память о Морозове пережила не только смерть Сталина, но и хрущевское разоблачение сталинских преступлений, в число которых входили Большой террор и насильственная коллективизация. В первый же год так называемой «оттепели» (1954) появились признаки возвращения культа Павлика. Памятник братьям Морозовым в Герасимовке — не осуществленный в довоенные годы — наконец поставили{325}. Останки мальчиков перенесли с герасимовского кладбища на новое место — в центр села, к зданиям сельсовета и школы, и замуровали в пьедестал памятника. Это перемещение Юрий Дружников интерпретирует как попытку властей снять с ОГПУ ответственность за смерть Павлика{326}. Но подобного рода перезахоронения, напоминающие обычные в практике православной церкви переносы останков святых, были в советском обществе вполне распространенным способом увековечения памяти чтимых усопших. Достаточно вспомнить перезахоронение останков поэта Александра Блока и его жены Любови Дмитриевны, урожденной Менделеевой, из семейной могилы на Смоленском кладбище в ленинградский писательский пантеон на Волковом кладбище, называемый «Литературными мостками». К тому же официальная пресса не обратила никакого внимания на перенос останков Павлика. Зато она восторженно писала об установке самого монумента и подчеркивала его центральную роль при проведении пионерских церемоний{327}. Открытие памятника стало событием местного значения, на нем присутствовали комсомольские и партийные представители не выше областного уровня. Значительно больший резонанс имело появление симфонической поэмы Юрия Балашкина «Павлик Морозов»{328}. Кроме того, в следующем, 1955 году Павлику присвоили звание «Героя-пионера Советского Союза» и занесли его имя в Книгу Почета, учрежденную по решению XII съезда ВЛКСМ, состоявшегося в марте 1954-го{329}. Этот высокий статус был закреплен статьей о детях-героях, опубликованной в журнале «Вожатый» в 1956 году. Он свидетельствовал о возрождении образа Павлика 1930-х, который «не дрогнув» предал своего отца{330}. К сорокалетнему юбилею Пионерской организации, отмечавшемуся в мае 1962-го, появились еще несколько важных публикаций, среди них «Песня о Павлике Морозове» Петра Градова и Леонида Бакалова{331}, а также антология «Павлик Морозов», опубликованная свердловским издательством, на родине героя[218]. С небольшой задержкой отметило юбилей и новое издание книги Губарева, вышедшее в 1963 году дважды, тиражами по 150 000 экземпляров. На год раньше издательство «Советский композитор» выпустило трехактную оперу Михаила Красева «Павлик Морозов», впервые поставленную Ансамблем советской оперы в 1953-м[219]. В это же время Степан Щипачев переписал свою поэму «Павлик Морозов», чтобы удалить из нее все упоминания Сталина и сделать из Павлика менее монументальную фигуру. Для осуществления двух этих задач автор вырезал сцену, в которой Павлик на суде разоблачает отца, и придал конфликту более личное, общечеловеческое звучание. Пассаж о межпоколенческих отношениях, изначально присутствовавший в сцене суда, также был вырезан и вставлен во вторую часть поэмы «Мать и Отец»:Застывший в бронзе
Прославление Морозова ширилось и после падения Хрущева. Книга Соломеина была переиздана в слегка переработанном варианте в 1966 году, через несколько лет после смерти автора, и перепечатывалась еще несколько раз в конце 1960-х — 1970-е годы (самый большой тираж — 200 000 экземпляров в 1979). Переиздавалась и губаревская книга (до 200 000 экземпляров) на протяжении всех 1960-х и 1970-х годов, а также — по забавному совпадению с Оруэллом — в 1984-м (это издание оказалось последним){334}. В 1973 году, через сорок лет после первой публикации, была переиздана отдельной книжкой поэма о Павлике Морозове Михаила Дорошина (тиражом 100 000 экземпляров). Как и поэма Щипачева, опубликованная на десятилетие раньше, этот текст претерпел довольно существенные изменения. Дорошин не только «пригладил» метрику и лексику, но и снял описания того, как пионеры высмеивают Кулуканова, а также переделал сцену разоблачения отца, которая приобрела оттенок самооправдания: «Сами посудите, / Мог ли я молчать!» Концовка поэмы изображала не вездесущесть самого Павлика («Пашка! Пашка! Пашка! / Здесь! Там! Тут!»), а общие традиции пионерского движения в целом:Закатившаяся звезда
В этот период все большую популярность приобретают герои войны. К уже знаменитым Володе Дубинину и Зое Космодемьянской присоединяется ряд новых имен, в том числе Вали Котика, Лени Голикова, а также Алика Неверко (воевал вместе с партизанами в Минской области и был награжден медалью «За отвагу»), Трофима Прушинского (фашисты закололи его штыком за то, что он увел их от расположения советских войск), Лиды Матвеевой (просигналила советским танкам в Ростове, чтобы предупредить о немецкой засаде, за что была повешена фашистами) и многих других{343}. В 1961 году «Спутник», приложение к журналу «Вожатый», опубликовал серию биографий достойных подражания юных героев. Эти биографии аккуратно собирались для воспитательной работы и хранились в школьных Пионерских комнатах. Для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны им ставили статуи, в частности 1 июня 1960 года состоялось открытие памятников Лене Голикову и Вале Котику на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в Москве{344}. Не забывали и о героях времен революции и Гражданской войны: так, в 1957 году к сорокалетию большевистской революции журнал «Пионер» посвятил им целую статью в ноябрьском номере{345}. В школах наряду с уголками Павлика Морозова организовывались уголки Лени Голикова, Володи Дубинина, Зои Космодемьянской или кого-нибудь из взрослых героев войны[228]. В хрестоматиях и мемориальных списках, опубликованных к юбилеям 1962 и 1972 годов, Павлик представлен как один из многих пионеров-героев и часть славной традиции, берущей свое начало с революционной поры{346}. Теперь он даже не всегда числился самым первым. В номере «Советской педагогики», выпущенном к пятидесятилетнему юбилею Пионерской организации, Павлик, правда, стоял на первом месте среди героев коллективизации (рядом с Колей Мяготиным, Гришей Акопяном (Акоповым) и Кычаном Джакыповым), но без какой-либо дополнительной о нем информации, в то время как гайдаровскому Тимуру был посвящен целый абзац{347}. А юбилейный «Вожатый» напечатал историю даже не самого Павлика, а его двойника: мальчика, который раскрыл в своей деревне коварный план кулаков утаить зерно{348}. На всесоюзном пионерском слете 1962 года в Артеке также чествовался не один только «Павка-коммунист» (как он назывался во втором издании книги Соломеина) — «День памяти» посвятили целой плеяде павших героев, от Павлика Морозова до менее известных. Такие мероприятия в основном были направлены на укрепление «дружбы народов»: многие из возносимых героев представляли национальные меньшинства Советского Союза, среди них Кычан Джакыпов, герой коллективизации в Кыргызстане, и Гриша Акопян. Примечательно, что Грише вернули армянский вариант его фамилии — это свидетельствовало об изменении официального отношения к нерусской части населения. Русский Павлик больше не принадлежал к привилегированной национальности, а всего лишь представлял «один из многочисленных народов СССР». Торжественная ода восхваляла всех героев в равной степени: Распространение других ролевых моделей ослабляло влияние Павлика на детскую читательскую аудиторию, особенно теперь, когда коллективизация ушла далеко в историю. Даже в документах о внесении имени Павлика в Книгу Почета о его подвиге сказано с подозрительной неопределенностью: «Пионер был убит кулаками за то, что бесстрашно разоблачал их попытки сорвать организацию колхоза. Когда Павлик узнал, что его отец заодно с кулаками, честный мальчик, не колеблясь, смело выступал и против родного отца, — общественные интересы для Павлика были выше личных»[230]. Для имевших смутное представление о том, кто такие кулаки, мотивация и сама природа вызова, брошенного Павликом своему отцу, оставались в тумане. Павлик воспринимался теперь как некий мальчик, который в начале 1930-х годов, когда в деревне что-то такое происходило, совершил какой-то геройский поступок. Герои революции, а тем более Великой Отечественной войны, были куда доступнее для понимания. Стремительная модернизация общества и характерные для эпохи 1960-х антиисторические настроения отодвигали Павлика на второй план. Это порождало разнообразные, иногда комичные попытки «осовременить» его образ, чтобы вернуть ему былое значение. Например, в конце августа 1962 года (к тридцатилетнему юбилею Павлика) «Пионерская правда» напечатала рассказ об одном пионере из Белоруссии — Павлике Морозове образца 1960-х, которого якобы убили за попытку разоблачить деятельность баптистской секты[231]. Эта история служит еще одной иллюстрацией того, как при появлении в обществе подозрительной социальной группы пропаганда запускает в ход легенду об убийстве ребенка. Образ «нового» Павлика в качестве борца с «религиозными предрассудками» не противоречил исходному. Даже удивительно, что иконоборчество и отрицание Библии не фигурировали в ранних версиях легенды, настолько типичными были антирелигиозные убеждения для стереотипа юного активиста тех лет. Эти мотивы отразились только в одной интерпретации истории Павлика — в «Бежином луге» Эйзенштейна. Как бы то ни было, если в рассказе о белорусском «потомке» еще сохранялись основы архетипа, то появившаяся через несколько дней, непосредственно в годовщину смерти Павлика еще одна публикация осовременивала миф настолько, что практически полностью подрывала его основы. Кем бы стал Павлик, — задавался вопросом автор статьи, — если бы он дожил до наших дней? Металлургом-ударником, колхозником или, может быть, учителем?[232] Такие произвольные спекуляции могли возникнуть только в новую эпоху, когда гибель мальчика представляла собой не трагическую неизбежность, как это было во времена зарождения легенды, а трагическую утрату, что далеко не одно и то же. В 1930-е годы Павлик прошел путь от одного из пионеров-героев эпохи коллективизации до самого главного из них. Оттесненный в годы войны, он возродился в начале 1950-х. В 1960—1970-е годы публикации, посвященные Павлику, участились, и слава его продолжала жить, но он вернулся к исходному статусу «одного из многих» пионеров-героев. Песня 1970-х годов «Здравствуй, Морозов» свидетельствует об этом со всей очевидностью. В тексте, положенном на быстрый марш с барабанами и французскими рожками, подражающими звучанию пионерского горна, утверждалось, что Павлик будет жить вечно: «Мы знаем, мы верим, ты с нами сейчас»{350}. У молодежи постсталинской эпохи эта формулировка ассоциировалась с известной строкой «Ленин всегда с тобой» — из песни о вожде, умершем в далеко не юном возрасте и давно канувшем в прошлое. Этот эффект усиливал впечатление, что Павлик задвинут глубоко на полку истории.Павлик и новое поколение
Что бы ни думали о Павлике дети 1930—1940-х годов, они, безусловно, хорошо знали, кто он такой и что он сделал. После смерти Сталина, несмотря на усилия учителей, многие школьники помнили только его имя. Женщина, работавшая в Свердловском историческом музее в послесталинские времена, вспоминает, что получала от школьников мешки писем, которые начинались фразой: «Я хочу стать как Павлик Морозов». А следом обычно задавался вопрос: «А где я могу узнать, что именно он сделал?»{351} Иногда сами учителя путали факты или специально их искажали, чтобы представить героя в более привлекательном виде: так, одна женщина, родившаяся в конце 1970-х, вспоминает, что в младших классах школы ей говорили, будто Павлик раскрыл сотрудничество своего отца с фашистами во время Великой Отечественной войны{352}. Свидетельства, собранные после коммунистической эры, рисуют сумбурную картину, отображающую роль и значение Павлика. В 2002 году, в семидесятилетнюю годовщину со дня смерти Павлика Морозова, из 500 опрошенных москвичей от восемнадцати лет и старше 50% либо вообще не помнили, что он сделал, либо считали его пионером-героем Великой Отечественной или Гражданской войны{353}. Подробный опрос информантов, рожденных после 1945 года, также показал высокую степень неточности их знаний легенды или хотя бы ее подробностей. Например, один образованный и политически грамотный ленинградец (1967 г.р.) на вопрос, заданный летом 2003 года, что он помнит о Павлике Морозове с детских лет, ответил: мол, в детстве не слышал о нем вообще ничего и узнал о пионере-герое только из книги Юрия Дружникова в 1991 году, хотя наверняка ему рассказывали о Павлике в школе или в пионерском лагере{354}. Еще примечательнее другое: чувства, которые вызывает имя Павлик Морозов у поколения послесталинской поры, можно назвать какими угодно, только не положительными. Один ленинградский рабочий о самом Павлике мало что помнил, но при этом точно знал, что ему не нравилось в культе Павлика: «Ну, (усмехается. — К.К.) Павлик Морозов — это классика! Это… это… это менталитет! Это вбивалось в башку!»{355} Аналогичным образом при опросе в 2003 году из 500 респондентов 0,9% заявили, что они могли бы повторить подвиг Павлика, 62,6% утверждали, что не поступили бы так ни при каких обстоятельствах, остальные 36% или затруднялись ответить, или отвечали: «в зависимости от ситуации». Такие безразличие и цинизм в адрес героя объясняются не только концом советской эпохи{356}. Признаки высокой степени дистанцированности от юного доносчика-энтузиаста появились еще в поздний период советской эры. Как и у предыдущих поколений, доносительство, согласно законам двора, детьми не приветствовалось. Мужчина из Перми (1949 г.р.) хорошо помнит чувство внутреннего отторжения, возникшее у него, когда он впервые услышал историю про Павлика:«Собиратель: Про всяких разных героев Вам рассказывали? Информант: Конечно. Павлик Морозов. Супергерой. Соб.: Нравился? Инф.: Не знаю. Я как-то нейтрально относился к нему. Соб.: Почему? Инф.: Потому что, хотя памятники ему ставили, я ставил себя на его место и не представлял, как бы я настучал на своего отца. Соб.: Вы уже тогда так думали? Инф.: Конечно. Я этого не понимал. И его ведь, кажется, дед зарезал. Я не представлял, как меня может зарезать дед. Первый внук ведь у него был. Даже если бы я на отца в НКВД что-то сказал, как он мог зарезать? Дурдом»{357}.Женщина, выросшая в детском доме в Пермской области, вспоминала: «Вот к Павлику Морозову мы точно ездили. Представляете, выездами было. Потом турслет по местам, по шагам… Даже интересно, верить начинали, вот прямо что именно вот на этом месте»{358}. Таким образом, Павлик воспринимался в качестве героя лишь в искусственно созданных обстоятельствах. Как и в 1930—1940-е годы, факт убийства мальчика шокировал и вызывал чувство ужаса, а не стремление ему подражать[233]. Напротив, гайдаровский Тимур продолжал пользоваться популярностью у поколений послесталинского времени. Невозможно себе представить, чтобы Павлик Морозов успешно играл роль конфидента, от чьего имени газета вела бы рубрики и отвечала на письма детей, как это происходило с Тимуром в «Пионерской правде» в 1962 году{359}. По-прежнему широко были распространены «тимуровские команды», призванные воспитывать у пионеров и школьников самостоятельность и организаторские навыки{360}. Большинство людей, особенно те, чье пионерское детство пришлось на конец 1950-х — 1960-е годы, помнят, как они занимались обычной тимуровской деятельностью: собирали металлолом и помогали ветеранам{361}. Влияние Тимура выражалось не только в такой полуофициальной форме проявления детской активности. Городские дети часто играли во дворах в «тимуровскую команду» — игру, которую придумывали сами. Как заметила российский психолог Мария Осорина, хитроумный сюжет книги Гайдара строится на игре в «тайное общество», что очень импонировало советским детям, как, впрочем, и их современникам в других странах. Они охотно перенимали сюжет книги и привносили образы ее героев в свою повседневную жизнь{362}. В Павлика же не играли никогда, хотя он и стал героем частушки из разряда «черного юмора», передаваемой из уст в уста:
Имя его исчезнет из памяти
При таком циничном отношении к герою нет ничего удивительного в том, что, когда в 1991 году советской системе пришел конец, статуя Павлика в Москве, так же как и памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, пала одной из первых в этом пантеоне. Вслед за ней памятники Морозову исчезли и в других местах, в том числе в Свердловске. Мемориал в Герасимовке, хотя и сохранился, нуждается в полной реставрации. Приехав туда в 2003 году, я нашла огромную бетонную глыбу, отдаленно напоминающую наковальню и установленную на окраине деревни у леса, в котором были найдены тела братьев Морозовых, в самом плачевном состоянии. Надпись на ней — обращение Горького к комсомолу: «Память о нем не должна исчезнуть» — почти совсем стерлась, и, не зная этой фразы заранее, ее невозможно было прочесть. В музей больше не приезжали организованные группы, а в течение нескольких лет его и вовсе закрыли для посетителей. Всю экспозицию, кроме реконструкции классной комнаты на верхнем этаже, где Павлик якобы сидел за партой, разобрали. Сохранились только подарки от пионерских делегаций, знамена, фотографии и документы, пылящиеся в боковой комнатке. Состояние музея не особо беспокоило местных жителей. Как мне сказали в сельской администрации, «нам хватает забот о том, чтобы выжить». Герасимовцы относились к герою с оттенком потребительства. Они считали, что благодаря известности Павлика условия в их деревне были немного лучше, чем в других местах: проложена приличная дорога, построены дом культуры и школа…[241] Раньше у герасимовских школьников существовала традиция отвинчивать шарики со штанг на ограде, окружающей могилу Морозовых, и бросать туда записочки с просьбами об удаче на экзаменах и т.п. Но ко времени моего приезда эта традиция, очевидно, вымерла и внутри штанг лежали только гнилые листья. Уже в пору заката советской эры, к началу XXI века легенду о Павлике, казалось, вовсе позабыли. Лишь некоторые люди, выросшие в 1930-е годы и преданные идее коммунизма, по-прежнему готовы защищать отдельные аспекты его культа, в частности самоотверженность и социальное бескорыстие пионера-героя. «Образ был такой положительный для молодого поколения, это был положительный образ, на которого равнялись, по которому учились», — с убежденностью сказала мне в сентябре 2003 года одна женщина, родившаяся в Свердловске в 1931 году{374}. Особенно страстно подобная точка зрения отстаивалась в российской национал-патриотической и коммунистической прессе, которая утверждала, что пламенный пионер Павлик НЕ ДОНОСИЛ на отца, а всего лишь дал свидетельские показания, когда этого потребовал закон. В подтверждение этой версии, приобретшей известную популярность, приводились ссылки на секретные документы ОГПУ{375}.[242] Для других Павлик превратился в символическую фигуру иного плана: в нем сконцентрировалось и отразилось чудовищное отношение советской системы к детям, которая с шокирующей расчетливостью оболванивала младшее поколение и манипулировала им{376}. А после того как книга Юрия Дружникова стала известна из первых или вторых рук, многие видели в Павлике жертву системы в самом непосредственном смысле этого слова, поскольку предполагалось, что его убило ОГПУ[243]. Так или иначе, легендарный пионер был низвергнут с пьедестала — семидесятилетняя годовщина его гибели в 2002 году почти не привлекла общественного внимания, а немногочисленные отклики в прессе свидетельствовали о закате культа. Среди разнообразных материалов, вывешенных в русском Интернете осенью 2002 года, нет ни одного, где бы отстаивался советский взгляд на Павлика как на героя, зато появился ряд текстов, иронически толкующих этот образ. Среди них песня рок-группы «Крематорий» (где мальчик назван «обиженным богом дебилом», а о Татьяне Морозовой сказано: «В тело родной его мамы вошел / Не один табун бравых мужчин»), а также пьеса Владлена Гаврильчика (в ней Павлик вместе с Тимуром спасает Пушкина от роковой дуэли){377}. В материале, опубликованном в начале 2004 года, авторы предприняли попытку реабилитировать Павлика; они привели фрагменты интервью в жанре «разговоров с прохожими», которые свидетельствовали о том, что лишь представители старшего поколения еще помнили, кто это такой{378}.[244] Очевидно, что к этому времени культ на массовом уровне полностью потерял свою жизнеспособность. Когда я в ходе исследований рассказывала о теме моих занятий российским жителям, не являвшимся профессиональными историками, то неизменно натыкалась на недоверчивое изумление. Ксерокопиисты в библиотеках поражались, как я могу тратить столько бесценных долларов на копирование такой ерунды, а таксисты недоумевали, что, занимаясь таким делом, можно зарабатывать себе на жизнь. История повторяется или не повторяется как фарс, но в общественном мнении легенда о Павлике Морозове, наряду с велосипедами «пенни-фартинг», панталонами и кринолинами, приобрела чертыкурьезной архаичности. Впрочем, надо отметить, что попытки создать образы детей-героев делаются и поныне. В феврале 2004 года редактор «Пионерской правды», которая все еще продолжает издаваться, хотя и значительно меньшими тиражами, сказала мне, что в газете придается большое значение рассказам о детях, которые сообщают куда следует о подозрительных происшествиях на государственной границе России{379}. И все же в целом российская детская культура носит сегодня совершенно иной характер, уделяя основное внимание, как и в западных странах, спорту, подростковой поп-культуре и моде{380}. Своего рода опала, постигшая Павла Морозова и других пионеров-героев, часто рассматривается российскими либеральными обозревателями и их западными коллегами как положительное явление, как шаг на пути политического и морального развития общества{381}. Во многом это справедливо. Сколь бы ни отличались друг от друга различные версии легенды о мальчике, сформированные на разных этапах советской истории, все они требуют принятия одного и того же набора исходных предпосылок: коллективизация была оправданной мерой и поддерживалась всеми благонадежными советскими гражданами; процесс, в ходе которого были обвинены и осуждены убийцы Павла Морозова, проходил демократическим и справедливым образом; детей следует воспитывать в духе безраздельной преданности политическому режиму той страны, в которой они растут. Между тем в действительности коллективизация обернулась для страны политической и экономической катастрофой и безжалостным истреблением русского крестьянства; советская правоприменительная практика была основана на массовом нарушении прав подозреваемых и заключенных. Правда, советская обработка детей (если не считать стремления привить общечеловеческие ценности — честность, трудолюбие и проч., характерные для любого нравственного общества всех времен[245]) не сумела выработать в них той преданности официальной идеологии, на которую рассчитывали политические лидеры и пропагандисты. И, пожалуй, это единственное, что можно сказать положительного относительно советского воспитания. Требуя рационального принятия иррациональной системы правления, этот строй, вопреки себе самому, породил в новом поколении скептицизм и склонность к критическому мышлению, привил ему общечеловеческие ценности, помогавшие дистанцироваться от политической демагогии. Но если развенчание героизма Павлика Морозова можно рассматривать как положительное явление, то полное забвение истории его гибели не дает нам оснований радоваться. Тут прежде всего необходимо глубокое и тщательное исследование дела. Вне зависимости от реальной виновности тех, кого осудили за убийство Павлика, суд над ними, вне всякого сомнения, был несправедлив, а материалы, на основании которых выносился приговор, страдали серьезными изъянами. В 2001 году по ходатайству о реабилитации осужденных, поданному дочерью Арсения Шатракова Матреной Шатраковой, дело открыли вновь, поручив его заместителю руководителя реабилитационного отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации Николаю Власенко. В отличие от полумиллиона подобных ходатайств, поданных после 1991 года, это ходатайство было отклонено. В 2002 году в беседе с американским журналистом Власенко выразил твердую убежденность в том, что осужденные действительно виновны: «Это было одно из самых диких и ужасных преступлений. Изрезать ножом своих собственных внуков?! Это нам достоверно известно, и этого достаточно». Он сослался на то, что данное дело необычайно хорошо документировано: «Там допросы, показания местных жителей, свидетелей, участников, прямые доказательства. Не приплетайте к этому политику. Это был террористический акт»{382}. Несостоятельность подобных доводов очевидна: материалы дела Морозовых и в самом деле обширны и разнообразны по характеру, но столь же обширны и разнообразны материалы других дел 1932—1933 годов, получивших широкий общественный резонанс. Например, «дело Финского генштаба» содержит много томов свидетельских показаний карельских крестьян, которые подозревались в участии в заговоре белофиннов, поставившего своей задачей подорвать советскую власть{383}. Обилие сомнительных документов, изобличающих арестованных, еще не может служить доказательством их вины. Конечно, свидетельств против обвиняемых по делу об убийстве братьев Морозовых было больше, чем, скажем, в так называемом «деле глухонемых», организованном в Ленинграде во время Большой чистки. Как утверждалось в этом деле, «агент гестапо» по имени Альберт Блюм передавал торговцам-инвалидам открытки с изображением Адольфа Гитлера. Отсюда следовало, что существовала разветвленная заговорщическая фашистская группа, в которую входили десятки ленинградских глухонемых[246]. Есть серьезные основания предполагать, что Альберт Блюм и открытки с изображением Гитлера — не что иное, как вымысел, тогда как сомневаться в том, что Павла и Федора Морозовых убили, не приходится. Тем не менее, следствие по делу об убийстве велось с нарушениями, а полученные свидетельства никак нельзя назвать достоверными. Сейчас уже не так важно, были ли подозреваемые виновны, главное — настало время признать: дело против них рассыпалось бы в любом нормально проведенном современном апелляционном суде. Возможно, реабилитация обвиненных не стала бы идеальным решением, поскольку складывается впечатление, что по крайней мере один из осужденных (Данила Морозов) действительно причастен к преступлению. Не представляется также возможным доказать, что остальные осужденные невиновны, на основании тех документов, которые целенаправленно собирались для обвинения. Однако приговор, основанный на показаниях, полученных под пытками, выбитых признаниях и сфабрикованных свидетельствах, не должен признаваться правомочным. Осужденных необходимо оправдать, если не за невиновностью, то, как минимум, за недоказанностью совершения преступления[247]. Есть и другие обстоятельства, по которым подлинное переосмысление истории Павлика Морозова имеет большое значение. Как я уже неоднократно писала, эта коллизия затрагивает вопросы гражданского долга, сохраняющие свою значимость и за пределами советской системы. Развенчание легенды, пусть и благотворное само по себе, обнажило далеко не здоровую тенденцию к уклонению значительной части постсоветских интеллектуалов от каких бы то ни было общественных обязательств. В бывшем Советском Союзе ответственное и порядочное поведение принято в куда большей степени, чем можно предположить, исходя из общей экономической ситуации, однако его проявления обычно узко локализованы и ограничиваются рамками семьи, замкнутого круга близких людей или своего профессионального коллектива{384}. В итоге возникает культура разделенных, атомизированных групп, еще менее проницаемая для посторонних, чем это было в советское время, когда, например, с иностранцами и другими чужаками обращались лояльно уже потому, что официальная идеология требовала относиться к ним с подозрением. В современном российском обществе консенсус относительно норм разумного поведения кажется недостижимым. Идея, что человек при определенных обстоятельствах имеет право сообщить о проступке, совершенном членом такой закрытой группы, правоохранительным органам, большинство граждан восприняли бы как нелепость. В честность властей мало кто верит[248]. В результате казна нищает из-за уклонений от уплаты налогов, серьезные преступления — вплоть до убийств — остаются нераскрытыми и безнаказанными, а существующая мораль определяется неприкрытыми личными интересами. Иронический итог легенды о Павлике Морозове состоит в том, что, призванная утвердить доносительство в качестве добродетели, она из-за несправедливого обращения с жертвами доносов способствовала созданию культуры, по правилам которой любое участие в общественной жизни воспринимается как завуалированный сговор с несправедливым режимом. В сентябре 2003 года фонд «Открытое общество», субсидируемый Джорджем Соросом, объявил о выделении 7000 долларов екатеринбургскому отделению «Мемориала» на создание в Герасимовке совершенно иного музея Павлика Морозова. Согласно концепции, судьба мальчика будет рассмотрена в контексте насильственной коллективизации 1930-х годов и оценена как одна из составляющих значительно более широкого политического процесса. Необходимо, чтобы история мифа о Павлике и хотя бы часть из перечисленных проблем современного российского общества нашли свое отражение в экспозиции нового музея. Кажется, это уже происходит. В сентябре 2007 года директор музея Нина Купрацевич говорила журналистам из агентства «Новый Регион»: «Во время экскурсии мы рассказываем не только о трагедии, которая произошла в Герасимовке, но и о том, как и за что здесь раскулачивали людей, да и как вообще появилась эта деревня, которую сто лет назад образовали белорусы-самоходы, приехавшие в Тавдинскую область на телегах». Но легенда обладает странной жизненной силой: по словам директора музея, «имя Павлика Морозова привлекает гораздо больший интерес людей, чем коллективизация». Поэтому музей в Герасимовке так и не переименовали. А 2 сентября 2007 года около памятников братьям Морозовым под эгидой музея прошел траурный митинг с возложением венков и цветов: «Могила Павлика и его брата, по словам очевидцев, была буквально засыпана цветами — их несли и пожилые люди, и люди среднего возраста, и даже маленькие дети»{385}. Так легенда повернулась еще одной, новой гранью, заменив в людской памяти бронзового героя на живых людей, реальных жертв преступления, покоящихся на окраине деревни. Так Павлик-страстотерпец вытеснил из сознания людей героя-гражданина и образцового пионера. В планы музея также входит получить из ФСБ дело об убийстве Морозовых и создать архив устной истории, увиденной глазами репрессированных{386}. Эти идеи в начале третьего тысячелетия вызвали многочисленные споры, а также опасения, что новый музей будет осуществлять на западные деньги свою собственную идеологическую политику, попросту говоря, антисоветскую и прозападную. Указание на то обстоятельство, что в правилах фонда Сороса есть запрет на использование грантов для политической деятельности, вызвало большое недоумение среди членов учредительного комитета: каким образом, в таком случае, можно вообще отразить столь глубоко политизированную историю?{387} По информации, полученной «изнутри», комитет раскололся на группировки, отражающие все оттенки отношения к легенде о Павлике{388}. Такой поворот, вероятно, можно назвать положительным. История, претерпевшая столько пристрастных и догматических трактовок, непримиримо отвергавших любые разночтения материала, теперь наконец приобретет свободу толкования, позволяющую различным идеям мирно уживаться друг с другом.Глава 8. ПОДЛИННАЯ ЖИЗНЬ ПАВЛИКА МОРОЗОВА
Архивные вымыслы
Журналистов и пионерских лидеров, создававших легенду о Павлике Морозове, в последнюю очередь интересовала его подлинная жизнь. Они с воодушевлением рисовали к десятой годовщине пионерского движения яркий и убедительный образ пионера-героя. Во время подготовки к юбилею и в период, непосредственно следовавший за ним, появилось много статей, авторы которых сетовали на скудость героических образов в детской литературе и ставили перед писателями и журналистами задачу их найти. Таким образом, сложившиеся в советском обществе представления о героизме с первых же дней формировали образ Павлика в не меньшей степени, чем действительные обстоятельства его жизни. Впрочем, биография, написанная Соломеиным, включает в себя некоторые подробности, выходящие за рамки распространенного в то время шаблона; в ней, к примеру, упоминается о белорусском происхождении мальчика. Тем не менее, и этот нарратив носил глубоко литературный характер и содержал набор мотивов стандартной «мифологии обращения» раннесоветского периода. Последующие версии жизнеописаний Павлика, начиная с биографии Яковлева 1936 года и вплоть до пьес и рассказов 1970-х, тоже были условны, и их отличительные особенности определялись эволюцией использованных в них клише. И произведения писателей, преследовавших чисто литературные цели, и якобы «документальные» сочинения, вроде статей в «Пионерской правде» и «Пионере», и книга Соломеина имеют мало общего с материалами следствия. Это, однако, не означает, что последние более достоверны: показания свидетелей часто противоречат друг другу, а порой носят откровенно фантастический характер[249]. Следователи сочиняли свою версию, защищаясь от гнева вышестоящего начальства, считавшего, что провинциальные мужланы ведут дело слишком медленно и нерешительно. Местные работники униженно признавали свои упущения, пытаясь оправдаться в духе сталинской самокритики[250]. Причем они, как это часто происходило в те времена, искали козлов отпущения среди нижестоящих. 1 октября 1932 года на заседании райкома партии Яков Титов был подвергнут резкой критике за то, что не уберег «покойного пионера Морозова» и не предпринял никаких мер, когда тот сообщил ему о преследованиях со стороны кулаков. Райком принял решение уволить Титова, а его личное дело передать в органы правосудия{389}. Обороняясь от вышестоящего руководства, местные спецслужбы, комсомольские и партийные органы старались продемонстрировать, что понимали всю важность происходящего с первых же дней. В статье Павла Соломеина, напечатанной в свердловской пионерской газете «Всходы коммуны» 8 октября 1932 года, говорилось, что тавдинские власти узнали об убийстве с опозданием, поскольку в Герасимовке нет телефона, но, получив информацию, сразу же принялись за дело: «Заговорили все. Обсудили вопрос на бюро РК КМ. Потом были проведены митинги»{390}. Ясно, что Соломеин написал этот материал по заказу. На самом же деле далеко не очевидно, что власти в Тавде с первых дней осознали, каким взрывоопасным окажется дело об убийстве братьев Морозовых. Прошло почти две недели, прежде чем в него вмешался «ответственный работник» местного уровня, а способ информирования о случившемся областного комсомольского руководства (была отправлена газетная вырезка), свидетельствует о том, что поначалу делу не придали особого значения. Это обстоятельство внушает серьезное сомнение в подлинности документов, датированных первыми числами сентября: в них явно читается стремление отобразить бурную деятельность. Так, местный инспектор Титов, обвинявшийся в «непринятии мер», по-видимому, особенно ретиво занимался ретроспективным изготовлением документальных свидетельств своей активности на начальном этапе следствия. Дело Н—7825 содержит недатированное «Заявление» Титова, в котором говорится, что «гражданин Павел Морозов» сообщил ему о конфликте из-за конской упряжи, произошедшем в 9 утра 26 августа 1932 года, то есть за неделю до убийства: «Я уч. Инспектор 8 учаска управланея РК милиции Титов принил протокол заявленья от гражданина Морозова Павла заложная показанея придупреждон по ст. 25 уко. 1932 г. 26 Авгу 9 часов дня я морозов Павел пришол к Морозову сиргею сиргевичу где досвоял седелком где миня морозов Данил миня избил и говорил что я тебя в лесу убью болше показать ничего немогу протокол состав записан верно прочытон мне в слух в чом подписуюсь Моро… протоко принял уч. Инсп. 8 участка Титов». Под заявлением стоит подпись «Моро…», но она написана тем же ровным почерком (в принципе не свойственным Титову), что и сам текст заявления [63]. В деле также содержится записка от 19 сентября, в которой говорится, что «жителю Герасимовки Морозову Павлу» было выдано направление в пункт оказания первой помощи в селе Малое Городище «для установления Телесных повреждений, т.к. таковой избит одним гр-ном, просьба осмотреть без очереди» [64]. Записка выдана герасимовским сельсоветом, а на ее обороте Титов написал: «Морозов Павел невыехал насвидетельстьства вет (насвидетельствовать) врачу деревню гирасимовку попричыни про ненашли лошат как лошат была вполи уч. Инспектор 8 учаска Титов». Этот документ также датирован 19 сентября 1932 года [64об]. Похоже, Павлик вообще не сообщал об избиении. Однако к этому моменту уже начала формироваться его репутация активиста, согласно которой он должен был доложить об инциденте властям, а это, в свою очередь, обязывало местных чиновников либо представить соответствующие документы, либо признать свои упущения. Помимо прямой подделки документов (другие примеры такого рода будут приведены ниже), достоверность материалов вызывает сомнение, в частности, из-за того, что, как только дело приобрело известность, к нему стали пристегивать все без разбора. В Архиве Свердловской области в Екатеринбурге, например, хранится впечатляющая фотография детского трупа, торжественно положенного на железный остов кровати. В описи этот снимок значится как фотография Феди Морозова, однако атрибуция не выдерживает никакой критики. В Герасимовке в ту пору кровать, как и безупречно чистые простыни, на которых лежит тело мальчика, была редкостью, тем более фабричного производства. Деревенские жители предвоенных лет вспоминают, что решительно все — от мыла до одежды и мебели — изготавливалось дома{391}. В описи имущества Сергея Морозова значится матрац [57об], но не кровать. Герасимовские крестьяне по традиции спали на печи. Над кроватью, на которой лежит покойный мальчик, можно увидеть фотокарточку в рамке: на ней изображен вполне упитанный, хорошо одетый малыш. Несомненно, это тот же самый ребенок, только несколькими годами ранее: его ухоженный внешний вид и обстановка в комнате не имеют ничего общего с условиями жизни мальчика из бедной семьи в захудалой деревне середины 1920-х. Эта фотография интересна с точки зрения изучения традиции детских похорон в ранний советский период, но в качестве документального изображения Феди Морозова ее ценность равна нулю. Таким образом, с одной стороны, дело замусорено документами, не имеющими к нему прямого отношения, а с другой, источников явно не хватает. В 1930-е годы существовала официальная процедура уничтожения протоколов, инструкций и проч. Ликвидация происходила под руководством тройки, состоящей из представителя райкома партии, сотрудника ОГПУ и секретаря, в обязанности которого входило собственноручное уничтожение бумаг. Вдобавок в 1932 году Уральский областной комитет партии спустил указание уничтожить все протоколы за предшествующий год{392}. Помимо официальной процедуры ликвидации, многие материалы просто пропадали. Например, все доступные для читателей дела с отчетами спецслужб, находящиеся в партийном архиве, имеют множество потерь: часто отсутствуют первые страницы сводок и даже целые выпуски. Такая низкая степень сохранности документов, по-видимому, в равной степени является результатом как некомпетентности, так и сознательных попыток воспрепятствовать утечке информации. Партийные работники, для которых писались отчеты, едва справлялись со своими основными служебными обязанностями, не говоря уже о том, чтобы фиксировать для потомства подробности своей ежедневной деятельности, так что у них просто не было реальной возможности тщательно вести протоколы, отмечать получение инструкций и т.п. В таких условиях трудно установить даже самые элементарные факты биографии Павлика. Два главных свидетельства его существования хранятся в герасимовском музее. Это справка, данная на основании метрической записи церкви села Владимировка, где сказано, что Павлик родился 14 ноября 1918 года, и школьная групповая фотография, на которой Павлик стоит в последнем ряду и выглядит довольно робким мальчиком с рассеянным взглядом{393}. Вероятность того, что два эти документа настоящие, достаточно велика. Хотя сегодня доступна лишь поздняя копия справки, датированная 30 ноября 1965 года, подлинность этого документа не вызывает больших сомнений. Начало 1960-х, как и 1920-е годы, было временем яростной антирелигиозной кампании, так что при изготовлении свидетельства о рождении революционного героя церковь как место регистрации вряд ли стали бы упоминать[251]. Школьная фотография, вероятнее всего, тоже настоящая. Павлик на ней настолько сильно отличается от принятого официального образа, что ее фальсификация выглядит маловероятной. И все же полностью исключить ошибку в идентификации (не тот мальчик, не тот класс или вообще не та школа) нельзя. Кроме того, музей содержит как минимум одну очевидную фальшивку — портрет Павлика с матерью представляет собой скорее плод фантазии художника, нежели документальное изображение. Устная история, содержащая в целом кое-какие полезные сведения об общей атмосфере, в которой разворачивалась история Павлика, ставит перед нами не меньше вопросов, чем письменные документы. Убийство произошло очень давно, и совсем немногие из тех, кто имел непосредственное отношение к семье мальчиков и к той эпохе в целом, остались в живых. Двое из них — Мария Сакова (сестра Анастасии) и Дмитрий Прокопенко (сын Василия) — рассказали мне в 2003 году совершенно противоположные вещи о семье Морозовых вообще и о Павлике в частности. Автор неопубликованных воспоминаний о Павлике, хранящихся в герасимовском музее, Дмитрий Прокопенко впервые стал фигурировать в качестве источника сведений об убийстве Морозовых в 1960-х годах. Он всегда повторяет один и тот же затверженный рассказ: сидел рядом с Павликом в сельской школе на протяжении четырех лет, запомнил его как «бойкого, активного мальчика», который был первым пионером в деревне, вожаком во всех общественных делах{394}. В ранних отчетах Прокопенко как один из друзей Павлика не упоминается ни разу. Это обстоятельство, впрочем, само по себе не свидетельствует о недостоверности его воспоминаний. Все друзья Павлика, «назначенные» в 1930-х, — это дети либо местных коммунистов, либо, на худой конец, «доверенных лиц» властей, вроде Карпа Юдова и Якова Галызова. Так что Дмитрий Прокопенко — сам из раскулаченной семьи — не мог рассматриваться в качестве подходящей кандидатуры в товарищи Павлику, даже если на самом деле они и были лучшими друзьями[252]. Более подозрительным выглядит то, что история, которую он рассказывает, как по содержанию, так и по стилю очень близка официальной агиографии (в частности, в ней постоянно употребляется прилагательное «активный»). Когда я брала у Прокопенко интервью в сентябре 2003 года, мне не удалось сбить его с дословного воспроизведения (уже в тысячный раз) рассказа о Павлике. При этом в разговорах на более общие темы, скажем о несправедливостях при коллективизации или о детских играх в деревнях того времени, он сообщил некоторые новые данные{395}. Рассказ о Павлике Марии Саковой носит куда более личный и живой характер, но тоже по-своему условен. Она запомнила Павлика как грязного, завшивленного мальчугана, с которым в классе никто не хотел сидеть рядом («В школу придет, рубашка была самотканой, такой, как мешки такие …сопли такие, ой-ой-ой…»). Членов семьи Морозовых Мария Сакова охарактеризовала как злобных чужаков. Даже по нормам бедной деревни они «жили плохо». Татьяна была «неряхой», и ребенком Мария ее боялась и всегда пряталась, если та проходила мимо. Тут, правда, следует заметить, что воспоминания Саковой — не только о Павлике, но и о жизни в Герасимовке тех лет — вообще отличаются крайней мрачностью. Так, по ее словам, женщины на общих работах никогда не пели и не шутили, хотя другие информанты того же поколения говорили, что такое определенно бывало. Образ Павлика, воспроизведенный Саковой, приобрел черты антигероя. Особенно ярко это проявилось в ее описании перезахоронения 1954 года. Сакова утверждала, что люди прекратили работать в поле, когда переносили останки («Ой, вонь пошла! Говорят, Павлика копают»){396}. Это воспоминание выглядит столь шокирующе живым, что производит впечатление подлинного. И в то же время оно достаточно стереотипно. По православной традиции важным критерием святости покойника является нетленность его тела. В «Братьях Карамазовых» разложение тела старца Зосимы вызывает у Алеши, который, в отличие от Достоевского, склонен понимать традицию буквально, тяжелый кризис веры. Воспоминания Саковой о вони, исходившей от останков Павлика через двадцать лет после похорон, вполне могли соответствовать действительности (почва в этой местности болотистая), однако столь же вероятно, что рассказчица стремилась подчеркнуть, насколько далек был погибший мальчик от святости.Версия Дружникова
Мы можем с достаточной степенью уверенности утверждать, что Павлик существовал на самом деле. Противоположное мнение высказывалось после распада СССР, но никогда не подтверждалось никакими фактами. Очень вероятно и то, что Павла и Федора действительно убили. Это был не первый случай, когда убийство детей приписывалось кулакам, поэтому здесь нет речи об изобретении нового пропагандистского приема. В то же время гибель Морозовых слишком далеко отстояла от первой истории такого рода — убийства Гриши Акопова, — чтобы ее можно было объяснить простым подражанием успешному пропагандистскому образцу. Но этим, пожалуй, исчерпываются факты, не вызывающие никаких сомнений. Препятствия на пути любого, кто возьмется за восстановление реальных подробностей происшествия по искаженным, отрывочным, а часто и умышленно вводящим в заблуждение источникам, кажутся непреодолимыми. Тем не менее, именно такую задачу поставил перед собой Юрий Дружников, чья захватывающая книга о Павлике впервые вышла в 1988 году. Среди биографов мальчика Дружников с доверием относится к Соломеину и использует в своем исследовании его книгу и записи, которые тот делал в процессе работы. Кроме того, Дружников ссылается на документы уголовного дела, обнаруженные им в необозначенном архиве (некоторые из них хранятся в музее в Герасимовке). Важными источниками для воспроизведения альтернативной биографии мифологизированного пионера-героя являются здесь материалы интервью с членами семьи Морозовых и другими родственниками и односельчанами. В результате вышедшее из-под пера Дружникова описание жизни Павлика предстает не героической легендой, но тягостной историей лишений и эксплуатации. Мальчик, известный при жизни как «Пашка» Морозов, по мнению Дружникова, вовсе не представлял собою образец «нового человека». Он был заброшенным ребенком, мать которого славилась своей неряшливостью. Пашка плохо учился, говорил с белорусским акцентом[253], изредка появлялся на школьных уроках в домотканой одежде, от которой воняло, так как братья Морозовы имели привычку во время ссор мочиться друг на друга. Мальчик, как пишет Дружников, не только не входил в актив пионерского отряда, но и вообще не был пионером. В то время в Герасимовке не существовало пионерского отряда, а школа, открывшаяся только в 1930-м, поначалу едва функционировала и даже закрылась на несколько месяцев после того, как ее первый учитель сбежал, не выдержав тяжелых условий жизни; вновь школа открылась только в 1931 году. Донос сына на отца стал вовсе не актом гражданского противостояния, а скорее результатом домашних распрей. Трофим Морозов, отец Пашки, бросил его мать, когда тому было восемь лет, и стал сожительствовать с молодой женщиной из той же деревни. Желая отомстить за мать, а возможно, и по ее наущению, мальчик донес на своего отца. В общем и целом односельчане не видели в Пашке героя ни в каком отношении и обзывали его дрянью, «сракой драной» и «голодранцем»{397}. Пашкиного отца, напротив, уважали как председателя колхоза и ценили за умелое противодействие властям. После убийства могилу «Павлика», превращенную властями в святилище, постоянно оскверняли местные жители: по словам Татьяны Морозовой, беседовавшей с Дружниковым спустя несколько десятилетий после смерти сына, туда «полдеревни ходило… испражняться»{398}. Столь же мрачно и печально выглядят обстоятельства убийства братьев Морозовых, реконструированные Дружниковым на основании документов, которые он сам признает обрывочными и сомнительными[254]. Дружников соглашается с официальной точкой зрения в том, что касается места и обстоятельств убийства: оно действительно произошло в лесу неподалеку от Герасимовки, когда Татьяны в деревне не было. По словам местных жителей, в тот день она повезла теленка на базар. Павел и Федор действительно пошли собирать клюкву. Однако когда дело доходит до виновников преступления, Дружников решительно не поддерживает теорию «кулацкого заговора» и с презрением отвергает версию о виновности родственников Морозова. Он задается вопросом, почему убийцы оставили тела лежать так близко от деревни, где их могли легко обнаружить, а не оттащили в болото, и почему убийцы не предприняли попытки избежать ареста и не скрылись в тайге{399}. Тот факт, что тела оставили на открытом месте, свидетельствует, по мысли Дружникова, о том, что кто-то хотел, чтобы их нашли. Это утверждение дает ему основание предположить: детей убили агенты-провокаторы местных секретных служб. Их замысел состоял в том, чтобы убить детей — любых, какие подвернутся под руку — с целью организовать показательный процесс над кулаками и тем самым дискредитировать их в общественном мнении. В заговоре автор книги подозревает в первую очередь двоих: двоюродного брата Павла Ивана Потупчика, который был не просто активистом, но платным осведомителем ОГПУ, и оперативного работника ОГПУ Спиридона Карташова. Моральный облик обоих, описанный Дружниковым, вполне соответствует жестокости совершенного преступления. Потупчика в 1961 году судили за изнасилование малолетней девочки, а Карташов и вовсе оказался патологическим садистом: впоследствии он похвалялся тем, как поднимал детей на штык или как, сидя верхом на лошади, затаптывал их насмерть{400}. По реконструкции Дружникова, убийство произошло следующим образом. «Исполнитель» (профессиональный убийца из ОГПУ) останавливается в соседней деревне и оттуда собирает необходимую информацию о ситуации в Герасимовке с помощью местных осведомителей. Он узнает о намерении братьев пойти за ягодами и об угрозах деда в адрес Морозова-младшего и решает, что нашел подходящих жертв преступления, задуманного для очернения противников коллективизации. На следующий день «исполнитель» отправляется в лес, где закалывает детей штыком, а младшего мальчика еще и добивает прикладом. 4 сентября «исполнитель» вызывает своего информанта в соседнюю деревню и сообщает ему о произошедшем в Герасимовке политическом убийстве. Они вдвоем составляют «Протокол подъема трупов». Некоторое время убийство держат в тайне, а к тому моменту, когда детей хватились и начали искать, сильный дождь уже уничтожил улики на месте преступления{401}. В своих рассуждениях Дружников опирается прежде всего на пять документов[255]. Первые два — это (a) протокол бедняцкого собрания деревни Герасимовки от 12 сентября, где изложены предполагаемые обстоятельства убийства и сформулировано требование казнить преступников [58, 59—60], и (b) «Протокол опроса по делу №…», т.е. снятые Потупчиком показания свидетелей, в которых содержится предположение, что убийство совершили Данила Морозов и Ефрем Шатраков [29]{402}. Три другие документа: (c) «Спец-записка по вопросу террора» от 16 сентября, составленная тавдинским секретно-политическим отделом ОГПУ [149—151]; (d) «Протокол подъема трупов» участкового Титова [7]{403}; (e) машинописное постановление с упоминанием имен Карташова и «старшего уполномоченного Куликова», датированное 13 сентября 1932 года{404}. В последнем утверждается, что убийство Павлика Морозова «совершено по инициативе кулаков дер. Герасимовки. Так как пионер Ленинец ПАВЛИК МОРОЗОВ проводил работу с пионеротрядом и писали плакаты призывающие единоличников хозяйства в колхоз и подклеивали на забор». В документе (e) также содержится указание передать дело об убийстве Морозовых в районный центр Тавду.ОГПУ зарезало?
События изложены Дружниковым так увлекательно, что при первом прочтении выглядят почти достоверными. Однако при более тщательном рассмотрении возникают многочисленные возражения. Подпольной версии книги, написанной еще при Брежневе, свойственна небрежность в цитировании, характерная для того времени, когда значительная часть архивных и библиотечных фондов оставалась недоступной для обыкновенного читателя, а соответствующие книги и документы выдавались только в том случае, если они отвечали «заявленной теме исследования». При этом контролировалась идеологическая выдержанность «заявленной темы», например: «Толстой и крестьянский вопрос» или «Классовая борьба на Петроградских фабриках в 1915—1917 гг».. Исследователь, который работал по теме, имевшей политический резонанс, мог получить необходимые материалы только с помощью уловок, допустим, как-нибудь безобидно и достаточно широко определить тему своей исследовательской работы в надежде, что по ходу дела попадется интересующий его документ. При таких правилах точная ссылка на источник могла поставить под удар друзей и сотрудников архивов и библиотек, оказывавших исследователям бесценную помощь. По этой причине неопределенные ссылки типа «в одном архиве», а также нарочитое замалчивание источников информации были обычным делом. Возможно, в связи с этим в книге Дружникова содержатся мелкие ошибки, неизбежные в обстоятельствах, когда проверить источники трудно или вовсе невозможно[256]. Более существенно, однако, что автор демонстрирует внеисторический подход к предмету. Он с полным основанием ставит под сомнение достоверность официальных документов и в то же время регулярно ссылается на них для подтверждения собственных аргументов. Ему не удается переместить историю Павлика из контекста времени, когда писалась книга, в контекст эпохи ее героя. Как политический диссидент Дружников хорошо знаком с репрессивными механизмами послесталинской эпохи{405}, но проводимые им аналогии между функционированием государственных учреждений в первые десятилетия советской власти и после смерти Сталина далеко не всегда работают. КГБ 1960—1980-х обладал зловещим опытом политических убийств, но все же не каждое убийство, имевшее политический резонанс, лежит на совести этой организации. В 1920—1930-х годах институциональная база ЧК и ОГПУ была много слабее, чем у их преемников в послесталинскую эпоху. Политические убийства или покушения на убийства, за которыми, безусловно, стоит эта организация, были направлены против заметных личностей, живших в больших городах или за границей. Среди самых громких преступлений такого рода можно назвать убийство Игнатия Рейса в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года в Швейцарии и убийство Троцкого 20 августа 1940 года в Мексике. У ОГПУ было слишком много реальных и потенциальных политических антагонистов, чтобы тратить силы на организацию политического убийства двух мальчиков из Тавдинского района с целью внести смуту в и без того напряженную атмосферу. Закон о смертной казни за кражу колхозной собственности, изданный 7 августа 1932 года, породил волну массовых арестов и коллективных приговоров, зачастую вообще без всякой доказательной базы{406}. Таким образом, власти имели необходимое и мощное оружие против врагов: зачем в таком случае им понадобилось создавать дополнительный, искусственный повод для усиления репрессий? Даже если предположить, что на это имелись свои причины, изощренный сценарий, описанный Дружниковым, выглядит маловероятным. В тавдинском руководстве не хватало квалифицированных кадров: ни Потупчик, ни Карташов не выглядят таковыми, если судить по протоколам допросов. Партийные архивы свидетельствуют, скорее, о противоположном, по крайней мере в отношении Карташова. В феврале 1933 года на него было заведено административное дело «за допущение последним грубые политические ошибки в отношении прекращения уголовных дел на кулаков, а также возбуждения дела на умершего гр-на ВИСКУНОВА и халатное отношение к порученным делам»{407}. В глазах начальства Карташов выглядел не инструментом для борьбы с классовыми врагами, а ненадежным разгильдяем, готовым кооперироваться с кулаками ради собственной выгоды. Быков, судя по всему, также не был способен инициировать подобную операцию. По сравнению с Карташовым и Титовым он более грамотен и компетентен, но этого еще явно недостаточно. Если предположить, что операцию задумало начальство ОГПУ более высокого уровня, то очень странным кажется тот факт, что оно позволило тавдинским оперативникам тянуть с расследованием больше месяца и прийти к заключениям, не совпадающим с теми, которые были обнародованы на показательном процессе. В этом свете обращает на себя внимание такое обстоятельство: на суде Иван Потупчик продолжал утверждать, будто убийцы — Ефрем Шатраков и Данила Морозов, а также пытался защитить Титова от обвинений в избиении подозреваемых: «О том что Титов кого при допросах бил я не знаю и не слыхал, кто бы мог отказаться от подписки протокола» [233—233об]. Похоже, заговор на местном уровне не простирался дальше того, чтобы попытаться выгородить сослуживца. Критически важен факт, что тот вариант документа (b), с которым работал Дружников и на котором зиждется существенная часть его аргументации, неверно датирован. По версии дела Н—7825, свидетельские показания Потупчика, взятые Карташовым, были даны не 4, а 11 сентября 1932 года [29][257]. Эта позднейшая дата не противоречит всему содержанию дела: точно известно, что Карташов был в Герасимовке 11 и 12 сентября, но нет никаких свидетельств, что он приезжал туда в какое-либо другое время. Таким образом, гипотеза о преступном сговоре работников ОГПУ, следы которого якобы можно обнаружить в подтасованных протоколах, не подтверждается. Во многих отношениях сомнительным выглядит и отсутствующий в деле Н—7825 документ (e) — «Постановление» Карташова от 13 сентября. Прежде всего, облик документа не соответствует официальному формату постановлений, который включал в себя имя адресата, номер и официальный заголовок. Для сравнения можно взять постановление об освобождении Ефрема Шатракова, подписанное Шепелевым и контрассигнованное Воскресенским и Прохоренко 14 ноября 1932 года. Оно называется «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПП ОГПУ при СНК СССР ПО УРАЛУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ И ПРЕКРАЩЕНИИ СУДЕБНОГО ДЕЛА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ Е.А. ШАТРАКОВА» [202]. Кроме того, Карташов не обладал достаточно высоким рангом, чтобы издавать постановления. Самый низший по чину сотрудник, чьи постановления содержатся в деле Н—7825, — это райуполномоченный Быков. Еще существеннее, что орфография и общий вид документа (е) выглядят куда более упорядоченно, чем в рукописных документах, составленных Карташовым, когда он работал в Герасимовке. Наконец, странное впечатление оставляет содержащийся в постановлении список подозреваемых. Он включает в себя Дмитрия, Антона и Ефрема Шатраковых, Химу и Арсения Кулукановых, Арсения Силина, Данилу, Ксению и Сергея Морозовых. При этом утверждается, что убийцы — Данила, Ксения и Сергей Морозовы. Из материалов дела видно: работа Карташова со свидетелями не соответствовала тому, что написано в постановлении. Он не допрашивал ни Шатраковых, ни Кулукановых, ни Силина. Большую часть времени он собирал свидетельские показания и наибольший интерес проявлял к Владимиру Мезюхину, впоследствии освобожденному. Наконец, не существует ни одного документа раннего происхождения, в котором Павел Морозов фигурировал бы как «Павлик». Из этого следует, что документ (е) — скорее всего подделка. Кто его подделывал — другой вопрос, но эту бумагу, несомненно, сочинили задним числом, чтобы показать, что власти с самого начала придерживались последовательной линии поведения. Ее могли написать даже в начале 1960-х, когда Карташов снова возникает в официальной версии морозовского дела{408}. В материалах нет решительно ничего, что позволило бы предположить, будто Карташов и Потупчик играли в этой истории значительную роль. Они — всего лишь мелкие винтики в аппарате ОГПУ, активно занимавшиеся расследованием, пока к делу не подключились сотрудники более высокого уровня. Нет сомнений, что уральские власти использовали в те годы уголовные преступления в политических целях, в том числе и убийства, которые при других обстоятельствах рассматривались бы как совершенные из корысти или в состоянии аффекта. Так, в январе 1931 года одной женщине в Макушинском районе во время пьяной оргии перерезали горло. В отчете ОГПУ эта ужасная история приобрела примечательную подробность: оказалось, что жертва была «колхозницей-активисткой». Кулаки заманили ее на вечеринку, где и отомстили за донос в милицию{409}. Представляется крайне малоправдоподобным, что колхозница-активистка отправилась выпивать с людьми, угрожавшими ей расправой. Куда более вероятной кажется версия, что власти использовали это бытовое преступление в своих целях и превратили банальное пьяное убийство, совершенное на сексуальной или какой-нибудьдругой личной почве, в политическое. Между «творческим переосмыслением» мотивов преступления и его непосредственной организацией есть большая дистанция, непреодолимая как с психологической, так и с практической точки зрения. У ОГПУ не было нужды организовывать убийство, чтобы использовать его в своих политических целях. Акты насилия в этих краях часто происходили и без его вмешательства. По статистике 1926 года, количество убийств на душу населения на Урале находилось на среднем уровне, а в Западно-Сибирском регионе, лежащем непосредственно к востоку от Тавдинского района, — на очень высоком (1432 убийства на 9 млн. человек). Для сравнения, в намного более населенном центрально-черноземном районе, где проживало более 19,5 млн. человек, в тот же год было совершено 1443 убийства{410}. Документы по Тавдинскому району не содержат точной статистики преступлений, но позволяют предположить, что по количеству совершенных актов насилия район приближался скорее к сибирским, нежели к уральским показателям.Пионер-гражданин: так ли это?
Сомнение в правомерности утверждений Дружникова относятся не только к той части его повествования, которая связана с «теорией заговора», но и к другим частям. Например, вопрос о том, был ли Павлик Морозов на самом деле пионером, куда более неоднозначен, чем может показаться на первый взгляд. В 1932 году официального пионерского отряда в деревне не существовало, но Павлу не требовалось состоять в пионерской организации для того, чтобы считать себя пионером или чтобы так считали односельчане. Нельзя проецировать на первое десятилетие существования пионерской организации ситуацию, сложившуюся к 1940-м или даже к середине 1930-х, когда пионерия уже представляла собой организованный монолит со штабами в школах и многоквартирных домах, с Дворцами пионеров, ставшими с 1935 года флагманами движения, с четким ритуалом приема в пионеры, установленным в 1932 году[258]. В конце 1920-х — начале 1930-х пионерское движение находилось еще в хаотическом состоянии и переживало трудности стихийного роста и столь же стихийного убывания, которое эвфемистически называли «текучкой». Пионерская организация была вынуждена опираться на плохо подготовленные и идеологически сомнительные кадры организаторов, включая бывших скаутских вожатых, так что в ее работе встречались разнообразные проявлениями «волюнтаризма» и «параллелизма»[259]. Временами слово «пионеры» использовалось расширительно для обозначения членов молодежных агитбригад, создававшихся школьными учителями или другими взрослыми людьми для выполнения вспомогательных задач в различных политических инициациях вроде кампании 1927—1928 годов «за новый быт» (пропаганда основ гигиены и рациональной организации жизни) или сплошной коллективизации в 1931—1932 годах. Как вспоминал писатель Михаил Алексеев, осенью 1931-го такая «агитбригада» была организована в его родной деревне на Волге, и детей — членов этой бригады — отправляли в крестьянские дома агитировать за немедленное вступление в колхоз{411}.[260] Крестьянские дети того времени могли слышать о пионерах, даже если в их деревне не было пионерского отряда или агитбригады. Петр Кружин, родившийся в Тверской области в 1921 году, формально вступил в пионеры в 1929-м, но, по его воспоминаниям, знал о пионерском движении по картинкам на коробках из-под зубного порошка и на прочих предметах ширпотреба и, будучи активистом, помогал жечь иконы задолго до того, как стал пионером. «Наша пионерская организация в первые четыре года то проявляла активность, то замирала», — вспоминал он. Вожатые имели совершенно разные представления о том, как работать с детьми: одни занимались строевой подготовкой, другие ходили в лес собирать травы, третьи просто рассказывали смешные истории. Иногда, если вожатого не было, Кружин сам возглавлял дружину и наслаждался чувством собственного превосходства по отношению даже к взрослым из ближайшей деревни{412}. Сведения по Тавдинскому району дают в общем схожую картину. В этих краях коробок из-под зубного порошка, даже пустых, не видали, но неформальная пионерская деятельность шла и здесь. В ноябре 1932 года, откликаясь на призыв сверху усилить централизованный контроль, районный комитет Коммунистической партии потребовал прекратить широко распространенную практику, по которой списки вожатых пионерских дружин попадали в областное бюро детской коммунистической организации постфактум. Ошибочные назначения делались часто: некоторые вожатые оказывались слишком молодыми, многие — слишком неопытными, а иные не любили работать с детьми. Бюро потребовало, чтобы его заранее официально извещали о намерении создать очередной пионерский отряд и открыло курсы по подготовке пионервожатых; были составлены программы пионерской работы, которые, среди прочего, включали политическую пропаганду на такие темы, как «классовая борьба» или «национальная рознь». Развлекательная часть включала в себя тематические игры, песни, «живые газеты», работу драматических кружков{413}. Предпринятые бюро меры свидетельствуют о том, что пионерская деятельность на местах была не отрегулирована, и ее требовалось взять под контроль. Невозможно исключить, что кто-нибудь из герасимовских учителей, например Зоя Миронова, которая в начале 1931 года значилась в списках местной партячейки как «пионервожатая»{414}, мог спонтанно организовать неофициальную «пионерскую дружину». Есть свидетельства, что в Тавдинском районе существовали неформальные агитбригады. Как сообщил, например, 28 апреля «Тавдинский рабочий», одна из них была организована не где-нибудь, а именно в герасимовской школе. В показаниях на суде по делу об убийстве Морозовых говорилось о детях, вывешивавших на кулацких заборах объявления вроде «Здесь живет злостный заимщик хлеба»[261], хотя, конечно, степень достоверности этой информации определить трудно. Дети могли узнавать о пионерах и из письменных источников. Так, хрестоматия для начальной школы «Новый путь» 1930 года включала много разнообразных материалов. Например, в выпуске для первоклассников на картинке под названием «Как я видел Ленина Первого мая» была изображена группа пионеров. Выпуск для второго класса содержал короткий рассказ «Помощь», в котором пионеры помогали матери некоего мальчика Феди ухаживать за коровой. В него также вошли бравурные песни «Марш пионеров» и «Законы пионеров»{415}. В одном из немногочисленных изданий, которые выписывал герасимовский сельсовет в 1933 году (за другие годы о подписке информации не сохранилось) — в газете свердловских пионеров «Всходы коммуны», — рьяно пропагандировалась идея о том, что одна из основных задач пионеров состоит в распространении в своих семьях информации о политической линии партии[262].Доносил ли Павлик на своего отца?
На вопрос о том, был ли Павлик пионером, нет точного ответа. Как нет ответа и на куда более значимый для его биографии вопрос: доносил ли он на своего отца? В деле содержится документ — копия «доноса», но к нему, как и ко многим другим материалам, надо относиться крайне осторожно. Документ выглядит следующим образом: «Сын Морозова 12-ти лет, МОРОЗОВ Павел Трофимович, последний заявляет при допросе матери: Дяденька, мой отец творил явную контр-революцию, я как пионер обязан это сказать, мой отец не защитник интересов октября А всячески помогает кулаку сбежать. Стояли за него горой и я не как сын а как пионер Проше привлечь к строгой ответственности моего отца, ибо в дальнейшем не дать повадку другим скрывать кулака и явно нарушать линию партии и еще добавляю, что мой отец сейчас присваивает кулацкое имущество, взял койку кулака Кулаканова Арсентия и у него же хотел взять стог сена, но кулак Кулаканов не дал ему сено, а сказал пускай лучше возьмет казна» [113]. Этот фрагмент озаглавлен «Выписка из показаний пионера МОРОЗОВА Павла Трофимовича от 26/ХI.32 г.» (исправлено на «1931»), его подлинность удостоверена работником Тавдинского ОГПУ Искриным. Однако источники не указаны (например, номер дела отца Павлика), и копия не датирована. Другие документы за подписью Искрина относятся к периоду между 1 и 6 ноября [153, 154, 176, 178]. Тем не менее, архивист поместил донос среди документов середины октября. Таким образом, не исключено, что его происхождение относится к тому времени, когда расследованием руководил Быков. Как бы то ни было, этот текст встречается не только в материалах дела. Он также цитируется в качестве письма (а не фрагмента устных показаний) в отчете чиновника из орготдела райкома партии своему начальству в Свердловске{416}. Здесь тоже отсутствуют ссылки на какие-либо источники, а автор отчета, живший не в Тавдинском районе, а в соседнем Нижнетавдинском, был настолько плохо знаком с родными местами Морозовых, что поместил донос в раздел «Белоярский сельский совет», хотя любой местный человек знал, что Герасимовка не входила в эту административную единицу и имела свой сельсовет. Донос Павлика на отца мельком упоминается в свидетельствах некоторых информантов из Герасимовки, прежде всего Татьяны Морозовой, а на более поздних этапах расследования — в показаниях Сергея и Ксении, но каждый раз — без подробностей. Что касается истории с ружьем Шатракова, то, по словам местных жителей, Павлик ходил в сельсовет и помогал Титову при обыске дома [35, 36]. По поводу припрятанного добра Кулукановых также говорили, что Павлик ходил в сельсовет [34]. Но и здесь нет никаких свидетельств о том, каким именно образом сын донес на отца. Из материалов дела и партийного отчета можно сделать два взаимоисключающих предположения: Павлик или подал письменный донос, как утверждается в партийном отчете, или сделал устное заявление на перекрестном допросе его матери (последнее зафиксировано в деле Н—7825). Вряд произошло и то и другое, тем более маловероятно, что Павлик повторил свою речь слово в слово. Таким образом, аутентичность этого текста вызывает сомнение. Кроме того, обращает на себя внимание сходство формулировок в тексте доноса и в статье из «Пионерской правды» от 15 октября: «Я, дяденька судья, выступаю не как сын, а как пионер! И я говорю: “Мой отец предает дело Октября!”» Конечно, в газетной статье могла быть взята за основу формулировка из партийного отчета и материалов ОГПУ. И все же нельзя исключить, что в реальности дело обстояло иным образом. Партийный отчет, как и отрывок из доноса в архиве ОГПУ, не датирован (первая страница в деле отсутствует), но употребленное в нем выражение «за сентябрь» дает нам возможность предположить, что к моменту написания документа сентябрь уже закончился. Отчеты такого рода обычно писались в середине следующего месяца. Узнав о доносе Павлика из первых газетных статей, то есть из публикаций в «Пионерской правде» от 2 и 15 октября 1932 года, автор отчета сам мог написать текст доноса, желая продемонстрировать свою осведомленность о положении дел в Верхнетавдинском районе и тем самым заслужить благосклонность начальства. Из партийного отчета текст доноса мог попасть в следственные материалы ОГПУ. Возможно также, что этот текст был написан по заказу следствия, а потом попал в отчет — такая последовательность, впрочем, выглядит не столь убедительной, учитывая, что, во-первых, партийные органы получали только общую информацию о ходе следствия и, во-вторых, что копия доноса в архиве ОГПУ, видимо, изготовлена позже, чем отчет Версия о доносе выглядела бы более правдоподобной, если б ее следы обнаружились за пределами материалов дела. Но следов нет, и это довольно странно. Если бы сын обличил собственного отца, председателя колхоза, в том, что тот брал взятки и выдавал кулакам фальшивые удостоверения личности в конце лета или осенью 1931 года, то этот факт, скорее всего, стал бы достоянием гласности, по крайней мере на местном уровне. В начале 1931-го кампания по раскулачиванию и коллективизации вновь набирала обороты после перерыва, вызванного обвинительной речью Сталина от 1 марта 1930 года «Головокружение от успехов». Любой материал, дискредитирующий кулаков, привлек бы внимание издателей. Тем не менее, ни «Тавдинский рабочий», ни газеты, ему предшествовавшие («Пила», «Тавдинская лесопилка» и т.д.), ничего не писали о председателе герасимовского сельсовета, хотя часто упоминали саму Герасимовку в связи с происходившими в ней скандалами. Так, 3 декабря 1931 года появился материал о том, что кулаки Герасимова «свили себе крепкое гнездо» в сельсовете и пытались подорвать сбор хлеба. В качестве кулаков названы И. Куцаков, В. Пуляшко, Ермаков, Гудумчин, Кулукановы, Соковы (Саковы) и Наумовы. Всех их обвиняли в укрывательстве зерна. Вероятно, приговор к ссылке Арсения Кулуканова, о котором постоянно идет речь в материалах следствия, связан именно с этим эпизодом. Судя по материалам дела Н—7825, скандал совпал по времени со следствием по делу Трофима Морозова (ноябрь 1931), однако он не упомянут в статье. В ней содержится лишь одна общая фраза: «Сельсовет и комсоды на все их (кулачьи. — К.К.) выходки смотрят примиренчески и не принимают нужных мер»{417}. Следует иметь в виду, что газеты неохотно раскрывали подробности преступлений, совершенных представителями местной власти. Только из секретных милицейских отчетов можно установить, что Новопашин (который был председателем в Герасимовке летом 1931 года и которого пресса обличила в том, что он уделял слишком много времени своей жене и слишком снисходительно относился к кулакам) обвинялся властями в куда более серьезном преступлении — сговоре с двумя бандитами, совершившими вооруженное ограбление. Бандиты якобы заплатили Новопашину за молчание маслом и другими продуктами, и тот обеспечил преступникам алиби и выдал им положительные характеристики. На него завели уголовное дело{418}. Может быть, председатель сельсовета, публично обвинявшийся в терпимом отношении к укрывателям зерна, на самом деле подозревался в более серьезном преступлении? Однако Трофим Морозов в милицейских отчетах не упоминается. Возможно, материалы дела утрачены — как уже говорилось, корпус доступных дел не полон. Но даже и в этом случае кажется странным, что свидетельства такого громкого дела исчезли без следа. Оставшиеся в живых жители Герасимовки, которых я интервьюировала в 2003 году, ничего не вспомнили о суде над Трофимом Морозовым, хотя официально утверждалось, что он проходил в деревенской школе{419}.[263] Может быть, дело в том, что мои информанты в те годы были слишком юными. Свидетели старшего поколения, с которыми разговаривал Дружников, ясно помнили, что суд проходил в Герасимовке, а одна из информантов даже вспомнила такие подробности: когда Татьяна Морозова свидетельствовала против мужа, Пашка вмешался, чтобы подтвердить слова матери, но его одернули: «Ты маленький, посиди пока»{420}. С другой стороны, эти сведения сообщила сельская учительница Зоя Кабина, чья роль в деле довольно двусмысленна: вместе с Денисом и Иваном Потупчиками (за последнего она вскоре после дела Морозовых вышла замуж), Кабина была горячей сторонницей «проводимых мероприятий». Трудно согласиться с Дружниковым, что донос Павлика на отца «можно считать доказанным фактом»{421}. Нет никаких независимых свидетельств о суде над Трофимом Морозовым, трудно даже найти подтверждение тому, что он действительно был председателем сельсовета. Кое-где встречается информация, что Трофим трижды занимал эту должность[264], но он не фигурирует в этом качестве ни в каких опубликованных или неопубликованных отчетах. Единственное письменное свидетельство о его пребывании в этой должности датируется 21 апреля 1930 года (сейчас находится в городском архиве Ирбита, который до 1931 года был административным центром Тавдинского района): Трофим Морозов просит освободить его от должности председателя сельсовета, ссылаясь на малограмотность и напоминая, что он согласился занять это место только на время{422}. Если верить этому документу, Трофим действительно был председателем сельсовета в 1930 году, но нет никаких свидетельств, что он занимал эту должность в более позднее время. Подготавливая к печати материалы дела Н—7825, сотрудник архива ФСБ попытался отыскать дело Трофима Морозова в Екатеринбурге. Ему сообщили, что оно сгорело во время пожара в 1950 году{423}, так что и с этой стороны никаких подтверждений. Неясно даже, какая статья Уголовного кодекса была предъявлена Трофиму Морозову. В материалах дела есть упоминания о «ссылке на десять лет» [206] — такому наказанию чаще всего подвергались кулаки. Это серьезная мера (формулировка «десять лет без права переписки» служила эвфемизмом смертной казни), в то время как статья Уголовного кодекса, относящаяся к подделке официальных документов, предусматривала максимальный срок в 5 лет, и лишь подделка монет и банкнот — высшую меру{424}. Конечно, Трофима могли судить по одному из пунктов 58 статьи, но полное отсутствие публичности при осуждении «врага народа» выглядит очень необычно. В папке Н—7825 есть многочисленные ссылки на дело Трофима Морозова. Но почти все они восходят к поздней стадии следствия и очень непоследовательны. 13 ноября Арсений Силин заявил: «А то что он (Павел) выказывал на своего отца и еще на кого я об этом не знал»[197]. В допросах на более ранней стадии только один свидетель упоминает о доносе — сама Татьяна Морозова в показаниях против семьи мужа: «сын на сел [наш. — К.К.] 13 лет был пионером и доказал что отец продает документы за что мужа моего посадил[и], и тогда отец и мат моего мужа стал сердит на моего сына что он доказал на отца и грозилис зарезать моего сына такая злоба тянулас до сих пор и было дело что племянник мой зло внук моего свекра внук Морозовых побил» [1]. Позже свидетельства о доносе на Трофима, помимо рассказов Татьяны, появляются в самообвинениях Сергея и Ксения Морозовых. Татьяна сыграла значительную роль в очернении своего мужа и его семьи и быстро заслужила у властей репутацию надежного источника информации. Павел Соломеин в статье «Как умер Павлик», напечатанной во «Всходах коммуны» 27 октября{425}, не подвергая никаким сомнениям правдивость рассказа Морозовой, воспроизводит ее слова о том, что она видела, как Данила избил Павлика, и что сама она отсутствовала в деревне 3 сентября. На суде в декабре 1932 года мать убитых мальчиков выступала официальным свидетелем обвинения. В газетных публикациях и книгах о Павлике ей отводилась роль своеобразной деревенской мадонны: на иллюстрациях Татьяна обычно изображалась в простом белом платке и с выражением глубокого страдания на лице{426}. Позднее она получила немалую выгоду от славы своего сына. Ее приглашали на мероприятия в родном крае, посылали в Москву и другие места на встречи с пионерами. После войны, вплоть до своей смерти в 1983 году, Морозова жила в Алупке, на привилегированном курорте в Крыму, откуда регулярно ездила в Артек — самый престижный в СССР пионерский лагерь. А задолго до этого (вскоре после убийства и суда) переехала из Герасимовки в Тавду, где ее младшие сыновья могли получить более качественное образование и где она, по рассказам местных жителей, с которыми говорил Юрий Дружников, жила в комнате, предоставленной ей ОГПУ, и пользовалась спецснабжением{427}. Конечно, Татьяна вряд ли представляла себе такое блестящее будущее, но вполне вероятно, что руководители следствия обещали ей вознаграждение за дачу нужных показаний. Женщина должна была понимать грозящую ей опасность в том случае, если бы на нее пало подозрение в убийстве или хотя бы в соучастии в нем, как это случилось с ее свекровью Ксенией. Соответственно у Татьяны были все причины поддерживать обвинения в адрес сестры ее мужа, даже если бы он, по слухам среди местных жителей, не бросил Татьяну и не сбежал к другой женщине. Впервые донос Павлика на отца упомянут в контексте длинного повествования об отношениях Татьяны с родителями мужа: «я с ним дружбы не имела потому что я жила за ихним сыном замужной и в 1931 году я с ним разошлась а потом мой муж стал издават документы ссыльным» [1]. Нельзя исключить, что вся история придумана в отместку мужу и его семье. Однако, с точки зрения следователей и суда, эти показания отличались «честной прямотой» и искренностью, а Трофима выставляли в неприглядном свете. В то же время далеко не все разделяли высокую оценку матери братьев Морозовых. Похоже, она не пользовалась популярностью в Герасимовке и производила неприятное впечатление на многих из тех, кто встречался с ней в более поздние годы, когда всенародная слава Павлика сделала знаменитой и ее[265]. Конечно, аргументы, основанные на отсутствии свидетельств, нельзя назвать непререкаемыми. Возможно, Трофим Морозов, несмотря на свое нежелание, все же занимал должность председателя сельсовета несколько раз — подробной информации о том, кто возглавлял сельсоветы в Тавдинском районе в начале 1930-х, не сохранилось. Не исключено также, что Трофим находился на этой должности в конце 1931 года, когда подделка документов для раскулаченных и спецпоселенцев была среди председателей сельсоветов достаточно распространенным правонарушением. Можно допустить, что Морозова изобличили в подделке документов, отдали под суд и приговорили к ссылке или к заключению в тюрьме или лагере. Подобное развитие событий представляется вполне вероятным в политической и культурной атмосфере, царившей тогда в Тавдинском районе. Однако даже если принять эту версию, нет никаких доказательств, что на Трофима донес его сын. Архивы секретных служб свидетельствуют, что власти обычно узнавали об изготовлении поддельных документов на противоположном конце цепочки — по ходившим в лагерях спецпоселенцев слухам о тех, кому удалось получить подобные бумаги. В любом случае председатели колхозов легко наживали себе врагов и доносы на них были обычной практикой{428}. Кроме того, они первыми подпадали под удар, когда процесс коллективизации шел слишком медленно. Может быть, Трофима выслали заодно с Арсением Кулукановым, считавшимся его приятелем, когда тот получил свой пятилетний срок ссылки. Как видно, необязательно предполагать донос со стороны сына и искать запутанную семейную драму, чтобы объяснить, каким образом гнев властей мог пасть на Трофима Морозова. Вышесказанное, разумеется, полностью не отметает предположение, что идейный мальчик, стремясь навести порядок во всем мире, прибегнул в достижении своей мечты к такому средству, — внутрисемейные доносы широко практиковались в 1920—1930-х годах. Тем не менее, подтверждений этому нет, и можно лишь вновь повторить: получи советская пропаганда такой подарок на самом деле, она бы не обошла его молчанием.Другой тип преступления
Итак, согласно Дружникову, Павлик донес на отца не из высоких моральных побуждений, а в результате банальной семейной склоки; при этом зверскую расправу над мальчиками осуществили приверженцы Советской власти. Эта версия представляет собой продукт мифотворчества в не меньшей мере, чем официальная легенда. Она основана на допущении, что правда о событиях, лежащих в основе официального мифа, не просто отличается от их официальной интерпретации (такое суждение было бы совершенно справедливо), но непременно диаметрально противоположна ей во всех отношениях. Если советская пропаганда утверждала, что Павлик был примерным учеником, значит, на самом деле он был тупым, грязным, асоциальным типом. Если официально считалось, что Павликом руководили бескорыстные гражданские побуждения, значит, в реальности он действовал из грубого корыстного расчета. Убийцами Павлика были названы кулаки, значит, на самом деле Пашку убили их антагонисты — организаторы коллективизации. В то же время теория Дружникова воспроизводит характерные для советской пропаганды представления о советском правительстве как о всевидящем и всемогущем институте. И главное, ей присуща свойственная советской пропаганде завороженность теорией заговора и конспираторов, преследующих свои особые интересы. Справедливости ради надо признать: гипотеза о двух убийцах, блуждающих по округе с намерением убить первых попавшихся детей с целью спровоцировать взрыв народного негодования, кажется более правдоподобной, чем официальная версия, согласно которой Сергей и Данила, не зная, куда именно отправились Павел и Федор за ягодами, каким-то образом сумели выследить их на пути обратно. И сегодня в России люди иногда теряются в лесу, причем не только дети, но и взрослые[266]; наткнуться при этом именно на того, кого ищешь, почти невозможно. Вообще, осуществить запланированное убийство двух детей, пусть и первых попавшихся, представляется совсем нелегкой задачей. Для этого требовалось выбрать подходящее место и ждать, пока туда не забредут жертвы. А если бы в лесу появились не двое, а шестеро или десятеро детей? Или ни одного? Где гарантии, что местные жители сразу же обвинят «правильных» убийц, а не саму власть? Откуда уверенность, что тела вообще найдут, если только убийцы сами не приведут людей на место преступления? Напрашивается вывод, что преступление все-таки было совершено в состоянии аффекта, а не продумано заранее. Это объясняет и отсутствие попытки со стороны преступников спрятать тела. В этом глухом, далеком от законности крае мальчиков мог убить любой случайно повстречавшийся уголовник, или маньяк, или, наконец, пьяный, впавший в буйство. День 3 сентября, когда случилось убийство, не был ни выходным, ни православным или государственным праздником. В то время продолжительность рабочей недели увеличили до десяти дней («декады»), и выходные не всегда совпадали с традиционными субботой и воскресеньем. Тем не менее, убийство случилось в субботу, и прошло всего два дня после церковного Нового года и меньше недели после праздника Успения — одним словом, время было вполне подходящее для пьянок[267]. Интересно, что ни один человек в Герасимовке даже не подумал, что в смерти детей виновны посторонние люди или, может быть, дикие звери. Насколько известно, никто не вспомнил и о «кровавом навете», хотя в Белоруссии, западной части Российской империи, откуда происходило большинство жителей деревни, обвинения евреев в «ритуальных убийствах» получили наибольшее распространение и, судя по материалам, проявлений антисемитизма в Тавде хватало. Никто не попытался также обвинить в преступлении спецпоселенцев, хотя заподозрить какого-нибудь беглеца в убийстве случайно встретившихся ему мальчиков из страха, что те выдадут его властям, было бы вполне логично. С самого начала люди почему-то не сомневались, что виновников следует искать среди жителей деревни. Этот поиск «внутреннего врага», вообще-то, не типичен для деревенской общины, но его можно отчасти объяснить обстановкой взаимного недоверия, активно насаждавшегося в раннесоветские годы, когда буквально любой мог попасть в категорию «врагов народа». Сталинская политика «разделяй и властвуй» возымела свое действие и в Герасимовке. К тому же эту часть Тавдинского района всего за двадцать лет до происшествия заселили выходцы из другой части Российской империи, так что не все из них раньше были земляками, и община представляла собой своего рода искусственное образование, не обладавшее традиционными внутренними связями, помогавшими противостоять внешнему давлению. Жители деревни обвиняли друг друга по принципу «нападение — лучшая защита». Из сотен страниц показаний становится очевидно, насколько там была распространена и общепринята ложь. Данила, автор самых изобретательных и фантастических выдумок, предстает особенно ненадежным свидетелем. Но и Сергей Морозов, который по собственной инициативе донес на Данилу, а также Владимир Мезюхин и его жена (ее, как заявил на суде сам Мезюхин, до 1917 года судили за воровство[233]), выглядят немногим лучше. «Честная прямота» Татьяны Морозовой, которая ни разу одинаково не рассказала одну и ту же историю о том, как Ксения назвала детей «мясом», также не вызывает доверия. Каждому жителю деревни было что скрывать: утаенное зерно, нелегальную торговлю лошадьми или урожаем, конфликты с родственниками и соседями. Защищаясь, сосед обвинял соседа, чтобы продемонстрировать свое «сочувствие Советской власти» и перенаправить потенциальную угрозу. Так, Хима Кулуканова не только заявила, будто Ксения говорила ей, что Сергей вместе с Данилой убили мальчиков, но и сообщила, что Сергей был до революции осужден «за хулиганство» [125]. Готовность делать заявления в угоду следствию нарастала по мере продвижения дела и осознания людьми, насколько серьезно относится к нему власть. Постепенно у жителей деревни стали складываться устойчивые представления о виновниках преступления. К началу процесса большинство односельчан были готовы видеть убийц в тех, на кого им укажут [162об]. Однако пока официальная версия «кулацкого заговора» не влияла на общественное мнение, жители Герасимовки и местные милиционеры считали, что убийство совершил Данила Морозов, возможно, с помощью одного или обоих братьев Шатраковых. Эту же точку зрения высказал Сергей Морозов еще на первом допросе в милиции 7 сентября. Показания Сергея были подкреплены ходом событий: Данила отсутствовал в деревне вечером 3 сентября, а 5-го рассказал деду, что в лесу нашли тела мальчиков, и у одного из них три раны, а у другого — две. Сергей считал, что к преступлению имели отношение и младшие Шатраковы, так как они были злы на Павла за донос о спрятанном у них ружье [12]. Другие жители Герасимовки рассуждали в этом же направлении. Они считали Павлика ответственным за конфискацию ружья Шатраковых [12, 13, 14, 26об, 27, 36об] и знали о скандале, произошедшем в конце августа из-за конской упряжи, которую Павлик требовал от деда сдать государству [25]. Жители деревни в основном верили или говорили, что верят в то, будто Павлик доносил на односельчан, и приписывали его гибель этому обстоятельству. Разумеется, это не более чем догадки, которые подхватило следствие. Нет никаких твердых доказательств тому, что убийство Павлика и Федора действительно произошло в то время, которое значится в протоколах, и в том месте (или поблизости от того места), где были найдены тела, а также по тем мотивам, которые высказали односельчане. Если принять во внимание, что мальчики вызывали у односельчан сильную неприязнь, многие из местных жителей могли совершить убийство или быть в нем замешанными и покрывать убийц. Единственный, кто, безусловно, не мог убить мальчиков, — это Арсений Силин, у которого, как свидетельствуют данные медицинского обследования [130], со времен Первой мировой войны не хватало двух пальцев на правой руке. Из протоколов допросов и из рассказов некоторых очевидцев складывается впечатление, что насилие в деревне было обычной практикой. Ругательства в адрес Павлика («проклятый пионер»[101], «сопливый коммунист»[109, 110], «паскуда» [192]) соответствуют тональности зловещих шуток о «мясе» и «телятах» (ни Ксения, ни Татьяна не отрицали, что такой разговор действительно имел место, хотя и по-разному его передавали). Позднейшие рассказы очевидцев все еще передавали то безразличное любопытство, которое сопутствовало убийству. Мария Сакова вспоминала: когда принесли из леса обнаруженные тела Павлика и Федора, деревенские дети не только не испугались, как, вероятно, сделали бы городские школьники средних классов, но, напротив, тут же побежали смотреть на покойников. «Тепло было, вот как! …Их так привезли в мешках… Нисколько не страшно… Рука у него была наполовину отрезана», — с воодушевлением вспоминала она{429}.[268]Дело против Данилы и Ефрема
В принципе убийцей вполне мог быть местный житель, особенно кто-нибудь из деревенской молодежи. Немецкий криминолог Дитер Арлет исследовал насилие, которое подростки совершают вне дома. Результаты показали: частота использования ножа в качестве орудия убийства, выбор лесного массива как места преступления и мотив озлобления и страха, что собственный проступок выйдет наружу, если не заставить жертву замолчать, превышает среди этого контингента преступников среднестатистический уровень. Из дел, изученных Арлетом, также следует, что подростки редко пытаются спрятать тела своих жертв — в крайнем случае оттаскивают их в кусты или забрасывают листьями. Неудивительно, что такого рода преступления обычно быстро раскрываются — в выборке Арлета более половины убийств раскрыты за три дня[269]. Конечно, эти данные относятся к иной эпохе и к иной стране, и, не имея «контрольной информации» о предпочтениях других категорий убийц, невозможно сказать, насколько специфичной является подростковая преступность с точки зрения modus operandi. И все же стоит задуматься над возможностью того, что убийство Морозовых стало результатом столкновения подростков. Это предположение не выглядит неправдоподобным. В сталинскую эпоху зарегистрирован целый ряд случаев, когда старшие дети убивали младших. Например, 26 августа 1947 года двенадцатилетний Василий Шелканов был убит в лесу около детского дома группой пятнадцати- и шестнадцатилетних подростков, разозленных тем, что Василий в качестве председателя совета воспитанников доносил на них детдомовскому начальству{430}. Какими данными в пользу версии о конфликте сверстников мы располагаем? Чрезвычайно противоречивые показания свидетелей по делу об убийстве Морозовых сходятся в одном: Павлик активно занимался доносительством, или, по крайней мере, его в этом подозревали. Незадолго до гибели Павлика подозревали в том, что он стал причиной конфискации ружья у Шатраковых. Сохранились многочисленные показания о его драке с Данилой Морозовым из-за конской упряжи. Столкновение между Данилой и одним из братьев Шатраковых, с одной стороны, и Павликом с братом, с другой, легко могло перерасти в драку. После обмена ругательствами и первыми ударами, если кто-то схватился за нож, стычка могла превратиться в серьезное побоище. При таком повороте событий импульсивное, бездумное, но оттого не менее зловещее убийство кажется не только возможным, но и вполне вероятным исходом дела. Из списка предполагаемых преступников, который поначалу составили односельчане, можно с большой степенью определенности исключить Дмитрия Шатракова. Он представил справку, что находился 3 сентября с раннего утра до позднего вечера на призывном пункте [16, 65]. Более того, крайне сомнительно, что, будь он на самом деле убийцей, он стал бы ликовать при обнаружении тел 6 сентября. Версия же о виновности Данилы и Ефрема выглядит, напротив, вполне вероятной. В самом деле, они оба признались в совершении преступления, хотя, конечно, эти признания вызывают сомнения, так как их могли выбить из подсудимых силой. Ефрем впоследствии показывал, что на допросе подвергался избиениям со стороны Титова и признание не подписывал [231]. Если первое утверждение сегодня проверить уже невозможно (хотя оно выглядит совершенно правдоподобным), то второе явно не соответствует действительности: в правом нижнем углу обратной стороны протокола соответствующего допроса от 8 сентября есть его подпись [24][270]. Как бы то ни было, Ефрем Шатраков очень быстро стал отрицать свое участие в преступлении. Он занял эту позицию уже 9 сентября на очной ставке с Данилой [23] и придерживался ее на дальнейших допросах. Но это говорит не столько о внутренней стойкости невиновного человека, сколько о воздействии внешних факторов. Как только к расследованию подключились представители районного отделения ОГПУ — 11 и 12 сентября Карташов, а с 16 сентября Быков — и начал оформляться нарратив «кулацкого заговора», милиция потеряла интерес к банальной истории с Шатраковыми, и версия убийства в отместку за донос об утаенном ружье отпала. Соответственно, на Ефрема больше никто не оказывал давления. Более того, 14 ноября с него было снято обвинение, и он перешел в статус свидетеля. В этом качестве Ефрем Шатраков предстал на суде в ноябре 1932 года, где снова отрицал свою вину и (впервые за все время следствия) назвал себя другом Павла [231]. Данила более последовательно принимал вину на себя, хотя порой и начинал отрицать свою причастность к преступлению, как, например, на первых допросах, которые вел Федченко [172, 174]. Однако его показания всегда противоречивы и полны самых странных и неправдоподобных деталей. По-видимому, он легко поддавался давлению и старался говорить то, чего от него требовали. Ярким примером странных заявлений Данилы могут служить его слова на суде о том, что он «выписывал газеты и книги» [217] и читал их на досуге. В глухой Герасимовке, где книги и газеты можно было найти только в читальне (и то не всегда), это хвастовство выглядело нелепым и не могло произвести должного впечатления. Признания Ефрема и Данилы, конечно, не доказывают их виновности, но и не снимают с них подозрения в причастности к преступлению. В отличие от многих, более поздних, показаний (например, признания Сергея Морозова, данного Федченко [179]) эти заявления звучат близко к естественному крестьянскому наречию. Беспристрастные показания Ефрема о том, как были совершены убийства, выглядят особенно грубыми и исполненными ужасающей достоверности:«я поясняю что 1932 года 3 сентября боронил наполи пашню и когда пашню даборонил тогда поехал домой еще было рана сонце была высока скоко часов незнаю как унас часов нет но сонца было еще высоко я когда приехал домой то коний отпр[аг] [конец слова зашит в подшив] двол [увел] вполя А сам пошол наполя где боронил Морозов Данила и мы сним были рания сговорившы чтобы убит Морозовых братев Павла и фодора мы сни сговорили субботу у тром когда я шатраков вол коня споля А морозов Данила ехал напашни утром 3 сент[ября] и мне Данила сказал что сегодны пойдут в ягоды наболота Морозовы [?] а мат ихная Морозова уехала настанцею и ты приходи и мыих надороги стретили и убов или зарежым Когда я шатроков пришол к Морозову данили и принос собой ножек небольшой мы тогда пошли недороги и стретили Морозова Павла и Фодора недолока от пашни в лесу и я тогда шатроков потекал к Морозову Павлу и ткнул убруха ножом а Морозов Данил побежал за фодором влес поймол итоже зарезал ножом в грут А от мине Морозов вырвался надороги и побежав в лес тогда комне подюежал Данила мы Морозова Павла поймали и зарезали и надели ему мешок на голову чтобы он хотя и будит жыв что [но?] чтобы домой непришол» [24].Данила, в свою очередь, дал очень сходное описание обстоятельств преступления, хотя и отрицал свое непосредственное участие в убийстве:
«я морозов Данила 1932 га 3 сентября ехал баранить напашну А шатраков Ефрем вер коня споля дамой и ранше сговарились где нибут их убом или зарежым как сморозовым жыву рядом я видал что оне пойдут в ягоды и я Морозов Данил сказал шатракову Ефрему что Морозов Павел и фодор пойдут вягоды ты комне приходи напашну и мы стобой пойдом и так убом и комне пришол шатраков ефем и мы пошли сним дорогой и морозова Павла и фодора я морозов Данила я[271] стретили надороги я морозов Данила схватил заруку Павла а шатраков ефем ножом порнул Морозова Павла а морозов Федор тогда побежал в лес А павел упал надороги головои вкусты мы тогда е вобросили[272] и побежали за Морозовым Федором я морозов Данил поймол Морозова фодора поймал а шатраков порнул с его ножом в бруко и колода он упал тогда шатраков ефем резнул по горлу Морозова Федора[273] и мы тогда побежали на дорогу прибыжали где ведоли [т.е. видели] морозов Павла его надороги нет тогда мы пошли домой и шатраков ножек внес тоже домой» [23].Выразительные детали этих показаний содержат указание на то, что столкновение произошло на дороге и что оба мальчика пытались убежать в лес. Эта подробность объясняет местоположение тел и их странные позы, описанные в протоколе. Отсюда же можно предположить, что ножевой порез на руке Павлика появился вследствие ожесточенной рукопашной схватки с противником и не был делом рук хорошо подготовленного убийцы. И, наконец, Ефрем первым объяснил, каким образом на голове Павлика оказался мешок. К этой детали следствие вернулось лишь много позднее, когда Сергей Морозов заявил, что сам надел мешок на голову внука. В целом описания убийства, сделанные Данилой и Ефремом, выглядят более правдоподобными и содержат больше деталей, чем те, которые впоследствии давали другие обвиняемые, очень туманно рассказывавшие о месте преступления и своих конкретных действиях. Так, например, Сергей Морозов в показаниях, взятых у него Федченко 6 ноября, утверждал:
«Пойдя в лес, мы увидели что из лесу идут Морозовы Павел и Федор с наполненными корзинами ягод. Повстречавшись с Павлом Морозовым я подошел к нему вплотную и ударил его ножем в грудь, Павел закричал и в ту же минуту Федор побежал прочь, я подумав, что Федор может рассказать о присшедем крикнул Данилке “Держи его” Данилка бросился за Федором, держал его и стал держать, кончив с Павлам, я подошел к Федору и нанес ему тем же ножем несколько ран, при этом Федор сильно закричал. После совершенного Даниил Морозов из леса убежал. Я же кончил с Морозовым, одел не голову Павлу Морозову его же[274] мешок и потом пошел домой» [179—179об].Из этого рассказа следует, что Данила отправился в лес на заранее запланированное убийство без оружия, и это выглядит довольно странным. Кроме того, сам рассказ состоит изобщих, расплывчатых формулировок вроде «Данилка бросился за Федором…» и т.п. Версия о виновности Сергея выглядит маловероятной и с практической стороны, если учесть его почтенный возраст (вспомним, что, согласно сделанному при аресте медицинскому освидетельствованию, у Сергея была «старческая дряхлость» [136об]) и недоразумение с одеждой, которая была на убийцах в момент совершения преступления. Судя по протоколам, в доме Морозовых обнаружили только один комплект запачканной кровью одежды. Даже если принять официальную версию следствия, что одежда была перепачкана кровью потерпевших, невозможно поверить в то, что ее носили два разных человека, причем одному забрызгало кровью только рубашку, а другому — только штаны. Скорее следы крови остались бы на всей одежде преступников, когда те боролись с вырывавшимися Павлом и Федором. Единственная правдоподобная гипотеза состоит в том, что окровавленная одежда принадлежала одному человеку — и, по результату экспертизы, им был Данила. Что касается Ефрема, то у него не нашли никакой уличающей его одежды, но ему пришлось объяснять происхождение явных следов крови на ноже. По его словам, он хранил нож в амбаре и использовал его для шпаклевки пола в избе (для этой цели использовался простейший шпаклевочный материал, состоящий из земли, смешанной с кровью животных) [91]. Судя по этому находчивому объяснению и по протоколам его допросов в целом, Ефрем был умнее и хладнокровнее Данилы и мог заранее избавиться от улик. Но отчетливее всего на виновность Ефрема указывает другое: при аресте он заявил, что ему всего 15 лет [24]. Он повторил это Быкову 22 сентября, назвав годом своего рождения 1916 [90]. В действительности Ефрему было девятнадцать или двадцать, что подтверждается записью в приходской книге местной церкви. (Эту запись следователи занесли в протокол дела 4 ноября [188].) В русских деревнях до окончания Великой Отечественной войны не было принято праздновать дни рождения, а появление ребенка не регистрировалось до его крещения, которое могли отложить на месяцы и даже годы. Поэтому путаница в возрасте, конечно, вполне возможна. Когда Быков указал Ефрему на это несоответствие, тот ответил: «Сколько мне лет, я не знаю, но мне мать говорила, что мне 15 лет, т.е. мой возраст» [89]. Неточность такого масштаба вряд ли объяснима обычной небрежностью. Неграмотные крестьянки могли не знать даты рождения своих детей, но они обычно помнили порядок, в котором дети появились на свет, и при наличии восьми братьев и сестер у Ефрема его мать могла вычислить примерный возраст сына. Для подобной лжи имелись серьезные причины. По закону, действовавшему с 1919 по 1935 год, преступники до 16 лет по многим статьям, включая статью об убийстве, приговаривались к более мягкому наказанию и их дела не рассматривались в обычных судах. Смертная казнь не применялась к преступникам младше 18 лет при любых обстоятельствах{431}. Один из заключенных, если, конечно, верить его показаниям, утверждал, что слышал, как обвиняемые в убийстве братьев Морозовых обсуждали этот вопрос в тюремной камере во вторую неделю октября. Как бы то ни было, Ефрем стал полностью отрицать свою причастность к убийству как раз тогда, когда следствие заставило его признать свой подлинный возраст. Теперь ему угрожало не несколько лет в колонии для малолеток, а смертная казнь. Возможно, именно это обстоятельство, вне зависимости оттого, насколько он на самом деле виновен, придало Ефрему твердости на допросах. Вопрос о возрасте служит, пожалуй, самым сильным косвенным свидетельством в пользу того, что совесть Ефрема была нечиста. Но в его с Данилой показаниях есть и другие мелкие детали, указывающие на то, что они имели практическую возможность совершить убийство. Ефрем и Данила сговорились работать 3 сентября на соседних полях [22, 23, 25]. Даже на поздней стадии следствия Ефрем признавал, что видел Данилу в этот день, хотя и отрицал, что они разговаривали. К тому же ни у Ефрема, ни у Данилы нет алиби на значительные отрезки этого дня, и главное, неизвестно, где они находились ранним вечером 3 сентября. Два свидетеля подтвердили, что видели, как Ефрем ушел с поля между шестью и семью часами [160, 167]. Двое других видели его поблизости от поля незадолго до этого времени, когда тот зашел к Прохору Сакову за папиросой [36, 168][275]. Но есть еще один очевидец, пятнадцатилетний Афанаст Волков; он работал неподалеку от Ефрема, находившегося в поле с девяти утра, и показал, что не видел его, когда сам возвращался с работы в четыре часа [161]. Таким образом, Ефрем мог прервать работу и отлучиться с поля примерно между 3.30 и 6 часами вечера. На этот отрезок времени нет никаких свидетельств о его местопребывании[276]. Что касается Данилы, то на его перемещения в этот день почти никто не обратил внимания, хотя, если верить показаниям, которые дед Данилы дал Титову 7 сентября, Данила ушел из дому после обеда, приблизительно после полудня, и не возвращался дотемна. Иными словами, Данила вполне мог встретиться с Ефремом часа в четыре или в пять [12]. Сергей и Ксения Морозовы на разных стадиях следствия высказывали предположения, что их внук мог быть виновен в преступлении. Есть основания утверждать, что позднейшие признания стариков были им продиктованы, но интересно, что Сергей Морозов высказал подозрения в адрес Данилы практически сразу — 7 сентября [12]. Похоже, что у Сергея, как и у его внука, была склонность рассказывать следствию разные истории — здесь припоминается его ничем не спровоцированный рассказ Титову и Потупчику о Мезюхине и жеребенке Кулуканова (416 протокол от 12 сентября) [41]. Однако если Сергей действительно был замешан в убийстве, хотя бы в качестве его вдохновителя, то странной выглядит попытка Сергея навести следствие на внука и тем самым, в конечном счете, на себя самого. Наиболее убедительной мне представляется третья трактовка истории этого убийства, занимающая некое промежуточное положение между официальной версией и гипотезой Дружникова. Дело, я думаю, обстояло примерно так. Трофим Морозов, доведенный до отчаяния непосильными для него обязанностями председателя сельсовета и опасаясь ареста или преследований, исчезает из Герасимовки. У него натянутые отношения с женой, а родственники, рассорившиеся из-за «проводимых мероприятий», не оказывают ему никакой поддержки. Вся ответственность за хозяйство легла на его старшего сына Павла, которого вместе с матерью и братьями постоянно задевал и оскорблял живший по соседству дед Сергей, воспринимавший уход Трофима как позор для членов его семьи. Ходили слухи, что Трофима сослали, но никаких конкретных вестей о нем в деревню не доходило. Павел рос заброшенным, несчастным, возможно даже, психически неуравновешенным подростком. Однако с открытием в Герасимовке сельской школы в 1931 году перед ним открылись новые возможности. В 1932-м он начинает принимать участие в деятельности агитбригад и обнаруживает, что доносы на окружающих служат прекрасным средством привлечь к себе внимание властей. И он начинает «доказывать» на всех, кто, с его точки зрения, нарушает установленные порядки. Во время сбора урожая в 1932 году ситуация максимально накаляется. Сначала Павел принимает участие в обыске в доме Шатраковых и помогает обнаружить спрятанное ружье, потом затевает перебранку с двоюродным братом из-за конской упряжи. Доведенные до бешенства старшие ищут случай проучить Пашку. Ефрем на всякий случай — вдруг пригодится — достает хранящийся в сарае нож, который обычно использовался для шпаклевки пола. 3 сентября Ефрем и Данила боронили соседние поля. В какой-то момент после полудня они сделали перерыв, чтобы пойти в лес покурить. Там они наткнулись на Павлика и Федора, возвращавшихся из похода за ягодами. Началась драка. Ефрем вытащил нож и серьезно ранил пытавшегося защищаться Павла. Федор с криком бросился бежать, Данила сшиб его с ног каким-то тупым предметом, возможно палкой. Ефрем подбежал и ударил Федора ножом, а потом прикончил Павла. После убийства Данила и Ефрем запаниковали, бросили тела и убежали, почти не приложив усилий к тому, чтобы спрятать трупы. Они натянули на голову Павлику мешок, чтобы тот не смог уйти в случае, если на тот момент он еще был жив. Однако Данила, то ли из бравады, то ли, наоборот, от грызущего чувства вины, намекнул деду и бабке на произошедшее. Когда началось следствие, все предполагали, что оба парня как малолетки отделаются сравнительно легко, и никто, по крайней мере из старших, не предпринимал попыток их выгородить. Однако вскоре оказалось, что власти добиваются совсем иного — раскрытия кулацкого заговора. С этого момента жители деревни начинают отчаянно выгораживать каждый себя и обвинять других. Вскоре у следователей оказывается больше подозреваемых в кулацком заговоре, чем они в состоянии переварить: Книги, Шатраковы, Кулукановы, Силины. Тогда эту массу подозреваемых начинают постепенно просеивать, выделяя главное ядро — группу родственников, связанную брачными узами и близким соседством. На фоне темных делишек представителей этого клана подвиг пионера-героя, который отверг кровное родство во имя гражданского долга, должен был выглядеть особенно выигрышно. Власти стремились упорядочить хаос и сделать из Павлика подходящий объект для канонизации в советском пантеоне. Для этого им потребовалось придать конфликту сына с отцом идейный характер и превратить последнего в достойного противника. История с доносом Павлика на отца, относящаяся к осени 1931 года, подрывала достоверность всей истории (оставалось неясным, почему родственникам потребовалось столько времени, чтобы отомстить мальчику за столь вопиющее нарушение традиционной морали крестьянской семьи), однако идеально соответствовала стереотипу «молодежного бунта». По логике легенды, отцу Павлика недостаточно было просто убежать, малодушно оставить свой пост, как выразились бы советские агитаторы. Такой поворот событий выявил бы серьезные недостатки в деятельности руководства области. Нет, исчезновение Трофима нужно было связать с причинами иного рода, а именно с его принадлежностью к тому самому миру коррупции, отсталости и невежества, с которым так яростно боролся Павлик. В любом случае дальнейшие рассуждения по этому поводу останутся умозрительными. Мы вновь наткнемся на отсутствие профессиональной патологоанатомической экспертизы, на пробелы, противоречия и вопиющие нелепости в письменных показаниях, на недостоверные и своекорыстные воспоминания последних старожилов. Герасимовские старики, с которыми я говорила в 2003 году, были убеждены, что мальчиков убили те, кого расстреляли за это преступление. По словам Марии Саковой, «их (братьев Морозовых. — К.К.) зарезали как баранов — кто еще мог бы так сделать?» Местное предание давно превратило семью Морозовых в чудовищ, от которых, когда они выходили на улицу, прятались дети и которые жили хуже всех в деревне на общем фоне суровой, беспросветной жизни{432}. Можно с большой степенью уверенности сказать: убийству братьев Морозовых суждено навсегда остаться нераскрытым. Кости детей покрыты слоем бетона, а следы преступления уничтожены семью десятками сибирских зим. Столь же туманным остается вопрос о том, что же представлял собой «настоящий» Павлик Морозов. Мы не знаем о нем ничего достоверного, кроме самых элементарных вещей: он рос у брошенной мужем матери в нищей, отдаленной деревне и умер насильственной смертью. Может быть, он питал какие-то иллюзии по поводу своего членства в пионерской организации или по крайней мере своей деятельности активиста; возможно, он доносил на односельчан включая собственного отца. Но то, что было когда-то живым мальчиком, давно исчезло и превратилось в фантазии, вымыслы и прямую ложь, сочиненную советскими мифотворцами — провинциальными журналистами, следователями и, не в последнюю очередь, земляками Павлика, которые, наряду с идейными лидерами, были убеждены, что точно знают, кто и почему совершил это преступление.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Легенда о Павлике Морозове напоминает раскрашенную шкатулку, подаренную герасимовскому музею группой пионеров из Курска. На вид кажется, что ее назначение очевидно и понятно. Однако если открыть шкатулку, то оказывается, что внутри она пуста. Непосредственная функция изделия утрачена — оно перестало быть вместилищем какого-либо конкретного содержимого и превратилось в ритуальный объект, в предмет, который когда-то имел свое назначение, но в новых обстоятельствах его прямая функция отмерла, и теперь восстановить ее можно только умозрительно. Так и легенда о Павлике Морозове: она не обладает раз и навсегда определенным значением и за десятилетия Советской истории многократно преображалась. Пересматривалась буквально каждая подробность в описании как самого героя, так и его жизни: менялись цвет волос и близкие друзья Павлика; имена тех, перед кем он разоблачил своего отца; число людей, на которых он донес; наконец, характер самого убийства. Различные мотивы легенды приобретали по ходу времени разный вес: одни выставлялись на первый план, другие, напротив, задвигались в тень. Павлик представал то пионером-героем, то образцом гражданской доблести в более широком смысле, проявившейся, в том числе, в бесстрашном разоблачении собственного отца, то мучеником и жертвой кулацкого заговора. Само имя Павлика Морозова превратилось в понятие, которое в семиотике принято называть «плавающим означающим»: оно постоянно дрейфовало в океане значений и отражало менявшиеся представления об идеальном детстве и подростковом героизме. Авторы путеводителя по Москве, упрекавшие скульптора Рабиновича в том, что его монумент Павлику Морозову — это «набор символов», а не изображение реального человека, упустили из виду самое главное: назначение памятника именно в этом и состояло[277]. Более того, со временем преобразовывалась моральная составляющая легенды. Для поколения, выросшего в 1930-е годы, когда история Павлика была еще недавним событием, поступок мальчика, разоблачившего отца и других родственников, ценою в жизнь служил примером высшего самопожертвования, почти недоступного простым смертным. Такой подвиг вызывал благоговение. «В те дни мы все открыто смотрели перед собой», — вспоминает женщина, родившаяся в середине 1920-х{433}. Но в то же время дети традиционно продолжали презирать наушничество в обычном смысле, так что, в отличие от гайдаровского Тимура, Павлик вызывал восхищение, но не любовь. А образы детей военного времени, погибших, но не выдавших тайны, и вовсе оттеснили фигуру Павлика на задний план. Он стал лишь частью определенного этапа в истории страны, ее прошлого, скрывшегося в тумане. Процитированная мною в главе 7 фраза из мемориальной статьи в «Огоньке» — «застыл в бронзе на Красной Пресне юный разведчик грядущего»{434} — точно выражает конфликт между динамическим устремлением в будущее и статической, ритуализованной формой. В послесталинскую эпоху нарастало разочарование в идеологии установившейся системы, и Павлик в глазах враждебно настроенных к существовавшему режиму людей превращался в олицетворение всего плохого, что было в советской истории. В этом смысле книга Юрия Дружникова, развенчивающая миф о Павлике, стала своего рода памятником «с обратным знаком», самым значительным из созданных в этот период. По мере того как официальное отношение к материальным ценностям и частной жизни советских людей становилось более терпимым, проповедь самопожертвования, составлявшая основное содержание мифа о Павлике, все дальше отходила от основных социальных ценностей советского общества. Один мужчина 1939 года рождения вспоминал, что школьники заучивали биографии Павлика Морозова и других пионеров-героев, будто законы Ньютона{435}. Однако жизнь культурной вселенной во все большей степени начинала строиться по закону теории относительности, и притяжение (как в смысле физических законов Ньютона, так и в смысле метафизической легенды о Павлике) перестало играть роль жизненного ориентира. Презрение и забвение по отношению к Павлику, воцарившиеся в посткоммунистическую эпоху, когда его статуи убирали с площадей, музей в Герасимовке закрыли, а улицы, носившие его имя, торопливо переименовывали, отражали лишь логическое развитие начавшихся ранее процессов, а не кардинальную смену ценностей. История мифа о Павлике может служить предостережением для всех, кто пропагандирует гражданскую доблесть, создавая модели для подражания. Миф, оплаченный страданиями обвиненных в преступлении и моральной деградацией авторов легенды, в конечном счете не сработал. Он не только не создал культуру, в которой доносительство воспринимается как добродетель, но и привел к тому, что любое сообщение о правонарушении стало расцениваться обществом как позорный поступок; не только не сумел романтизировать акт самопожертвования, но и усилил убеждение, что жертвовать собой бессмысленно[278]. При этом необходимо отметить, что цель реконструкции мифа о Павлике состоит не просто в извлечении на поверхность археологических реликтов далекого прошлого. Она не просто указывает на идеологические просчеты советской системы, но обнажает несоответствие между силой общественного гнева по поводу убийства детей и равнодушием к ужасающему положению детей в реальности этого же времени. Смерть братьев Морозовых вызвала всенародное возмущение. Но мало кто обращал внимание на бесчисленные случаи жестокого обращения с детьми, в том числе в детских учреждениях, если эти происшествия не имели прямого отношения к идеологии. Как показано в опере Бенджамина Бриттена «Питер Граймс», детоубийство легко становится объектом массового ажиотажа, который имеет большее отношение не к собственно детям, а к взаимной ненависти и страху взрослых, стремящихся упорядочить хоть какую-то часть своего повседневного существования[279]. Нельзя сказать, что такие вспышки свойственны всем временам. Например, в начале XIX века в России не зарегистрировано никаких общественных скандалов, связанных с убийствами детей инородцами. Такие случаи характерны для тех мест и эпох, где и когда возникает тревожное предчувствие исторических перемен, которое находит свое выражение в попытке придать сакральный статус какому-либо периоду жизни, в данном случае детству. При этом речь, как правило, идет не о реально прожитом детстве, а о представлении взрослого человека о том, каким было (или должно было быть) мое детство[280]. Помимо этого, всегда существует опасность, что в заботе взрослых о подрастающем поколении заложено стремление навязать детям собственные абстрактные принципы без учета желаний и потребностей самих детей. Здесь важно сохранить баланс между стремлением оградить детей от опасностей и признанием их права на автономию{436}, в исключительных случаях включающую в себя право протеста против взрослых членов семьи. Воплощение на практике этого идеального синтеза часто оказывается очень трудной задачей. Морозов-сын противопоставлен отцу, он ищет защиты от деспота отца у деспота государства. Легенда о Павлике ставит нас перед нерешаемой этической дилеммой: что должен был сделать Павлик в подобной ситуации? Даже те, кому посчастливилось никогда не сталкиваться с подобного рода выбором, не могут остаться равнодушными к этому вопросу.ПРИЛОЖЕНИЕ
ЦА ФСБ Н-7825 «Дело об убийстве братьев Морозовых», т. 2.
242 л. Документы подшиты в папку. На обложке — зачеркнут более ранний шифр:Следственное дело № 374. Морозова Сергея Сергеевича, Морозова Даниила Ивановича, Кулуканова Арсентия Игнатьевича, Силина Арсения Никитовича и Морозовой Ксении Ильинишны.
На передней странице обложки:
СССР НКВД: Управление по Свердловской области Дело №…… Дело об убийстве Павлика Морозова Том №_____ Начато «» 193 «» 193
На внутренней стороне задней обложки два штампа:
Листы сверены и сброшюрованы. Техническая Лаборатория Учетно-Архивного отдела КГБ при СМ СССР. С напечатанной подписью: Прохоров
Зафильмовано. Техническая Лаборатория Учетно-Архивного отдела КГБ при СМ СССР. 9 апреля 1965. Следует подпись (нрзб.)
Перед первым пронумерованным листом в деле имеется страница с записью (без заголовка) от 15 мая 1941 («Вход № 4408») о том, что дело передается «для приведения в порядок и хранения в архиве, т.к. последнее имеет историческое значение», за подписями Ушакова… и Ушенина… Поперек страницы карандашом написано: «Обеспечить особое хранение».
Разбирать материалы дела довольно сложно. Документы, особенно самые ранние, «деревенские», написаны на сильно вылинявшей, потертой и пожелтевшей бумаге, синие чернила выцвели и приобрели фиолетовый оттенок, первые слова строчек часто невозможно прочесть, так как они зашиты. К тому же документы теперь сложены в последовательности, установленной, по-видимому, архивистом Учетно-архивного отдела КГБ, которая не соответствует последовательности листов в деле, когда оно использовалось для показательного суда. Поэтому соотносить ссылки в Обвинительном акте с материалами, сохраненными в деле № Н-7825, не представляется возможным. Листы 119-122 в деле отсутствуют. Месторасположение этих материалов не указывается, и восстановить их содержание хотя бы приблизительно нельзя. Полный перечень материалов в деле см. на сайте http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/childhood/TsAFSBH-7825vol[1].2WEB.pdf. Небольшая подборка материалов, сделанная мною, наглядно отражает характер документации на двух стадиях следствия: более ранней, когда ее вел участковый милиционер Я. Титов, и более поздней, когда уполномоченный из Нижнего Тагила Я. Федченко был ответственным за допросы обвиняемых.
Л. 1 [Из Протокола заявления Татьяны Морозовой участковому милиционеру Суворову[281] Протокол заявления 32[г.] сентября 6 дня Я уч. инспект. 4 ч-ка тавдинского района с/ч принял заявление с г-нки Морозовой Татьяны Семеновны 35 лет ниграмотноя, б/п, замужняя, в доме имела [?] детей 4 человек соц. положение беднячка сослов нисудимая изо исходящая из р-н Горасимовко по с/с дер. Гирасомовке заложное показание предупреждена от 25 у.к. посуществу дела пояснила что я родни[282] с дер. Герасимовки [но] имела сродственников со стороны мужа [?] свекор свекровь и больше [?] ник[ого] но я сним дружбы нимела потому что я жила заихним сыном замужной и в 1931 г. я сним разошлась а потом мой муж стал издават документы ссыльным но этот сын наш [?] 13 лет был пионером и доказал что отец продает документы за что мужа моего посадил[и], и тогда отец и мат моего мужа стал сердит на моего сына что он доказал на отца и грозилис зарезать моего сына такая злоба тянулас до сих пор и было дело что племяник мой зло внук моего свекра внук морозовых побил моего сына назло приходил в с/с и [Л. 1об] заявлял м-ру титову а потом после чего 2-го числа я уехал[а в] тавду первозит м-роху телят [?] откуда приехала 5-го числа и уминя не оказалось дитей старшего Павла и 2-го Федора и я когда пришла домой начала искат, а потом сказала и потом поехали поселе по селу [?] на участки на точную […] Я сижу у окна вижу идет гражданка Кулуканова Хима к своему отцу Морозову Сергею, и нимного погодя идет Кулуканов арсентий тоже к Морозову, после чего к Морозову пришол Силин арсентий босой и бетшибки [= без шапки?] и тогда мне стало подозрительно зачем сдвигаетс к морозову сергею народ и после чего от морозова ети гр-не вышли и вышол Морозов и его жена Аксинь и выди Морозова дельно и пошли кулуканову арсентию нимного спустя время вышел все от Кулуканова и пошли к силину Арсентию откуда разошлись по дальше и тогда и подумала что может они похитили моих дитей а сичас над ним [?] зловеряются потом я пошла опять к м-ру, каковой выгнал народ искать моих детей, и тогда детей моих нашли за деревней в лесу разрезанных, а поетому у подозрении в убийстве было на Морозова Сергея на моего свекра и на его внука морозова данила и больше по делу пояснит ничего немогу сослов написана правильно и зачитано в слух […] принял уч. милеценер 4-го уч-ка Суворов. [Рукопись. На простой бумаге. Текст местами стерт, написан очень небрежно и читается с большим трудом.]
Л. 6 [Из Протокола подъема трупов П. Т. и Ф. Т. Морозовых] Протокол подъема трупов 1932 года 6 сентября час дня я уч. инспектор Титов в присутствии Ермакова Кирила Потупчика Дениса Ермакова Петра Прокоповича Осипа Пуляшкина Егора Книги Максима островского Андрея Шатракова Дмитрия 1932 года 6 сентября было заявлено морозовой татьяной что у нее потерявшись 2 мальчика Морозовых Павел 14 лет и федор 9 лет которых при облаве обнаружили от деревни Герасимовки на растояние 1 километра у рожице под сергиной от дароги морозова Павла 10 метров каковой лежал головой в восточную сторону на голову был одет мешок в правой[283] в левой руке между указательного и большого пальца разрезана мяготь и нанесен смертельный удар ножом в брюхо в проваю половицу куда вышли кишки в торой удар нанесен ножом в грудь около сердце Под каковым находились рассыпаны ягоды клюквы и стали [?] около него нарастояние одна кузина [= корзина] в левой ноги в[284] кольцо другая полметра отбросана в сторону в голове в восточную сторону стояла осина толщиной один вершек в ногах стояли две осины толщины одного вершка во кружности обнаруженного трупа был мелкий кустарник березняк сосоняк Второй труп Морозова Федора от Павла на расстояние на 15 метров головой в восточную сторону нанесен удар в левый висок палкой и правая щека истекши кровью раны не заметно и ножом нанесен смертельный удар в брюхо выше пупа куда вышли кишки, и так же разрезана правая рука ножом до кости около обнаруженного трупа на ходилась болотина у таковой он лежал у края вредком осиннике. На несены смертельные удары ножом Смотрите оборот Л. 6об. Подписи поднятых 1. островский андрей 2. Ермаков петер 3. Ефимков 4. Пуляткин Егор 5. …… 6. Пуляткин 7. …… 8. …… 9. …… 10. …… Учинспектор РКМ-ции Титов [Текст написан от руки на официальном бланке Протокола подъема трупов.]
Л. 7 [Акт об осмотре мертвых тел П. Т. и Ф. Т. Морозовых] Акт. 8 сентября 8 часов. Я, уч. инспектор 8-го участка Титов в присутстви фельдшера М. Городищенского мед-пункта и понятые Ермакова Петра, Книга Авриана и Беркина Ивана сего числа Произвели осмотр Убитого трупа в деревне Герасимовка Морозова Фидора. Причем оказалось следующее. На несеная смертельная рана в шею с левой стороны ножом ниже уха рана размером 2 см. 2-я рана С Правого Бока в живот ниже последнего ребра сантиметра на 3 размер рана 3 см. через которую часть кишок вышло на ружу, отчего и последовала смерть. Кроме того у правой руки по Выше кис [Л. 7об] тевого состава на растоянии 4-х сантиметров с на ружной стороны на несена ножом рана размеров 4 смтр.. что постановили за тут в настоящий акт. К сему подписывали Уч. инспектор Фельдшер П. Макаров Понятые 1. …… 2. …… 3. ……[285] [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 12 [Протокол допроса С. С. Морозова Я. Титовым] Протокол допроса свидетеля 1932-го 7 IX) Я уч. инспектор 8 участка управления РК милиции тавдинского раивона титов сего чысла допросил гражданина Морозова Сиргея Сиргеивича деревни Гирасамки Гирасимского совета кресянина бедняка неграмотного безпартийного сослов несудим женатово семи имеет 2 человек 1 узбу [= избу] с надворной постройкой 1 лошат корова заложная показания предупреждон ст 95 уко потоству [= по существу] дело поясняю 1932 3 сентября я морозов сиргей сиргеевич своим внуком Морозовым данилом сеил на поли рош я сеил А он баронил и когда я посеил тогда пошол домой А унук мой донил остался наполи баранит Когда доборонил тогда приехал дамой по обедал и обратна ушол но незнаю куда он ходил и пришол дамой было вже томна [= было уже темно] но янезнаю где он был и тогда я вслыхал что потеряны дети Морозовый Татьяны 3 сентября мол морозо Сиргей что их нет м[286] 5 сентября мне сказал мой унук Морозов донил что они за[287] в лесу наднем [= на одном] 3 раны а надругом 2 раны но несказал какие раны и такж[288] и также которыя у меня бруки найданы и меня Морозова сиргея в крови оне 3 сентября были одеты моего унука [= моим внуком] Морозова донило также и рубашки и и должен быт с ним Морозовы[м] данилом смотрите на обороте [Л. 12об] участником убистви Морозовых братев Павла и Фодора Шатракова Антона Сыновья так как оне наморозова Павла были сердиты дать что Морозов Павел наним доказывал что уних было скрыта ружо и ружо уних отобрали оне дать шатраков Ефем и Фимин и димитрий похваляли убит больше показат нечего немогу протокол сослов записан верно прочытан мне вслух расписался по моей прозбы ИДПотупчик допросил уч. инспектор Титов [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 13 [Протокол допроса П.И. Варыгина Я. Титовым и С. Карташевым] 1932 г. / IX 7[289] уч. Инспектор 8 учаска управления р. к. милицыи тавдинского раивона Титов сего чысла допросил гражданина Варыгина Прохора Ивановича 18 лет безпартейный малограмотный сослов несудим кресянин бедняк хозяйства имеет 1 корову прожевает дереревна Гаросимки Гирасомовсого ссовета тавдинского раивона заложния показанания придупреждон постоже посостовтву [= по существу] дела показываю 1932 г. 3 сентября у нас деревни зарезали в лесу братев Морозовых павла и фодора и подозревают на Морозова данила и на шатракова Ефрема как шатраков все время сердился на Морозова павла за то что морозов павел доказывал что у них были скрытый руже зато же он шатраков угрожал Морозову павлу о том что я тибя убью или зарежу и тогда 6 сентября убитых несли их братев Морозовых то я Варыги был послан уч. Инспектором Титовым для арестованея шатраковых то была видна что совершеная убийства Шатраковым Ефремом китери был в испугоном види и когда на его привели то шатраков Едор[290] [т.е. Ефрем] договаривался с Морозовым данилом когда сидели Арестованым вонбаре[291] А я варыгин стоял помощиком [?] с лица [= с милиции?] мине был послол уч. инспект Титов которыя сидевшия вонбаре Морозов данил и шатраков говорили что сознаваца не будем морозов говорил что я буду говорит надопроси что наидиная смотри на обороте [Л. 13об] у нас при обыски дедовы А ты шатраков говори что Я Морозова данилу не видал и нам тогда нечево не будет, подержат и пустят скажут что зарезал мой дет Морозов сиргей потому что я дани[л] скажу что штаны найдиния об Морозовых скроя дедавы А мы стабови 3 сентября не видились ты говорил что я шатраков Ефем утром рана ушол у поля законым Когда привол коня тогда поехал сеит в поля рош и Морозова данила деда Морозова сиргея мне так говорила бабушка Морозова Аксиня чтобы я данила так говорил и нам ничего небудит и она будит так говорит больше показат не могу протокол сослов записан верно прочытан мне вслух в чом распишусь я Варыгин[292] допросил уч. инспектор 8 участка РКМ Титов[293] Я Варыгин Прохор к своим показаниям добавляю, что убийцы морозов Данил, Морозов Сергей и его жена Аксенья все время хорошую дружбу имели[294] с свахровыми [= свекровами] Кулакана с Кулакановым Арсентием и его жены [так!] Химай и с Силиным Арсентием часто вместе выпивались, и я считаю, что убитый активист пионер Морозов Павел и его брат Федор по Кулацкой агитации, по тому, что Морозов Павел все время вылазки [?] указанных кулаков группу против сов.-проводимых мероприятий доносил в с/совет и другим организациям Варыгин[295]
[Л. 14] Кроме того Шатраков Ефрем похвалялся Морозова Павела застрелить, но Шатраков ружье свое [?] держал безбилета и скрыто, но для какой он цели ея имел я незнаю, и Павел говорил, что я на Шатракова докажу У него ружье отберут и он меня неубьет и действительно по инициативе этого пионера Павла у Шатракова Ефрема уч. Инспектор Титов ружье отобрал, ввиду чего Шатров имел зло на Павла и очень часто Морозов Павел [Л. 14об] выступал на общ. гражданские собрания и говорил зауспешное проведение сов. мероприятий, а так же и на собраниях говорит про Кулаков, что скрывает вещи или хлеб как то про Кулуканова Арсентия, и других, что у Морозова Сергея находится спрятанный ходок раскулаченного Кулуканова Арсентия, на что и все мною упомянутые кулаки Паввла за что ненавидели и старались его избавится К сему и подписуюсь Варыгин Допросил: Карташев [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 22об. [Из Протокола допроса Д. Морозова осодмильцем И. Потупчиком, 7 сентября 1932] […] Я Морозов Даниил добавляю к протоколу допроса что на Шатракова Димитрия я сказал зря что он резал Морозовых братьев Павла и Федора. Я сказал потому что я хотел скрыть свой след преступления А зарезали мы [с] Шатраковым Ефремом Шатраков Ефорем резал А я задержал. Деду своему Морозову Сергию я сказал 5 сентября что зарезали Шатраковым[296] одному нанесли две раны ножом а другому три В чем и расписююся Морозов Даниил Допросил чл. ОСМ ИД Потупчик 7/IX 32 г. [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 23 [Из протокола очной ставки Д. Морозова и Е. Шатракова, проведенной Я. Титовым] Протокол очной ставки подозреваемого убиства Морозовых 1932 г. 9/IX/ я морозов данила 1932 га 3 сентября ехал баранить напашну А шатраков ефрем вел коня споля дамой и ранше сговаривались где нибут их убом или зарежым как сморозывым жыву рядом я видал что оне пойдут в ягоды и я Морозов данил сказал шатракову ефрему что Морозов павел и фодор пойдут вягоди ты комне приходи напашну и мы стобой пойдом и так убом и комне пришол шатраков ефем и мы пошли сним дорогой и Морозова павла и фодора я морозов данила я[297] стретили надороги я морозов данила схватил заруку павла а шатраков ефем ножом порнул Морозова павла а морозов федор тогда побежал в лес А павел упал надороги головой вкусты мы тогда е вобросили и побежали за Морозовым Федором я морозов данил поймол Морозова фодора поймал а шатраков порнул с его ножом в бруко и колода он упал тогда смотрите на обороте [Л. 23об] продолженея допроса морозова данила шатраков ефем резнул по горлу морозова федора и мы тогда побежали на дорогу прибыжали где ведоли [т.е. видели] Морозова павла его надороги нет тогда мы пошли домой и шатраков ножек внес тоже домой больше показат не могу проток, сослов записан верно прочытон мне в слух вчто потписуюс Морозов Я Шатраков Ефем 3 сентября боронил наполи пашну вес ден до самого вечера когда вол коня с поля то ехал баранит морозов данила и мы с ним ничего неговорили инезговорив что пойдем убом Морозовых братев Павла и фодора очом может подтвердит Анушенко Василий и я шатраков ефем вечером кнему напашну ниходил и Морозовых братев нерезал болше показат нечего не могу протокол сослов записан верно прочитан мне вслух в чом подписуюс шатраков [Рукопись. На обороте бланка Акта об осмотре мертвых тел.]
Л. 24 [Протокол допроса Е. Шатракова участковым инспектором Я. Титовым] Протокол допроса подозреваемого 1932 г. 8 сентября я уч. инспектор 8 участка управленея Рка милицыи Титов сего чысла допросил Гражданина в качестви обвиняемого убистви Шатракова Ефема Антоновича 15 лет кресянин средняк бес партейной холост моло грамотный прожеваит деревни гирасимка гирасимского ссовета потоству [= по существу] дела показываю 1932 году 3 сентября унас деревни Гирасимки Гирасимского совета у нас вдеревни убили влесу а 2 Братев Морозовых павла и фодола и подзревают наменя шатракова но я тамнебыл я дре [т.е. 3-го] сентября боранил наполи очом может потвердит саков Прохор Николаевич Волков Константин Минаивич Анушенко Василий и Шатраков Фодор Никонович и я шатраков Ефем боронил досамого вечера покане стала томна я тогда поехал домой отпрак [= отпряг] лошадей иповол вполя и потом домой и стали вужинот мы вужиноли со[298] сомной [?] когда я поел тогда пошол в деревню к прокопенки Василия унего тоже был заполиный Агон [т.е. горел свет] в избе и тогда от прокопенки ушол домой лог спат 5 сентября я шатраков Ефем утром устал и смотерью пошол в ягоды клукву пот [так! т.е. вплоть?] даялеву кромку [так! т.е. до еловой рощи?] и низном что братев Морозовых убили покамес 6 сентября их ношли в лесу убитом их нашол мой брат шатраков димитрий и кто их убил незнаю болше показ нечего не могу протокол составлен верно прочытан мне вслух вчом потписуюс Шатраков допросил уч. Инспектор 8 участка Р.К.М. Тавдинского раивона Титов
Л. 24об. добавленея протокола допроса шатракова ефема я поясняю что что 1932 года 3 сентября боронил наполи пашню и когда пашню даборонил тогда поехал домой еще было рана сонце была высока скоко часов незнаю как унас часов нет но солнца было еще высоко я когда приехал домой то коний отпр[яг][299] двол [увел] вполя А сам пошол наполя где баронил Морозов данила и мы сним были рания сговорившы чтобы убит Морозовых братев павла и фодора мы сни сговорили субботу у тром когда я шатраков вол коня споля А морозов данила ехал напашни утром 3 сент[ября] и мне данила сказал что сегодны пойдут в ягоды наболота Морозовы а мат ихная Морозова уехала настанцею и ты приходи и мыих надороги стретили и убов [т.е. убьем] или зарежым Когда я шатроков пришол к Морозову данили и принос собой ножек небольшой мы тогда пошли надороги и стретили Морозовых павла и Фодора недолока от пашни в лесу и я тогда шатроков потекал к Морозову павлу и ткнул убруха ножом а Морозов данил побежал за фодором влес пой мол итоже зарезал ножом в грут А от мине Морозов вырвался надороги и побежав в лес тогда комне подбежал данила мы Морозова павла поймали и зарезали и надели ему мешок на голову чтобы он хотя и будит жыв что [но?] чтобы домой непришол болше показат нечего немогу протокол со слов записан верно в чом подписуюс допросил уч. мю 8 уч. Титов Шатраков [Рукопись. На обороте бланка Акта об осмотре мертвых тел]
Л. 27 [Протокол допроса В. Ф. Прокопенко участковым инспектором Я.Титовым] Протокол допроса свидетеля Прокопенко Василия Фодоровича 50 лет неграмотный бес партейный судим женат семи 8 человек кресянин средняк имеет дом снадворной постройкой 2 лошади 1 коров мелков скота 2 головы …посуществу дела показываю 1932 го 3 сентября косил и домой пришол домой вечером сонца было незакотивше и у миня сидел шатраков Ефем Антонович тогда приходил комне потупчик иван казначей караулил кулацкий хлеп Ане остались у миня и я прокопенко незнал что Морозовы ушли в ягоды их там убили Я тогда когда их нашли убитых тогда узнал Ане наних на морозовы[х] были сердиты зато что много раз были Морозова Сиргея Сиргея сиргеевича подоказу Морозова павла[300] также сердился шатраков Ефем наних что морозов павел доказал что у шатрако[вых] скрыто ружо и видил когда смотри на обороте [Л. 27об.] несли от шатракова ружо милицонер и понятые но Морозовых братьев павла и фодора кто убил я незнаю ну говорят на Морозова данила и на шатракова Ефема болше показат нечего немогу протокол сослов записан верно прочытан мне вслух в чом расписался поличной прозбы за Прохоров [?] [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 56 [Из описи имущества С.С. Морозова председателем сельсовета Д. Потупчиком] Акт 1932 года 17 сентября Опись имущества у гр-на Морозова Сергея
Л. 56об.
1. лошадь (кобыла) 1 2. корова 1 3. свинья 1 4. Поросят 1 5. Овец 1 6. Куриц 5 7. Хлеба Рожи 18 1/2 пудов 8. самовар 1 9. чугунов 8 10. кадок 4 11. топоров 4 12. Зеркало 1 13. Пила 1 14. Холста 8 шт. 15. Брюки Брезент 1 16. Шерсти 17. Кос 2 18. Подтинков 2 19. Молотков 2 20. Брусок 2 21. Напарит/натарий (?) 2 22. самопряжко 1 23. спернова (?) 1 24. Умывальник 1 25. Лампа 1 26. Матрас 1 27. Миска 1 28. Дойник 1 29. Ведро Деревянн. 2 30. Сахарниц 2 31. Гуски (?) рем. 1 пара 32. Кодка выделен 1/чедна 33. Фляжка 1 34. Четверть ст. 2 35. Фатуль 1 36. Тараташка 1 37. Колес два (нрзб.) 8 шт. 38. Хомут 1 39. Седелко 1 40. Дуга 1 41. Тарелки 2 42. Пазников 3 43 фуганок 1 44. Борона 2 45. сковорода 1 46. сена 1 воз.
[за подписями Д. Потупчика, председателя сельсовета, Петра Ершова, Дмитрия Ефимова, Осипа Протоповича] [Рукопись. На простой бумаге]
Л. 176-177 Протокол допроса гр. Морозова Даниила Ивановича, допрошенного 6/XI года Уполномоченным СПО Тагильс. о/сектора ОГПУ федченко. В добавление к раннее данным мною наказаниям, добавляю что признаю себя виновным в деле убийства бр. Морозовых Морозова Павла и его брата Федора. Убийство произошло по следующим причинам, между моим дедом Морозовым Сергеем, Кулукановым Арсентием и пионером Морозовым была вражда из за того, что Павел Морозов как активный работник, пионер старался раскрывать кулацкие увертки кулака Кулуканова Арсения, Морозов Павел узнал что кулацкое укрывает свое имущество от конфискации у Морозова Сергея. Кулуканов и мой дед Морозов Сергей ненавидя Павла Морозова и боясь что бы он не мешал в дальнейшем проводить их кулацкие дела, решили убить Павла Морозова. Кулуканов несколько раз уговаривал меня принять участие в убийстве, но не было подходящего момента к совершению убийства. 3 сентября с/г рано утром я зашел к Кулуканову Арсению домой, он был один, и сказал мне «Павел Морозов ушел сегодня в лес за ягодами с ним ушел его брат Федор, сегодня будет подходящий момент для убийства, идите в лес и устройте это дело, я говорил уже с Сергеем обо всем но ему одному ничего не сделать, возьми вот деньги 30 рублей когда сделаете все это, то я тебе дам еще золото две пригоршни». [Л. 176об.] Деньги я у Кулуканова взял, пообещал ему устроить убить и твердо решил это. Уйдя от Кулуканова я зашел домой за своим дедом и мы поехали на пашню боронить и сеять. Сговорившись о совершении убийства дома перед выездом на пашню и по приезде тудаМорозов Сергей говорил мне «сегодня пошли за ягодами, пойдем к ним и ты мне поможешь расправиться с Пашкой». Приехав на пашню мы проработали там до полдня примерно до 1 часу или до 2 часа дня, потом дед мой Сергей повел меня в лес, пройдя в лес мы увидели Морозовых Павла и Федора, последние шли по лесу с набранными корзинами ягод Место где мы повстречались с ними представляло из себя следующее. Густой лес, проселочные мало наезженные дороги, не в далеке от дороги небольшое болотце, около болота мелкий кустарник. Повстречавшись с Морозовым Павлом и Федором, старик Сергей Морозов, подошел к Павлу вплотную и нанес ему удар ножем, куда уводил ножем я не рассмотрел, в это время Федор бросился бежать Сергей же крикнул мне «держи его» — я побежал за Федором догнал его, схватил его за пиджак и стал держать, после этого подошел старик Сергей Морозов и нанес несколько ударов, тем же самым ножем и Федору Морозову. После того когда убийство было совершено я убежал бегом по лесу домой, т.к. испугался крика ребят Морозовых, старик же остался, на месте убийства и вернулся домой примерно через час. [Л. 177] Собравшись домой, старик Сергей Морозов обнаружил, что штаны его и рубаха запачкались в крови, тогда он переодел другую одежду а окровавленную повесил на жердочку в избе. При чем нужно сказать, что окровавленная одежда штаны и рубаха была замоченая для стирки не с целью скрытья преступления а случайно, т.к. старухе Ксении Морозовой мы об убийстве ничего не говорили и она не рассмотрев крови замочила их в стирку. Признаю, что найденные при обыске окровавленные штаны принадлежат действительно мне, но в день убийства т.е. 3/IX они были надеты на Сергее Морозовом. Признавшись открыто в участии в убийстве Морозовых, подтверждаю еще раз, что убийство совершено было только нами двоими, т.е. Морозовым Сергеем моим дедом и при моей непосредственной помощи. Все это произошло под влиянием кулака Кулуканова Арсения и по его указаниям. Силин Арсент и Шатраков Ефрем в этом деле совершено не причастны. Кулуканов же заставлял и во весь период содержания на под арестом путать ход следствия и отпираться от совершенного убийства Записано с слов верно и мне зачитано Морозов Данил Допольнительно показываю, что нож которым было совершено убийство, Морозов Сергей домой не принес и забросил его где то в лесу. Из’ятый при обыске нож, не имеет ни какого отношения к данному делу Записано с моих слов верно и мне зачитано Морозов /подпись/ Допросил Уполн. СПО о/п Афедченко ФЕДЧЕНКО При допросе присутствовали сотрудники ОГПУ Лихобабин Искрин Силин Обвиняемый проход. по данному делу [Рукопись. На бланке протокола допроса]
Л. 179-180 Протокол допроса гр. Морозова Сергея Сергеевича, допрошенного 6/XI года Уполномоч. СПО Федченко В дополнении к раннее данным мною показаниям добавляю, что признаю себя виноватым в убийстве бр. Морозовых Павла и Федора. Убийство произошло при следующих обстоятельствах: 3/IX 32 мы с внуком Данилом Морозовым, выехали на пашню рано утром. После полдня примерно в 1 час дня я сказал Даниле: «ребята Пашка и Федор пошли за ягодами в лес, пойдем туда и прикончим Пашку». Пойдя в лес, мы увидели что из лесу идут Морозовы Павел и Федор, с наполненными корзинами ягод. Повстречавшись с Павлом Морозовым я подошел к нему вплотную и ударил его ножем в грудь, Павел закричал и в ту же минуту Федор побежал прочь, я подумав, что Федор может рассказать о происшедем крикнул Данилке «Держи его» Данилка бросился за Федором, держал его и стал держать, кончив с Павлом, я подошел к Федору и нанес ему тем же ножем несколько ран, при этом Федор сильно закричал. После совершенного [Л. 179об.] Даниил Морозов из леса убежал. Я же кончил с Морозовыми, одел на голову Павлу Морозову его же[301] мешок и потом пошел домой. По приходу домой я переодел, свою одежду штаны и рубаху которые были окровавленными, при чем штаны которые оказались в крови принадлежали Данилу Морозову и были одеты на нем Откровенно сознаваясь в совершенном преступлении, я говорю всю правду и заявляю, что действительно я совершил все это по злобе на Павла Морозова, при чем сознаюсь, что все это произошло под влиянием Кулуканова Арсения, он и давал Даниле деньги и то чтобы тот помог мне убить Павла Морозова, мы с Кулукановым много раз говорили о том, что бы убить Павла, и вот 3/IX удачный для убийства момент пришел, мы с Данилом Морозовым сделали задуманное. Сознаюсь что делая[302] преступление я не сознавал то что я делал, а теперь только отдаю себе отчет о происшедшем. Даниле Морозову я сказал о подготовленном убийстве только в день совершения его. Кроме того добавляю, что по приходе домой и скинув окровавленное платье, у нас не было намерения выстирать его с тем чтобы уничтожить следы [Л. 180] преступления Повторяю что убийство совершено по злобе на Морозова Павла т.к. слышал от него что он говорил что сожжет мой дом и не даст мне пощады Записано с моих слов верно и мне зачитано[303] Допросил Уполн.-СПО о/с Яфедченко Допрос произведен в присутствии сотрудников ОГПУ ТТ Мельникова и Лихобабина Мельников Лихобабин
При допросе присутствовали обвиненные Морозов Даниил и Морозова Ксения[304]
* * *

Карта 1: Советский Союз в 1932 г. (Карманный атлас СССР. 1934)

Карта 2: Уральская область в 1932 г. (Карманный атлас СССР. 1934)

Карта 3: Тавдинский район (В. Ермолаев. Тавдинское местописание. 1999)
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Неопубликованные источники
1. Документы из архивов A. Москва РАО НА, ф. 1. РГАСПИ, ф. 17,74. РГАСПИ-ЦХДМО, ф. 1. ЦАОДМ, ф. 634. ЦА ФСБ, д. Н-7825, т. 1,2. Б. Санкт-Петербург Архив «Мемориала» СПб. «Дело о Финском генеральном штабе» (1933); д. № 21176, «Лубе СМ. и других» (1932); «Дело глухонемых» (1937). РГИА, ф. 803. ЦГАЛИ-СПб, ф. 64. B. Екатеринбург ГАСО, ф. 88Р. ЦДОО СО, ф. 4, ф. 1201, ф. 1209, ф. 1245.2. Неопубликованные интервью Интервью с шифром Oxf/Lev входят в проект, профинансированный The Leverhulme Trust (грант № F/08736/A), и были проведены в полуструктуральном формате по вопроснику с 68 вопросами о детстве в разных городах и сельских местностях: в Санкт-Петербурге (шифр «SPb» и год, например, «02», «03» и т.д.), в Москве («М» и год «03», «04» и т.д.), в Таганроге («Т» и год «04», «05»), в Перми («П» и год «05», «07»), в поселке Ленинградской обл. («V» и год «04»). Вопросник составлен Катрионой Келли с участием Альберта Байбурина и Александры Пиир. Интервью проведены А. Пиир (SPb), Ю. Рыбиной и Е. Шумиловой (М), Ю. Рыжовым и Л. Тереховой (Т), С. Сиротининой (Р), О. Фи-личевой и Е. Мельниковой (V). Интервью с шифрами CKQ E, CKQ M, CKQ SPb проведены К. Келли в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, интервью с шифром CKQ-Ox — ею же в Англии. Катриона Келли — редактор — СПб: интервью с редактором ленинградского отделения издательства «Детгиз», С-Петербург, август 2001. Катриона Келли — Грекова — Москва: интервью с Ольгой Грековой, главным редактором газеты «Пионерская правда» (11 февраля 2004). Катриона Келли — АТА — Екатеринбург: интервью с информанткой 1931 г.р., 22 сентября 2003. Катриона Келли — Герасимовка 1, Катриона Келли — Герасимовка 2: интервью с информантами из д. Герасимовка (19 сентября 2003; 4 информанта 1918-1930 пр.). Катриона Келли — сотрудник музея — Екатеринбург: интервью с бывшим сотрудником Музея революции в Свердловске, 17 сентября 2003. Все интервью, использованные в проекте, хранятся в Оксфордском архиве русских устных жизнеописаний (The Oxford Russian Life History Archive), http://www.ehrc.ox.ac.uk/lifehistory. См. также: http://www.mod-langs.ox.ac.uk/ russian/childhood. Ссылки на «частную информацию» и «неформальное интервью» относятся к беседам, не записанным на диктофон, а зафиксированным в полевых записях автора. 3. Другие неопубликованные источники Прокопенко Д. Воспоминания (о Павлике Морозове). Машинопись. Музей Павлика Морозова, Герасимовка. Свидетельство о рождении П.Т. Морозова. 1918. 14 ноября. Копия от 30 ноября 1965 г. Машинопись. Музей Павлика Морозова, Герасимовка. Шифр СМ-МППв/ф202. Condee N. Pavlik Morozov and the State's Prosthetic. Неопубликованный доклад. University of Pittsburgh, 1996.II. Опубликованные источники
1. Материалы о Павлике Морозове (a) Материалы об убийстве, опубликованные в советской прессе в 1932 и 1933 гг. (статьи с атрибуцией входят также в 11.1 (б)). ТР 17 сентября, 18 сентября, 20 сентября, 21 сентября, 24 сентября, 27 сентября, 26 ноября, 27 ноября, 28 ноября, 29 ноября, 30 ноября 1932 года. ВК 23 сентября, 8 октября, 15 октября, 27 октября, 30 октября, 12 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 30 ноября 1932 года. На смену! 24 сентября, 28 сентября, 24 ноября, 27 ноября, 29 ноября, 30 ноября 1932 года. ПП 2 октября, 15 октября, 17 октября, 23 октября, 14 ноября, 21 ноября, 27 ноября, 29 ноября, 3 декабря, 17 декабря 1932 года. (b) Публикация материала из «Дела об убийстве братьев Морозовых» Шибаев Д.А. «Обождите, щенята-коммунисты, попадетесь мне где-нибудь». Из следственного дела по обвинению в убийстве Павла и Федора Морозовых, 1932—1999 гг. // Исторический архив. 2004. № 2. С. 73—102. (с) Жития Павлика Морозова, рассказы, стихи и другие произведения искусства, вдохновленные его образом. [Павлик Морозов] // Дружные ребята. 1932. № 21—22. Передняя страница обложки. [Письмо пионеров д. Герасимовки И.В. Сталину] // ТР. 24 декабря 1934. Алымов С., Александров А. Песня о пионере-герое // Вожатый. 1937. №11. Балашов В. Костер рябиновый. Массовое действо в шести сценах о Павле Морозове с участием Синей блузы и конницы. ВУОАП. М., 1969. Бесстрашный пионер Павлик Морозов // ПП. 4 сентября 1938. Большевицкие ребята // ПП. 26 января 1934. Боровин В. Морозов Павел. Вологда: Севгиз, 1936. Будем такими, как Павлик Морозов // ВК. 1 сентября 1939. Бюллетень пресс-бюро ТАСС на декабрь 1932 года. М: ТАСС, 1932 (мимеографированная машинопись). Воспоминания Татьяны Морозовой о Павлике // ТР 3 сентября 1933. Готовьтесь к 3 сентября — годовщине смерти Павлика Морозова // ТР (в приложении «Смена»). 24 августа 1933. Градов Р., Бакалов Л. Песня о Павлике Морозове // Вожатый. 1961. № 8. Губарев В. Один из одиннадцати // Колхозные ребята. №17 (11 мая 1933) №47 (10 октября 1933). Губарев В. Павлик Морозов. Драма в четырех действиях. М.: Искусство, 1953. Губарев В. Павлик Морозов. Симферополь: Крымиздат, 1949. Два пионера пали жертвой классовой мести // На смену! 28 сентября 1932. Девиков Е. Жертва, но не герой // Завтра будет поздно / Ред. Е. Девиков. Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1990. Джордж Сорос — Павлику Морозову // Известия. 4 сентября 2003. Дорошин М. Павлик Морозов. Волгоград: Нижневолжское книжное издательство, 1973. Дорошин М. Павлик Морозов. Из «Поэмы о ненависти» // ПП. 29 марта 1933. Дорошин М. Павлик Морозов. М.: Молодая гвардия, 1933. Дорошин М. Поэма о ненависти // Затейник. 1933. № 9. С. 10—14. Дружников Ю. Доносчик 001: Вознесение Павлика Морозова. М.: Московский рабочий, 1995. Жуков А. У памятника Павлику Морозову // ВК. 15 сентября 1939. Зверское убийство двух пионеров. Никакой пощады классовому врагу // ПП. 2 октября 1932. Зыков П. Имя, которое нельзя забыть // ТР («Комсомольская страница», №10). 4 сентября 1934. Из писем юнкоров // На смену. 24 сентября 1932. Когда же будет поставлен памятник Павлику? // ПП. 4 сентября 1937. Кононенко В. А был ли донос? // Человек и закон. 1989. № 1 (http:// rusidiot.narod.ru/facts/pm_p1.html). Кононенко В. Убит, но еще опасен // Советская Россия. 4 октября 2003 (http://www.sovoss.rU/2003/111/111_4_1.htm). Красев М. Павлик Морозов: опера в 3 действиях, 7 картинах с эпилогом. М.: Советский композитор, 1961. Краснощеков Г. Пионер-герой // ПП. 2 сентября 1947. Кулак Кулуканов — вдохновитель убийства // ПП. 29 ноября 1932. Кулаки деревни Герасимовки убили пионера-активиста Морозова и его брата // ВК. 23 сентября 1932. Кулаки на скамье подсудимых // ПП. 27 ноября 1932. Махрин Ю. Мальчик, которого нельзя казнить// Правда. 27—28 января 2004. Михалков С., Сабо Ф. [Szabo F.]. Песня о Павлике Морозове. Пионерский лагерь: справочник для вожатых и работников пионерских лагерей. М.: Молодая гвардия, 1937. Мусатов А. Большая весна // Вожатый. 1962. № 9. На родине Павлика Морозова // ПП. 20 сентября 1936. Нагибин А. Сегодня — 32 года со дня гибели пионера-героя Павлика МОРОЗОВА// На смену! 3 сентября 1964. Наш ответ кулакам-убийцам: 500 блокнотов на родину Павлуши Морозова! // ПП. 23 октября 1932. О работе пионерской организации // Партийное строительство. № 11-12, 1932. Ответ образцовой школы на убийство пионера Павла Морозова // TR 20 сентября 1932. Павлик Морозов — бесстрашный пионер // ПП. 4сентября 1935. Павлик Морозов // Всходы коммуны. 5 сентября 1937. Павлик Морозов // ПП. 5 сентября 1952. Павлик Морозов глазами москвичей // Ромир: Российское общественное мнение и исследование рынка (http://www.romir.ru/socpolit/socio/09 2002/ pavlik-morozov). Павлик Морозов и сейчас живее всех живых // Мемориал. №11. Август—сентябрь 1999. Павлик Морозов. Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1962. Памяти героя-пионера Павлика Морозова // ВК. 23 августа 1940. Памяти юного героя: Павлик Морозов // ПП. 4 сентября 1934. Памятник пионеру-герою // ПП. 14 ноября 1938. Пионер Павлик Морозов // ВК. 3 сентября 1940. Письмо из Герасимовки. На свежей могиле // ПП. 27 ноября 1932. Платонова В. О музее, гранте и пионере-герое// Тавдинская правда. 18 сентября 2003. С. 2. Построим памятник ПМ // ТР. 12 октября 1933. Следствие по делу Морозовых затягивается // ПП. 15 ноября 1932. Смирнов Е. Выше знамя классовой бдительности // ПП. 17 декабря 1932. Смирнов Е. Никакой пощады классовому врагу // ПП. 3 декабря 1932. Смирнов Е. Павлик Морозов // Дети-герои / Н. Махлин, И. Гончаренко. М.: Молодая гвардия, 1961. Смирнов Е. Павлик Морозов. М.-Л.: Молодая гвардия, 1938. Смирнов Е. Я как пионер говорю здесь… // ПП. 4 сентября 1935. Смирных А. В гости к Павлику // ВК. 12 сентября 1939. Соберем подарки деревенским пионерам в ответ кулачью. От нашего спец. корреспондента // ПП. 17 октября 1932. Соломеин П. В кулацком гнезде. Свердловск: Уралкнига, 1933. Соломеин П. Как погиб Павлик // ВК. 27 октября 1932. Соломеин П. Никакой пощады убийцам // ВК 30 октября 1932. Соломеин П. Павка-коммунист. Сведловск: Среднеуральское книжное издательство, 1966. Соломеин П. Письмо из Герасимовки // ПП. 21 ноября 1932. Соломеин П. Почему райорганизации поздно узнали // ВК. 8 октября 1932. Сонин Л. Трагедия в уральской деревне // Завтра будет поздно / В.Ф. Турунтаев (сост.). Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1990. Строим памятник Павлику Морозову // ПП. 6 февраля 1934. Суд над убийцами Павлуши Морозова // ПП. 21 ноября 1932. Тайна жизни и гибели Павлика Морозова // Мозаика. 11 сентября 2003 (http://www.iamik.ru/shownews.php?id+10476). Темникова И.В., Бровцин А.В. Новое о Павлике Морозове // Архивы Урала. 1996. № 1. Титов (без инициалов). Кулацкая банда убила пионера Морозова // ТР. 17 сентября 1932 (в приложении «Смена»). Товарищи Павлика Морозова в Москве // ТР. 20 января 1934. Фалькович В. Пионер Павлик Морозов // Вожатый. 1941. № 3. Хоринская Е. Юный барабанщик. Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1958. Шварц О. Павлик Морозов // Пионер. 1933. № 6. Щипачев С. Павлик Морозов: поэма. М.: Советский писатель, 1950. Щипачев С. Собрание сочинений: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1965. Щипачев С. Собрание сочинений: в 3-х т. М.: Художественная литература, 1976. Эйзенштейн С. Бежин луг // Колхозные ребята. 1936. № 4. Юный ленинец Павлик Морозов//ПП. 4 сентября 1939. Яковлев А. Пионер Павлик Морозов. М.: Искусство, 1940. (Драматическая обработка повести 1936 года.) Яковлев А. Пионер Павлик Морозов. Повесть. М.: Детская литература, 1936. Тексты о пионерах-героях Афиногенов А. Страх // Избранное: в 2-х т. М.: Искусство, 1977. Т. 1. Агапова М.И., Шадская К.И. Пионеры-герои. К 50-летию пионерской организации им. В.И.Ленина. М.: Центральная городская пионерская библиотека им. М. Светлова, 1972. Багрицкий Э. Смерть пионерки // ПП. 23 октября 1932. С. 2. База курносых. Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1962. Барто А. Дядя Тимур // Твои стихи. М: Детская литература, 1960. Гайдар А. Сочинения. М.: Детская литература, 1946. Гусев А. Юные пионеры. Страницы из летописи пионерской организации В.И.Ленина. М.: Молодая гвардия, 1948. Гусев А. Год за годом. Из пионерской летописи. М.: Молодая гвардия, 1961. Дети о Сталине. М.: Школьная библиотека, 1939. Дети-герои / Н. Махлин, И. Гончаренко(сост). М.: Молодая Гвардия, 1961. Дубянская М. Буся Гольдштейн // ЛИ. 15 декабря 1935. Кассиль Л., Поляновский М. Улица младшего сына. М.-Л.: Детская литература, 1951. Кожевников В. Корреспонденция бойца Синукова // Пионер. 1942. № 1. Космодемьянская Л., Вигдорова Ф. Повесть о Зое и Шуре. Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1951. Кременский А. Ночная гроза // Пионер. 1942. № 1. Кулаки убили пионера Колю Мяготина // ПП. 21 декабря 1932. С. 1. Лучшие из лучших // Вожатый. 1956. № 2. Лядов В. О героях в детской литературе // Правда. 25 февраля 1934. Морозов В. В новоселках погиб пионер // ПП. 29 августа 1962. О работе пионерской организации // Партийное строительство. 1932. №11-12. Осеева В. Васек Трубачев и его товарищи. Л.: Детская литература, 1976. Памяти Коли Яковлева // ЛИ. 11 декабря 1935. Смирнов А. Лицом к пионердвижению // Друг детей. 1932. №6. Смирнов Е. Славный пионер Геня Щукин. М.: Молодая гвардия, 1938. Сталин и Галя Маркизова // ЛИ. 11 февраля 1936. Убит пионер Иванов // ЛИ. 15 мая 1936.Литература о детоубийстве, советском законодательстве, пионерском движении, советской детской литературе, коллективизации; воспоминания и документы Алексеев М. Карюха. Драчуны. М.: Советский писатель, 1988. Бабина А. Как организовать досуг детей. М.: Госиздат, 1929. Базаров А. Дурелом, или господа колхозники. Т. 1, 2. Курган: Зауралье, 1997. Баранова Л. Как мы провалили кадетский митинг // Красные зори. 1919. №2. Бедин В., Кушникова М., Тогулев Б. Кемерово и Сталинск: панорама провинциального быта в архивных хрониках 1920—1930-х гг. Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 1999. Белоусов А.Ф. Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой Дамы до семейных рассказов. М.: Ладомир, 1998. Вельская М. Дети Арины // Женская судьба в России: Документы и воспоминания / Б.С. Илизаров (сост.) М.: Россия молодая, 1994. Болдырев Н.И. Классный руководитель: пособие для классных руководителей средних школ. М.: Гос. педагогическое изд-во, 1955. Бразуль-Брушковский С.И. Правда об убийстве Ущинского и деле Бейлиса. СПб.: Тип. М. А. Бессонова, 1913. Быков П.М. Последние дни Романовых. М.: Госиздат, 1930. Васильева Л. Дети Кремля. М.: ACT, 1997. Вишневская Галина : история жизни. Париж: La Presse libre / Kontinent, 1984. Гернет М.И. Детоубийство: социальное и сравнительно-юридическое исследование. М.: Тип. Императорского Московского Университета, 1911. Герштейн Э. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998. Горький М. [Приветствие «Крестьянской газете»] // Правда. 23 ноября 1933. Горький М. Неизданная переписка. М.: Наследие, 1998. Горький М. Собрание сочинений: в 30-ти т. М.: Художественная литература, 1949-1955. Гудзий Н.К. Хрестоматия по древнерусской литературе. 2-е изд. М.: Просвещение, 1973. Гудков Л. Негативная идентичность. М., 2004. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М.: Изд. книгопродавца торговца М.О. Вольфа, 1880—1882. Данилин А.Г. Первые шаги колхозов бывшего Воровического округа // Труд и быт в колхозах: сборник первый. Из опыта изучения колхозов в Ленинградской области, Белоруссии и Украине. Л.: Изд. АН СССР, 1931. Данилов В., Маннинг Р. [Manning R.], Вайола Л. [Viola L] Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание. Документы: в 5-ти т. М.: РОССПЕН, 1999— (изд. продолжается). Дело Бейлиса: стенографический отчет. Т. 1—3. Киев: Печатня СП. Яковлева, 1913. Дело Менделя Бейлиса: Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве / Р. Ш. Ганелин, В.Е. Кельнер, И.В.Лукьянов (ред.). СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Десятый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи: Стенографический отчет. М.: Партиздат ЦК ВКП, 1936. Дети о Ленине / Н. Сац (ред.). М.: Новая Москва, 1925. Детский пролеткульт: Орган Тульской Детской Коммунистической Партии. 1920. №4. Детское коммунистическое движение / Я.А. Перель, А.А. Любимова (ред.). М.-Л.: Наркомпрос, 1932. Дидерихс М.К. Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых. Т. 1—2. М.: Скифы, 1991. Директивы и документы по вопросу пионерского движения. М.: Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1959. Добренко Е. «Надзирать — Наказывать — Надзирать»: Соцреализм как прибавочный продукт насилия // Revue des etudes slaves. 2001. № 4. Добренко Е. Формовка советского читателя. СПб.: Академический проект, 1999. Доднесь тяготеет / С.С. Виленский (сост.). М.: Возвращение, 1994. Домбровский Ю. Роман, письма, эссе. М.: У-Фактория, 2000. Друскин Л. Спасенная книга: Воспоминания ленинградского поэта. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1984. Евтушенко Е. Волчий паспорт. М.: Вагриус, 1998. Ермолаев В. Тавдинское местописание. Екатеринбург: Старт, 1999. Женская судьба в России / B.C. Илизарова (ред.). М.: Россия молодая, 1994. Завтра будет поздно / В.Ф. Турунтаев (ред.). Свердловск: Среднеуральское книжное издательство, 1990. Зори советской пионерии: очерки по истории пионерской организации (1917—1941). М.: Просвещение, 1972. История ВЛКСМ и Всесоюзной Пионерской организации имени Ленина / В.А. Сулемов (ред.). М.: Просвещение, 1983. Итоги Пленума ЦБ ДКО ВЛКСМ. Свердловск// Всходы коммуны, 1932. Кадры просвещения: По материалам переписи работников просвещения в 1933 г. / М.Т. Гольцман (сост.), Н.Н. Ефремов (ред.). М: Профиздат, 1936. Как в Томске сумели извратить постановление правительства от 7 апреля 1935 // Советская юстиция. 1935. № 29. Как праздновали дети 1-е мая // Красные зори. 1919. № 2. Канарский С.М. Уголовный кодекс советских республик. Текст и практический комментарий. 3-е изд. Б.м. [Харьков], б.изд., 1928. Кассиль Л. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания. М.: Высшая школа, 1987. Кацис Л.Ф. Кровавый навет и русская мысль: Историко-теологическое исследование дела Бейлиса. М.: Мосты культуры/ Гешарим, 2006. Келли К. «Папа едет в командировку»: репрезентация общественных и личных ценностей в советских букварях и «книгах для чтения» // Учебный текст в истории советской культуры / С. Леонтьева, К. Маслинский (ред.). СПб., 2008 (в печати). Келли К. Школьный вальс: повседневная жизнь советской школы в послесталинское время//Антропологический форум. 2004. № 1. Кожевников Р.Ф. Памятники и монументы Москвы. М.: Московский рабочий, 1971. Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи // Новый мир. 1992. № 7, 8. Костерина Н. Дневник. Москва: Детская литература, 1964. Костинский А. Павлик Морозов и теперь живее всех живых // Мемориал. 1999. №11. Краткая литературная энциклопедия. Т. 1—9. М.: Советская энциклопедия, 1962-1978. Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М.: Независимая газета, 1995. Кукина Е.М., Кожевников Р.Ф. Рукотворная память. М.: Московский рабочий, 1997. Ленин В.И. Сочинения. 4-е изд. Т. 1—50. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1941—1951. Леонтьева С. Литература пионерской организации: идеология и поэтика. Дисс. на соискание степени канд. филологич. наук. Тверь: Тверской государственный университет, 2006. Либединская Л. Зеленая лампа и многое другое. М.: Радуга, 2000. Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 1917-1960. Справочник/ А.И. Кокурин, Н.В. Петров (сост.), РГ. Пихоя (научный ред.). М: Демократия, 1997. Лубянка: Сталин и ВЧК—ПГУ-ОГПУ—НКВД. Январь 1922-декабрь 1936/ В.Н. Хаусов (сост.), В.П. Наумов, Н.С. Плотникова. М.: Демократия, 2003. Львов А. Сюжет для большого романа. Ок. 2005. http://www.nordpoisk.nrd.ru/ glavnay/pochti%20vce%20o%20taimire/goroda/disk/syujetdl.html). Макаров Ц., Николаев Б. Бессмертие юных // Огонек. 1972. № 20. Мельников М. Новый путь: вторая книга для чтения и работы в сельской школе II ступени/А. Калашников (ред.) 7-е изд. М. —Л.: Госиздат, 1930. Мельников М. Новый путь: первая книга для чтения и работы в сельской школе I ступени/А. Калашников (ред.). 9-е изд. М.-Л.: Госиздат, 1930. Митрейкин К. УКК. М.: Журнально-газетное объединение, 1932. Михалков С. Избранное. М.: Советский писатель, 1947. Москва послевоенная. М.: Госархив, 2000. Новая школа: Ученический журнал школ II ступени Острова № 2 и № 3 (Псковская губерния). № 1. Май—июнь 1919. Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920—1930-е годы / Т. Вихавайнен [Т. Vihavainen] (ред.). СПб.: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 2000. Осорина М. Секретный мир детей: в пространстве мира взрослых. СПб.: Питер, 1999. Папковская Е.И. Книга о маленьких трехгорцах. М.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1948. Первый всесоюзный съезд советских писателей: стенографический отчет. М.: Советский писатель, 1934. Перель Я.А., Любимова А.Л. Преступления против несовершеннолетних. Серия «Охрана детства: детское право». Вып. 9. М.-Л.: Гос. учебно-педагогическое изд-во, 1932. Петровская И.Ф. В конце пути. СПб, 1999. Петрушева Л.И. Дети русской эмиграции. М.: Терра, 1997. Письма во власть 1917—1927: заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевицким вождям. М.: РОССПЕН, 1998. Поговорим о детях // Правда. 17 сентября 1934. Преодолеть последствия культа личности в педагогике // Советская педагогика. 1956. №9. Программы начальной школы на 1957—1958 год. М.: Учпедгиз, 1957. Программы начальной школы. М.: Учпедгиз, 1945. Рацкая Ц. Михаил Красев. М: Советский композитор, 1957. Риттерспорн Г. Формы общественного обихода молодежи и установки советского режима в предвоенном десятилетии // Нормы и ценности повседневной жизни: Становление социалистического образа жизни в России, 1920—1930-е годы/Т. Вихавайнен [Т. Vihavainen] (ред.). СПб: Институт Финляндии в Санкт-Петербурге, 2000. Розанов В. Опавшие листья. Т. 1. СПб, 1913. Росси Ж. [Rossi J.]. Справочник по ГУЛАГу. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1987. Рыбаков А. Роман-воспоминание. М.: Вагриус, 1997. Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе. М.: Советская Россия, 1984. Рыбников Н.А. Деревенский школьник и его идеалы. М.: Задруга, 1916. Рыбников Н.А. Идеалы гимназисток: очерки по психологии юности. М.: Практические знания, [1916]. Рыбников Н.А. Крестьянский ребенок. М.: Работник просвещения, 1930. Санитарный обзор Пермской губернии за 1895 год. Пермь: Тип. Губернской Земской Управы, 1896. Санитарный обзор Пермской губернии за 1910 год. Пермь: Электро-Тип. Губернского Земства, 1913. Свод законов Российской Империи. 1912 / Д. Мордухай-Болтовский (ред.). Т. 10. 4.1. СПб.: Деятель, 1913. Семейное воспитание: словарь для родителей / М.Н. Кондаков (гл. ред.). М.: Просвещение, 1967. Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД: документы и материалы: в 4-х т. / Под ред. А. Береловича (Франция), В. Данилова (Россия). М.: РОССПЕН, 2003. Советские писатели: автобиографии. Т. 5. М.: Советский писатель, 1988. Советский простой человек. М.: ВЦИОМ, 1993. Советское руководство. М.: РОССПЕН, 1999. Соколов Н. Убийство царской семьи. Берлин: Слово, 1925. Соцреалистический канон / Е. Добренко (ред.). СПб.: Академический проект, 2000. Список селений Пермской губернии: Ирбицкий уезд. Пермь: Изд. Пермского Губернского Земства, 1908. Сталин: власть и искусство / Е. Громов (ред.). М.: Республика, 1998. Старжинский П. Взрослое детство: записки сына раскулаченного. М.: Современник, 1991. Старцев И.И. Детская литература за годы Великой Отечественной войны (1941—1945). М.-Л.: Детская литература, 1947. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1932—1939. М.-Л.: Детская литература, 1941. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1946-1948. М.-Л.: Детская литература, 1950. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1951—1952. М.: Детская литература, 1954. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1955—1957. М.-Л.: Детская литература, 1959. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1961—1963. М.-Л.: Детская литература, 1966. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1964—1966. М.-Л.: Детская литература, 1970. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1976—1978. М.-Л.: Детгиз, 1987. Старцев И.И. Детская литература: библиография 1979—1981. М.-Л.: Детгиз, 1988. Статистический справочник СССР за 1928 год. М.: Статистическое издательство ЦУ СССР, 1928. Столяров И. Записки русского крестьянина (Recit d'un paysan russe). Париж: Institute d'Etudes Slaves, 1986. Tarep A.C. Царская Россия и дело Бейлиса: к истории антисемитизма. М.: ОГИЗ, 1933. Тадевосян В. Об уголовном процессе по делам несовершеннолетних// Социалистическая законность. 1939. №4. Твардовский И. Страницы пережитого // Юность. 1988. № 3. Троцкий Л. В борьбе за новый быт // Правда. 16 мая 1923. Уголовный кодекс: научно-популярный практический комментарий с дополнениями и изменениями по 15августа 1927 года / М.И. Гернет (ред.). М.: Право и жизнь, 1927. Устав Смоленской Губернской Земской воспитательно-исправительной колонии-приюта для несовершеннолетних. Смоленск, 1915. Фирсов Б.М., Киселева И.Г. Быт великорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). СПб.: Изд-во Европейского дома, 1993. Харходии О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб.-М.: Летний сад / Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2002. Хрущев Н. Как мы организовали Дом пионеров и детские парки // Вожатый. 1936. №8. Цветаева М. Собрание сочинений: В 7-ми т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 1994. Цендровская С.Н. Крестовский остров от Непа (так! — К.К.) до снятия блокады // Невский архив. 1995. № 2. Чаадаева О.Н. Работница на социалистической стройке. М.: Партийное издательство, 1932. Черкесов В. Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев // Коммерсант 9 октября 2007 (http://www.komnriersant.ru/doc.aspx7DocslD~812840&р). Чукоккала: рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Русский путь, 2006. Шенталинский В. Рабы свободы: в литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995. Шимбирев П.Н. Педагогика. М.: Уч.-пед. изд., 1940. Шингарев С. Чекловеты — перед судом общественности // Друг детей. 1930. №4. Шиф А. О старшем возрасте, дружбе и секрете успехов одного отряда // Вожатый. 1935. №5. Шкапская М. Стихи. Лондон: Overseas Publications Interchange, 1979. Эфрон А., Федерольф А. Мироедиха. Рядом с Алей. М.: Возвращение, 1995. Alder С, Polk К. Child Victims of Homicide. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Amis M. Kobathe Dread. London: Granta, 2002. Applebaum A. Gulag: A History of the Soviet Camps. London: Allen Lane, 2003. Argenbright Ft. Marking NEP's Slippery Path: The Krasnoshchekov Show Trial// Russian Review. Vol. 61. № 2 (2002). Aries Ph. Centuries of Childhood. London: Weidenfeld and Nicholson, 1962. Arlet D. Kinder toten Kinder: eine kriminologische Untersuchung. Hamburg: KriminalistikVerlag, 1971. Bambara T.C. Those Bones are Not My Child. London: The Women's Press, 2000. Bergan R. Sergei Eisenstein: A Life in Conflict. London: Little, Brown, 1997. The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore/A. Dundes (ed.). Madison: University of Wisconsin Press, 1991. Boym S. Common Places: Mythology of Everyday Life in Russia. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War. Princeton: Princeton University Press, 2000. Cassiday J. The Enemy on Trial: Early Soviet Courts on Stage and Screen. DeKalb: University of Illinois Press, 2000. Children and the Politics of Culture / S. Stephens (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1995. Children, Rights, and the Law / Ph. Alston., S. Parker, J. Seymoui (eds.). Oxford: Clarendon Press, 1992. Churchill's Medical Dictionary. New York, Edinburgh, London and Melbourne: Churchill Livingstone, 1989. Clark K. Little Heroes // Cultural Revolution in Russia, 1928 -1931 /S. Fitzpatrick (ed.). Bloomington: Indiana University Press, 1978. Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press, 1985. Classic Russian Cooking: Elena Molokhovets' A Gift to Young Housewives// J. Toomre (ed. and trans.). Bloomington, Indiana, 1992. Coles R. The Political Life of Children. Boston: Atlantic Monthly Press, 1986. Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivisation and the Terror-Famine (newedn.; London: Pimlico, 2002). Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood / A. James, A. Prout (eds.). 2nd edn. London: Falmer Press, 1997. Cullerne Bown M. Socialist Realist Painting. New Haven: Yale University Press, 1998. Dawes R.W. The Socialist Offensive: The Collectivisation of Soviet Agriculture, 1929—1930. London: Macmillan, 1980. The Deathless Trumpeter and Other Stories about Young Heroes. Moscow: Progress, 1973. Deleuze G., Guattari F. L'Anti-Oedipe. Paris: Les Editions de Minuit, 1972. The Diaries of Reader Bullard, 1930—1934/J. Bullard, M. Bullard (eds.). Charlbury, Oxon.: self-published, 2000). Dunstan J. Soviet Schooling in the Second World War. Basingstoke: Macmillan, 1997. Edwards M. In Defense of Euthyphro // American Journal of Philology. Vol. 121. № 2 (Summer 2000). Engelstein L. Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale. Ithaca: Cornell University Press, 1999. Engelstein L. The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin de siecle Russia. Ithaca: Cornell University Press, 1992. Ewing E.T. The Teachers of Stalinism: Policy, Practice and Power in Soviet Schools of the 1930s // History of Schools and Schooling. № 18 (New York, 2002). Fabre-Vassas C. The Singular Animal: Jews, Christians, and the Pig/ Trans. C. Volk. New York: Columbia University Press, 1997. Figes O. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917— 1921. Oxford: Clarendon Press, 1988. Fisher R J., Jr. The Beilis Case//The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History. Vol. 3. Gulf Breeze: University of Florida Press, 1977. Fitzpatrick S. Discourses of Denunciation // Journal of Modern History. Vol. 68. №4(1996). Fitzpatrick S. Stalin's Peasants: Resistance and Struggle in the Russian Village after Collectivization. New York: Oxford University Press, 1994. Fitzpatrick S. Tear Off the Masks! Princeton: Princeton University Press, 2005. Fitzpatrick S., Slezkine Yu. In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the Second World War. Princeton: Princeton University Press, 2000. Frank S. Crime, Cultural Conflict, and Justice in Rural Russia, 1856—1914. Berkeley: University of California Press, 1999. Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000. Halttunen К. Cultural History and the Challenge of Narrativity// Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture/ V.E. Bonnell, L. Hunt (eds.). Berkeley: University of California Press, 1999. Harris J. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet System. Ithaca: Cornell University Press, 1999. Hattenstone S. «I Don't Think of Him as my Father any More» // The Guardian. 27 November 2000. G2 section. Holmes L.E. Stalin's School: Moscow's Model School №25, 1931-1937. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999. Hughes J. Stalinism in a Russian Province: Collectivization and Dekulakization in Siberia. Basingstoke: Macmillan, 1996. International Documents on Children / G. Van Bueren (ed.). The Hague: Kluver Law International, 1998. Kelly С. Children's World. Growing Up in Russia, 1890—1991. New Haven and London: Yale University Press, 2007. Kenez P. Cinema and Soviet Society, 1917—1953. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Kent L.J. A Survivor of A Labor Camp Remembers: Expendable Children of Mother Russia. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 1997. Kincaid J.R. Child-Loving: The Erotic Child and Victorian Culture. New York and London: Routledge, 1992. Klonne A. Jugend im Dritten Reich: Die Hitler-Jugend und ihre Gegner. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990. Klotz A. Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840—1950: Gesamtverzeichnis der Veroffentlichungen in deutscher Sprache. 6 vols. Stuttgart: Metzler, 1999. Kotkin S. Magnetic Mountain; Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1995. L'Infini. №59 (1997) (La question pedophile.) Leader Cult in Russia and Eastern Europe / B. Apor, J. Behrends, P. Jones, E.A. Rees (eds.). Basingstoke: Palgrave, 2004. Lenhoff G. The Martyred Princes Boris and Gleb: A Socio-Cultural Study. Columbus, Ohio: Slavica, 1989. Leutheuser К Freie, gefuhrte und verfuhrte Jugend: Politisch motivierte Jugendliteratur in Deutschland 1919—1989. Paderborn: Igel Verlag, 1995. Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization. London: George Allen and Unwin, 1968. Lifschutz-Losev L. Children's Literature, Russian// Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literatures. Vol. 4. Gulf Breeze, Florida: Academic International Press, 1981. Lovell S. SummerfolkA History of the Dacha. Ithaca: Cornell, 2003. Lowe H.D. The Tsars and the Jews: Reform, Reaction, and Anti-Semitism in Imperial Russia, 1772—1917. Chur: Harwood Academic, 1993. Lurie A. Don't Tell the Grownups: Subversive Children's Literature. London: Bloomsbury, 1990. Malnick B. Everyday Life in Russia. London: George G. Harrap, 1938. Markowitz F. Coming of Age in Post-Soviet Russia. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2000. Memories of the Dispossessed: Descendants of Kulak Families Tell Their Stories / O. Litvinenko, J. Riordan (eds.). Nottingham: Bramcote Press, 1998. P. 29—51. Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Russia. London: Granta, 2000. Morrison В. As If: A Crime, a Trial, a Question of Childhood. London: Granta, 1997. Orme N. Medieval Children. London: Yale University Press, 2002. Orwell G. Nineteen Eighty-Four (1949). London: Penguin, 1990. Fallot J. Land Reform in Russia: Peasant Responses to Stolypin's Project of Rural Transformation, 1906—1917. Oxford: Clarendon Press, 1999. Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2000. Po-Chia Hora Ft. The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reformation Germany. New Haven: Yale University Press, 1988. A Revolution of Their Own: Voices of Women in Soviet History/ B.A. Engel, A. Posadskaya-Vanderbeck (eds.). Boulder, Colorado: Westview Press, 1998. Reynolds M. Legend of Pavlik Morozov Dies Hard // Moscow Times. 13 November 2002, P. 1. The Rights of Children / B. Franklin (ed.). Oxford: Basil Blackwell, 1986. Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Late Imperial Russia. Berkeley, CA, 1986. Samuel M. Blood Accusation: The Strange History of the Beiliss (sic! — K.K.) Case. London: Weidenfeld and Nicholson, 1967. Saranln A. Child of the Kulaks. St Lucia: University of Queensland Press, 1997. Schenzinger K.A. Der Hitlerjunge Quex: Roman. Berlin: Zeitgeist, 1932. Sherman J. The Jewish Pope: Myth, Diaspora, and Yiddish Literature. Oxford: Legenda, 2003. Siegelbaum L., Sokolov A. Stalinism as a Way of Life: A Narrative in Documents. New Haven: Yale University Press, 1999. Solomon P. Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Soviet Youth: Twelve Komsomol Histories / Novak-Deker N.K. (ed.). Munich: Institute for the Study of the USSR, 1959. Sowjetische Fotografen 1917—1940. Morozov S. et al. (eds.). Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980. Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Testimony: The Memoirs of Dmitry Shostakovich // S. Volkov (сотр. and ed.), A.W. Bouis (trans.). London: Hamish Hamilton, 1979. Tian-Shanskaia O. Village Life in Late Tsarist Russia // Ed. D.L Ransel, trans. D.L Ransel with Michael Levine. Bloomington: Indiana University Press, 1993. Treadgold D.W. The Great Siberian Migration: Government and Peasant in Resettlement from Emancipation to the First World War. Princeton: Princeton University Press, 1957. Verdery K. Nationalism and National Sentiment in Post-Soviet Russia // Slavic Review. 1993. №2. Viola L. «Tear the Evil from the Root»: The Children of the Spetspereselentsy of the North // Modernisation in the Russian Provinces (Studia Slavica Finlandensia, XVII). N. Baschmakoff, P. Freyer (eds.). Helsinki, 2000. Viola L. Peasant Rebels Under Stalin: Collectivisation and the Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1996. Viola L. The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization. New York: Oxford University Press, 1987. Warner M. No Go the Bogeyman: Scaring, Lulling, and Making Mock. London: Chatto and Windus, 1998. Widdis E. Visions of a New Land: Soviet Film from the Revolution to the Second World War. New Haven: Yale, 2003. Wood E. The Trial of Lenin: Legitimating the Revolution through Political Theater, 1920-1923 // Russian Review. Vol. 61. № 2 (2002). Zelensky E.K. Popular Children's Culture in Post-Perestroika Russia: Songs of Innocence and Experience Revisited // Consuming Russia/A. Barker (ed.). Durham, NC: Duke University Press, 1999. P. 138 -160.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К вступлению

1. Группа пионеров слушает рассказ о Павлике Морозове.
Государственный архив Свердловской обл., Екатеринбург

2. Дмитрий Прокопенко, школьный товарищ Павлика Морозова. К. Келли.

3. Памятник Павлику Морозову в Герасимовке. 1972.
Государственный архив Свердловской обл., Екатеринбург
К гл. 1

4. Поле колосящейся ржи.
Из журнала «Наши достижения». Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет

5. Плакат против кулачества.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка

6. «Марш пионеров».
Из книги А.А. Дернова-Ярмоленко «Я учусь». (М.: Госиздат, 1930). Российская национальная библиотека, СПб
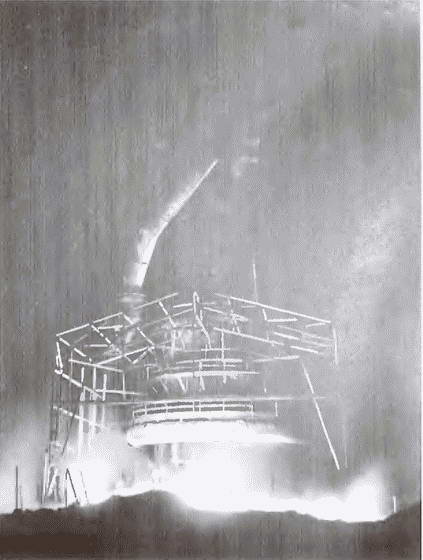
7. Мартеновская печь. 1934.
Из журнала «Наши достижения». Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет
К гл. 2

8. Политическая демонстрация в Свердловске. Около 1930.
Государственный архив Свердловской обл., Екатеринбург
К гл.З

9. Обложка дела Н-7825.
Центральный архив ФСБ, Москва

10. Страница из протокола свидетельских показаний, записанных милиционером Яковом Титовым.
Центральный архив ФСБ, Москва.

11. Страница из протокола свидетельских показаний, записанных райуполномоченным Быковым.
Центральный архив ФСБ, Москва

12. Первая страница Акта о подъеме мертвого тела Павлика Морозова.
Центральный архив ФСБ, Москва.
К гл. 4

13. Сообщение об убийстве Морозовых в «Пионерской правде». 15 октября 1932.
Российская государственная библиотека, Москва

14. Сообщение о суде над убийцами Морозовых в «Пионерской правде». Ноябрь 1932.
Российская государственная библиотека, Москва

15. Обвиняемые в зале суда. «Пионерская правда», ноябрь 1932.
Российская государственная библиотека, Москва

16. Спор Павлика с отцом.
Из книги П. Соломеина «В кулацком гнезде» (1933). Российская национальная библиотека, СПб
К гл. 5

17. Портрет Максима Горького. 1932. Из книги «Летопись жизни и творчества М. Горького» (М., 1958-1960).
Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет

18. Максим Горький обращается к советскому народу по радио со своей дачи. 1932.
Из книги «Летопись жизни и творчества М. Горького» (М., 1958-1960). Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет

19. Сталин с Гелей Маркизовой на руках. 1936.
Из книги «Советские дети» (М., 1940). Библиотека Колледжа святого Антония, Оксфордский университет
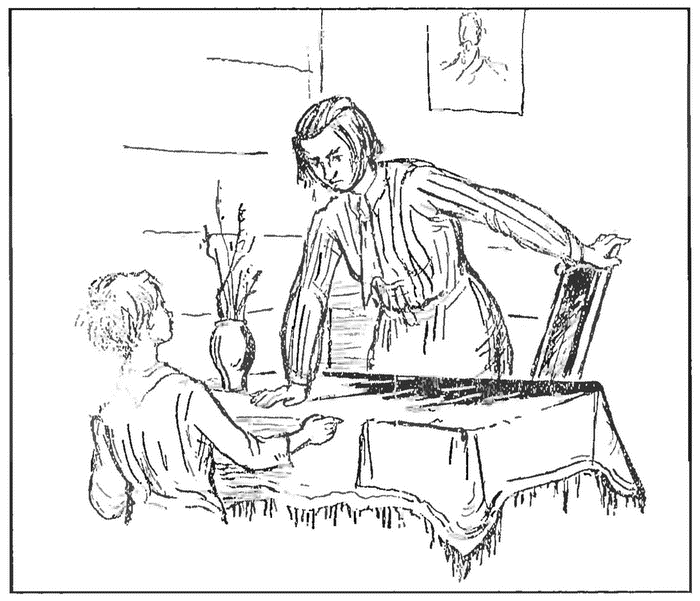
20. Павлик рассказывает учительнице о прокулацких действиях своего отца.
Из книги А. Яковлева «Пионер Павлик Морозов» (М., 1936). Российская государственная библиотека

21. Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Бежин луг». 1936.
Британский институт киноведения, Лондон
К гл. 6

22. Тимур и его команда обсуждают план действий.
Из книги А. Гайдара «Сочинения» (М., 1946). Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет

23. Макет памятника Павлику Морозову. Скульптор Исаак Рабинович. 1938.
Общество по культурным связям и исследованию, Лондон

24. «Павлик Морозов». Никита Чебаков. 1952 («Советскоеискусство», 1953).
Российская государственная библиотека
К гл. 7

25. Подарки пионеров музею Павлика Морозова в Герасимовке.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка

26. Реконструкция классной комнаты, в которой учился Павлик Морозов.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка

27. Павлик Морозов. Первая страница Книги Почета Всесоюзной пионерской организации.
Российский государственный архив социально-политической истории, Москва

28. Павлик Морозов. Журнал «Огонек». 1972.
Тейлорианская библиотека, Оксфордский университет

29. Памятник Павлику Морозову в г. Остров, Псковская обл. 1960-е гг. Н. Когюсов и Д. Ханаева

30. Памятник Павлику Морозову с призывом М. Горького «Память о нем не должна исчезнуть». К. Келли
К гл. 8

31. Похороны ребенка. Фотография 1930-х гг., ошибочно атрибутированная похоронам Федора Морозова.
Государственный архив Свердловской обл., Екатеринбург

32. Школьная фотография. Герасимовка, 1931.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка

33. Павлик Морозов и его мать.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка
К послесловию

34. Раскрашенная деревянная шкатулка. 1970-е гг.
Музей Павлика Морозова, Герасимовка
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БСЭ (1-е изд.) — Большая советская энциклопедия: В 65 т. М., 1926—1946 БСЭ (2-е изд.) — Большая советская энциклопедия: В 51 т. М., 1949—1965 БСЭ (3-е изд.) — Большая советская энциклопедия: В 30 т. М., 1969—1981 ВК — «Всходы коммуны», Свердловская газета для пионеров ГАСО — Государственный архив Свердловской области КП — «Комсомольская правда», официальная газета комсомольского молодежного движения ЛИ — «Ленинские искры», ленинградская газета для пионеров ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров (СНК), советская тайная полиция. Преобразовано 2 ноября 1923 г. из ГПУ (Государственное политическое управление), которое, в свою очередь, было образовано 6 февраля 1922 г. из ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия). В июле 1934 г. органы госбезопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). В феврале 1941 г. НКВД разделился на два самостоятельных органа: НКВД СССР и наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР. В марте 1946 г. НКГБ был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ). В 1953 г было принято решение об объединении Министерства внутренних дел и Министерства госбезопасности в единое МВД СССР. В 1954 г. создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР (КГБ СССР). В 1991 г. президент СССР М.С. Горбачев подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности», на основании которого КГБ СССР был упразднен и на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время — Служба внешней разведки РФ). В 1991 г. в соответствии с решением Съезда народных депутатов России был образован Комитет государственной безопасности РСФСР (КГБ РСФСР). В ноябре 1991 г. президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР. В 1992 г. было образовано Министерство безопасности РФ (МБ РФ). В 1993 г. Ельцин подписал Указ об упразднении МБ и о создании Федеральной службы контрразведки (ФСК). В 1995 г. ФСК был преобразован в Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ РФ) ПП — «Пионерская правда», центральная пионерская газета РАО НА — Российская академия образования, научный архив РГАСПИ —Российский государственный архив социальной и политической истории РГАСПИ-ЦХДМО — Центр хранения документов молодежных организаций РГИА — Российский государственный исторический архив ТР — «Тавдинский рабочий», местная газета в Тавде. Для простоты в книге всюду употребляется это заглавие газеты, хотя в конце 1920— начале 1930 гг. оно несколько раз менялось ЦА ФСБ — Центральный архив Федеральной службы безопасности ЦАОДМ — Центральный архив общественных движений Москвы ЦДОО СО — Центр документов общественных организаций Свердловской области, бывший партийный архив ЦГАЛИ-СПб — Центральный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга ЭС — Энциклопедический словарь: В 41 т. 4 доп. т. СПб: Изд-во Брокгауза и Ефрона, 1890-1907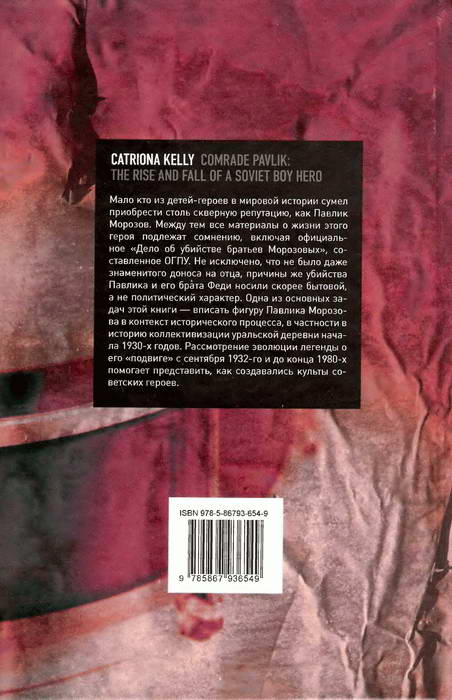

Последние комментарии
1 час 31 минут назад
9 часов 20 минут назад
11 часов 51 минут назад
11 часов 59 минут назад
1 день 23 часов назад
2 дней 3 часов назад