Сибирь: Москва ― Владивосток, май ― июнь 2010 [Даниэль Сальнав] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Даниэль Сальнав СИБИРЬ Москва — Владивосток май-июнь 2010
Памяти Антуана Витеза
«Очень часто правда о [России] говорится с ненавистью, а ложь — с любовью». Андре Жид, «Возвращение из СССР», предисловие (1937)
Четверг, 27 мая 2010 года
Россия, в силу своего прошлого, своей истории, моей истории, никогда не была и никогда не будет для меня каким-то обычным направлением. Этим поздним утром 27 мая 2010 года в группе французских писателей, летящих авиарейсом до Москвы, мне бы хотелось почитать, поработать, подготовиться, но не получается. Я чувствую себя ребенком, охваченным возбуждением, страхом и радостью. Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и их окрестностей я знаю Россию только по книгам. Я была только в Нижнем Новгороде, расположенном, как мне показалось после целой ночи, проведенной в поезде, очень далеко на восток. Но в этот раз речь идет о гораздо большем: поездка на Транссибирском экспрессе аж до Японского моря… Три недели пути на восток через степь, тайгу, огромные безлюдные пространства — леса, большие реки, с остановкой в городах по пути следования: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Владивосток. Города, закрытые для большинства людей вплоть до 1991 года. Мою голову переполняет прочитанное, исторические картинки, смутные воспоминания, где Сибирь предстает той бездной, откуда внезапно возникли гунны, и нашествию этих варварских племен не смогла помешать разгромленная Римская империя… Синоним нечеловеческого холода, депортаций, ГУЛАГа, смерти. Ничто не позволяло мне в тот момент представить волнующий всплеск пробуждения весны на этих безлюдных землях. После Урала, действительно, в 700 километрах от Москвы лежит Сибирь, которая простирается на тринадцать миллионов квадратных километров и девять часовых поясов. Происхождение русского названия «Сибирь» довольно неопределенно: с тюрко-монгольского это означает «пустота», а может, оно образовано от русского «север»? Изначально Сибирью русские называли татарское ханство, покоренное казацким атаманом Ермаком в 1581 году по приказу царя Ивана Грозного, ханство Туран. Пробыв под игом Азии в течение трех веков, Россия в свою очередь предприняла завоевание Востока. Последний русский город — это порт Владивосток, конечная станция-порт Транссибирской магистрали на Японском море.
Последний город России или последний город Европы? В самолете, который нес нас в Москву, этот вопрос даже и не возникает. Я думаю, как и большинство людей (и как генерал де Голль!): Европа лежит от Атлантики и до Урала. Путешествие поколеблет эту мою уверенность. По мере продвижения на восток Транссибирская магистраль мне казалась чем-то вроде гигантского снегоочистителя, толкающего Европу перед собой. И 14 июня на перроне Владивостока напротив восходящего солнца у меня уже не оставалось сомнений — я на границе с Азией. И хотя она уже неоднократно появлялась в моем путешествии, я все еще была в Европе. Это не было целью моей поездки, это стало ее результатом — парадоксальным выводом моего долгого пути через всю Сибирь. Россия вся целиком — это европейская страна. Начиная с того маленького ядра Сибирь, покоренного в конце XVI века. На моих глазах Европа протянулась вдоль нескончаемых путей мифического поезда под странные звуки его колес, выстукивающие на каждом повороте: «Сибирь!» «Сибирь!», — на перегонах чаще диких и нелюдимых, чем мирных и спокойных, по мере продвижения к востоку и к покорению.
Я заснула. Когда я просыпаюсь, мы уже снижаемся. Постепенно туман скрывает сверкающее в вышине солнце.
Я уже забыла, что аэропорт Шереметьево такой огромный и современный. Мы довольно быстро добираемся до Москвы, через какой-то лес, который сильно уменьшился со времени моего первого путешествия (решительно, оно неотвязно меня преследует). Типичный случай того времени отметил и наше прибытие: один пассажир, тощий бородатый парень, в багаже которого обнаружили несколько библий, был немедленно отправлен в Париж. Через окошко я разглядывала первые избы, деревянные дома в сердце густого леса с обледеневшими дорожками.
После того первого путешествия во время самого расцвета брежневской эры второе состоялось в декабре 1989-го, на пике перестройки. Третье — через несколько месяцев, краткосрочное пребывание в Ленинграде, только что ставшем Санкт-Петербургом, по пути в Хельсинки. Мне пришлось даже взять взаймы, чтобы попасть в самолет, заполненный финнами, которые приехали только для того, чтобы накупить и напиться водки. Весь уикенд лифты и коридоры были заполнены ужасно пьяными плечистыми парнями с выправкой лесорубов… И два последних — в начале девяностых, в разгар постсоветского распада. Что осталось у меня после этих посещений? Конечно, какие-то частные детали, но особенно общее неизгладимое впечатление. Какие-то предметы, металлический подстаканник в гостинице «Астория» в Ленинграде, деревянная брошка, крашенная под хохлому и купленная в Нижнем Новгороде. Что касается первых фотографий, относящихся к 1977 году и снятых замечательным маленьким Kodak Retinette, подаренным мне отцом к моему первому дальнему путешествию, то они уже не так хороши — краски выцвели, осталась только угасшая зелень, бледное бордо и медный отблеск.
Прибывая в Москву этим майским утром 2010 года, в первые же мгновения я испытываю что-то вроде шока, этакой смеси энтузиазма, узнавания, порыва, с осадком некоторого беспокойства, причины которого я не понимаю. Я не ожидала от себя подобного потрясения. Что-то сразу проявляется, но я еще не могу этому подобрать название: не то огромная надежда, не то, наоборот, неопределенность или даже тревога. Возрождение, волнение, последний рывок? Следы прошлого, трудное рождение будущего, смутное настоящее? Это сжимает сердце ностальгией, любовью, каким-то состраданием и сопереживанием без слов. Все время от самого прибытия в Москву 27 мая и до возвращения в Париж 16 июня я постоянно, как мольбу, слышала эти слова: «Все это нужно спасти и сохранить». «Все» — что? Россию? Но что это такое — Россия? В этот момент моего путешествия я даже не уверена, как я уже говорила, что могу ответить на вопрос, является ли Россия частью Европы. Если да, то докуда? До Урала? Дальше? Я не верю в великую Россию, еще меньше в святую Русь, тем более в русскую душу. Но вот она, действительность, на улицах, на лицах. Это как вызов, от которого никуда не деться.
В некотором смысле, однако, на первый взгляд все должно было меня убедить, что это уже не та Россия, которую я знала во время моих первых путешествий, ни зловещая атмосфера брежневской эпохи, ни более радостная времен перестройки. Еще менее — атмосфера всеобщего распада девяностых: полная неразбериха, нищета, бросающаяся в глаза, старушки в очередях, стройки и развалины, колоссальное переустройство…
Сегодня Россия уже не такая деградировавшая, она кажется более улыбающейся, повсюду видны новостройки, чувствуется дух достатка, пусть и относительного. Однако на все бросается некая тень. Не виной ли тому постоянная и чрезвычайно негативная риторика Запада? Но говоря о ее жизни повседневной, политической, социальной — разве желали бы мы, чтобы она оставалась коммунистической? Конечно, нет. «Слишком часто правда об СССР говорится с ненавистью, а ложь с любовью», — писал Gide в 1937 году. Как это выражение справедливо! Достаточно только вместо «СССР» вставить «Россия».
19 часов. Москва, длинная очередь чемоданов в гостинице «Юность». Ее архитектура чудовищна. Построенная в начале 1960-х годов, как указывает ее название, для организации молодых коммунистов (комсомол), она служила для приема зарубежных делегаций. Современный холл, но на этажах иллюзия заканчивается. Номера остались совершенно как в советские времена. Это была в точности как та гостиница, где я останавливалась тридцать лет назад на правом берегу Москвы-реки. Она называлась «Бухарест». Я ее больше не нашла. Ее коридоры широкими досками покрывали пол, и на их пересечении на каждом этаже царствовал надзиратель в униформе (они до сих пор сохранились во многих российских отелях, без униформы, но не без полицейских функций). Тогда горничная держала ключ от вашего номера в выдвижном ящике и выдавала только по предъявлению прописки, внутреннего паспорта, который должен был иметь каждый, включая советских граждан.
Мой номер в «Юности» узкий и обветшалый: тахта, облупившаяся коричнево-красная мебель, более чем изношенный ковер и в ванной комнате сантехника, которую я видела только в СССР, — длинный гусак смесителя, который можно поворачивать по желанию или в ванную, или в умывальник… Мой багаж меня обременяет, хотя у меня только один чемодан и сумка ручной клади, с которой мы делали пересадки, оставляя основное в поезде. Но я совершенно не могу развернуться в моем номере, имеющем только одно узкое окно. Естественно, что еще меня обременяют неизгладимые воспоминания 1977 года. В этом году Антон Витез репетировал Тартюфа по-русски в театре сатиры и пригласил меня посмотреть эти репетиции, как я постоянно делала в Париже или Иври. В то время было сложно не только путешествовать по России, но и даже приехать туда одному. Я, таким образом, вступила в общество Франция — СССР. Это было уже не первое мое путешествие в страну реального коммунизма. Прошлой осенью (в декабре 1976-го) я побывала в Берлине и каждый день, проходя в Восточный Берлин, столицу ГДР, снимала захватывающие кадры берлинской стены, пунктов пропуска, черных вод Шпрее вокруг острова музеев и смежное положение двух Германий, карикатурно непохожих друг на друга.
Но приезд в Москву — совсем другое дело. Хотя бы для того, чтобы избавиться от иллюзий (пусть в то время и частично) о социализме и о тех странах, которые его воплощают. Меня пронизывала смесь благоговения и ужаса. Зрелище неопровержимого исторического величия, пусть и преступного, всегда завораживает. То, что бросалось в глаза, однако, — общая серость, бедность, очереди перед магазинами, ветхость зданий. Почти повсюду лифты не работали, с табличкой «На ремонте», грустно качающейся на ручке двери на первом этаже. «На ремонте! Не работает!» — это вообще наиболее часто встречающаяся надпись.
Этим вечером 27 мая 2010 года, рано поднявшись в Париже, я чувствую себя усталой. День, однако, еще далек от завершения, так как на 11 часов вечера намечена прогулка по Красной площади… Но сначала по случаю нашего приезда прием во французском посольстве, в старинном особняке Игумнова, богатого купца, который его когда-то построил. Есть кое-что, что я так и не смогла проверить даже после моего возвращения: был ли купец Николай Игумнов старовером? Этот вопрос терзал меня до самого конца путешествия: я не знала тогда, какое место занимали староверы в кругах русских купцов и промышленников. Снаружи архитектура посольства казалась мне как никогда поразительной. Дикой и цивилизованной, азиатской и европейской? Она постоянно ставит перед вами вопросы о неопределенности будущего России. Подобный стиль здания, массивный, восточный, продуманно неоархаичный, говорит о попытках России вновь закрепиться в истории скорее мифически, чем реально. Такой же архитектурный стиль у большого магазина ГУМ на Красной площади, с крышами палаточной формы, как у древних «теремов» или храма Василия Блаженного.
Внутри первый этаж дома Игумнова продолжает псевдорусскую внешнюю атмосферу: темное золото сводов, стены еще более темных тонов, медь потухшего красного и почти черного зеленого. Все роскошное, варварское, как на представлении Бориса Годунова. Эта мощная архитектура, особенно распространенная в Москве, берет начало во времена правления Александра III, взошедшего на трон в 1881 году. Тяжеловесность, архаичные цвета, теремные крыши — символ политики нового суверена: политики реакции в ответ на убийство его отца, «царя-освободителя». Автократия, русификация, жестокость к инородцам, создание в 1882 году Департамента защиты порядка и общественной безопасности, «Охранки», предшественника политической полиции времен Ленина и Сталина, но также и экономический взлет развития России с решением, в частности, о строительстве Транссибирской магистрали в 1891 году.
Как все перекликается, как грядущие события уже представлены в стиле и даже в фасаде Игумновского дворца! Ростки революций 1905-го и 1917-го… Ленин, Транссибирская магистраль, дорогой славянофилам псевдорусский стиль, зачатки последующих драм. В 1887 году в Москве арестованы две сотни участников кружков народников, а в Петербурге — группа студентов, готовивших покушение на царя. Эти начинающие террористы, среди которых брат Ленина Александр Ильич Ульянов, будут приговорены к повешению. Все здесь собранное, как в японских цветах оригами, но чтобы это развернулось, нужна интенсивная работа памяти и чтение. Путешествие всегда разделяется на уже совершенное, которое будит любознательность и память, и рассказанное, которое пытается на все ответить.
23 часа. Заканчивается вечер во дворце Игумнова. Официальный прием, интерес к нашей маленькой делегации — все это усилило наше нетерпение начать путешествие. Была почти полночь, когда мы оказались на Красной площади. В это же время впервые в 1977 году я, очень взволнованная, уже была здесь с А. В. Но что произошло? Большой театр умер. Площадь кажется открытой четырем ветрам, она потеряла свой центр, свое единство. В действительности она просто больше не существует. Ее памятники кажутся случайно расставленными в этом искусственном освещении. Маленькие веселые группки молодежи, несколько туристов, ряд разворачивающихся автобусов: фотография путешествия, видеоклип — ничего больше. ГУМ и музей истории украшены гирляндами лампочек (то же самое в Пекине на внешней стене Запретного города). Мавзолей Ленина не привлекает взора.
История отступила. Красная площадь утратила величие названия, она теперь вызывает только безразличие. Огромное разочарование.
Было также темно, когда я впервые ее увидела. А. В. зашел за мной в отель, мы перешли через реку, было холодно, у меня не было подходящей одежды. Несмотря на только начавшееся таяние, Москва-река была уже чиста, хотя неделей раньше в Ленинграде Нева еще несла огромные глыбы льда размером с телегу. Мы разговаривали, и вдруг в конце короткой узкой улицы передо мной открылось ярко освещенное пространство, стены из красного кирпича, и на башнях Кремля эти гигантские звезды кавказского красного рубина, которые в 1937 году заменили двуглавых орлов. Перед Мавзолеем стоял почетный караул, его мраморный бункер в стиле ар-деко возле кремлевской стены. Его верх представлял собой трибуну. Сейчас мавзолей чаще закрыт. Что сделали с мумией? Она наконец в крипте эта мумия, которую в течение многих лет для сохранения ежемесячно погружали в высокотоксичную ванну? Или это сотни раз переделанный восковой муляж?
В этот мартовский вечер 1977 года я чувствовала себя пронзенной историей, беспокойством и холодом. Все, что я видела, казалось мне волнительным, наполненным смыслом и опасностью. Это в прошлом. Это ли причины для разочарования? Чего же я хочу? Грандиозной трагической истории? Террора или хотя бы его следов? Очевидно, нет. Когда в 1991 году я написала, что конец СССР не был чем-то хорошим, Адам Михник сказал: «Что же ты хочешь? Еще одной утопии? Но у тебя уже есть одна во Франции, у тебя есть Ле Пэн! Ты что, не понимаешь, что мы хотим прожить обычную, спокойную жизнь?» Частично он был прав. С тех пор я сильно изменилась в этом смысле: двадцать лет спустя я четко вижу, что каждодневная демократическая жизнь в современной Европе непременно сопровождается разочарованием… Но в то же время и у меня была своя правота: конец коммунизма не то же самое, что конец обычной диктатуры. Это конец огромной надежды. К облегчению примешивается боль обмана и страх перед новой, более коварной тиранией.
…Эту надежду разделяли еще те, кто входил в мою группу Франция — СССР в 1977 году. Несколько преподавателей, симпатизирующих и членов партии (в то время говорили еще «партия», и каждый знал, о чем идет речь), рабочие пенсионеры-коммунисты во время подобострастного визита на «родину трудящихся»… Днем нашего прибытия в Ленинград была суббота. Один из них, самый молодой, исчез. Его подцепили молодые люди на улице, чтобы поучаствовать в «социалистическом субботнике». Это добровольный (?) рабочий день на благо общества. Ему в руки дали лопату, и он целый день убирал опавшие листья, которые в России убирают только после таяния снега. Он забыл название нашего отеля, и у него не было с собой прописки. Его доставила милиция, уставшего, но гордого.
В 2003 году на площадь, которая пережила большие военные парады и где Сталин жестом руки приветствовал проходившие батальоны комсомольцев, у стены, где в 1945-м побежденные немецкие солдаты бросали свои знамена, украшенные орлом и свастикой, 100 000 молодых русских «в слезах», как говорили газеты, пришли аплодировать Полу Маккартни.
После Урала, действительно, в 700 километрах от Москвы лежит Сибирь, которая простирается на тринадцать миллионов квадратных километров и девять часовых поясов. Происхождение русского названия «Сибирь» довольно неопределенно: с тюрко-монгольского это означает «пустота», а может, оно образовано от русского «север»? Изначально Сибирью русские называли татарское ханство, покоренное казацким атаманом Ермаком в 1581 году по приказу царя Ивана Грозного, ханство Туран. Пробыв под игом Азии в течение трех веков, Россия в свою очередь предприняла завоевание Востока. Последний русский город — это порт Владивосток, конечная станция-порт Транссибирской магистрали на Японском море.
Последний город России или последний город Европы? В самолете, который нес нас в Москву, этот вопрос даже и не возникает. Я думаю, как и большинство людей (и как генерал де Голль!): Европа лежит от Атлантики и до Урала. Путешествие поколеблет эту мою уверенность. По мере продвижения на восток Транссибирская магистраль мне казалась чем-то вроде гигантского снегоочистителя, толкающего Европу перед собой. И 14 июня на перроне Владивостока напротив восходящего солнца у меня уже не оставалось сомнений — я на границе с Азией. И хотя она уже неоднократно появлялась в моем путешествии, я все еще была в Европе. Это не было целью моей поездки, это стало ее результатом — парадоксальным выводом моего долгого пути через всю Сибирь. Россия вся целиком — это европейская страна. Начиная с того маленького ядра Сибирь, покоренного в конце XVI века. На моих глазах Европа протянулась вдоль нескончаемых путей мифического поезда под странные звуки его колес, выстукивающие на каждом повороте: «Сибирь!» «Сибирь!», — на перегонах чаще диких и нелюдимых, чем мирных и спокойных, по мере продвижения к востоку и к покорению.
Я заснула. Когда я просыпаюсь, мы уже снижаемся. Постепенно туман скрывает сверкающее в вышине солнце.
Я уже забыла, что аэропорт Шереметьево такой огромный и современный. Мы довольно быстро добираемся до Москвы, через какой-то лес, который сильно уменьшился со времени моего первого путешествия (решительно, оно неотвязно меня преследует). Типичный случай того времени отметил и наше прибытие: один пассажир, тощий бородатый парень, в багаже которого обнаружили несколько библий, был немедленно отправлен в Париж. Через окошко я разглядывала первые избы, деревянные дома в сердце густого леса с обледеневшими дорожками.
После того первого путешествия во время самого расцвета брежневской эры второе состоялось в декабре 1989-го, на пике перестройки. Третье — через несколько месяцев, краткосрочное пребывание в Ленинграде, только что ставшем Санкт-Петербургом, по пути в Хельсинки. Мне пришлось даже взять взаймы, чтобы попасть в самолет, заполненный финнами, которые приехали только для того, чтобы накупить и напиться водки. Весь уикенд лифты и коридоры были заполнены ужасно пьяными плечистыми парнями с выправкой лесорубов… И два последних — в начале девяностых, в разгар постсоветского распада. Что осталось у меня после этих посещений? Конечно, какие-то частные детали, но особенно общее неизгладимое впечатление. Какие-то предметы, металлический подстаканник в гостинице «Астория» в Ленинграде, деревянная брошка, крашенная под хохлому и купленная в Нижнем Новгороде. Что касается первых фотографий, относящихся к 1977 году и снятых замечательным маленьким Kodak Retinette, подаренным мне отцом к моему первому дальнему путешествию, то они уже не так хороши — краски выцвели, осталась только угасшая зелень, бледное бордо и медный отблеск.
Прибывая в Москву этим майским утром 2010 года, в первые же мгновения я испытываю что-то вроде шока, этакой смеси энтузиазма, узнавания, порыва, с осадком некоторого беспокойства, причины которого я не понимаю. Я не ожидала от себя подобного потрясения. Что-то сразу проявляется, но я еще не могу этому подобрать название: не то огромная надежда, не то, наоборот, неопределенность или даже тревога. Возрождение, волнение, последний рывок? Следы прошлого, трудное рождение будущего, смутное настоящее? Это сжимает сердце ностальгией, любовью, каким-то состраданием и сопереживанием без слов. Все время от самого прибытия в Москву 27 мая и до возвращения в Париж 16 июня я постоянно, как мольбу, слышала эти слова: «Все это нужно спасти и сохранить». «Все» — что? Россию? Но что это такое — Россия? В этот момент моего путешествия я даже не уверена, как я уже говорила, что могу ответить на вопрос, является ли Россия частью Европы. Если да, то докуда? До Урала? Дальше? Я не верю в великую Россию, еще меньше в святую Русь, тем более в русскую душу. Но вот она, действительность, на улицах, на лицах. Это как вызов, от которого никуда не деться.
В некотором смысле, однако, на первый взгляд все должно было меня убедить, что это уже не та Россия, которую я знала во время моих первых путешествий, ни зловещая атмосфера брежневской эпохи, ни более радостная времен перестройки. Еще менее — атмосфера всеобщего распада девяностых: полная неразбериха, нищета, бросающаяся в глаза, старушки в очередях, стройки и развалины, колоссальное переустройство…
Сегодня Россия уже не такая деградировавшая, она кажется более улыбающейся, повсюду видны новостройки, чувствуется дух достатка, пусть и относительного. Однако на все бросается некая тень. Не виной ли тому постоянная и чрезвычайно негативная риторика Запада? Но говоря о ее жизни повседневной, политической, социальной — разве желали бы мы, чтобы она оставалась коммунистической? Конечно, нет. «Слишком часто правда об СССР говорится с ненавистью, а ложь с любовью», — писал Gide в 1937 году. Как это выражение справедливо! Достаточно только вместо «СССР» вставить «Россия».
19 часов. Москва, длинная очередь чемоданов в гостинице «Юность». Ее архитектура чудовищна. Построенная в начале 1960-х годов, как указывает ее название, для организации молодых коммунистов (комсомол), она служила для приема зарубежных делегаций. Современный холл, но на этажах иллюзия заканчивается. Номера остались совершенно как в советские времена. Это была в точности как та гостиница, где я останавливалась тридцать лет назад на правом берегу Москвы-реки. Она называлась «Бухарест». Я ее больше не нашла. Ее коридоры широкими досками покрывали пол, и на их пересечении на каждом этаже царствовал надзиратель в униформе (они до сих пор сохранились во многих российских отелях, без униформы, но не без полицейских функций). Тогда горничная держала ключ от вашего номера в выдвижном ящике и выдавала только по предъявлению прописки, внутреннего паспорта, который должен был иметь каждый, включая советских граждан.
Мой номер в «Юности» узкий и обветшалый: тахта, облупившаяся коричнево-красная мебель, более чем изношенный ковер и в ванной комнате сантехника, которую я видела только в СССР, — длинный гусак смесителя, который можно поворачивать по желанию или в ванную, или в умывальник… Мой багаж меня обременяет, хотя у меня только один чемодан и сумка ручной клади, с которой мы делали пересадки, оставляя основное в поезде. Но я совершенно не могу развернуться в моем номере, имеющем только одно узкое окно. Естественно, что еще меня обременяют неизгладимые воспоминания 1977 года. В этом году Антон Витез репетировал Тартюфа по-русски в театре сатиры и пригласил меня посмотреть эти репетиции, как я постоянно делала в Париже или Иври. В то время было сложно не только путешествовать по России, но и даже приехать туда одному. Я, таким образом, вступила в общество Франция — СССР. Это было уже не первое мое путешествие в страну реального коммунизма. Прошлой осенью (в декабре 1976-го) я побывала в Берлине и каждый день, проходя в Восточный Берлин, столицу ГДР, снимала захватывающие кадры берлинской стены, пунктов пропуска, черных вод Шпрее вокруг острова музеев и смежное положение двух Германий, карикатурно непохожих друг на друга.
Но приезд в Москву — совсем другое дело. Хотя бы для того, чтобы избавиться от иллюзий (пусть в то время и частично) о социализме и о тех странах, которые его воплощают. Меня пронизывала смесь благоговения и ужаса. Зрелище неопровержимого исторического величия, пусть и преступного, всегда завораживает. То, что бросалось в глаза, однако, — общая серость, бедность, очереди перед магазинами, ветхость зданий. Почти повсюду лифты не работали, с табличкой «На ремонте», грустно качающейся на ручке двери на первом этаже. «На ремонте! Не работает!» — это вообще наиболее часто встречающаяся надпись.
Этим вечером 27 мая 2010 года, рано поднявшись в Париже, я чувствую себя усталой. День, однако, еще далек от завершения, так как на 11 часов вечера намечена прогулка по Красной площади… Но сначала по случаю нашего приезда прием во французском посольстве, в старинном особняке Игумнова, богатого купца, который его когда-то построил. Есть кое-что, что я так и не смогла проверить даже после моего возвращения: был ли купец Николай Игумнов старовером? Этот вопрос терзал меня до самого конца путешествия: я не знала тогда, какое место занимали староверы в кругах русских купцов и промышленников. Снаружи архитектура посольства казалась мне как никогда поразительной. Дикой и цивилизованной, азиатской и европейской? Она постоянно ставит перед вами вопросы о неопределенности будущего России. Подобный стиль здания, массивный, восточный, продуманно неоархаичный, говорит о попытках России вновь закрепиться в истории скорее мифически, чем реально. Такой же архитектурный стиль у большого магазина ГУМ на Красной площади, с крышами палаточной формы, как у древних «теремов» или храма Василия Блаженного.
Внутри первый этаж дома Игумнова продолжает псевдорусскую внешнюю атмосферу: темное золото сводов, стены еще более темных тонов, медь потухшего красного и почти черного зеленого. Все роскошное, варварское, как на представлении Бориса Годунова. Эта мощная архитектура, особенно распространенная в Москве, берет начало во времена правления Александра III, взошедшего на трон в 1881 году. Тяжеловесность, архаичные цвета, теремные крыши — символ политики нового суверена: политики реакции в ответ на убийство его отца, «царя-освободителя». Автократия, русификация, жестокость к инородцам, создание в 1882 году Департамента защиты порядка и общественной безопасности, «Охранки», предшественника политической полиции времен Ленина и Сталина, но также и экономический взлет развития России с решением, в частности, о строительстве Транссибирской магистрали в 1891 году.
Как все перекликается, как грядущие события уже представлены в стиле и даже в фасаде Игумновского дворца! Ростки революций 1905-го и 1917-го… Ленин, Транссибирская магистраль, дорогой славянофилам псевдорусский стиль, зачатки последующих драм. В 1887 году в Москве арестованы две сотни участников кружков народников, а в Петербурге — группа студентов, готовивших покушение на царя. Эти начинающие террористы, среди которых брат Ленина Александр Ильич Ульянов, будут приговорены к повешению. Все здесь собранное, как в японских цветах оригами, но чтобы это развернулось, нужна интенсивная работа памяти и чтение. Путешествие всегда разделяется на уже совершенное, которое будит любознательность и память, и рассказанное, которое пытается на все ответить.
23 часа. Заканчивается вечер во дворце Игумнова. Официальный прием, интерес к нашей маленькой делегации — все это усилило наше нетерпение начать путешествие. Была почти полночь, когда мы оказались на Красной площади. В это же время впервые в 1977 году я, очень взволнованная, уже была здесь с А. В. Но что произошло? Большой театр умер. Площадь кажется открытой четырем ветрам, она потеряла свой центр, свое единство. В действительности она просто больше не существует. Ее памятники кажутся случайно расставленными в этом искусственном освещении. Маленькие веселые группки молодежи, несколько туристов, ряд разворачивающихся автобусов: фотография путешествия, видеоклип — ничего больше. ГУМ и музей истории украшены гирляндами лампочек (то же самое в Пекине на внешней стене Запретного города). Мавзолей Ленина не привлекает взора.
История отступила. Красная площадь утратила величие названия, она теперь вызывает только безразличие. Огромное разочарование.
Было также темно, когда я впервые ее увидела. А. В. зашел за мной в отель, мы перешли через реку, было холодно, у меня не было подходящей одежды. Несмотря на только начавшееся таяние, Москва-река была уже чиста, хотя неделей раньше в Ленинграде Нева еще несла огромные глыбы льда размером с телегу. Мы разговаривали, и вдруг в конце короткой узкой улицы передо мной открылось ярко освещенное пространство, стены из красного кирпича, и на башнях Кремля эти гигантские звезды кавказского красного рубина, которые в 1937 году заменили двуглавых орлов. Перед Мавзолеем стоял почетный караул, его мраморный бункер в стиле ар-деко возле кремлевской стены. Его верх представлял собой трибуну. Сейчас мавзолей чаще закрыт. Что сделали с мумией? Она наконец в крипте эта мумия, которую в течение многих лет для сохранения ежемесячно погружали в высокотоксичную ванну? Или это сотни раз переделанный восковой муляж?
В этот мартовский вечер 1977 года я чувствовала себя пронзенной историей, беспокойством и холодом. Все, что я видела, казалось мне волнительным, наполненным смыслом и опасностью. Это в прошлом. Это ли причины для разочарования? Чего же я хочу? Грандиозной трагической истории? Террора или хотя бы его следов? Очевидно, нет. Когда в 1991 году я написала, что конец СССР не был чем-то хорошим, Адам Михник сказал: «Что же ты хочешь? Еще одной утопии? Но у тебя уже есть одна во Франции, у тебя есть Ле Пэн! Ты что, не понимаешь, что мы хотим прожить обычную, спокойную жизнь?» Частично он был прав. С тех пор я сильно изменилась в этом смысле: двадцать лет спустя я четко вижу, что каждодневная демократическая жизнь в современной Европе непременно сопровождается разочарованием… Но в то же время и у меня была своя правота: конец коммунизма не то же самое, что конец обычной диктатуры. Это конец огромной надежды. К облегчению примешивается боль обмана и страх перед новой, более коварной тиранией.
…Эту надежду разделяли еще те, кто входил в мою группу Франция — СССР в 1977 году. Несколько преподавателей, симпатизирующих и членов партии (в то время говорили еще «партия», и каждый знал, о чем идет речь), рабочие пенсионеры-коммунисты во время подобострастного визита на «родину трудящихся»… Днем нашего прибытия в Ленинград была суббота. Один из них, самый молодой, исчез. Его подцепили молодые люди на улице, чтобы поучаствовать в «социалистическом субботнике». Это добровольный (?) рабочий день на благо общества. Ему в руки дали лопату, и он целый день убирал опавшие листья, которые в России убирают только после таяния снега. Он забыл название нашего отеля, и у него не было с собой прописки. Его доставила милиция, уставшего, но гордого.
В 2003 году на площадь, которая пережила большие военные парады и где Сталин жестом руки приветствовал проходившие батальоны комсомольцев, у стены, где в 1945-м побежденные немецкие солдаты бросали свои знамена, украшенные орлом и свастикой, 100 000 молодых русских «в слезах», как говорили газеты, пришли аплодировать Полу Маккартни.
 …Мы быстро делаем полукруг, ничто нас по-настоящему не удерживает в видении этих славных останков, хлама ставшей безопасной истории, разбросанного вокруг в бессвязном беспорядке на этом огромном заброшенном пространстве. Простые объекты, блуждающие, все еще великолепные и ослепительные, как памятник, возможно, наиболее известный в России — собор Василия Блаженного, построенный Иваном Грозным, чтобы увековечить свою победу над татарами. Его великолепие затмевает все и рассеивает всякую угрюмость. Он со своими полихромными куполами и крышей в стиле «терем», которую Позоев скопирует для дворца Игумнова, сопротивляется намного лучше, чем все остальное!
Позже, подремывая в автобусе, который вез нас в «Юность», меня посещали видения, быть может, для того, чтобы облегчить мои разочарования. Я пытаюсь вообразить Красную площадь середины века. Кремль еще остров. Теперешняя стена уже построена на месте былых деревянных фортификаций, башни уже окончены, мне мерещится суета на заросших склонах Москвы-реки, корабли, крики торговцев, рев скота. Но вскоре я засыпаю.
Только по возвращении во Францию я соберу вместе разрозненные элементы, чтобы однажды в моей памяти выстроить их в историческую линию с бесчисленными последствиями. Длительная осада Казани Иваном Грозным. Его победа над татарами 1 октября 1552 года, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Чтобы ее увековечить, и построена в 1555–1561 годах церковь Покровский собор на рву. Имя Василия Блаженного ему дали впоследствии в честь юродивого (юродство — «религиозное безумие»), одного из этих многочисленных бродячих монахов, пророков и чудотворцев, ходивших по Руси. (Нечто подобное я видела в Индии.) История примешивает сюда легенду: Иван Грозный якобы выколол глаза своим зодчим, Барме и Постнику, — предположим, их было двое, что не вполне ясно, — чтобы они не смогли повторить подобного шедевра. Но почему бы ему и впрямь не выколоть глаза этим архитекторам? По фильмам Эйзенштейна и Павла Лунгина одно его имя заставляло трепетать, одно звучание по-русски «Грозный». Так же называется и столица Чечни. Какой претендент на руку Елизаветы, королевы-девственницы, после бледного Франсуа Анжуйского, сына Екатерины Медичи! 9 января 2010 года в интервью Фредерику Теобальду для газеты «Жизнь» Лунгин сказал: «Из-за Ивана Россия осталась в средневековье и так и не познала возрождения. Историки описывают его в манере, от которой стынет кровь: „Иван проводит свое детство в атмосфере ненависти и смерти, постоянном страхе быть убитым. Его досуг — это мучение животных, охота, жестокое обращение с окрестными сельскими жителями“».
Варварство, дикость, неустроенность жизни — и это надолго. Разрыв между Россией и остальной Европой увеличивается. Только одна деталь: на иконах золотой фон, в то время как Джотто отказался от него еще триста лет назад. Как это соблазнительно и, наверно, слишком бездоказательно устанавливать исторические параллели! Но как же этого не делать? Во всей Европе апогей Ренессанса, однако во Франции начало религиозных войн, которые будут ее заливать кровью в течение сорока лет. Монтень встречает Ля Боэси — после этой встречи появятся эссе. В Индии монгольский император Хьюмаюн, который также не был ни мягким, ни нежным, падает с обсерватории, где он наблюдал за звездами. Три формы завоевания: завоевание политического пространства, завоевание внутреннего пространства, завоевание небесного пространства.
Эти сравнения — неистощимый источник «исторической меланхолии», о которой говорит Флобер. Путешествия могут продолжаться, таким образом, месяцами. Путешествовать в сегодняшнем пространстве и времени — это также путешествовать и во вчерашнем пространстве и времени. Это путь внимания и пробуждения, постоянных влечений, из которых рождается что-то вроде сочувствия к вещам и существам минувших времен… С этим невозможно покончить: Василий Блаженный дает повод упомянуть образ странного, уже подзабытого большевика Луначарского. В 1917 году было решено взорвать церковь, чему он резко воспротивился. Марксист и мистик, автор эмпириокритицизма (кто не сталкивался в нашей марксистской юности 1960-1970-х годов со статьей Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»?), основатель журнала «Вперед», который заставил пролиться немало крови, затем «Новая жизнь», которая ее пролила не меньше… Эти религиозные заботы не помешали ему придумать понятие «пролетарская культура». Он был не только специалистом в области образования, но и эстетом: в отличие от Ленина хранителем материальной культуры. Луначарский поддерживал Малевича, Эйзенштейна, первые шаги конструктивизма. Ему повезло, и это не шутка, умереть от инфекции во время поездки во Францию в 1933 году: представляю, какова была бы его судьба в 1937-м, во время больших чисток… Однако спать.
Несколькими месяцами позже, справляясь о книге конца XIX века под названием «Святая Русь», я наткнулась на одну древнюю гравюру: на ней изящно вырисованный Василий Блаженный и перед собором памятник, воздвигнутый на Красной площади, чтобы увековечить память о национальных героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, победивших поляков в 1612 году. Пожарский особенно известен благодаря кулинарному рецепту — котлеты «Пожарские», особо приготовленные мясные биточки.
…Мы быстро делаем полукруг, ничто нас по-настоящему не удерживает в видении этих славных останков, хлама ставшей безопасной истории, разбросанного вокруг в бессвязном беспорядке на этом огромном заброшенном пространстве. Простые объекты, блуждающие, все еще великолепные и ослепительные, как памятник, возможно, наиболее известный в России — собор Василия Блаженного, построенный Иваном Грозным, чтобы увековечить свою победу над татарами. Его великолепие затмевает все и рассеивает всякую угрюмость. Он со своими полихромными куполами и крышей в стиле «терем», которую Позоев скопирует для дворца Игумнова, сопротивляется намного лучше, чем все остальное!
Позже, подремывая в автобусе, который вез нас в «Юность», меня посещали видения, быть может, для того, чтобы облегчить мои разочарования. Я пытаюсь вообразить Красную площадь середины века. Кремль еще остров. Теперешняя стена уже построена на месте былых деревянных фортификаций, башни уже окончены, мне мерещится суета на заросших склонах Москвы-реки, корабли, крики торговцев, рев скота. Но вскоре я засыпаю.
Только по возвращении во Францию я соберу вместе разрозненные элементы, чтобы однажды в моей памяти выстроить их в историческую линию с бесчисленными последствиями. Длительная осада Казани Иваном Грозным. Его победа над татарами 1 октября 1552 года, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Чтобы ее увековечить, и построена в 1555–1561 годах церковь Покровский собор на рву. Имя Василия Блаженного ему дали впоследствии в честь юродивого (юродство — «религиозное безумие»), одного из этих многочисленных бродячих монахов, пророков и чудотворцев, ходивших по Руси. (Нечто подобное я видела в Индии.) История примешивает сюда легенду: Иван Грозный якобы выколол глаза своим зодчим, Барме и Постнику, — предположим, их было двое, что не вполне ясно, — чтобы они не смогли повторить подобного шедевра. Но почему бы ему и впрямь не выколоть глаза этим архитекторам? По фильмам Эйзенштейна и Павла Лунгина одно его имя заставляло трепетать, одно звучание по-русски «Грозный». Так же называется и столица Чечни. Какой претендент на руку Елизаветы, королевы-девственницы, после бледного Франсуа Анжуйского, сына Екатерины Медичи! 9 января 2010 года в интервью Фредерику Теобальду для газеты «Жизнь» Лунгин сказал: «Из-за Ивана Россия осталась в средневековье и так и не познала возрождения. Историки описывают его в манере, от которой стынет кровь: „Иван проводит свое детство в атмосфере ненависти и смерти, постоянном страхе быть убитым. Его досуг — это мучение животных, охота, жестокое обращение с окрестными сельскими жителями“».
Варварство, дикость, неустроенность жизни — и это надолго. Разрыв между Россией и остальной Европой увеличивается. Только одна деталь: на иконах золотой фон, в то время как Джотто отказался от него еще триста лет назад. Как это соблазнительно и, наверно, слишком бездоказательно устанавливать исторические параллели! Но как же этого не делать? Во всей Европе апогей Ренессанса, однако во Франции начало религиозных войн, которые будут ее заливать кровью в течение сорока лет. Монтень встречает Ля Боэси — после этой встречи появятся эссе. В Индии монгольский император Хьюмаюн, который также не был ни мягким, ни нежным, падает с обсерватории, где он наблюдал за звездами. Три формы завоевания: завоевание политического пространства, завоевание внутреннего пространства, завоевание небесного пространства.
Эти сравнения — неистощимый источник «исторической меланхолии», о которой говорит Флобер. Путешествия могут продолжаться, таким образом, месяцами. Путешествовать в сегодняшнем пространстве и времени — это также путешествовать и во вчерашнем пространстве и времени. Это путь внимания и пробуждения, постоянных влечений, из которых рождается что-то вроде сочувствия к вещам и существам минувших времен… С этим невозможно покончить: Василий Блаженный дает повод упомянуть образ странного, уже подзабытого большевика Луначарского. В 1917 году было решено взорвать церковь, чему он резко воспротивился. Марксист и мистик, автор эмпириокритицизма (кто не сталкивался в нашей марксистской юности 1960-1970-х годов со статьей Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»?), основатель журнала «Вперед», который заставил пролиться немало крови, затем «Новая жизнь», которая ее пролила не меньше… Эти религиозные заботы не помешали ему придумать понятие «пролетарская культура». Он был не только специалистом в области образования, но и эстетом: в отличие от Ленина хранителем материальной культуры. Луначарский поддерживал Малевича, Эйзенштейна, первые шаги конструктивизма. Ему повезло, и это не шутка, умереть от инфекции во время поездки во Францию в 1933 году: представляю, какова была бы его судьба в 1937-м, во время больших чисток… Однако спать.
Несколькими месяцами позже, справляясь о книге конца XIX века под названием «Святая Русь», я наткнулась на одну древнюю гравюру: на ней изящно вырисованный Василий Блаженный и перед собором памятник, воздвигнутый на Красной площади, чтобы увековечить память о национальных героях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, победивших поляков в 1612 году. Пожарский особенно известен благодаря кулинарному рецепту — котлеты «Пожарские», особо приготовленные мясные биточки.
Пятница, 28 мая
 9 утра, гостиница «Юность». После завтрака, собираясь присоединиться к группе, отправлявшейся на пресс-конференцию о нашем путешествии, я несколько минут брожу по холлу. На стене справа от стойки репродукции советских картин. Одна довольно известная, даже классическая, изображает Сталина, который поздней ночью заботится о нас в своем кремлевском кабинете. Часы у него за спиной показывают час ночи. На других картинах, несколько меньшего размера, Ленин в гуще толпы доброжелательно выслушивает молодых комсомольцев в красных платках. И еще несколько дальше над витриной громадный портрет Брежнева с широким торсом, усыпанным медалями. Надпись под портретом понять несложно. В общем что-то типа «Вперед без страха по пути коммунизма!» Мне не хватает слов, но я даже не затрудняюсь достать словарик.
Конференция проходит в Библиотеке иностранной литературы. Во дворе статуи писателей, среди которых красивый бюст Йозефа Аттилы… Отойдя на мгновение от группы, чтобы порыться на полках библиотеки, я просматриваю толстую книгу о ГУЛАГе Томаша Кижны с продуманно размещенными фотографиями, названиями и картами расположения. Во главе цитата Шаламова, которую я немедленно переписываю в свой блокнот: «То, что я видел, никто не должен ни видеть, ни даже знать. Но, раз увидев, лучше быстрее умереть».
У меня времени — только взглянуть на карту и содрогнуться. Вся территория СССР от востока России до Восточной Сибири — вереница больших и малых белых пятен. Наиболее печально известные по рассказам — на Крайнем Севере (Соловки, Магадан), но мы туда не поедем. Однако в лагерях недостатка нет, и вдалеке там, на нашем пути, они даже более многочисленны: Красноярск и Иркутск — крупные административные центры ГУЛАГа. На одном из интернет-сайтов в начале января 2011 года я обнаружила фотографии наших дней, где можно видеть железную дорогу, построенную заключенными в тысяче километров к северу от Красноярска между городами Игарка и Салехард в 1949–1953 годах, вплоть до смерти Сталина. Большинство из них погибли, говорится в комментарии, строя дорогу, которая, «как и много других, не ведет никуда». Такая же смертельная и бесполезная, как и Беломорканал, мелкий и занесенный песком. Все разрушено, все разваливается: бараки, пилорамы, мосты.
Все это спит с обломками окончательно минувшего времени? Вопрос о лагерях будет меня преследовать в течение всего путешествия, но до поры до времени я не осмеливаюсь затрагивать его в общении с моими русскими собеседниками. Я не знаю, как они отнесутся к моему любопытству по этому поводу. Как быть? Я не хочу возвращать их в прошлое, которое они, возможно, хотели бы забыть, но также не хотелось бы, чтобы из-за моего молчания они подумали, будто он меня не волнует.
Во всяком случае, я не могу о нем забыть, это часть нашей истории, часть моей истории, это здесь наши речи и иллюзии спотыкаются о реальный коммунизм. Годы коммунизма как бы постоянно бросают параллельную тень на наше радостное путешествие. Она сопровождает его повсюду и не исчезает, как немой, но навязчивый и постоянно дублирующийся комментарий.
Несколько позднее, как прелюдия к нашему путешествию, конференция «О русской литературе и пространстве» Игоря Волгина, большого специалиста по Достоевскому и Гоголю. Но я, к сожалению, не могу сосредоточиться, мысли блуждают, запоминаются только анекдоты… Например, выражение, приписываемое Гоголю: «У России две беды — дураки и дороги». И это опять будит воображение… Представляю, каким испытанием было вплоть до конца XIX века путешествовать по этому огромному континенту, по ужасным дорогам, а иногда и вовсе по бездорожью. Даже свидетельство Чехова, отправившегося на Сахалин за несколько лет до начала строительства Транссибирской магистрали: «Сибирь — это страна холода на всем своем протяжении. Едешь, едешь и не видишь ей конца», — писал он. Нужны были месяцы, чтобы добраться до Восточной Сибири. Чтобы пересечь реки, ждали льда. Во время путешествия рождались и росли дети. Это еще более усложняло ссылку политических, отправляемых в Сибирь. Отставание, а затем развитие России — это история внутренних сообщений этой огромной страны, где веками существовали только два пути: Волга с севера на юг и с востока, через Сибирь, пути караванов, привозивших чай. И возникшая идея строительства Транссибирской магистрали была радикальна своей новизной и «фараонична» своим размахом и драматизмом осуществления… Это было также знаком того времени, каким мы представляем себе XIX век, век Жуля Верна и Эйфелевой башни: паровые машины, стальные профили (рельсы, мосты). Также и железные дороги: модернизация и развитие европейских стран, ликвидация замкнутости изолированных территорий. Первая железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским селом с локомотивом на лошадиной тяге пущена тогда же, когда и первая французская линия времен Июльской монархии от Парижа до Сен-Жермен-ан-Лэ: «При скорости большей, чем 30 километров в час, ее ощущение становится головокружительным», — писал журналист того времени (1837 год). Затем переход к вещам более серьезным: Николай I решает строить дорогу из Петербурга в Москву. Совершенно прямой путь, кроме, как говорит легенда, одного небольшого крюка, сейчас уже выпрямленного, оставленного на карте пальцем императора, прижимающим линейку. Ни туалетов, ни отопления, высадка на каждом мосту. Железнодорожный музей Новосибирска сохранил несколько локомотивов и вагонов того времени… Какие-то оставшиеся обрывки конференции, какие-то поиски потом. Строительство Транссибирской магистрали будет закончено в рекордные сроки, менее чем за 25 лет, но ценою тысяч жизней. Магистраль, начатая с двух сторон, смогла наконец связать два конца империи протяженностью более 9000 километров. И объединить страну, так как в книге «Святая Русь», вышедшей в 1890 году, о которой я только что рассказывала, Сибирь даже не упоминается. Россия заканчивается еще Уралом.
После конференции мы отправляемся на Ярославский вокзал, тоже построенный в псевдорусском стиле: массивные фасады, колонны. Крыша-терем. В VIP-зале нас ждет прием, а также ожидает группа детей, одетых в национальные костюмы из блестящей ткани. На окнах висят бледно-желтые нейлоновые волнистые шторы, модные в советскую эпоху, которые можно было найти повсюду в Восточной Европе.
Мы следуем к перрону, каждого ведет ребенок, держащий красные и синие шарики. Времени у меня только чтобы сфотографировать электронное табло, от которого может закружиться голова. Маршрут, направление: Воркута, Архангельск, Иркутск, Владивосток, Пекин. И на нашем вагоне эти невероятные слова, которые я перечитываю по несколько раз: «Москва — Владивосток». Два предназначенных для нас вагона украшены надписями в сине-бело-красных тонах, общих для русского и французского флага. Название поезда написано кириллицей: «Блез Сандрар». Нас ожидает целая толпа: фотографы, оркестр. Наконец мы садимся, меня охватывает сильное волнение, первый стук колес, поезд медленно трогается, дети машут флажками, звук оркестра удаляется, перед нами 10 тысяч километров неизвестных просторов, рек, городов, лесов… Но разве я немного не у себя дома в транссибирском экспрессе? Разве даже сама Транссибирская магистраль хоть чуть-чуть не принадлежит мне, как и большинству французов? Ее строительство стоило 500 миллионов долларов, и моя семья тоже немного заплатила, подписавшись на один из многочисленных государственных займов, выпущенных Россией после альянса с Францией в 1892 году. В частности, чтобы финансировать это строительство. Известно, что из этого вышло: туда ушла треть французских сбережений. Я знаю в Анжере семью, которая развлекалась, полностью обклеив большой чердак бесполезными облигациями.
9 утра, гостиница «Юность». После завтрака, собираясь присоединиться к группе, отправлявшейся на пресс-конференцию о нашем путешествии, я несколько минут брожу по холлу. На стене справа от стойки репродукции советских картин. Одна довольно известная, даже классическая, изображает Сталина, который поздней ночью заботится о нас в своем кремлевском кабинете. Часы у него за спиной показывают час ночи. На других картинах, несколько меньшего размера, Ленин в гуще толпы доброжелательно выслушивает молодых комсомольцев в красных платках. И еще несколько дальше над витриной громадный портрет Брежнева с широким торсом, усыпанным медалями. Надпись под портретом понять несложно. В общем что-то типа «Вперед без страха по пути коммунизма!» Мне не хватает слов, но я даже не затрудняюсь достать словарик.
Конференция проходит в Библиотеке иностранной литературы. Во дворе статуи писателей, среди которых красивый бюст Йозефа Аттилы… Отойдя на мгновение от группы, чтобы порыться на полках библиотеки, я просматриваю толстую книгу о ГУЛАГе Томаша Кижны с продуманно размещенными фотографиями, названиями и картами расположения. Во главе цитата Шаламова, которую я немедленно переписываю в свой блокнот: «То, что я видел, никто не должен ни видеть, ни даже знать. Но, раз увидев, лучше быстрее умереть».
У меня времени — только взглянуть на карту и содрогнуться. Вся территория СССР от востока России до Восточной Сибири — вереница больших и малых белых пятен. Наиболее печально известные по рассказам — на Крайнем Севере (Соловки, Магадан), но мы туда не поедем. Однако в лагерях недостатка нет, и вдалеке там, на нашем пути, они даже более многочисленны: Красноярск и Иркутск — крупные административные центры ГУЛАГа. На одном из интернет-сайтов в начале января 2011 года я обнаружила фотографии наших дней, где можно видеть железную дорогу, построенную заключенными в тысяче километров к северу от Красноярска между городами Игарка и Салехард в 1949–1953 годах, вплоть до смерти Сталина. Большинство из них погибли, говорится в комментарии, строя дорогу, которая, «как и много других, не ведет никуда». Такая же смертельная и бесполезная, как и Беломорканал, мелкий и занесенный песком. Все разрушено, все разваливается: бараки, пилорамы, мосты.
Все это спит с обломками окончательно минувшего времени? Вопрос о лагерях будет меня преследовать в течение всего путешествия, но до поры до времени я не осмеливаюсь затрагивать его в общении с моими русскими собеседниками. Я не знаю, как они отнесутся к моему любопытству по этому поводу. Как быть? Я не хочу возвращать их в прошлое, которое они, возможно, хотели бы забыть, но также не хотелось бы, чтобы из-за моего молчания они подумали, будто он меня не волнует.
Во всяком случае, я не могу о нем забыть, это часть нашей истории, часть моей истории, это здесь наши речи и иллюзии спотыкаются о реальный коммунизм. Годы коммунизма как бы постоянно бросают параллельную тень на наше радостное путешествие. Она сопровождает его повсюду и не исчезает, как немой, но навязчивый и постоянно дублирующийся комментарий.
Несколько позднее, как прелюдия к нашему путешествию, конференция «О русской литературе и пространстве» Игоря Волгина, большого специалиста по Достоевскому и Гоголю. Но я, к сожалению, не могу сосредоточиться, мысли блуждают, запоминаются только анекдоты… Например, выражение, приписываемое Гоголю: «У России две беды — дураки и дороги». И это опять будит воображение… Представляю, каким испытанием было вплоть до конца XIX века путешествовать по этому огромному континенту, по ужасным дорогам, а иногда и вовсе по бездорожью. Даже свидетельство Чехова, отправившегося на Сахалин за несколько лет до начала строительства Транссибирской магистрали: «Сибирь — это страна холода на всем своем протяжении. Едешь, едешь и не видишь ей конца», — писал он. Нужны были месяцы, чтобы добраться до Восточной Сибири. Чтобы пересечь реки, ждали льда. Во время путешествия рождались и росли дети. Это еще более усложняло ссылку политических, отправляемых в Сибирь. Отставание, а затем развитие России — это история внутренних сообщений этой огромной страны, где веками существовали только два пути: Волга с севера на юг и с востока, через Сибирь, пути караванов, привозивших чай. И возникшая идея строительства Транссибирской магистрали была радикальна своей новизной и «фараонична» своим размахом и драматизмом осуществления… Это было также знаком того времени, каким мы представляем себе XIX век, век Жуля Верна и Эйфелевой башни: паровые машины, стальные профили (рельсы, мосты). Также и железные дороги: модернизация и развитие европейских стран, ликвидация замкнутости изолированных территорий. Первая железная дорога между Санкт-Петербургом и Царским селом с локомотивом на лошадиной тяге пущена тогда же, когда и первая французская линия времен Июльской монархии от Парижа до Сен-Жермен-ан-Лэ: «При скорости большей, чем 30 километров в час, ее ощущение становится головокружительным», — писал журналист того времени (1837 год). Затем переход к вещам более серьезным: Николай I решает строить дорогу из Петербурга в Москву. Совершенно прямой путь, кроме, как говорит легенда, одного небольшого крюка, сейчас уже выпрямленного, оставленного на карте пальцем императора, прижимающим линейку. Ни туалетов, ни отопления, высадка на каждом мосту. Железнодорожный музей Новосибирска сохранил несколько локомотивов и вагонов того времени… Какие-то оставшиеся обрывки конференции, какие-то поиски потом. Строительство Транссибирской магистрали будет закончено в рекордные сроки, менее чем за 25 лет, но ценою тысяч жизней. Магистраль, начатая с двух сторон, смогла наконец связать два конца империи протяженностью более 9000 километров. И объединить страну, так как в книге «Святая Русь», вышедшей в 1890 году, о которой я только что рассказывала, Сибирь даже не упоминается. Россия заканчивается еще Уралом.
После конференции мы отправляемся на Ярославский вокзал, тоже построенный в псевдорусском стиле: массивные фасады, колонны. Крыша-терем. В VIP-зале нас ждет прием, а также ожидает группа детей, одетых в национальные костюмы из блестящей ткани. На окнах висят бледно-желтые нейлоновые волнистые шторы, модные в советскую эпоху, которые можно было найти повсюду в Восточной Европе.
Мы следуем к перрону, каждого ведет ребенок, держащий красные и синие шарики. Времени у меня только чтобы сфотографировать электронное табло, от которого может закружиться голова. Маршрут, направление: Воркута, Архангельск, Иркутск, Владивосток, Пекин. И на нашем вагоне эти невероятные слова, которые я перечитываю по несколько раз: «Москва — Владивосток». Два предназначенных для нас вагона украшены надписями в сине-бело-красных тонах, общих для русского и французского флага. Название поезда написано кириллицей: «Блез Сандрар». Нас ожидает целая толпа: фотографы, оркестр. Наконец мы садимся, меня охватывает сильное волнение, первый стук колес, поезд медленно трогается, дети машут флажками, звук оркестра удаляется, перед нами 10 тысяч километров неизвестных просторов, рек, городов, лесов… Но разве я немного не у себя дома в транссибирском экспрессе? Разве даже сама Транссибирская магистраль хоть чуть-чуть не принадлежит мне, как и большинству французов? Ее строительство стоило 500 миллионов долларов, и моя семья тоже немного заплатила, подписавшись на один из многочисленных государственных займов, выпущенных Россией после альянса с Францией в 1892 году. В частности, чтобы финансировать это строительство. Известно, что из этого вышло: туда ушла треть французских сбережений. Я знаю в Анжере семью, которая развлекалась, полностью обклеив большой чердак бесполезными облигациями.
 Уже почти 17 часов. Погода серая, теплая, пасмурная. С помощью Kr. я вывешиваю в коридоре карту Транссибирской магистрали, которую распечатала еще в Париже. Увидела ее назавтра отклеившейся; справедливости ради должна добавить, что я прижала ее только на кусочек жвачки, которая и держала карту до самого нашего отправления… Затем я прокладываю себе путь между чемоданами, растягиваюсь на кушетке головой под гамачной сеткой, подвешенной под зеркалом в красивой рамке в стиле ар-деко, и пью мой первый яблочно-вишневый сок. Я слегка разочарована, что не провела ночь в поезде, так как ощущение удаленности возрастает, если ты спал в вагоне и прибыл рано поутру. Меня все очаровывало во время первого путешествия в Нижний Новгород: отправление поздним вечером, спальные места и самовары в каждом купе, большая толпа на перроне, даже более живописная, чем теперь, узбекские и казахские лица и даже китайцы в синих пальто. Однако мне все нравится в поезде, где мы устраиваемся, его немного спартанский комфорт. Это, к счастью, не Трансъевропейский экспресс, кипяток в самом конце вагона… Душа нет вообще, а туалеты закрываются перед каждой остановкой и еще долго после нее. Знаменитые волнистые занавески на окнах наших двухместных купе первого класса, четырехместных купе второго класса и плацкартных (вообще без купе) местах. Хотя вагоны и не такие примитивные, в каких я ездила в Китае в 1994 году: деревянные нары без матраца с колючей циновкой. Моим соседом тогда был умирающий, которого везли домой. Всю ночь к его руке была прикреплена капельница, а выносили его на носилках через окно.
Мы спешим отодвинуть и убрать занавески, чтобы видеть и фотографировать пейзаж. Купе такие малюсенькие, что мы еле разместили наши вещи. Из соседнего купе я слышу голос G. G., жалующегося на монументальный размер своего чемодана, монстра, сверкающего металлом… Ко мне опять возвращаются воспоминания о поездке в Нижний Новгород, раннее прибытие, огромное зеркало Волги и за ней бескрайняя степь, уходящая за горизонт, прогулка вдоль берега замерзшей реки со студентом Андреем и рыбаки, сидящие на своих табуретах над лункой, просверленной во льду коловоротом. Это была эпоха великого переворота. Виктор Черномырдин был тогда премьер-министром, обвиненный впоследствии в том, что стал олигархом и сильно разбогател. Тем не менее его кончина в 2010 году произошла практически незамеченной. На его похоронах президент Медведев сказал: «Самым большим испытанием для него было руководить правительством в девяностые годы, которые были самыми трудными». По меньшей мере пятикратное увеличение цен, инфляция, достигшая к концу 1992 года 2600 процентов, экономика в руинах и всеобщее отчаяние…
Вскоре нас привели показать небольшую квартирку, где в ссылке проживали Анатолий Сахаров и Елена Боннэр. В совершенно обычном квартале их жилье было довольно комфортабельным для советской квартиры. Но это ничтожная компенсация за то, что он вынужден был там жить, вдали от любого общения и контактов в городе, закрытом для иностранцев.
В день его смерти 14 декабря 1989 года я была в Москве на неделе, организованной France-Culture. Уникальное совпадение — Антуан Витез тоже был там и готовил к постановке «Федру», которую помешала осуществить его смерть 1 мая 1990 года. В конце моей командировки, это было воскресенье, Витез пригласил меня в «Белград» и предложил прогуляться по Арбату. Он жил в гостинице, где, как и в нашей, царила удушливая жара. У меня в номере минимум 90 градусов, говорил он. Я и сама вынуждена была держать окно всю ночь открытым, так как радиатор не регулировался, хотя ночью было 20 градусов мороза. Это и есть социализм: постоянный бардак, всеобщее презрение к общественному имуществу. В эти же годы в Кракове, когда я попросила отрегулировать слишком шумный вентилятор в моей ванной комнате, один рабочий был счастлив затолкать туда отверткой бумажную салфетку. В течение нескольких минут лечение радикально помогло, и вентилятор угомонился.
Мне предстояла еще одна встреча, и я отклонила предложение Антуана, который уезжал в тот же день. Больше живым я его не видела. Но именно ему я обязана ощущением и пониманием советского менталитета, который он насколько знал, настолько в нем и сомневался. А в более широком смысле благодаря России, ее языку, ее поэтам. Назавтра я отправилась в театр на Таганке, куда Любимов пригласил нас на репетицию «Преступления и наказания». На входе огромная фотография Андрея Сахарова, обрамленная траурной лентой, на которой было написано: «Андрей Дмитриевич умер». Проконсультировавшись по этому поводу, Бертран Пуаро-Дельпеш, который тоже входил в нашу делегацию, решил продлить свое пребывание на неделю и прибегнул к услугам нашей переводчицы Татьяны, чтобы присутствовать на похоронах Сахарова. Я проводила Бертрана Пуаро-Дельпеша на открытый рынок, чтобы купить ему шапку, и мы остались на три дополнительных дня в «Белграде». Тогда это была одна из больших гостиниц, где тучными горничными в белых галошах, постоянно и неторопливо протирающими пыль в коридорах, более-менее поддерживался порядок. Оттуда открывался прекрасный вид на одну из «семи сестер» — гостиницу «Украина», ставшую теперь отелем класса люкс по тысяче евро за ночь под названием «Рэдиссон». У входа портье в мундире равнодушно топтался по скомканной тряпке, набрякшей грязной талой водой. Вечером горничные досаждали меня, чтобы обменять русские сувениры на женское белье или обувь. Ресторан был очень посредственный: в наличии имелось только два блюда из длинного и разнообразного меню. Цыпленок по-киевски (это рулет из панированного цыпленка, который сочится горячим маслом, как только его начинаешь резать ножом) и салат «Белград». Пуаро-Дельпеш и я заказывали это всегда, когда там ели. Однажды я заметила в своем салате маленькую щепку. «Я нашла зубочистку», — сказала я. Минуту спустя Бертран делает гримасу, ему попалось что-то твердое. «Я думаю, что я нашел зуб», — сказал он.
На следующий день с помощью Татьяны мы присоединились к нескончаемой разновозрастной колонне москвичей и восемь часов медленно продвигались по растаявшему снегу, чтобы попасть во Дворец комсомола, где на катафалке стоял открытый по русской традиции гроб Сахарова. Нас особенно поразили обстоятельства его смерти: вернувшись в Москву после долгих лет заточения в Горьком, он участвовал в сессии Верховного Совета, в ходе которой Горбачев, раздраженный его предложениями, выключил ему микрофон; ночью он умер от сердечного приступа. В наших глазах он, несомненно, был моральной личностью — как ученый (советские люди любили ученых), и мы все в середине 1960-х годов читали его книгу о ядерном разоружении; было непонятно, почему Горбачев так яростно был против него. Однако впоследствии мне пришлось несколько дистанцироваться от фигуры, вызывающей столь много разногласий. Сильно ориентированные на американцев и на их поддержку Израилю (не Сахаров ли говорил, что «все войны, которые ведет Израиль, это войны справедливые, навязанные ему безответственностью арабских лидеров»?), он и его жена Елена Боннэр вели деятельность, которая для мощи СССР, а после его распада — для мощи России имела фатальные последствия.
Одноразовым фотоаппаратом я сфотографировала несколько лиц в этом бесконечном дефиле. Некоторые надели на пальто награды времен Великой Отечественной войны. Многие несли транспаранты. На одном из них можно прочесть: «Андрей Дмитриевич, простите!», что по моему слабому знанию русского может означать «прощай» или «прости».
Что чествовали эти незнакомые мне люди, окружавшие гроб Сахарова? Свою собственную боль, утрату иллюзий, грядущую катастрофу, о которой еще ничего не знали (через два года Советского Союза не станет)?
Уже почти 17 часов. Погода серая, теплая, пасмурная. С помощью Kr. я вывешиваю в коридоре карту Транссибирской магистрали, которую распечатала еще в Париже. Увидела ее назавтра отклеившейся; справедливости ради должна добавить, что я прижала ее только на кусочек жвачки, которая и держала карту до самого нашего отправления… Затем я прокладываю себе путь между чемоданами, растягиваюсь на кушетке головой под гамачной сеткой, подвешенной под зеркалом в красивой рамке в стиле ар-деко, и пью мой первый яблочно-вишневый сок. Я слегка разочарована, что не провела ночь в поезде, так как ощущение удаленности возрастает, если ты спал в вагоне и прибыл рано поутру. Меня все очаровывало во время первого путешествия в Нижний Новгород: отправление поздним вечером, спальные места и самовары в каждом купе, большая толпа на перроне, даже более живописная, чем теперь, узбекские и казахские лица и даже китайцы в синих пальто. Однако мне все нравится в поезде, где мы устраиваемся, его немного спартанский комфорт. Это, к счастью, не Трансъевропейский экспресс, кипяток в самом конце вагона… Душа нет вообще, а туалеты закрываются перед каждой остановкой и еще долго после нее. Знаменитые волнистые занавески на окнах наших двухместных купе первого класса, четырехместных купе второго класса и плацкартных (вообще без купе) местах. Хотя вагоны и не такие примитивные, в каких я ездила в Китае в 1994 году: деревянные нары без матраца с колючей циновкой. Моим соседом тогда был умирающий, которого везли домой. Всю ночь к его руке была прикреплена капельница, а выносили его на носилках через окно.
Мы спешим отодвинуть и убрать занавески, чтобы видеть и фотографировать пейзаж. Купе такие малюсенькие, что мы еле разместили наши вещи. Из соседнего купе я слышу голос G. G., жалующегося на монументальный размер своего чемодана, монстра, сверкающего металлом… Ко мне опять возвращаются воспоминания о поездке в Нижний Новгород, раннее прибытие, огромное зеркало Волги и за ней бескрайняя степь, уходящая за горизонт, прогулка вдоль берега замерзшей реки со студентом Андреем и рыбаки, сидящие на своих табуретах над лункой, просверленной во льду коловоротом. Это была эпоха великого переворота. Виктор Черномырдин был тогда премьер-министром, обвиненный впоследствии в том, что стал олигархом и сильно разбогател. Тем не менее его кончина в 2010 году произошла практически незамеченной. На его похоронах президент Медведев сказал: «Самым большим испытанием для него было руководить правительством в девяностые годы, которые были самыми трудными». По меньшей мере пятикратное увеличение цен, инфляция, достигшая к концу 1992 года 2600 процентов, экономика в руинах и всеобщее отчаяние…
Вскоре нас привели показать небольшую квартирку, где в ссылке проживали Анатолий Сахаров и Елена Боннэр. В совершенно обычном квартале их жилье было довольно комфортабельным для советской квартиры. Но это ничтожная компенсация за то, что он вынужден был там жить, вдали от любого общения и контактов в городе, закрытом для иностранцев.
В день его смерти 14 декабря 1989 года я была в Москве на неделе, организованной France-Culture. Уникальное совпадение — Антуан Витез тоже был там и готовил к постановке «Федру», которую помешала осуществить его смерть 1 мая 1990 года. В конце моей командировки, это было воскресенье, Витез пригласил меня в «Белград» и предложил прогуляться по Арбату. Он жил в гостинице, где, как и в нашей, царила удушливая жара. У меня в номере минимум 90 градусов, говорил он. Я и сама вынуждена была держать окно всю ночь открытым, так как радиатор не регулировался, хотя ночью было 20 градусов мороза. Это и есть социализм: постоянный бардак, всеобщее презрение к общественному имуществу. В эти же годы в Кракове, когда я попросила отрегулировать слишком шумный вентилятор в моей ванной комнате, один рабочий был счастлив затолкать туда отверткой бумажную салфетку. В течение нескольких минут лечение радикально помогло, и вентилятор угомонился.
Мне предстояла еще одна встреча, и я отклонила предложение Антуана, который уезжал в тот же день. Больше живым я его не видела. Но именно ему я обязана ощущением и пониманием советского менталитета, который он насколько знал, настолько в нем и сомневался. А в более широком смысле благодаря России, ее языку, ее поэтам. Назавтра я отправилась в театр на Таганке, куда Любимов пригласил нас на репетицию «Преступления и наказания». На входе огромная фотография Андрея Сахарова, обрамленная траурной лентой, на которой было написано: «Андрей Дмитриевич умер». Проконсультировавшись по этому поводу, Бертран Пуаро-Дельпеш, который тоже входил в нашу делегацию, решил продлить свое пребывание на неделю и прибегнул к услугам нашей переводчицы Татьяны, чтобы присутствовать на похоронах Сахарова. Я проводила Бертрана Пуаро-Дельпеша на открытый рынок, чтобы купить ему шапку, и мы остались на три дополнительных дня в «Белграде». Тогда это была одна из больших гостиниц, где тучными горничными в белых галошах, постоянно и неторопливо протирающими пыль в коридорах, более-менее поддерживался порядок. Оттуда открывался прекрасный вид на одну из «семи сестер» — гостиницу «Украина», ставшую теперь отелем класса люкс по тысяче евро за ночь под названием «Рэдиссон». У входа портье в мундире равнодушно топтался по скомканной тряпке, набрякшей грязной талой водой. Вечером горничные досаждали меня, чтобы обменять русские сувениры на женское белье или обувь. Ресторан был очень посредственный: в наличии имелось только два блюда из длинного и разнообразного меню. Цыпленок по-киевски (это рулет из панированного цыпленка, который сочится горячим маслом, как только его начинаешь резать ножом) и салат «Белград». Пуаро-Дельпеш и я заказывали это всегда, когда там ели. Однажды я заметила в своем салате маленькую щепку. «Я нашла зубочистку», — сказала я. Минуту спустя Бертран делает гримасу, ему попалось что-то твердое. «Я думаю, что я нашел зуб», — сказал он.
На следующий день с помощью Татьяны мы присоединились к нескончаемой разновозрастной колонне москвичей и восемь часов медленно продвигались по растаявшему снегу, чтобы попасть во Дворец комсомола, где на катафалке стоял открытый по русской традиции гроб Сахарова. Нас особенно поразили обстоятельства его смерти: вернувшись в Москву после долгих лет заточения в Горьком, он участвовал в сессии Верховного Совета, в ходе которой Горбачев, раздраженный его предложениями, выключил ему микрофон; ночью он умер от сердечного приступа. В наших глазах он, несомненно, был моральной личностью — как ученый (советские люди любили ученых), и мы все в середине 1960-х годов читали его книгу о ядерном разоружении; было непонятно, почему Горбачев так яростно был против него. Однако впоследствии мне пришлось несколько дистанцироваться от фигуры, вызывающей столь много разногласий. Сильно ориентированные на американцев и на их поддержку Израилю (не Сахаров ли говорил, что «все войны, которые ведет Израиль, это войны справедливые, навязанные ему безответственностью арабских лидеров»?), он и его жена Елена Боннэр вели деятельность, которая для мощи СССР, а после его распада — для мощи России имела фатальные последствия.
Одноразовым фотоаппаратом я сфотографировала несколько лиц в этом бесконечном дефиле. Некоторые надели на пальто награды времен Великой Отечественной войны. Многие несли транспаранты. На одном из них можно прочесть: «Андрей Дмитриевич, простите!», что по моему слабому знанию русского может означать «прощай» или «прости».
Что чествовали эти незнакомые мне люди, окружавшие гроб Сахарова? Свою собственную боль, утрату иллюзий, грядущую катастрофу, о которой еще ничего не знали (через два года Советского Союза не станет)?
Несколько позже все в том же поезде на Нижний Новгород
Помимо моих воспоминаний Нижний Новгород для меня — это еще и путешествие Александра Дюма в 1858 году, так же как Енисей ассоциируется с Жулем Верном и Мишелем Строговым. Рассказ о его поездке из Москвы в Казань был перепечатан издательством «Германн» в 1960 году с предисловием Андре Моруа, который процитировал в нем фразу Ламартина: «Вы искали вечное движение; вы сделали лучше: вы нашли вечное удивление». Дюма отправился в путь 1 октября 1858 года и прибыл в Нижний 3-го числа, в самый разгар грандиозной ярмарки, на которой встречаются все народы Европы и Азии. Он пробыл там три дня, чтобы у губернатора увидеться с князем и княгиней Анненковыми, известной четой декабристов, которых, еще их не зная, он сделал героями своего романа «Учитель фехтования». В свойственной ему манере он рассказал об их драматической истории, сибирской ссылке и даровании свободы через двадцать два года по случаю амнистии, объявленной 26 августа 1856 года новым российским императором Александром II. Ни книга, ни тем более сама встреча им не понравились. Об этом Дюма в своем рассказе о путешествии умалчивает, но что важно… В этом живом, несколько многословном повествовании его описание Волги, усеянной пестрыми парусами, вызывает чувство ностальгии. Причем «Волга» он употребляет в мужском роде. Это действительно так. Но вот все словари XIX века, в том числе восьмитомный Ларусс (издание 1895–1902 годов), указывают, что «Волга» в русском языке — слово женского рода. Это мать-Волга, великая река, которая грохочет в древней, огромной, архаичной Руси, так же как женского рода бог Ганг, богиня Ганга — жена Шивы, несущего ее в своей шевелюре, так же как Луара, самая красивая и длинная река Франции, название которой происходит от галльского «лига», то есть «тина»… Я не знаю, почему древние формы названий мест, городов, стран имеют столько шарма. Вот находим у Вольтера «ходить как китайцы», что сейчас на арго означает «торговать вразнос». Жуль Верн тоже говорит о Волге в мужском роде. Например: «Волга (м. р.) — Ра древних, считается самой значительной рекой во всей Европе, с ее течением протяженностью в 4000 верст (4300 километров)». Или вот еще: «Мишель Строгов, однажды приехав в Нижний Новгород, будет передвигаться то наземным путем, то по Волге (м. р.) на пароходах, чтобы быстрее достичь Уральских гор». В то время железная дорога на восток заканчивалась в Нижнем. Но проза примечаний ничуть не ослабляет поэзию мест. «Воды Волги» (м. р.), пишет Жуль Верн. Я не устаю его цитировать, так как он один из первых, кто заставил нас полюбить эту страну… «Довольно грязные в ее верхнем течении, наполняются в Нижнем Новгороде водами Оки, быстрого притока, выбегающего из центральных провинций России». И он добавляет: «Кто-то очень точно сравнил реки и протоки России с ветвями гигантского дерева, которые охватывают все уголки империи. Именно Волга и формирует ствол этого дерева, а его корнями являются семьдесят устьев, принимающих форму цветка у каспийского побережья». О, красота мира, отображенная в книгах! Как же ждешь встречи с подобной рекой, вспоминая о прочитанном… Разве можно это измерить: через несколько часов, или завтра рано поутру, Волга! В своем величии и протяженности, с запахом трав и рыбы своих вод!Нижний Новгород, 11 часов 30 минут вечера. Наши вагоны отцеплены. Они каждый раз, завтра и послезавтра, будут прицепляться к новому поезду. Мы выходим с небольшим багажом. В гостинице «Центральная» я спешу открыть окно, чтобы увидеть в ночи слияние двух водных потоков Волги и Оки, где я тут же размещаю воображаемый кремль как раз между двумя рукавами, из которых доминирует Волга. (Кремль — это укрепленная цитадель в сердце старинных русских городов.) Мне только удалось заметить монументальную статую Ленина на большой рыночной площади… Это первая, но не последняя в моем путешествии: во всех городах они еще сохранились. Во время моей первой поездки в Нижний Новгород, когда он вновь был открыт два года назад, я не видела статуи Ленина, а город только обрел свое прежнее имя — Нижний Новгород (новый город в низовьях Волги). Социализм в России был не только политическим, экономическим и социальным режимом, но и полностью искусственной географией, целиком подчиненной истории. Новый порядок вещей заставлял менять все, все должно было называться по-новому: реки, города, люди. Около шестидесяти лет город назывался Горький по имени писателя, которого на самом деле звали Пешков, а Горький был его псевдоним. Горький, беспокойный, разочарованный,неудовлетворенный, было много причин его сохранить в 1993 году. Переименование намного превзошло необходимые изменения, скорее это было разрушением. Строго научно обоснованным. Именно об этом написал Жан-Мари Шовье в ноябрьском номере журнала «Мондиализасион» за 2003 год: «Развал промышленности в результате демонтажа военно-промышленного комплекса и научных исследований, подчеркнутая ориентация на экспорт сырьевых ресурсов, открытость внутреннего рынка товарам, подрывающим местную промышленность и сельское хозяйство, — все это отмечалось в анализе опытных экспертов». Место России в мировой экономике эпохи глобализации? «Сырьевой придаток». В 1993 году в Нижнем Новгороде все мне рассказывали об одном недавнем мелком, но многозначительном случае. Духовенство потребовало вернуть церковь, превращенную в тридцатые годы прошлого века в библиотеку. Это было, конечно, лучше, чем сделать в ней гараж или конюшню. Но чтобы возобновить богослужения, из нее просто выбросили книги, ставшие в результате недоступными людям. …Прошло время, и это хорошо. У меня даже нет желания ни вновь увидеть квартиру, где академик Сахаров и Елена Боннэр были вынуждены прожить в течение пяти лет, ни красивый деревянный домик, в котором якобы обитала любовь Ленина. Я знаю, что не увижу вновь ни Зорию, которая подарила мне брошку, ни Андрея из Иркутска, который разочаровал своих преподавателей, уехав делать карьеру в бизнесе, и рассказывал мне о своих путешествиях в купе транссибирского экспресса. Он цитировал Ленина при каждом подходящем случае. Например, когда мы должны были объехать слишком топкую дорогу, он бросил фразу: «Мы пойдем другим путем». Это мне смутно напомнило: мирным путем? путем реформ?.. Все происходит беспорядочно, через какие-то тайные связи и ассоциации. Например, я тут же вспоминаю, что пророк Аввакум родился в Григорово в 24 километрах от Нижнего. Я только что прочитала о его жизни в Париже как раз перед своим отъездом. …Последний взгляд на большую, пустую и слабоосвещенную ночью ярмарочную площадь. Ни одной живой души. Мне кажется, что я чувствую вдалеке присутствие великой реки, ее запах ночной свежести. Я задергиваю занавески. Но я не чувствую себя спокойной. Большая статуя Ленина преследует меня во сне. Устанавливаю на мобильном телефоне время будильника. Таблетка снотворного. Железная дисциплина, которую я буду поддерживать на протяжении всего путешествия: когда я просыпаюсь к двум часам, я приказываю себе вновь заснуть, чтобы восстановить силы. Самое прекрасное то, что мне это удается.
Суббота, 29 мая, Нижний Новгород
Когда я проснулась, большая площадь была так же пустынна, как накануне. И опять (никуда от нее не денешься) огромная статуя Ленина. В России их насчитывается около 16 500, но много сохранилось еще в бывших странах Восточной Европы и вообще в мире. В Ханое, или в Сиэтле, привезенная туда одним горожанином, который нашел ее в 1989 году у торговца железным ломом где-то в Словакии… Вездесущность Ленина просто загадочна: убрать и уничтожить все его памятники — это просто невероятные издержки. Или пусть бы они оставались как символ русского величия, как разделяемая всеми русскими уверенность, что Россия одарена какой-то непобедимой мощью. Чем-то мистическим и глубоким, что не имеет названия, но что само собой непременно существует? Еще Горький в начале XX века в одном странном рассказе «Страсти-мордасти» вкладывает в уста двух персонажей следующий разговор о России. Есть две столицы, говорит один, а провинция везде живет своей собственной жизнью. Нет, говорит другой, есть что-то, что их объединяет. Что? Некая основа. Добро, зло? Трудно сказать, но что-то есть. После завтрака, состоящего из вкусных блинов, я присоединилась к своим товарищам, один из которых уже фотографировал Ленина, в то время как остальные гуляли по площади. Ленин с непокрытой головой протягивает вверх правую руку, придерживая левой свое пальто. В Петербурге перед Финляндским вокзалом он стоит на броневике, приведшем его в Россию. Его правая рука протянута к встречающим его рабочим Петрограда, а левой он держится за вырез своей жилетки. Один из старых советских анекдотов вкладывает в его уста слова: «Хороша ткань? Немецкая!» Памятник недавно установлен после реставрации. После взрыва в апреле 2009 года сильно пострадала его задняя часть… Я двигаюсь к набережной. Справа меня Ока, не Волга. Сзади я ощущаю театральный жест Ленина. А в отдалении целый караван-сарай серебристых крыш. Сыро, свежо, ветрено.
Коллективные сборы к отъезду всегда несколько длинны. Мне не терпится вновь увидеть кремль, широко раскинувшийся на равнине вдоль реки, большие мостовые, эти широкие и прямые улицы, окаймленные с обеих сторон деревянными домами. Под монотонное урчание автобуса я набрасываю свои заметки. Нижний Новгород, 1 382 115 жителей, пятый город России, областной центр. (Небольшая полезная справка о разнице между республикой, областью и краем: после распада Советского Союза образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ), и Россия стала его частью, но в ранге государства — преемника СССР; она сама представляет собой федерацию республик (Татарстан, Чечня, Бурятия), краев (территорий), как, например, Красноярский, и областей (регионов), как Нижегородская область, городов федерального подчинения (Москва и Санкт-Петербург) и округов (автономных этнических районов). Административно все это делится на семь федеральных округов. Вот несколько, простите, длинно, но мы к этому больше не вернемся, а разобраться кое в чем это нам поможет.)
С 10 до 13 часов. Наконец-то наш автобус заполнен, гид на месте, мы отъезжаем. Экскурсия, однако, начинается очень странно. Гид останавливает автобус на заросшей травой обочине и начинает нам долго описывать то, что мы спешим увидеть.
Вспышка коллективного протеста вырывает меня из задумчивости. Мы вновь поехали. Современный город легко открывает свои старинные очертания, так как погода хорошая, улицы пусты, все уехали на дачи. Тяжело смотреть на эти старинные деревянные дома, чувствуется, что они больше никого не интересуют и скоро исчезнут один за другим. Однако именно они придают необъяснимый шарм этим громадным улицам, называемым по-русски шоссе. Далее дома купцов, среди которых дом Голицына, сделавшего огромное состояние на соли. Не из той ли это семьи генерал-губернатора Москвы, мать которого Наталья Петровна узнала от графа Сен-Жермен секрет выигрыша в карты. И послужила прообразом пушкинской «Пиковой дамы». Фамилия Голицыных числится также в списках декабристов, сосланных в 1836 году в Киренск Иркутской области. И кто-то из Голицыных похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа… Во время своего пребывания в Нижнем Новгороде (очень, впрочем, краткого) именно у Голицыных проводит его маркиз Кюстин. Он мало передвигается, и я не уверена, что он многое успел увидеть. Однако именно видение Кюстина до сих пор пронизывает наше восприятие России. В его глазах все помещается в одной фразе: «Жизнь русских самая несчастная из всех народов Европы».
Еще несколько деревянных домов, многие из которых обветшали и обросли густой зеленью. А на тротуарах в тени огромных деревьев большие бочки с квасом, холодным и восхитительным.
Церкви меня не очень волнуют, особенно храм Рождества Христова, который кажется мне уж слишком вычурным, как австрийский или мексиканский барочный дворец. Как и Успенский собор и храм Благовещения — я с трудом представляю их пространственную организацию и не понимаю, как в плане они образуют крест. Единственное, что меня несколько позже впечатляет, несмотря на свой крепостной вид, это первая нижегородская церковь святого Архангела Михаила.
Мы едем к кремлю: вокруг тихо и тепло, разносится запах и пыльца деревьев. Со своими двенадцатью из четырнадцати первоначальных башен и восхитительным расположением над Волгой Нижегородский кремль, построенный из красного кирпича между 1508 и 1511 годами, является одним из наиболее сохранившихся в России. Из множеств кремлей, пусть не таких красивых, мощных и грозных, как московский, нижегородский или казанский. (Интересно, в кого перепрофилировались кремленологи, специалисты по тайнам и секретам советской власти?) Это крепости, сооруженные в средние века против частых набегов монголов, а позднее татар. В 1223 году во время монгольского нашествия Нижний Новгород уцелел. В 1377 году на город нападают татарские орды и сжигают его. Город отстраивается и вновь уничтожается в 1408 году. Иван Грозный делает из него важный опорный пункт в своей войне против казанских татар (которые в действительности являются волжскими булгарами). По мере нашего продвижения на восток мы все еще только в начале пути. Я скоро начну понимать, как создавалась эта страна: Россия — это линия фронта напротив восходящего солнца, откуда происходят все нашествия. Повернувшись на восток, защищаясь, вооружаясь, строя укрепления, нападая, покоряя, колонизуя без конца все новые земли.
По этой дороге мы и продвигаемся, солнце в глаза: Россия не просто передний край цивилизации, а именно цивилизации европейской, христианской в ее славянско-византийском виде. Против Азии, против монголов, шаманских верований и позже буддизма, против татар и мусульманской религии… А Европа где-то там, там христианство. Для нас (в Италии или во Франции) это время эпохи Возрождения, Реформации, возврата к античности, начала развития современных наук.
Очень большой разрыв, ответственный за то, что потом назовут русской отсталостью. Длительное монгольское присутствие оставило в России «более чем следы», пишет Жан-Поль Ру в опубликованной на сайте Клио конференции. «Благодаря ему или из-за него русская аристократия и клир заняли в русском обществе привилегированное место. Татаро-монгольское иго научило людей уважать власть, привило необходимые добродетели повиновения и подчинения, которые отсутствовали в народном характере. Своего рода фатализм, восточное смирение; что и позволило утвердиться автократическим и даже деспотичным режимам».
И тем не менее если татаро-монгольское господство и отрезало Россию от Европы, в то же время она познала великий взлет, которому Россия обязана, добавляет статья, «своей оригинальной культуре, основанной в основном на искусствах степной жизни».
Я очень далека от «азиатского варварства», которое удобно используют каждый раз, пытаясь объяснить ее кровавую историю.
…Прекрасная погода, чудесные сады. Над всем этим царствует полный покой, никак не связанный с насилием. Но если древняя история стала застывшим образом, то этого не скажешь об истории недавней. По некой железной логике кремлевские сады превратились в музей сопротивления немецкому нашествию под открытым небом. В центре внутреннего водоема горит вечный огонь у памятника неизвестному солдату. А вдали виднеется Волга, несущая тяжелые баржи. Ее течение изменилось, остепенилось, расширилось, изменились ее берега, но Ее Величество, рассекающее известные нам литературные пейзажи, не менее потрясающе. Будто бы ты и вправду уловил запах России… Именно этого я и ожидаю с тех пор, как на обложке книги Георгия Соколова «Безмерность России», одной из немногих, которые я взяла с собой, я увидела картину Левитана 1894 года «Над вечным покоем»: широкая равнина, замерзшая река и деревянная церквушка с поблекшим золотым куполом на берегу. Картина перевернутая с разрезанным видом реки и неба. В изначальной версии воды и облака занимают гораздо больше места, а земля в скрещении рек представлена травяной полоской с несколькими деревьями. Чехов восхищался Левитаном за его способность, которую художник и сам в себе ощущал, передавать «сокровенные, волнующие, зачастую печальные черты русского пейзажа». В своем домике в Ялте у Чехова была картина Левитана «Сенокос». 2 января 1900 года он пишет Ольге: «Луг, стога, вдалеке лес, и над всем этим царствует луна». Свой последний год жизни Левитан провел в домике Чехова в Крыму. И он, и Чехов — оба умерли от туберкулеза; Левитан в сорок лет, в 1900 году, а Чехов четырьмя годами позже.
…Разумеется, подобные размышления не подготавливают к восприятию России сегодняшней… Но я не вижу, почему нужно забывать о том, что всегда здесь присутствует, пусть неявное, но живущее. За спиной сегодняшней России, насыщенной рекламой, интернетом, в яростном, почти анархическом развитии. Наоборот. Возможно, это единственный способ сделать человечным тот момент, когда всепоглощающая современность вступает в конфликт с ускользающим прошлым. В конце концов, каждый русский носит это в себе, даже если он об этом и не догадывается. Он создан этими картинами, этими книгами, этими реками. И я тоже. Во мне живут книги, которые я люблю и которые меня сформировали. И образ великой реки Луары, выходящей из берегов…
У нас осталось немного времени, чтобы посетить дом, в котором Горький провел часть юности. Он покинул его очень рано. Это был дом его дедушки. Но после смерти родителей он возвращается сюда, затем вновь его покидает и, вкусив нелегкого жизненного опыта, обосновывается здесь после смерти дедушки в 1887 году. Ему тогда было всего 19 лет, а он уже побывал и матросом, и учеником пекаря… 20 июня 1936 года, произнося в Москве траурную речь, Жид сказал: «Он познал позавчерашнее угнетение и вчерашнюю трагическую борьбу; он мощно содействовал сегодняшнему лучистому и спокойному торжеству». «Спокойный и лучистый» — это еще надо посмотреть, это далеко не тот случай. Жид не знал, что Горький, как и его сын двумя годами ранее, скончался в результате «медицинского убийства» Ягоды.
Но я ведь тоже не знаю о Горьком почти ничего. При удобном случае после нашего визита в Екатеринбург и перед возвращением в Париж я попыталась выяснить роль, которую сыграл в казни царской семьи управляющий в то время Уралом Яков Свердлов, один из приближенных Ленина, возможный его преемник, если бы не умер от тифа в 1919 году. И если о соратнике Ленина Свердлове я знаю хоть что-то, то о судьбе его семьи, часть которой осталась в Советском Союзе, а часть эмигрировала во Францию и Соединенные Штаты, я в полном неведении. Тогда-то я и открыла в тени Якова Свердлова одну таинственную личность, чья деятельность продолжалась, однако, гораздо дольше. Его старший брат Зиновий 1884 года рождения, которому покровительствовал Горький и который в 1902 году вслед за ним принимает фамилию Пешков. Устроившись во Франции, он становится полномочным представителем Аристида Бриана, чиновником по особым поручениям; заканчивает свою карьеру Зиновий Пешков в 1944 году дипломатом генерала де Голля. Его могила находится на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, среди могил белогвардейцев и впавших в немилость большевиков…
Один из старых советских анекдотов вкладывает в его уста слова: «Хороша ткань? Немецкая!» Памятник недавно установлен после реставрации. После взрыва в апреле 2009 года сильно пострадала его задняя часть… Я двигаюсь к набережной. Справа меня Ока, не Волга. Сзади я ощущаю театральный жест Ленина. А в отдалении целый караван-сарай серебристых крыш. Сыро, свежо, ветрено.
Коллективные сборы к отъезду всегда несколько длинны. Мне не терпится вновь увидеть кремль, широко раскинувшийся на равнине вдоль реки, большие мостовые, эти широкие и прямые улицы, окаймленные с обеих сторон деревянными домами. Под монотонное урчание автобуса я набрасываю свои заметки. Нижний Новгород, 1 382 115 жителей, пятый город России, областной центр. (Небольшая полезная справка о разнице между республикой, областью и краем: после распада Советского Союза образовалось Содружество Независимых Государств (СНГ), и Россия стала его частью, но в ранге государства — преемника СССР; она сама представляет собой федерацию республик (Татарстан, Чечня, Бурятия), краев (территорий), как, например, Красноярский, и областей (регионов), как Нижегородская область, городов федерального подчинения (Москва и Санкт-Петербург) и округов (автономных этнических районов). Административно все это делится на семь федеральных округов. Вот несколько, простите, длинно, но мы к этому больше не вернемся, а разобраться кое в чем это нам поможет.)
С 10 до 13 часов. Наконец-то наш автобус заполнен, гид на месте, мы отъезжаем. Экскурсия, однако, начинается очень странно. Гид останавливает автобус на заросшей травой обочине и начинает нам долго описывать то, что мы спешим увидеть.
Вспышка коллективного протеста вырывает меня из задумчивости. Мы вновь поехали. Современный город легко открывает свои старинные очертания, так как погода хорошая, улицы пусты, все уехали на дачи. Тяжело смотреть на эти старинные деревянные дома, чувствуется, что они больше никого не интересуют и скоро исчезнут один за другим. Однако именно они придают необъяснимый шарм этим громадным улицам, называемым по-русски шоссе. Далее дома купцов, среди которых дом Голицына, сделавшего огромное состояние на соли. Не из той ли это семьи генерал-губернатора Москвы, мать которого Наталья Петровна узнала от графа Сен-Жермен секрет выигрыша в карты. И послужила прообразом пушкинской «Пиковой дамы». Фамилия Голицыных числится также в списках декабристов, сосланных в 1836 году в Киренск Иркутской области. И кто-то из Голицыных похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа… Во время своего пребывания в Нижнем Новгороде (очень, впрочем, краткого) именно у Голицыных проводит его маркиз Кюстин. Он мало передвигается, и я не уверена, что он многое успел увидеть. Однако именно видение Кюстина до сих пор пронизывает наше восприятие России. В его глазах все помещается в одной фразе: «Жизнь русских самая несчастная из всех народов Европы».
Еще несколько деревянных домов, многие из которых обветшали и обросли густой зеленью. А на тротуарах в тени огромных деревьев большие бочки с квасом, холодным и восхитительным.
Церкви меня не очень волнуют, особенно храм Рождества Христова, который кажется мне уж слишком вычурным, как австрийский или мексиканский барочный дворец. Как и Успенский собор и храм Благовещения — я с трудом представляю их пространственную организацию и не понимаю, как в плане они образуют крест. Единственное, что меня несколько позже впечатляет, несмотря на свой крепостной вид, это первая нижегородская церковь святого Архангела Михаила.
Мы едем к кремлю: вокруг тихо и тепло, разносится запах и пыльца деревьев. Со своими двенадцатью из четырнадцати первоначальных башен и восхитительным расположением над Волгой Нижегородский кремль, построенный из красного кирпича между 1508 и 1511 годами, является одним из наиболее сохранившихся в России. Из множеств кремлей, пусть не таких красивых, мощных и грозных, как московский, нижегородский или казанский. (Интересно, в кого перепрофилировались кремленологи, специалисты по тайнам и секретам советской власти?) Это крепости, сооруженные в средние века против частых набегов монголов, а позднее татар. В 1223 году во время монгольского нашествия Нижний Новгород уцелел. В 1377 году на город нападают татарские орды и сжигают его. Город отстраивается и вновь уничтожается в 1408 году. Иван Грозный делает из него важный опорный пункт в своей войне против казанских татар (которые в действительности являются волжскими булгарами). По мере нашего продвижения на восток мы все еще только в начале пути. Я скоро начну понимать, как создавалась эта страна: Россия — это линия фронта напротив восходящего солнца, откуда происходят все нашествия. Повернувшись на восток, защищаясь, вооружаясь, строя укрепления, нападая, покоряя, колонизуя без конца все новые земли.
По этой дороге мы и продвигаемся, солнце в глаза: Россия не просто передний край цивилизации, а именно цивилизации европейской, христианской в ее славянско-византийском виде. Против Азии, против монголов, шаманских верований и позже буддизма, против татар и мусульманской религии… А Европа где-то там, там христианство. Для нас (в Италии или во Франции) это время эпохи Возрождения, Реформации, возврата к античности, начала развития современных наук.
Очень большой разрыв, ответственный за то, что потом назовут русской отсталостью. Длительное монгольское присутствие оставило в России «более чем следы», пишет Жан-Поль Ру в опубликованной на сайте Клио конференции. «Благодаря ему или из-за него русская аристократия и клир заняли в русском обществе привилегированное место. Татаро-монгольское иго научило людей уважать власть, привило необходимые добродетели повиновения и подчинения, которые отсутствовали в народном характере. Своего рода фатализм, восточное смирение; что и позволило утвердиться автократическим и даже деспотичным режимам».
И тем не менее если татаро-монгольское господство и отрезало Россию от Европы, в то же время она познала великий взлет, которому Россия обязана, добавляет статья, «своей оригинальной культуре, основанной в основном на искусствах степной жизни».
Я очень далека от «азиатского варварства», которое удобно используют каждый раз, пытаясь объяснить ее кровавую историю.
…Прекрасная погода, чудесные сады. Над всем этим царствует полный покой, никак не связанный с насилием. Но если древняя история стала застывшим образом, то этого не скажешь об истории недавней. По некой железной логике кремлевские сады превратились в музей сопротивления немецкому нашествию под открытым небом. В центре внутреннего водоема горит вечный огонь у памятника неизвестному солдату. А вдали виднеется Волга, несущая тяжелые баржи. Ее течение изменилось, остепенилось, расширилось, изменились ее берега, но Ее Величество, рассекающее известные нам литературные пейзажи, не менее потрясающе. Будто бы ты и вправду уловил запах России… Именно этого я и ожидаю с тех пор, как на обложке книги Георгия Соколова «Безмерность России», одной из немногих, которые я взяла с собой, я увидела картину Левитана 1894 года «Над вечным покоем»: широкая равнина, замерзшая река и деревянная церквушка с поблекшим золотым куполом на берегу. Картина перевернутая с разрезанным видом реки и неба. В изначальной версии воды и облака занимают гораздо больше места, а земля в скрещении рек представлена травяной полоской с несколькими деревьями. Чехов восхищался Левитаном за его способность, которую художник и сам в себе ощущал, передавать «сокровенные, волнующие, зачастую печальные черты русского пейзажа». В своем домике в Ялте у Чехова была картина Левитана «Сенокос». 2 января 1900 года он пишет Ольге: «Луг, стога, вдалеке лес, и над всем этим царствует луна». Свой последний год жизни Левитан провел в домике Чехова в Крыму. И он, и Чехов — оба умерли от туберкулеза; Левитан в сорок лет, в 1900 году, а Чехов четырьмя годами позже.
…Разумеется, подобные размышления не подготавливают к восприятию России сегодняшней… Но я не вижу, почему нужно забывать о том, что всегда здесь присутствует, пусть неявное, но живущее. За спиной сегодняшней России, насыщенной рекламой, интернетом, в яростном, почти анархическом развитии. Наоборот. Возможно, это единственный способ сделать человечным тот момент, когда всепоглощающая современность вступает в конфликт с ускользающим прошлым. В конце концов, каждый русский носит это в себе, даже если он об этом и не догадывается. Он создан этими картинами, этими книгами, этими реками. И я тоже. Во мне живут книги, которые я люблю и которые меня сформировали. И образ великой реки Луары, выходящей из берегов…
У нас осталось немного времени, чтобы посетить дом, в котором Горький провел часть юности. Он покинул его очень рано. Это был дом его дедушки. Но после смерти родителей он возвращается сюда, затем вновь его покидает и, вкусив нелегкого жизненного опыта, обосновывается здесь после смерти дедушки в 1887 году. Ему тогда было всего 19 лет, а он уже побывал и матросом, и учеником пекаря… 20 июня 1936 года, произнося в Москве траурную речь, Жид сказал: «Он познал позавчерашнее угнетение и вчерашнюю трагическую борьбу; он мощно содействовал сегодняшнему лучистому и спокойному торжеству». «Спокойный и лучистый» — это еще надо посмотреть, это далеко не тот случай. Жид не знал, что Горький, как и его сын двумя годами ранее, скончался в результате «медицинского убийства» Ягоды.
Но я ведь тоже не знаю о Горьком почти ничего. При удобном случае после нашего визита в Екатеринбург и перед возвращением в Париж я попыталась выяснить роль, которую сыграл в казни царской семьи управляющий в то время Уралом Яков Свердлов, один из приближенных Ленина, возможный его преемник, если бы не умер от тифа в 1919 году. И если о соратнике Ленина Свердлове я знаю хоть что-то, то о судьбе его семьи, часть которой осталась в Советском Союзе, а часть эмигрировала во Францию и Соединенные Штаты, я в полном неведении. Тогда-то я и открыла в тени Якова Свердлова одну таинственную личность, чья деятельность продолжалась, однако, гораздо дольше. Его старший брат Зиновий 1884 года рождения, которому покровительствовал Горький и который в 1902 году вслед за ним принимает фамилию Пешков. Устроившись во Франции, он становится полномочным представителем Аристида Бриана, чиновником по особым поручениям; заканчивает свою карьеру Зиновий Пешков в 1944 году дипломатом генерала де Голля. Его могила находится на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, среди могил белогвардейцев и впавших в немилость большевиков…
 За палисадом среди роскошной зелени этот дом-музей сохранил очарование былого жилища, и очень хорошо можно себе представить небольшое производство, которое здесь когда-то располагалось: дедушка Каширин был красильщиком. Это не изба, которая всегда строится из бревен, а традиционный деревянный дом, довольно комфортабельный для той эпохи. Внешние его стены выкрашены в теплые каштановые тона, на фасаде и наличниках вокруг окон красивая резьба. Кухня выложена плиткой с простеньким рисунком, в салоне тисненные голубые обои и в красном углу иконы, укрытые большим вышитым рушником. У меня не было времени понять, кто изображен на фотографиях, висящих на стене, я едва успела сфотографировать глиняную посуду.
Все так быстро! Уже нужно уезжать. Образ, возможно, неверный, приглаженный; усилия, прикладываемые для того, чтобы сохранить исторические места, зачастую стирают истинность ушедших времен, их суровую и жесткую действительность, как, впрочем, и их поэзию. Перечитайте «Детство», самую лучшую книгу Горького: вдруг между узкими стенами маленького домика под акациями представляешь «глупых домочадцев», составляющих семью его матери, его жадных и грубых дядей, сурового дедушку, закаленного временем, когда он еще был бурлаком на Волге… Но над всем доминирует его бабушка, ее доброта, ее живость и сдержанность в атмосфере ужасных ссор, драк и оскорблений. Завернувшись в толстое одеяло, ребенок слышит по вечерам разговор бабушки с Богом и видит ее трепетное отношение к иконам. Она вытирает их одну за другой, она с ними разговаривает: «Она покрылась пылью и гарью, ах! Заботливая наша мать, неистощимая наша радость!» Откуда у этой простой женщины такая поэтичная речь? В несчастий, в боли, в нужде? У нее было 18 детей, дедушка бил ее, бывало, целый день, а она говорит: «Как хорошо, как все замечательно, нет, посмотрите, как все здорово!» Иногда, выпив немного водки, она даже танцевала по вечерам, когда дедушка уходил на всенощную или был куда-либо приглашен.
И еще раз эти слова того времени, знавшего другие души, особенные, сильные, погруженные в диалог с невидимым: «Ах! Матушка наша милосердная, бесконечная наша радость!», «Красота неописуемая! Яблонька цветущая! Родник радости!», «Чистое небесное сердечко, красное солнышко!» Где еще есть народ, где еще есть люди, способные говорить так, как говорили тогда они, живущие в полном невежестве и беспросветной нужде?
…Я удаляюсь от домика-музея Горького, и мне смутно припоминается его фраза, которую, говорят, любил повторять Сталин: «Человек — это звучит гордо!» Леденящий юмор, если вспомнить о миллионах умерших в ГУЛАГе и на Украине. Вернувшись, я ее заканчиваю. Я вижу тонкое, желтое, угрожающее лицо, которое произносит: «Человек — это прекрасно! Это звучит… гордо! Человек! Его нужно уважать, не жалеть! Его нельзя унижать жалостью!»
К личности и творчеству Горького у меня всегда был большой интерес. Его статус официального писателя, основателя социалистического реализма, вызывал неприятие и отторжение у диссидентов. Не было ли это его глубочайшей и трагической ошибкой? Он попытался после революции дистанцироваться от нее и от режима несколькими фразами. Но до 1991 года никто не мог прочитать его сокровенные мысли и жестокие слова: «Ленин и Троцкий не имели ни малейшего представления о правах человека. Они уже погрязли в развратных путах власти…» Он тогда уезжает на лечение, и Сталин вспоминает о нем только в 1924 году. Он хочет сделать Горького певцом нового режима. И Горький оправдывает это, описывая свое посещение Соловков, возможно, навязанное ему. Но он тем не менее пишет, после этой краткой поездки на чудовищную стройку Беломорканала, что это удачное место реабилитации «бывших врагов пролетариата»… На прощание перед отъездом нам дарят факсимиле оригинального издания «Детства». Вернувшись, я все перечитаю, говорю я себе. Я уже прочла с огромным восхищением (январь 2011 года) его короткие автобиографические рассказы «Коновалов», «Мальва». И определенно спотыкаюсь о «Мать», об этот ложный советский непереносимый пафос. Фильм Пудовкина был выкуплен за его зрелищность, тогда как стиль Горького в «Матери» очень перегружен политической риторикой.
…Еще несколько шагов по направлению к ресторану, где мы собираемся завтракать: тихо, солнечно, весенний воздух теплый и нежный. Повсюду густая обильная зелень — и между деревянными домами, и за красивыми каменными. Наш гид напоминает о дружбе между Горьким и Шаляпиным; тема бесчисленных анекдотов, особенно о той части их жизни, когда они оба были бедными грузчиками в Саратове. Однажды они попытались устроиться в театр. И выбрали Горького, а не Шаляпина, у которого ломался голос. Дружба Горького и Шаляпина была крепкой и глубокой. Это именно Шаляпину он посвятил «Исповедь» в 1908 году. А в 1911-м он рассердился и обошелся с Шаляпиным грубо. «За повышение заработной платы и хористы, и сам Шаляпин стали на колени перед Николаем II! Этот злодей! Этот убийца! Эта грубейшая ошибка недоумка Федора меня просто убивает! Какое раболепство! Я больше не буду посвящать книги живым, лучше это делать для мертвых, так как мертвые уже не в состоянии совершать подлости!»
Несколько позже на Капри они помирятся.
13 часов 30 минут. Беспощадный и неотвратимый возврат в реальный мир. Очень горькое пробуждение. Ресторан «Тиффани» суперсовременный, как будто в тысяче лье отсюда и от повседневности большинства жителей Нижнего. Что касается его посетителей, меньшее, что можно сказать, это то, что я не испытываю к ним большой симпатии (равно как в Париже к молодым и богатым наглецам, сидящим на модных террасах). Декор, как обычно в подобных местах, сделан по высшему, принятому сегодня в России разряду: все в черном и в золоте. Официантки одеты в открытые передники прямо на колготки, в чудовищной, чтобы не сказать похабной, манере: так как они очень красивы, то смесь непристойности и элегантности взаимно уравновешиваются. Но некоторые лица ничего не выражают. Деньги льются рекой, это ясно. О да, Сатана здесь правит бал!
15 часов 30 минут: библиотека. Нам предлагают кофе, пирожные, книги. Много книг. Кто-то вспоминает о моем приезде в 1993 году. Но сегодня мир уже другой. Я это поняла на Красной площади в первый же вечер нашего прибытия. Они уже не пригодятся, ключи к пониманию прошлых времен вездесущего коммунизма, даже если в 1977 году все было уже не так, как в эпоху Сталина. Это были, однако, трудные годы похолодания после оттепели, относительной либерализации режима при Хрущеве, и это чувствовалось во всем. Но я тогда этого не знала, все происходило тайно и незаметно. В Праге в том же году диссиденты подписали хартию, требующую уважения к Хельсинкским соглашениям 1975 года, в которых русские признавали фундаментальные свободы и право на свободу перемещения. Затем ко мне пришло сомнение. Да, внешние перемены очевидны, но иногда чувствуешь, как бродят тени прошлого. Тень Ленина?..
Обед был вкусный. Веселое солнце, свежая майская зелень, молодая и хрупкая, которую я особенно люблю. Тени рассеиваются.
17 часов. В то время как мы спешим на встречу со студентами лингвистического университета, я замечаю в рекреации под одним из портретов слова на немецком языке: «Я на земле не для того, чтобы выполнять миссию». Повсюду обычный шум и гомон, в коридорах хлопают двери, и над всем этим возвышается мирный голос преподавателя. Смог ли он сохранить здесь что-то из того, что мы потеряли? Доверие к знаниям, уверенность, что он делает мир более человечным? Присутствие в этом коридоре портрета автора «Потомков» меня обескураживает; все, как было с древних времен. Даже в советскую эпоху вера и огромное уважение к культуре сочеталось с таким же презрением к тем, кто ее воплощал…
…Кроме того, Адальберт Штифтер родился в регионе, который я хорошо знаю, очень поэтическом и безлюдном, в Южной Богемии, недалеко от чешского Крумлова… И вдруг (9 января 2011 года), вспомнив об этом прекрасном городе и его укрепленном замке, я сказала себе: «А разве Крумлов не созвучно кремлю?» Есть! Интернет сделал за меня всю работу: «Крумлов» от татарского «крумль»! Еще с тех времен, когда Южная Богемия принадлежала Булгарскому ханству (IX век)…
Я вхожу в узкий и длинный актовый зал, где нас уже ожидают студенты. Окна смотрят на цветущую зелень. Красивая молодежь, спокойные ребята и девчата, принимают нас с большим добродушием. Я все думаю о Штифтере. Неужели его странный и суровый урок слышен и сейчас? Что означает сегодня этот «дух одиночества», который пожилой дядя пытается вдолбить своему племяннику, не подозревающему, какое тяжелое испытание ему навязывают. Я не думаю, что это имеет какой-то отголосок в университетах, где студенты в основном повсюду мечтают изучать только экономику и менеджмент. (Это, вероятно, справедливо и для России, хотя и с некоторым запозданием.) Я хотела бы с ними об этом поговорить, но как? Да, и здесь так же, как и везде, как избежать условленного выступления о красоте русской и французской литературы и природе нашего писательского труда?
Однако в дальнейшем, возможно, это никому из них не пригодится. Впрочем, Штифтер и сам настолько был убежден в бесполезности деятельности, что покончил с собой в Линце в 1868 году в возрасте шестидесяти трех лет.
…Затем мы разговариваем, благо аудитория доброжелательна и внимательна. Однако речь председательствующей была несколько искусственной и, чего греха таить, абсолютно советской: «Студенты упорно и радостно изучают прекрасную французскую литературу». Говорю же вам, тень Ленина! Но это ничуть не помешало им сделать то, ради чего они пришли нас послушать и показать, что они в достаточной мере владеют французским, чтобы задавать нам вопросы. И, глядя на них, поражаюсь (как и на улицах с самого начала путешествия): я скоро буду стесняться, настолько я привыкла у нас к иному, это невероятная этническая однородность лиц. Только белые, розовощекие, светловолосые, от силы одно или два лица с азиатскими чертами под черными прядями. Ничего общего с Францией, где очевидно, что происходит интеграция тех, кого русские называют «инородцами», где более или менее мирно рождается новое общество. А что в России? Говорят, что в Москве после Чеченской войны и войны с Грузией черные волосы и смуглые лица кавказцев вызывают неприятие и жестокость. (В американских романах и полицейской картотеке кавказец значится белым, какое заблуждение.)
В Казани меня убедят, что между русскими и татарами все хорошо.
…О чем писать, спрашивает один студент. Можете ли вы это сказать, определить? Вот как! Ответы были: «Даже когда вы бросаете, вы все равно пишете», — сказал М. V. Т. Мое определение писателя: это скорее состояние, чем действие, обостренное внимание к миру, постоянная бдительность. Как у кошки темной ночью в саду. А по мнению F. F., труд писателя «это искусство, которое как дорога, что ведет от чувственного опыта к смыслу». Я доверяю переводчикам и надеюсь, что нас хорошо поняли. Во всяком случае, мы прекрасно понимали друг друга, — та часть группы, что была на встрече, сплоченная в самой сути. И это не нарциссизм и не писательское преувеличение, что редкость.
Быстрый ужин, прежде чем провалиться в поезд, который остановится в Казани в 6 утра. Наконец, первая ночь в поезде. Не без труда заправив сложенное одеяло в пододеяльник и запихнув толстые чемоданы под сиденье, мы опускаем занавески. Ночь. Когда поезд замедляет ход, приближаясь к очередной станции, фонари перрона тоненькой нитью скользят по сиденью и его спинке, за холодным окном слышны голоса. Я глубже вставляю затычки для ушей, поезд трогается, я вновь засыпаю. Я почти ничего не знаю о втором нашем этапе. Казань для меня — это только город, где жила и была арестована Евгения Гинзбург, мать Василия Аксенова, с которым меня познакомили. Я пытаюсь поточнее припомнить его книгу «Небо Колымы», нужно будет перечитать по возвращении. Мне вспоминается анекдот. Пожилая крестьянка, арестованная и приговоренная как троцкистка, — слово, которое она не понимает, — повторяет: «Как это, трактистка? У нас порядочные женщины, они не спят с тракторами».
Но спать, однако.
За палисадом среди роскошной зелени этот дом-музей сохранил очарование былого жилища, и очень хорошо можно себе представить небольшое производство, которое здесь когда-то располагалось: дедушка Каширин был красильщиком. Это не изба, которая всегда строится из бревен, а традиционный деревянный дом, довольно комфортабельный для той эпохи. Внешние его стены выкрашены в теплые каштановые тона, на фасаде и наличниках вокруг окон красивая резьба. Кухня выложена плиткой с простеньким рисунком, в салоне тисненные голубые обои и в красном углу иконы, укрытые большим вышитым рушником. У меня не было времени понять, кто изображен на фотографиях, висящих на стене, я едва успела сфотографировать глиняную посуду.
Все так быстро! Уже нужно уезжать. Образ, возможно, неверный, приглаженный; усилия, прикладываемые для того, чтобы сохранить исторические места, зачастую стирают истинность ушедших времен, их суровую и жесткую действительность, как, впрочем, и их поэзию. Перечитайте «Детство», самую лучшую книгу Горького: вдруг между узкими стенами маленького домика под акациями представляешь «глупых домочадцев», составляющих семью его матери, его жадных и грубых дядей, сурового дедушку, закаленного временем, когда он еще был бурлаком на Волге… Но над всем доминирует его бабушка, ее доброта, ее живость и сдержанность в атмосфере ужасных ссор, драк и оскорблений. Завернувшись в толстое одеяло, ребенок слышит по вечерам разговор бабушки с Богом и видит ее трепетное отношение к иконам. Она вытирает их одну за другой, она с ними разговаривает: «Она покрылась пылью и гарью, ах! Заботливая наша мать, неистощимая наша радость!» Откуда у этой простой женщины такая поэтичная речь? В несчастий, в боли, в нужде? У нее было 18 детей, дедушка бил ее, бывало, целый день, а она говорит: «Как хорошо, как все замечательно, нет, посмотрите, как все здорово!» Иногда, выпив немного водки, она даже танцевала по вечерам, когда дедушка уходил на всенощную или был куда-либо приглашен.
И еще раз эти слова того времени, знавшего другие души, особенные, сильные, погруженные в диалог с невидимым: «Ах! Матушка наша милосердная, бесконечная наша радость!», «Красота неописуемая! Яблонька цветущая! Родник радости!», «Чистое небесное сердечко, красное солнышко!» Где еще есть народ, где еще есть люди, способные говорить так, как говорили тогда они, живущие в полном невежестве и беспросветной нужде?
…Я удаляюсь от домика-музея Горького, и мне смутно припоминается его фраза, которую, говорят, любил повторять Сталин: «Человек — это звучит гордо!» Леденящий юмор, если вспомнить о миллионах умерших в ГУЛАГе и на Украине. Вернувшись, я ее заканчиваю. Я вижу тонкое, желтое, угрожающее лицо, которое произносит: «Человек — это прекрасно! Это звучит… гордо! Человек! Его нужно уважать, не жалеть! Его нельзя унижать жалостью!»
К личности и творчеству Горького у меня всегда был большой интерес. Его статус официального писателя, основателя социалистического реализма, вызывал неприятие и отторжение у диссидентов. Не было ли это его глубочайшей и трагической ошибкой? Он попытался после революции дистанцироваться от нее и от режима несколькими фразами. Но до 1991 года никто не мог прочитать его сокровенные мысли и жестокие слова: «Ленин и Троцкий не имели ни малейшего представления о правах человека. Они уже погрязли в развратных путах власти…» Он тогда уезжает на лечение, и Сталин вспоминает о нем только в 1924 году. Он хочет сделать Горького певцом нового режима. И Горький оправдывает это, описывая свое посещение Соловков, возможно, навязанное ему. Но он тем не менее пишет, после этой краткой поездки на чудовищную стройку Беломорканала, что это удачное место реабилитации «бывших врагов пролетариата»… На прощание перед отъездом нам дарят факсимиле оригинального издания «Детства». Вернувшись, я все перечитаю, говорю я себе. Я уже прочла с огромным восхищением (январь 2011 года) его короткие автобиографические рассказы «Коновалов», «Мальва». И определенно спотыкаюсь о «Мать», об этот ложный советский непереносимый пафос. Фильм Пудовкина был выкуплен за его зрелищность, тогда как стиль Горького в «Матери» очень перегружен политической риторикой.
…Еще несколько шагов по направлению к ресторану, где мы собираемся завтракать: тихо, солнечно, весенний воздух теплый и нежный. Повсюду густая обильная зелень — и между деревянными домами, и за красивыми каменными. Наш гид напоминает о дружбе между Горьким и Шаляпиным; тема бесчисленных анекдотов, особенно о той части их жизни, когда они оба были бедными грузчиками в Саратове. Однажды они попытались устроиться в театр. И выбрали Горького, а не Шаляпина, у которого ломался голос. Дружба Горького и Шаляпина была крепкой и глубокой. Это именно Шаляпину он посвятил «Исповедь» в 1908 году. А в 1911-м он рассердился и обошелся с Шаляпиным грубо. «За повышение заработной платы и хористы, и сам Шаляпин стали на колени перед Николаем II! Этот злодей! Этот убийца! Эта грубейшая ошибка недоумка Федора меня просто убивает! Какое раболепство! Я больше не буду посвящать книги живым, лучше это делать для мертвых, так как мертвые уже не в состоянии совершать подлости!»
Несколько позже на Капри они помирятся.
13 часов 30 минут. Беспощадный и неотвратимый возврат в реальный мир. Очень горькое пробуждение. Ресторан «Тиффани» суперсовременный, как будто в тысяче лье отсюда и от повседневности большинства жителей Нижнего. Что касается его посетителей, меньшее, что можно сказать, это то, что я не испытываю к ним большой симпатии (равно как в Париже к молодым и богатым наглецам, сидящим на модных террасах). Декор, как обычно в подобных местах, сделан по высшему, принятому сегодня в России разряду: все в черном и в золоте. Официантки одеты в открытые передники прямо на колготки, в чудовищной, чтобы не сказать похабной, манере: так как они очень красивы, то смесь непристойности и элегантности взаимно уравновешиваются. Но некоторые лица ничего не выражают. Деньги льются рекой, это ясно. О да, Сатана здесь правит бал!
15 часов 30 минут: библиотека. Нам предлагают кофе, пирожные, книги. Много книг. Кто-то вспоминает о моем приезде в 1993 году. Но сегодня мир уже другой. Я это поняла на Красной площади в первый же вечер нашего прибытия. Они уже не пригодятся, ключи к пониманию прошлых времен вездесущего коммунизма, даже если в 1977 году все было уже не так, как в эпоху Сталина. Это были, однако, трудные годы похолодания после оттепели, относительной либерализации режима при Хрущеве, и это чувствовалось во всем. Но я тогда этого не знала, все происходило тайно и незаметно. В Праге в том же году диссиденты подписали хартию, требующую уважения к Хельсинкским соглашениям 1975 года, в которых русские признавали фундаментальные свободы и право на свободу перемещения. Затем ко мне пришло сомнение. Да, внешние перемены очевидны, но иногда чувствуешь, как бродят тени прошлого. Тень Ленина?..
Обед был вкусный. Веселое солнце, свежая майская зелень, молодая и хрупкая, которую я особенно люблю. Тени рассеиваются.
17 часов. В то время как мы спешим на встречу со студентами лингвистического университета, я замечаю в рекреации под одним из портретов слова на немецком языке: «Я на земле не для того, чтобы выполнять миссию». Повсюду обычный шум и гомон, в коридорах хлопают двери, и над всем этим возвышается мирный голос преподавателя. Смог ли он сохранить здесь что-то из того, что мы потеряли? Доверие к знаниям, уверенность, что он делает мир более человечным? Присутствие в этом коридоре портрета автора «Потомков» меня обескураживает; все, как было с древних времен. Даже в советскую эпоху вера и огромное уважение к культуре сочеталось с таким же презрением к тем, кто ее воплощал…
…Кроме того, Адальберт Штифтер родился в регионе, который я хорошо знаю, очень поэтическом и безлюдном, в Южной Богемии, недалеко от чешского Крумлова… И вдруг (9 января 2011 года), вспомнив об этом прекрасном городе и его укрепленном замке, я сказала себе: «А разве Крумлов не созвучно кремлю?» Есть! Интернет сделал за меня всю работу: «Крумлов» от татарского «крумль»! Еще с тех времен, когда Южная Богемия принадлежала Булгарскому ханству (IX век)…
Я вхожу в узкий и длинный актовый зал, где нас уже ожидают студенты. Окна смотрят на цветущую зелень. Красивая молодежь, спокойные ребята и девчата, принимают нас с большим добродушием. Я все думаю о Штифтере. Неужели его странный и суровый урок слышен и сейчас? Что означает сегодня этот «дух одиночества», который пожилой дядя пытается вдолбить своему племяннику, не подозревающему, какое тяжелое испытание ему навязывают. Я не думаю, что это имеет какой-то отголосок в университетах, где студенты в основном повсюду мечтают изучать только экономику и менеджмент. (Это, вероятно, справедливо и для России, хотя и с некоторым запозданием.) Я хотела бы с ними об этом поговорить, но как? Да, и здесь так же, как и везде, как избежать условленного выступления о красоте русской и французской литературы и природе нашего писательского труда?
Однако в дальнейшем, возможно, это никому из них не пригодится. Впрочем, Штифтер и сам настолько был убежден в бесполезности деятельности, что покончил с собой в Линце в 1868 году в возрасте шестидесяти трех лет.
…Затем мы разговариваем, благо аудитория доброжелательна и внимательна. Однако речь председательствующей была несколько искусственной и, чего греха таить, абсолютно советской: «Студенты упорно и радостно изучают прекрасную французскую литературу». Говорю же вам, тень Ленина! Но это ничуть не помешало им сделать то, ради чего они пришли нас послушать и показать, что они в достаточной мере владеют французским, чтобы задавать нам вопросы. И, глядя на них, поражаюсь (как и на улицах с самого начала путешествия): я скоро буду стесняться, настолько я привыкла у нас к иному, это невероятная этническая однородность лиц. Только белые, розовощекие, светловолосые, от силы одно или два лица с азиатскими чертами под черными прядями. Ничего общего с Францией, где очевидно, что происходит интеграция тех, кого русские называют «инородцами», где более или менее мирно рождается новое общество. А что в России? Говорят, что в Москве после Чеченской войны и войны с Грузией черные волосы и смуглые лица кавказцев вызывают неприятие и жестокость. (В американских романах и полицейской картотеке кавказец значится белым, какое заблуждение.)
В Казани меня убедят, что между русскими и татарами все хорошо.
…О чем писать, спрашивает один студент. Можете ли вы это сказать, определить? Вот как! Ответы были: «Даже когда вы бросаете, вы все равно пишете», — сказал М. V. Т. Мое определение писателя: это скорее состояние, чем действие, обостренное внимание к миру, постоянная бдительность. Как у кошки темной ночью в саду. А по мнению F. F., труд писателя «это искусство, которое как дорога, что ведет от чувственного опыта к смыслу». Я доверяю переводчикам и надеюсь, что нас хорошо поняли. Во всяком случае, мы прекрасно понимали друг друга, — та часть группы, что была на встрече, сплоченная в самой сути. И это не нарциссизм и не писательское преувеличение, что редкость.
Быстрый ужин, прежде чем провалиться в поезд, который остановится в Казани в 6 утра. Наконец, первая ночь в поезде. Не без труда заправив сложенное одеяло в пододеяльник и запихнув толстые чемоданы под сиденье, мы опускаем занавески. Ночь. Когда поезд замедляет ход, приближаясь к очередной станции, фонари перрона тоненькой нитью скользят по сиденью и его спинке, за холодным окном слышны голоса. Я глубже вставляю затычки для ушей, поезд трогается, я вновь засыпаю. Я почти ничего не знаю о втором нашем этапе. Казань для меня — это только город, где жила и была арестована Евгения Гинзбург, мать Василия Аксенова, с которым меня познакомили. Я пытаюсь поточнее припомнить его книгу «Небо Колымы», нужно будет перечитать по возвращении. Мне вспоминается анекдот. Пожилая крестьянка, арестованная и приговоренная как троцкистка, — слово, которое она не понимает, — повторяет: «Как это, трактистка? У нас порядочные женщины, они не спят с тракторами».
Но спать, однако.
10 января 2011 года, остановка
Часто во время путешествия меня посещает ощущение того, что вся внешняя жизнь — просто иллюзия. Эта дымка мне тогда мешает быть среди других туристов такой же беззаботной и умиротворенной. Затем она рассеивается. Все так живо, так настоящее, так ново! Шум и металлический запах вокзала, лица и тела людей, такие близкие и тем не менее такие разные, вещи, перевязанные пакеты, проходящий мимо взвод солдат, флажки, развевающиеся на мачте, и приятные звуки русского языка, который всегда меня глубоко волнует… Но по возвращении мое чтение только укрепило мое стойкое впечатление: за всем, что мы увидели, скрывались очень опасные, тревожные вещи. Например, разве нам сказали (но могли ли нам это говорить? Да и зачем это нам нужно было говорить?), что в десятке километров от Нижнего Новгорода находится город Дзержинск, названный в честь основателя ЧК? И почему ему сохранили имя? Да и сам город не стоит больше, чем его имя: крупный центр производства химического оружия в советские времена, а значит, закрытый по стратегическим соображениям для иностранных гостей, столица химической индустрии и один из самых загрязненных городов Европы… Всю войну там производили боевые отравляющие газы, и там же на месте захоронили все отходы. Средняя продолжительность жизни там составляет для мужчин сорок два года и сорок семь лет для женщин. (Я вспоминаю огромную статую Дзержинского на Лубянке. Она стояла там еще в 1989 году, а в 1991 году, во время моего следующего приезда, ее уже не было. Одна ассоциация хочет ее отреставрировать.) Все это спрятанное, притаившееся, забившееся по щелям отсвечивает из темноты пагубным светом. Этим же январским вечером 2011 года я задаюсь тем же вопросом, перечитывая рассказы Евгении Гинзбург «Головокружение» и «Небо „Колымы“», изданные в Seuil в 1990 году, но написанные гораздо раньше, где-то около 1959 года. Цитирую: «Это невозможно, чтобы подобное явление исчезло просто так». Действительно. Это «подобное явление», насколько я смогла понять в этой поездке, по-прежнему существует. Исчезло? Или нет? Нужно было бы долго разговаривать с одним или двумя русскими, хорошо знать язык и не бояться задавать вопросы. Что произошло? Как вы это понимаете? Что вы думаете со всем этим делать? Забыть? Или это уже забыто? Разве без памяти можно строить что-то новое? Разве на забытьи можно созидать новую жизнь? На забытьи этого, настолько колоссального, затронувшего стольких людей, изменившего историю человечества и длившегося так долго? Все это не в моей власти: история коммунизма, его триумф и его поражение, необходимость его забыть и опасность забытья — все это меня терзает. Но у меня нет права никому навязывать свои тревоги и опасения. Ни людям старшего поколения, ни тем более молодым, которые идут мне навстречу с постоянным мобильником возле уха. Бессчетное число тех, кому это мешает, раздражает или вообще оставляет равнодушными. Воображаю, как бы надулись эти официантки, разносящие подносы в «Тиффани», если бы я заговорила с ними о Сталине!Январь 2011 года. Уже глубокая ночь, но я продолжаю читать Гинзбург. Из ее книги, даже несмотря на ужаснейшие обстоятельства, исходит тот же свет, что и в произведениях Шаламова и Солженицына. Свет мысли, которая не устает постоянно заставлять себя понять.
Воскресенье, 30 мая, Казань
Проснувшись среди ночи, я задала себе вопрос, не едем ли мы по территории Республики Чувашии. Это чистая случайность, что я знаю название этой маленькой республики, вышедшей из средневековья только после обнаружения там нефти. И если я могу найти ее на карте, то это благодаря рассказам поэта Геннадия Айги, которого я встретила в Москве в 1977 году. Выходец из Ханси, как и все из его деревни, поэт и переводчик Малармэ на чувашский язык. Маленького роста с возвышающейся взъерошенной шевелюрой и лицом алкоголика. Я вспоминаю нашу встречу в его в маленьком деревянном доме, которого сегодня уже нет. Он жил там в большой бедности. Кошка доедала остатки еды на газете, а на стене висел портрет Бодлера, мы пили водку, и красивый темноволосый мальчик рвал в огороде лук для закуски. Именно его отец, учитель, погибший в 1943 году, научил его французскому языку, читая вместе с ним «Отверженных». Он умер в 2006 году. У меня до сих пор сохранился карандашный рисунок, который он мне подарил: портрет женщины с меланхоличным лицом. Мне так и не удалось расшифровать имя его автора. Я вновь засыпаю. 6 часов утра. Прибытие в Казань. Мы в 720 километрах к востоку от Москвы, но это на самом деле только начало дороги на восток. Казань (буквально с татарского «общежитие») расположена на слиянии рек Волга и Казанка, столица Татарстана, религиозный мусульманский центр России… Во всех городах, где мы будем останавливаться, население больше миллиона. В отличие от сибирской территории (где мы еще не были) с обширными, едва заселенными равнинами, которые мы еще пересечем. Восточные врата на протяжении веков, конечный пункт татарского проникновения, созданный Иваном Грозным, Казань в XIX веке — важная точка на оси Берлин — Москва — Екатеринбург по направлению к русскому Дальнему Востоку. Вот почему так быстро был построен транссибирский вокзал — менее чем за два года, в 1895–1896 годах. Огромные пространства холлов, бесконечные лестницы, многочисленные входы, большие двери — вокзалы Транссибирской магистрали, монументальные и массивные, декорированы в различных стилях. Вокзал в Нижнем Новгороде, разукрашенный и внутри и снаружи, украшен фресками, статуями и мозаикой. Вокзал в Казани — это вытянутое здание, имеющее два симметричных крыла с одной стороны, а с другой — увенчанное квадратной башней с куполом. Редкий орнамент белого цвета прерывает монотонность красного кирпича. Каждое из наших прибытий на вокзал до выхода на перрон сопровождается торжественным, театрализованным, однако радостным церемониалом: не успевает поезд остановиться, как взрывается духовой оркестр. Быстро проходит строй солдат спецназа, которые на нас даже не смотрят. Под звуки оркестра нас встречают хлебом-солью, сахарным воздушным пирогом, прилипающим к пальцам. Позади группы девушек в национальных костюмах огромная реклама пепси-колы, главного соперника колы. Оба напитка не приветствовались в советские времена. (После 1991 года они заполонили Россию, которая тоже стала жертвой мирового рынка американских продуктов: вскоре, как и в Индии по тем же причинам, в России был отмечен резкий рост случаев заболевания диабетом. Между 1994 и 2005 годами количество людей, страдающих ожирением, возрастет от 18 до 23 процентов населения. И это точно не из-за злоупотребления жирными колбасами и недостатка фруктов — слишком дорого.) В костюмах, украшенных гофрированными золотистыми воротничками, которые им очень шли (прически были гораздо проще), девушки выглядели очень стройными и красивыми. Их не слишком любезное выражение лица мне нравится гораздо больше, чем приветливые улыбки по приказу. Любая официальная поездка, даже если она не такая идеологизированная, как в тридцатые годы прошлого века, должна подчиняться определенным правилам, которые не всегда понятны участникам. Очевидно, что этот теплый прием, зачастую весьма остроумный, организован одним из тех новых развлекательных агентств, которые повсеместно в мире занимаются организацией событий. Итак, официальная встреча, но, к счастью, ничего похожего на встречу «друзей Советского Союза» времен СССР… Например, в 1936 году Жиду и его компаньонам. Или в 1960 году Сартру и Бовуар. Во времена СССР путешествия «всех товарищей» были потемкинскими путешествиями. Делалось все, чтобы спрятать негативные аспекты жизни страны. Жид это очень хорошо понял. В своем произведении «Возвращение из СССР» он описывает комфортабельный специальный вагон с купе, кушетками и отдельным салоном, который им предоставили, чтобы они могли добраться до Орджоникидзе, бывшего Владикавказа. Однако он не мог контактировать с другими путешественниками, молодыми комсомольцами без разрешения их сопровождающего. А Жид горел желанием с ними познакомиться… И мы тоже несколько позже в нашем пути испытали трудности с передачей сигарет группе молодых солдат в соседнем вагоне. Нам пришлось вести долгие переговоры с сержантом, который властно нас от них отстранял. Другие же пассажиры, тем не менее, на всем протяжении пути по огромной российской территории относились скорее радушно к этой странной команде «французских писателей». Нам оказывались знаки дружеского внимания, а дети пальцами показывали V — знак победы. Я себе, однако, неоднократно говорила, что в подобном путешествии по стране, где экономические проблемы еще далеко не решены, есть что-то шокирующее. А в 1936 году было еще хуже. В «Поправках к моему „Возвращению из СССР“» Жид возмущается стоимостью небольшого банкета, который был дан в их честь: более 300 рублей на каждого, в то время как рабочий зарабатывал в месяц от силы 30 рублей. Наше путешествие тоже дорого стоит, и не раз во время встреч кто-нибудь намекал на эту привилегию, которой правительство России нам дало возможность воспользоваться. Так же как и мы, несмотря на свою необычайную бдительность и нелицеприятную остроту своих наблюдений, Жид не мог знать все: то, что от него скрывали и о чем он не мог догадаться, несравнимо с тем, что есть сегодня… Когда он на четвертый день по приезде писал на Красной площади некролог, он точно не знал всех обстоятельств смерти Горького. Еще меньше он мог догадываться о насильственной смерти, которая ожидала журналиста Михаила Кольцова, ответственного за организацию его поездки. Кольцову, корреспонденту «Правды» во время гражданской войны в Испании, это припомнится в 1938 году; он будет арестован за шпионаж и антисоветскую деятельность, расстрелян в 1940 или 1942 году и реабилитирован после смерти Сталина. Однообразные и трагические повторения. Вот над какими пропастями ходили Жид и другие члены французской делегации. Наша поездка менее опасна, во всяком случае, мы не сталкиваемся с арестами, еще такими живыми в истории. Но нас определенно ждут свои пропасти и ущелья. Весна, если это весна, на мой взгляд, в России — это самое опасное время года. Она не позволяет забыть огромные льдины во время ледохода и о том, что заморозки могут всегда вернуться. 6 часов 30 минут. Как всегда в наш приезд в каждом городе, я поражаюсь порядку, чистоте улиц, легкости воздуха. Правда, за недостатком времени я не отваживалась побывать в пригородах или на окраинах. Несмотря на утренний час, улицы уже бороздили большие автомобили 4x4, разнообразные джипы. Я никогда их столько не видела, таких дорогих и в таком количестве на маленькой улице, как только в русских городах. Гостиница «Шаляпин», где мы устроились, расположенная в самой старой части города, построена в том же стиле, что и церковь Епифани, красного кирпича и с колокольней. Бывшая дворцом в 1900 году, она стала гостиницей «Совет», со временем обветшала и разрушилась, но в 2002 году, выкупленная частной фирмой, была восстановлена за полмиллиарда рублей. Прямо напротив большой памятник Шаляпину, а чуть левее, за стройкой, сверкающий золотом купол — и совсем не «медовый», как описал его Сандрар («медовый» — это не значит цвет меда, и мед — это не цвет православных куполов)… А еще меня смущало определение «клиновидный», одно из многих удивляющих названий в русском языке. Наше путешествие продолжается под знаком поэмы, которая устарела и не очень мне нравится. 10 часов. Мои представления о Казани достаточно расплывчатые и, вероятно, ложные. Чтобы ее себе представить, я использую только два критерия: ее удаленность от Москвы, которая кажется мне огромной, в то время как 700 километров ничего не значат в самой большой стране мира, и ее население, которое, как я предполагаю, полностью татарское. Что касается того, что я о ней прочла, рассказы Евгении Гинзбург превратили для меня Казань в прихожую ГУЛАГа. Город, каким я его открыла в 2010 году, совсем не соответствовал этим представлениям, даже если сегодня в нем обитает общество с двумя культурами. Это прежде всего русский город и по своей сущности, и по своей форме, и по своей архитектуре, и даже, я бы сказала, европейский город. Однако поостережемся называть «европейскими» признаки мировой западной цивилизации: рекламу смартфонов, клубы, интернет-кафе, музыку техно, звучащую из магазинов одежды. И в Праге, и в Будапеште мы уже поняли, что это нечто даже чуждое европейскому духу.
В любом случае, несмотря на множество лиц азиатской внешности, с узкими глазами, черными волосами, смуглой кожей, Казань не является ни восточным, ни татарским городом. Татары, которых здесь почти пятьдесят процентов, в 1991 году объединились в одну из двадцати одной республик, составляющих Российскую Федерацию. Побыв Республикой Татарией, Татарстан в политическом плане — территория пестрая, разнородная, смешанная: вековое примирение сменило древнюю вражду с ханством тех времен, когда Казань символизировала раздел между Востоком и Западом. Татары, которые жили здесь всегда, долгое время были гражданами второго сорта — в своей повседневной жизни, в своих обычаях, во всеобщем мнении. Их язык признавался только частично. Не смогли, значит, полностью исчезнуть следы воинственного противостояния, которое длилось здесь столетиями, даже притом что с 1991 года этнические, религиозные и культурные требования татар признаны, как и их право на эту территорию, по сути, колонизированную Россией.
Но все, что видно, это действительно результат колонизации… В конце концов, в Западной Европе, во Франции мы знаем только тех детей России, кто был по происхождению русским: Шаляпин, Аксенов или Нуреев. И когда мы узнаем, что бабушка великой Ахматовой была татаркой, мы удивляемся. (На самом деле ее звали Анна Андреевна Горенко. Ахматова — это фамилия ее бабушки, о чем она говорит в одном из своих стихотворений.)
Мы быстро устроились, и вскоре автобус повез нас к кремлю. На холме, где громоздились его строения, белые и массивные, частично скрытые крепостными стенами, он возник внезапно, как в черно-белом кино Эйзенштейна. Устрашающий вид его стен еще более подчеркивался выразительным памятником, установленным на эспланаде в память о борце сопротивления, татарском поэте Мусе Джалиле, казненном в Берлине: человеческое тело, обвитое колючей проволокой.
Время на несколько снимков, и мы движемся к кремлю. Это высокое место, чрезвычайно символичное, описанное в тысяче книг и кинофильмов об отпоре, данном молодым русским государством древнему татарскому ханству. Вот она, граница, которую мы еще не перешли, но к которой сегодня приблизились: не мифический уральский барьер, который еще впереди и которому приписывается роль перехода от Европы к Азии, а барьер исторический, культурный и религиозный, который долгое время отделял Западную Европу от восточных пределов единого континента Евразия. Я далека от желания пробуждать старые распри и еще менее — возрождать антагонизм цивилизаций этих двух миров; но нельзя отрицать и того, что он еще существует, и более того, Европа определилась в своем отличии от этого другого мира, сопротивляясь ему, противопоставляя ему другие ценности. А затем, в свою очередь, и колонизируя территории, откуда приходили ее захватчики. Так разыгралась часть судьбы «Европы»: помнить об этом вовсе не мешает желанию определить ее иначе, чем через пробуждение древней вражды.
Город, каким я его открыла в 2010 году, совсем не соответствовал этим представлениям, даже если сегодня в нем обитает общество с двумя культурами. Это прежде всего русский город и по своей сущности, и по своей форме, и по своей архитектуре, и даже, я бы сказала, европейский город. Однако поостережемся называть «европейскими» признаки мировой западной цивилизации: рекламу смартфонов, клубы, интернет-кафе, музыку техно, звучащую из магазинов одежды. И в Праге, и в Будапеште мы уже поняли, что это нечто даже чуждое европейскому духу.
В любом случае, несмотря на множество лиц азиатской внешности, с узкими глазами, черными волосами, смуглой кожей, Казань не является ни восточным, ни татарским городом. Татары, которых здесь почти пятьдесят процентов, в 1991 году объединились в одну из двадцати одной республик, составляющих Российскую Федерацию. Побыв Республикой Татарией, Татарстан в политическом плане — территория пестрая, разнородная, смешанная: вековое примирение сменило древнюю вражду с ханством тех времен, когда Казань символизировала раздел между Востоком и Западом. Татары, которые жили здесь всегда, долгое время были гражданами второго сорта — в своей повседневной жизни, в своих обычаях, во всеобщем мнении. Их язык признавался только частично. Не смогли, значит, полностью исчезнуть следы воинственного противостояния, которое длилось здесь столетиями, даже притом что с 1991 года этнические, религиозные и культурные требования татар признаны, как и их право на эту территорию, по сути, колонизированную Россией.
Но все, что видно, это действительно результат колонизации… В конце концов, в Западной Европе, во Франции мы знаем только тех детей России, кто был по происхождению русским: Шаляпин, Аксенов или Нуреев. И когда мы узнаем, что бабушка великой Ахматовой была татаркой, мы удивляемся. (На самом деле ее звали Анна Андреевна Горенко. Ахматова — это фамилия ее бабушки, о чем она говорит в одном из своих стихотворений.)
Мы быстро устроились, и вскоре автобус повез нас к кремлю. На холме, где громоздились его строения, белые и массивные, частично скрытые крепостными стенами, он возник внезапно, как в черно-белом кино Эйзенштейна. Устрашающий вид его стен еще более подчеркивался выразительным памятником, установленным на эспланаде в память о борце сопротивления, татарском поэте Мусе Джалиле, казненном в Берлине: человеческое тело, обвитое колючей проволокой.
Время на несколько снимков, и мы движемся к кремлю. Это высокое место, чрезвычайно символичное, описанное в тысяче книг и кинофильмов об отпоре, данном молодым русским государством древнему татарскому ханству. Вот она, граница, которую мы еще не перешли, но к которой сегодня приблизились: не мифический уральский барьер, который еще впереди и которому приписывается роль перехода от Европы к Азии, а барьер исторический, культурный и религиозный, который долгое время отделял Западную Европу от восточных пределов единого континента Евразия. Я далека от желания пробуждать старые распри и еще менее — возрождать антагонизм цивилизаций этих двух миров; но нельзя отрицать и того, что он еще существует, и более того, Европа определилась в своем отличии от этого другого мира, сопротивляясь ему, противопоставляя ему другие ценности. А затем, в свою очередь, и колонизируя территории, откуда приходили ее захватчики. Так разыгралась часть судьбы «Европы»: помнить об этом вовсе не мешает желанию определить ее иначе, чем через пробуждение древней вражды.
 Во всяком случае, Джалиль, хотя и был татарином, мужественно защищал ценности Европы от человека (Гитлера) и системы(нацизма), когда те стали им насильственно противоречить! Записавшись добровольцем в Красную Армию в 1941 году, раненный в 1942-м, Джалиль попадает в плен. Включенный насильственно в одну из дивизий вермахта, он организует там группу антифашистского сопротивления. Его арестовывают в августе 1943 года, пытают, переводят в тюрьму Моабит в Берлине, где обезглавливают в августе 1944 года в возрасте тридцати восьми лет. Именно там, в тюрьме, он и написал свои «Моабитские тетради».
Нынешний кремль был построен Иваном Грозным после своей победы в 1552 году и разрушения старой крепости, замененной, что видно по ее стенам, совсем другой оборонной архитектурой. Какой разрыв эпох, если вспомнить, что в Западной Европе, во Франции или Италии гражданская и религиозная архитектура уже давно носила оборонные черты. Взять хотя бы в Италии архитектуру раннего барокко, или контрреформации, или в Риме Сэнт-Луи де Франсе!
Вдалеке передо мною, за Волгой, простирается огромная равнина, с которой исходила угроза. На горизонте ни одной природной преграды, и город Казань для русских был желанной крепостью. Двойной символ: для одних, русских, символ завоевания, для других, татар, символ поражения. Казань, побежденная «республика волжских татар», первая мусульманская территория, аннексированная Россией. Об этом напоминает в Москве большая раскрашенная деревянная игрушка, собор Василия Блаженного (увидев который в 1812 году, Наполеон назвал мечетью). Сибирское ханство было следующим этапом. Хан Кучум, узнав от своих соплеменников о прибытии казака Ермака, человека Ивана Грозного, посылает своего сына Махметкуля устроить засаду в низовьях Туры. Ермак расстраивает эти планы, и Кучум побежден. Он оставляет Сибирь и отходит в степи Ишима. Ермак занимает город. Временный успех, а окончательная победа только в 1598 году. В 1584 году Ермак будет убит.
Мне кажется, сегодняшняя тенденция отказываться от этно- и европоцентристского подхода к истории неправильна. Ведь нельзя же отрицать то, чем была победа 1552 года. Чужая власть нависла над Россией со времени взятия Рязани в 1237 году и до середины XV века, когда монголы уступили место татарам. До тех пор, пока Иван Грозный не взял верх над последними. В этом контексте и поскольку это был опорный пункт на пути в Сибирь, Казань в течение трех веков была ставкой в напряженной и беспощадной борьбе.
На острове Свияжск (куда мы вскоре направимся) находится крепость, откуда и началось наступление на ханство в 1552 году. Любопытно, что на этом же острове Свияжск Троцкий организует плацдарм Красной армии в ее наступлений на армию белых… На одном из кадров фильма Эйзенштейна (я поместила его на обложку одной из моих книг) стоит Иван Грозный, его длинная и жиденькая изогнутая бородка только подчеркивает дьявольский профиль, наблюдая, как длинная колонна воинов углубляется в степь. Впереди несут знамя, икона святого лика Христа, Спас Нерукотворный, «сделанная не людской рукой», а прямо отпечатанная его потом…
В тогдашней христианской Европе, где Россия представляла центр византийской церкви против Папы Римского, но особенно против татарского ислама, эти завоевания и установление на века Иваном IV (называемым Грозным) сильной власти связывают с божьим промыслом и с иконой, которую сохранили и по сей день как «чудотворную икону Казанской Божьей Матери». Даже сегодня сайт в интернете под названием «Поговорим о православии» не имеет ни малейших сомнений в божественном заступничестве в победе Ивана Грозного над татарами: это их битва при Пуатье. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать оттуда воинственную прозу: «Без всякого сомнения, на то была воля Божья, чтобы православная вера воссияла на землях России после нескольких веков татарского насилия над душами ее народа.
Вот почему покорение казанского ханства царем Иваном Грозным было не столько территориальным завоеванием, сколько религиозным триумфом. Во время литургии в походной церкви, когда дьяк произнес слова: „Да низвергнутся к твоим ногам все враги и неприятели“, земля затряслась, и церковные хоругви закачались. Русские воины взорвали стены Казани и проникли в город. Они сражались как львы и в тот же день овладели городом, столицей и твердыней татарского королевства. Был праздник Пресвятой Божьей Матери. Так утвердилась несокрушимая вера русского народа в небесную Мать-Богородицу. Царь Иван будет считать эту победу божьим даром. Сразу после взятия Казани он отдаст приказ о возведении главного храма Благовещения во славу царицы небесной. Впоследствии он уточнит места размещения других церквей в разных уголках города. Это было в 1552 году».
Так начинается другая, чудесная история — чудо, по некоторому мнению, одна из причин, доказывающих ее правдивость!
Итак, продолжим. Прошло некоторое время. В 1579 году пожар уничтожает Казань. Прекрасный случай для небесной царицы появиться вновь: «Мусульмане воспользовались этим, чтобы распространить идею о божьем суде над православными. Маленькой девятилетней девочке Матроне является видение Божьей Матери, которая указывает ей место, где можно откопать ее икону. Родители ребенка посчитали это выдумкой, но видение повторяется вновь в наводящей страх манере. Спящая девочка вдруг обнаруживает себя во дворе, перед ней появляется икона, излучающая жгучие лучи, и говорит ужасающим голосом: „Если мои слова не будут услышаны и икона не откопана, я оставлю это место и уйду в другое“». Какие времена! Иконы разговаривали! Есть ли еще русские, которые верят подобным рассказам? Конечно… Так как легенда всегда смешивается с историей в той мере, в какой власть имущие могут извлечь из нее пользу. От Ивана до Екатерины Великой. Подведем итоги. Узнав новость, Иван велит доставить икону в Москву, а затем, богато украсив, отправляет обратно в Казань в специально построенный для нее монастырь. Ее продолжают украшать золотом и жемчугом, присылаемыми царем, а затем новыми украшениями, заказанными императрицей Екатериной. И все «остается спокойным в этой части Востока». Увы! Ночью 29 июня 1904 года хулиганы проникают в Казанский собор и выносят икону. «Вся Россия погружается в скорбь».
Я не очень хорошо поняла обстоятельства ее обнаружения и возвращения: 28 августа 2004 года она была передана Ватиканом России. Уф! Россия может вздохнуть. Кстати, татары тем временем чтобы не отставать, решили возвести самую большую мечеть в мире — мечеть Куль Шариф.
Однако можно догадаться, что этой версии фактов противостоят другие версии, что для будущею России урегулирование мусульманского вопроса именно здесь, в Казани, играет важную политическую роль. С одной стороны, постоянно уверяя, что не хотят задеть правомерную чувствительность татар, историки утверждают важность роли Ивана в укреплении русского единства, предшествовавшего и подготовившего приход в 1613 году династии Романовых. С другой стороны, татары Казани, очень чувствительные к истории своего происхождения, вскрывают ошибки официальных русских историков. Королевство (ханство), уничтоженное в XVI веке царем Иваном Грозным, является на самом деле Волжской Булгарией, основанной в VI веке племенами булгар, пришедшими сюда с Азовского моря и принявшими ислам в 922 году.
Как бы там ни было, после падения ханства (татар или волжских булгар) начинается христианизация. Иван разрушает все мечети. И только при Екатерине Великой опять разрешается их строить.
Мы медленно продвигаемся вглубь кремля, прикованные взглядом к куполам и минаретам с яркой синевой огромной мечети Куль Шариф. Преемственность, разрушения. Перед нами брусчатка, покрывающая место древнего монастыря, колокольня которого была разрушена уже в советское время. (В моем дневнике записано: «Дверь, за которой Горькому не удалось покончить с собой, когда он был учеником пекаря».)
Один вопрос, который я сдерживалась задать с самого начала и который, когда я все-таки его задала, вызвал этот… дипломатический ответ нашего гида. Как сегодня сосуществуют мусульмане и православные? Отлично. Все. Точка. Я настаиваю. Но религиозное пробуждение? (становлюсь «адвокатом дьявола»). Ответ: в Татарстане это есть, но больше в России нигде. (Проверила, и правда: около 14 % верующих среди православных, не более того.) Все это на фоне всеобщего сожаления о советской эпохе. Итак, ничего общего с тем, что происходит в Чечне, где последствия жестокой войны дали толчок подъему радикального исламизма? Нет, ничего общего! Абсолютно нет! А светскость? Я уточняю: во Франции это жесткое разделение церкви и государства. Как у вас? Тут ответ затруднительный и уклончивый. Вы понимаете, мы сейчас выходим из периода атеистического государства. Здесь я хочу уточнить это утверждение, в ответ — молчание.
Из-за меня мы с гидом отстали от группы, которая понемногу рассеялась, и в конце концов все собрались перед большой мечетью. Она действительно большая. Правда, есть еще, что вновь обретать. В 1990 году во время перестройки в Казани оставалась единственная мечеть.
Во всяком случае, Джалиль, хотя и был татарином, мужественно защищал ценности Европы от человека (Гитлера) и системы(нацизма), когда те стали им насильственно противоречить! Записавшись добровольцем в Красную Армию в 1941 году, раненный в 1942-м, Джалиль попадает в плен. Включенный насильственно в одну из дивизий вермахта, он организует там группу антифашистского сопротивления. Его арестовывают в августе 1943 года, пытают, переводят в тюрьму Моабит в Берлине, где обезглавливают в августе 1944 года в возрасте тридцати восьми лет. Именно там, в тюрьме, он и написал свои «Моабитские тетради».
Нынешний кремль был построен Иваном Грозным после своей победы в 1552 году и разрушения старой крепости, замененной, что видно по ее стенам, совсем другой оборонной архитектурой. Какой разрыв эпох, если вспомнить, что в Западной Европе, во Франции или Италии гражданская и религиозная архитектура уже давно носила оборонные черты. Взять хотя бы в Италии архитектуру раннего барокко, или контрреформации, или в Риме Сэнт-Луи де Франсе!
Вдалеке передо мною, за Волгой, простирается огромная равнина, с которой исходила угроза. На горизонте ни одной природной преграды, и город Казань для русских был желанной крепостью. Двойной символ: для одних, русских, символ завоевания, для других, татар, символ поражения. Казань, побежденная «республика волжских татар», первая мусульманская территория, аннексированная Россией. Об этом напоминает в Москве большая раскрашенная деревянная игрушка, собор Василия Блаженного (увидев который в 1812 году, Наполеон назвал мечетью). Сибирское ханство было следующим этапом. Хан Кучум, узнав от своих соплеменников о прибытии казака Ермака, человека Ивана Грозного, посылает своего сына Махметкуля устроить засаду в низовьях Туры. Ермак расстраивает эти планы, и Кучум побежден. Он оставляет Сибирь и отходит в степи Ишима. Ермак занимает город. Временный успех, а окончательная победа только в 1598 году. В 1584 году Ермак будет убит.
Мне кажется, сегодняшняя тенденция отказываться от этно- и европоцентристского подхода к истории неправильна. Ведь нельзя же отрицать то, чем была победа 1552 года. Чужая власть нависла над Россией со времени взятия Рязани в 1237 году и до середины XV века, когда монголы уступили место татарам. До тех пор, пока Иван Грозный не взял верх над последними. В этом контексте и поскольку это был опорный пункт на пути в Сибирь, Казань в течение трех веков была ставкой в напряженной и беспощадной борьбе.
На острове Свияжск (куда мы вскоре направимся) находится крепость, откуда и началось наступление на ханство в 1552 году. Любопытно, что на этом же острове Свияжск Троцкий организует плацдарм Красной армии в ее наступлений на армию белых… На одном из кадров фильма Эйзенштейна (я поместила его на обложку одной из моих книг) стоит Иван Грозный, его длинная и жиденькая изогнутая бородка только подчеркивает дьявольский профиль, наблюдая, как длинная колонна воинов углубляется в степь. Впереди несут знамя, икона святого лика Христа, Спас Нерукотворный, «сделанная не людской рукой», а прямо отпечатанная его потом…
В тогдашней христианской Европе, где Россия представляла центр византийской церкви против Папы Римского, но особенно против татарского ислама, эти завоевания и установление на века Иваном IV (называемым Грозным) сильной власти связывают с божьим промыслом и с иконой, которую сохранили и по сей день как «чудотворную икону Казанской Божьей Матери». Даже сегодня сайт в интернете под названием «Поговорим о православии» не имеет ни малейших сомнений в божественном заступничестве в победе Ивана Грозного над татарами: это их битва при Пуатье. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать оттуда воинственную прозу: «Без всякого сомнения, на то была воля Божья, чтобы православная вера воссияла на землях России после нескольких веков татарского насилия над душами ее народа.
Вот почему покорение казанского ханства царем Иваном Грозным было не столько территориальным завоеванием, сколько религиозным триумфом. Во время литургии в походной церкви, когда дьяк произнес слова: „Да низвергнутся к твоим ногам все враги и неприятели“, земля затряслась, и церковные хоругви закачались. Русские воины взорвали стены Казани и проникли в город. Они сражались как львы и в тот же день овладели городом, столицей и твердыней татарского королевства. Был праздник Пресвятой Божьей Матери. Так утвердилась несокрушимая вера русского народа в небесную Мать-Богородицу. Царь Иван будет считать эту победу божьим даром. Сразу после взятия Казани он отдаст приказ о возведении главного храма Благовещения во славу царицы небесной. Впоследствии он уточнит места размещения других церквей в разных уголках города. Это было в 1552 году».
Так начинается другая, чудесная история — чудо, по некоторому мнению, одна из причин, доказывающих ее правдивость!
Итак, продолжим. Прошло некоторое время. В 1579 году пожар уничтожает Казань. Прекрасный случай для небесной царицы появиться вновь: «Мусульмане воспользовались этим, чтобы распространить идею о божьем суде над православными. Маленькой девятилетней девочке Матроне является видение Божьей Матери, которая указывает ей место, где можно откопать ее икону. Родители ребенка посчитали это выдумкой, но видение повторяется вновь в наводящей страх манере. Спящая девочка вдруг обнаруживает себя во дворе, перед ней появляется икона, излучающая жгучие лучи, и говорит ужасающим голосом: „Если мои слова не будут услышаны и икона не откопана, я оставлю это место и уйду в другое“». Какие времена! Иконы разговаривали! Есть ли еще русские, которые верят подобным рассказам? Конечно… Так как легенда всегда смешивается с историей в той мере, в какой власть имущие могут извлечь из нее пользу. От Ивана до Екатерины Великой. Подведем итоги. Узнав новость, Иван велит доставить икону в Москву, а затем, богато украсив, отправляет обратно в Казань в специально построенный для нее монастырь. Ее продолжают украшать золотом и жемчугом, присылаемыми царем, а затем новыми украшениями, заказанными императрицей Екатериной. И все «остается спокойным в этой части Востока». Увы! Ночью 29 июня 1904 года хулиганы проникают в Казанский собор и выносят икону. «Вся Россия погружается в скорбь».
Я не очень хорошо поняла обстоятельства ее обнаружения и возвращения: 28 августа 2004 года она была передана Ватиканом России. Уф! Россия может вздохнуть. Кстати, татары тем временем чтобы не отставать, решили возвести самую большую мечеть в мире — мечеть Куль Шариф.
Однако можно догадаться, что этой версии фактов противостоят другие версии, что для будущею России урегулирование мусульманского вопроса именно здесь, в Казани, играет важную политическую роль. С одной стороны, постоянно уверяя, что не хотят задеть правомерную чувствительность татар, историки утверждают важность роли Ивана в укреплении русского единства, предшествовавшего и подготовившего приход в 1613 году династии Романовых. С другой стороны, татары Казани, очень чувствительные к истории своего происхождения, вскрывают ошибки официальных русских историков. Королевство (ханство), уничтоженное в XVI веке царем Иваном Грозным, является на самом деле Волжской Булгарией, основанной в VI веке племенами булгар, пришедшими сюда с Азовского моря и принявшими ислам в 922 году.
Как бы там ни было, после падения ханства (татар или волжских булгар) начинается христианизация. Иван разрушает все мечети. И только при Екатерине Великой опять разрешается их строить.
Мы медленно продвигаемся вглубь кремля, прикованные взглядом к куполам и минаретам с яркой синевой огромной мечети Куль Шариф. Преемственность, разрушения. Перед нами брусчатка, покрывающая место древнего монастыря, колокольня которого была разрушена уже в советское время. (В моем дневнике записано: «Дверь, за которой Горькому не удалось покончить с собой, когда он был учеником пекаря».)
Один вопрос, который я сдерживалась задать с самого начала и который, когда я все-таки его задала, вызвал этот… дипломатический ответ нашего гида. Как сегодня сосуществуют мусульмане и православные? Отлично. Все. Точка. Я настаиваю. Но религиозное пробуждение? (становлюсь «адвокатом дьявола»). Ответ: в Татарстане это есть, но больше в России нигде. (Проверила, и правда: около 14 % верующих среди православных, не более того.) Все это на фоне всеобщего сожаления о советской эпохе. Итак, ничего общего с тем, что происходит в Чечне, где последствия жестокой войны дали толчок подъему радикального исламизма? Нет, ничего общего! Абсолютно нет! А светскость? Я уточняю: во Франции это жесткое разделение церкви и государства. Как у вас? Тут ответ затруднительный и уклончивый. Вы понимаете, мы сейчас выходим из периода атеистического государства. Здесь я хочу уточнить это утверждение, в ответ — молчание.
Из-за меня мы с гидом отстали от группы, которая понемногу рассеялась, и в конце концов все собрались перед большой мечетью. Она действительно большая. Правда, есть еще, что вновь обретать. В 1990 году во время перестройки в Казани оставалась единственная мечеть.
 Сегодня их уже более пятидесяти, среди которых и эта, недавно возведенная в самом сердце русской победы, укрепленном кремле Казани. Она была закончена в 2005 году и названа в честь Куль Шарифа, имама, погибшего при защите города от войск Ивана Грозного. Мечеть больше, чем собор Благовещения, который был построен, чтобы увековечить победу Ивана Грозного над татарами. Я смотрю на нее, пытаюсь ее сфотографировать. Со своими восемью минаретами она с трудом помещается в кадр. Несмотря на белый мрамор из Челябинска, она на самом деле некрасивая. Очевидно, что ее минареты своей яркой синевой подавляют все остальное… Символ в символе — несколько утомительно: внешний купол, так же как и купол кафедры внутри, напоминают по форме ханскую шапку.
В самом конце кремля башня Соембике возвышается как Пизанская. По легенде Иван Грозный после своей победы попросил руки принцессы Соембике. Башня, построенная менее чем за семь дней, была ее условием, чтобы выйти замуж за Ивана, и она сбросилась с нее в пустоту… Я не уверена, что все хорошо поняла, но с меня достаточно легенд. Я направляюсь к сувенирной лавке, в которой покупаю красный пояс, украшенный золотыми монетами. Из него я делаю себе пионерский галстук, удачный русско-татарский компромисс, а также шапочку для К. R. Мы встречаем D. F. и F. F., которые смотрели выставку французских картин из Эрмитажа. Выходя, я бросаю последний взгляд на фреску соратников Джалиля с их красивыми лицами советских татар.
Вывод, сделанный из того, что нам сказал гид и что я прочла по возвращении: модель Татарстана может и другим служить примером: например, саратовским татарам или Республике Башкортостан (или Башкирии?). Населенная в равной степени и русскими, и нерусскими, это одна из самых оригинальных республик России. И русские явно гордятся представлять ее как модель удачного сосуществования русских и инородцев и указывать, что их ислам — это ислам умеренный. Официально пропагандируются также следующие факты. В правовом плане: совершенно исключительный случай в Российской Федерации, Республика Татарстан — субъект международного права, ассоциированная с Россией на основе межгосударственного договора. В языковом плане: право обучения и общения по принципу «лингвистического суверенитета», свободы народов и граждан «сохранять и развивать в полной мере свой родной язык».
Однако если верить Лезану Мухарямову из Казанского государственного медицинского университета, внедрение «лингвистического суверенитета» на деле очень сложно, и «официальный статус татарского языка остается формальным и декларативным»… У меня недостаточно необходимого материала, чтобы судить, но, как бы там ни было, совершенно очевидно, что в то время как Европа сталкивается с претензиями этнической, религиозной и языковой идентификации, Россия, по-видимому, сталкивается с такими же проблемами. Она при всем том никогда не бросается в исламофобию, что иногда искушает другие государства: представитель российской власти на Среднем Востоке — Евгений Примаков, известный востоковед, эксперт по антитерроризму, бывший высокопоставленный сотрудник КГБ.
Обед в татарской деревне (Туган авалым), в маленьком строении в гуще квартала искусственно воссозданных домиков. Зал радостно разукрашен цветными узорами, и я подмечаю меню: салат, куриный суп, несколько жирный, манты (узбекское блюдо, напоминающее большие пельмени с острым фаршем), национальная выпечка и испанское вино Jesus del Perdon.
В 14 часов 30 минут мы делимся на несколько групп, и я в числе самой маленькой группы отправляюсь на экскурсию в музей Габдуллы Тукая. Тем хуже для остальных, так как это один из тех необычайно теплых и душевных музеев, где собраны фотографии, картины и предметы в достаточном количестве для того, чтобы получить живое, почти трогательное представление о человеке, которому он посвящен. Это человек, родившийся в 1886 году и умерший в 27 лет от туберкулеза, поэт, выходец из татарского народа, страстно любивший его язык и культуру. Я ничего о нем не знала, но он мне невероятно близок сегодня, после того как H. М. подарил мне книгу, в которой две фотографии Тукая с разницей в несколько лет. На первой он подстрижен по-татарски, а на второй — в элегантной полосатой рубашке, стянутой под воротником модным «западным» галстуком. На стене музея еще одна фотография, от которой сжимается сердце: он сидит на своей кровати, подпертый подушками, коротко остриженный, вся его семья стоит за ним, мужчины в темных костюмах, с подавленным видом. На его лице уже отсутствующий вид. Но, несмотря ни на что, он остается для меня загадочным потому, что я ничего его не могу прочитать, кроме этих нескольких стихов, переведенных Ахматовой: «Сгинь, мороз белобородый» (начало «Поэмы о зиме»).
Сегодня их уже более пятидесяти, среди которых и эта, недавно возведенная в самом сердце русской победы, укрепленном кремле Казани. Она была закончена в 2005 году и названа в честь Куль Шарифа, имама, погибшего при защите города от войск Ивана Грозного. Мечеть больше, чем собор Благовещения, который был построен, чтобы увековечить победу Ивана Грозного над татарами. Я смотрю на нее, пытаюсь ее сфотографировать. Со своими восемью минаретами она с трудом помещается в кадр. Несмотря на белый мрамор из Челябинска, она на самом деле некрасивая. Очевидно, что ее минареты своей яркой синевой подавляют все остальное… Символ в символе — несколько утомительно: внешний купол, так же как и купол кафедры внутри, напоминают по форме ханскую шапку.
В самом конце кремля башня Соембике возвышается как Пизанская. По легенде Иван Грозный после своей победы попросил руки принцессы Соембике. Башня, построенная менее чем за семь дней, была ее условием, чтобы выйти замуж за Ивана, и она сбросилась с нее в пустоту… Я не уверена, что все хорошо поняла, но с меня достаточно легенд. Я направляюсь к сувенирной лавке, в которой покупаю красный пояс, украшенный золотыми монетами. Из него я делаю себе пионерский галстук, удачный русско-татарский компромисс, а также шапочку для К. R. Мы встречаем D. F. и F. F., которые смотрели выставку французских картин из Эрмитажа. Выходя, я бросаю последний взгляд на фреску соратников Джалиля с их красивыми лицами советских татар.
Вывод, сделанный из того, что нам сказал гид и что я прочла по возвращении: модель Татарстана может и другим служить примером: например, саратовским татарам или Республике Башкортостан (или Башкирии?). Населенная в равной степени и русскими, и нерусскими, это одна из самых оригинальных республик России. И русские явно гордятся представлять ее как модель удачного сосуществования русских и инородцев и указывать, что их ислам — это ислам умеренный. Официально пропагандируются также следующие факты. В правовом плане: совершенно исключительный случай в Российской Федерации, Республика Татарстан — субъект международного права, ассоциированная с Россией на основе межгосударственного договора. В языковом плане: право обучения и общения по принципу «лингвистического суверенитета», свободы народов и граждан «сохранять и развивать в полной мере свой родной язык».
Однако если верить Лезану Мухарямову из Казанского государственного медицинского университета, внедрение «лингвистического суверенитета» на деле очень сложно, и «официальный статус татарского языка остается формальным и декларативным»… У меня недостаточно необходимого материала, чтобы судить, но, как бы там ни было, совершенно очевидно, что в то время как Европа сталкивается с претензиями этнической, религиозной и языковой идентификации, Россия, по-видимому, сталкивается с такими же проблемами. Она при всем том никогда не бросается в исламофобию, что иногда искушает другие государства: представитель российской власти на Среднем Востоке — Евгений Примаков, известный востоковед, эксперт по антитерроризму, бывший высокопоставленный сотрудник КГБ.
Обед в татарской деревне (Туган авалым), в маленьком строении в гуще квартала искусственно воссозданных домиков. Зал радостно разукрашен цветными узорами, и я подмечаю меню: салат, куриный суп, несколько жирный, манты (узбекское блюдо, напоминающее большие пельмени с острым фаршем), национальная выпечка и испанское вино Jesus del Perdon.
В 14 часов 30 минут мы делимся на несколько групп, и я в числе самой маленькой группы отправляюсь на экскурсию в музей Габдуллы Тукая. Тем хуже для остальных, так как это один из тех необычайно теплых и душевных музеев, где собраны фотографии, картины и предметы в достаточном количестве для того, чтобы получить живое, почти трогательное представление о человеке, которому он посвящен. Это человек, родившийся в 1886 году и умерший в 27 лет от туберкулеза, поэт, выходец из татарского народа, страстно любивший его язык и культуру. Я ничего о нем не знала, но он мне невероятно близок сегодня, после того как H. М. подарил мне книгу, в которой две фотографии Тукая с разницей в несколько лет. На первой он подстрижен по-татарски, а на второй — в элегантной полосатой рубашке, стянутой под воротником модным «западным» галстуком. На стене музея еще одна фотография, от которой сжимается сердце: он сидит на своей кровати, подпертый подушками, коротко остриженный, вся его семья стоит за ним, мужчины в темных костюмах, с подавленным видом. На его лице уже отсутствующий вид. Но, несмотря ни на что, он остается для меня загадочным потому, что я ничего его не могу прочитать, кроме этих нескольких стихов, переведенных Ахматовой: «Сгинь, мороз белобородый» (начало «Поэмы о зиме»).
 Что вызывает во мне через года само слово «татары»? Ничего, кроме картин бескрайних степей и монгольского нашествия! «Великая» русская литература нам совсем не помогает: татары в ней либо бандиты, либо извозчики. В один из многочисленных допросов в 1937 году у Евгении Гинзбург спросили, зачем она, зная французский и немецкий, захотела выучить татарский, этот «грубый язык». Только Горький описывает их образ позитивно. «Что меня особенно удивило, это отсутствие у них злобности, их доброжелательность, серьезный и внимательный тон». («Детство»).
Только через имя его отца, муллы деревни, продвигаемся вглубь столь чужеродной нам культуры. Отца Габдуллы Тукая звали Мöхäммäтгарiф Мöхäммäтгäлiм юлi Тукаев — уважаем графологию, в любом языке это целый своеобразный мир. И не забудем опустить точку над типичным для тюркских языков i. От той поры не осталось и следа, но на одной очень хорошо написанной трогательной картине он представлен ребенком с большими черными глазами, сидящим в рубашке на пороге возле двери. По ней я живо представляю себе каждодневную драму той эпохи: после смерти родителей его передоверили дедушке Зиннатулле, «который был очень бедным», и, будучи не в состоянии прокормить своих собственных детей, он попросил извозчика отвезти ребенка на рынок в Казань (Песан Базаар — по имени мечети, ныне называемой Нурулла), чтобы найти кого-либо, кто смог бы его усыновить.
Дело сделано: в 1892 году мальчика взял крестьянин по имени Сагди и отправил в деревню Кирлай, где он начинает учиться в духовной школе, — что в результате полностью отвратило его от любого религиозного обучения. Ему было 13 лет, когда в России повсеместно отмечали столетие Пушкина. Его охватывает страсть к поэзии, но при этом он не забывает ни татарский язык, ни татарскую культуру, которые в тогдашней России совершенно игнорировались. Я сожалею о том, что у меня не было времени увидеть перед фасадом национального театра оперы и балета имени Муссы Джалиля трехметровые статуи-близнецы Пушкина и Тукая на пьедесталах из красного гранита. Совсем не удивительно, что Казань по-особенному отмечала годовщину Пушкина, который был там в сентябре 1833 года, посещая регион, чтобы встретить свидетелей крестьянского восстания Пугачева (1773–1774 годы). Он хотел написать об этом историю (это будет «Капитанская дочка»), В 1906 году Тукай пишет в честь Пушкина большую поэму, которая начинается такими словами: «Браво, Александр Пушкин, поэт, которого не превзойти».
Что вызывает во мне через года само слово «татары»? Ничего, кроме картин бескрайних степей и монгольского нашествия! «Великая» русская литература нам совсем не помогает: татары в ней либо бандиты, либо извозчики. В один из многочисленных допросов в 1937 году у Евгении Гинзбург спросили, зачем она, зная французский и немецкий, захотела выучить татарский, этот «грубый язык». Только Горький описывает их образ позитивно. «Что меня особенно удивило, это отсутствие у них злобности, их доброжелательность, серьезный и внимательный тон». («Детство»).
Только через имя его отца, муллы деревни, продвигаемся вглубь столь чужеродной нам культуры. Отца Габдуллы Тукая звали Мöхäммäтгарiф Мöхäммäтгäлiм юлi Тукаев — уважаем графологию, в любом языке это целый своеобразный мир. И не забудем опустить точку над типичным для тюркских языков i. От той поры не осталось и следа, но на одной очень хорошо написанной трогательной картине он представлен ребенком с большими черными глазами, сидящим в рубашке на пороге возле двери. По ней я живо представляю себе каждодневную драму той эпохи: после смерти родителей его передоверили дедушке Зиннатулле, «который был очень бедным», и, будучи не в состоянии прокормить своих собственных детей, он попросил извозчика отвезти ребенка на рынок в Казань (Песан Базаар — по имени мечети, ныне называемой Нурулла), чтобы найти кого-либо, кто смог бы его усыновить.
Дело сделано: в 1892 году мальчика взял крестьянин по имени Сагди и отправил в деревню Кирлай, где он начинает учиться в духовной школе, — что в результате полностью отвратило его от любого религиозного обучения. Ему было 13 лет, когда в России повсеместно отмечали столетие Пушкина. Его охватывает страсть к поэзии, но при этом он не забывает ни татарский язык, ни татарскую культуру, которые в тогдашней России совершенно игнорировались. Я сожалею о том, что у меня не было времени увидеть перед фасадом национального театра оперы и балета имени Муссы Джалиля трехметровые статуи-близнецы Пушкина и Тукая на пьедесталах из красного гранита. Совсем не удивительно, что Казань по-особенному отмечала годовщину Пушкина, который был там в сентябре 1833 года, посещая регион, чтобы встретить свидетелей крестьянского восстания Пугачева (1773–1774 годы). Он хотел написать об этом историю (это будет «Капитанская дочка»), В 1906 году Тукай пишет в честь Пушкина большую поэму, которая начинается такими словами: «Браво, Александр Пушкин, поэт, которого не превзойти».
Начинания Тукая вызывают восторг, как всегда вызывает восторг рождение таланта, судьбы, но также вызывает и предчувствие того, к чему Россия должна будет обязательно прийти: к признанию на своей территории и в своей культуре другой культуры, пока не замечаемой, презираемой и игнорируемой. В годы своей ранней юности Тукай испробовал разные профессии: извозчик, печатник, редактор газеты. Затем он начинает писать стихи, присоединившись к первой труппе татарского театра… После революции 1905 года ограничения на татарский язык были сняты и становится возможным писать и публиковаться по-татарски: Тукай, который стал в этом великим новатором, начал с того, что основал газету. В то время взгляды сильно разнились; крайние правые предлагают депортировать татар в Оттоманскую империю, традиционный ислам замыкается в себе, отказываясь совершенствоваться, и Тукай, симпатизирующий социалистическим идеям, атакует его в лоб. Однако он продолжает посвящать себя татарской культуре и старается возродить ее из небытия: поэт, литературный критик, публицист, переводчик, лектор в «Восточном клубе» (ассамблея купцов) и издатель, он собирает народную поэзию и воодушевляется ею, не отстраняясь, однако, от русской культуры. Определяя себя и свою роль, он пишет: «Если Пушкин и Лермонтов — это два солнца, которые светят, то я только отражаю их свет, как это делает Луна». «Никакого эквивалента в мировой литературе», — говорит о нем хранитель его маленького музея. Самые великие будут его читать, уважать, переводить. Советский режим особенно будет акцентировать его поэзию политической направленности, а сегодняшний Татарстан — то пробуждение, которым ему обязана татарская культура. Мы одни в музее, и, слушая певучие ударения его текстов, я не могу оторвать глаз от ужасной картины его конца, от его лица с ввалившимися глазами. Его агония длилась двадцать восемь часов. …Мы быстро покидаем музей, так как в 15 часов 30 минут нам предстоит встреча на корабле с журналистами и писателями Казани. На борту предусмотрен ужин и концерт татарской музыки.
В 15 часов 30 минут на Волге. Чудная погода, легкий и нежный ветерок. На корабле стоят ряды столов и скамеек, на которых мы занимаем места. В таких прогулках есть что-то, что вызывает желание их продлить на несколько дней: свежесть воздуха, запах воды, бортовая качка и водовороты в кильватерной струе, открывающиеся берега, маленькие деревушки, дома и кладбища, голубые купола церквей. Наконец! Наконец! Русская глубинка, мать Волга. И бескрайность русской земли в пространстве и времени. Самая красивая в году растительность — майская, хрупкая, цветущая. В то время как один из нас отвечает на вопросы, получает сборник стихов поэта, имя которого он не может запомнить, F. F. засыпает на солнце: молодые девушки подходят, чтобы ее сфотографировать. Но общение налаживается трудно. Мне не удается уловить, чего же ждут от нас, и я не успеваю сформулировать нужные вопросы. Каково положение этих русских писателей? Публикуют ли их? Как их читают? На что они живут? Ничего из этого так и не выяснится. Что-то типа глубокого разочарования витает над терпеливо переводимыми разговорами наших собеседников. На пристани рыбаки предлагают рыбу. Мне бы хотелось иметь время, чтобы приготовить из нее уху прямо тут, на берегу, в котелке над костром… Я замечаю несколько деревянных старинных заброшенных домов и мечтаю однажды приехать сюда и обосноваться, и с болью узнаю, что какой-то туристский магнат собирается устроить там курорт с гольфом и развлечениями. Погода хорошая, мягкая, трава высокая и зеленая, а ветки уже покрыты маленькими бледными листочками. Нежность этой поры: мертвящая нежность, скрывающая неминуемое разложение, которое уже наступает или уже набирает ход. Призванная на помощь память минувших времен напоминает только образы насилия, плохо согласующиеся с умиротворяющим покоем местности. Однако она необходима: существуя между неизвестным будущим и прошлым, о котором нам не говорят, настоящее — это только хрупкие сходни, на которых тренируют и распространяют «туристическую информацию». Вот почему нужно еще многое проработать после путешествия, чтобы все это дополнить, иногда оспорить и даже что-то убрать. На этом поле, где коровы мирно щиплют траву перед голубым палисадом, Иван Грозный разбил лагерь в середине XVI века, а артиллерия Троцкого заняла позиции в те дни 1918 года, когда Казань попала в руки чехословацкого корпуса. Лариса Рейснер, молодая коммунистка, боец и разведчица, подруга Раскольникова, политического комиссара волжской флотилии, докладывала о событиях в Свияжске: «С Троцким это была священная патетика войны. Слова и жесты, напоминающие лучшие страницы Великой французской революции». Казань взята, это начало поражения Белой армии. Мы еще встретимся с ней в ее бегстве на восток, оставляющей трупы на берегах Байкала. Порыв ветра стирает все эти картины и возвращает нас к запаху сена, к вечно юному солнцу, маленьким домикам, ко всему этому голубому, русскому, восхитительному, как на кладбищенских могилах, так и на стенах монастырей. В письме Флоберу Тургенев говорит об этом, описывая свою усадьбу в Орле. Вдали купола; тишина, покой. Крестьянка похлопывает корову по крупу, встречный пьяница проходит мимо нас не глядя, возможно, это блаженный. Повсюду запах сена и воды. В самом конце острова разочарование — он соединяется дорогой с берегом. Там стоит маленькое кафе, где мы заказываем пиво вместе с радостной компанией, среди которой поп, уже изрядно захмелевший, который ест шашлык. Меланхолический свет опускается на остров, и мы возвращаемся на корабль. За время нашей прогулки уже приготовлены настоящие праздничные столы, рыба, водка и небольшая группа музыкантов и танцоров, которые готовятся к выступлению. Мощное и сильное течение. После плотин Волга менее опасная и намного более широкая, чем во времена Александра Дюма. Музыка нас захватывает, и мы вскоре забываем, что это обычная составляющая сегодняшней туристической прогулки. Ритм, прекрасные голоса, наступающая ночь, эта глубокая вода, меняющая цвет от серого до голубого, а то вдруг бутылочно-зеленого… Шаманский ритуал танца захватывает. Я прекрасно понимаю, что не могу оценить их аутентичность и правдивость, но их лица и тела, особенно мужские, излучают такую энергию! Позже, переодевшись в современную одежду, некоторые из них продолжают играть и петь. Ощущение необъятности происходящего все больше захватывает. Никогда я не испытывала его до такой степени, разве только в местах, насыщенных глубокой или трагической историей, таких как площадь Святого Петра или Красная площадь. И нигде больше. Необъятность, бескрайность, как неистощимый источник. Всем русским это знакомо, Горький пишет об этом в своих ранних рассказах «Фома Гордеев». Во второй главе книги Фома, еще маленький мальчик, сопровождает отца, богатого купца, на Волгу. Она производит на него неизгладимое таинственное впечатление: «На всем окружающем лежит печать медлительности; все — и природа, и люди — живут тяжело, лениво, но за всем этим чувствуется огромная невидимая сила, которая еще не пробудилась»… Позже я нашла цитату Марселя Конша, описывающего философскую мудрость древних греков, которая начинается по Анаксимандру, «глубина из которой все выходит и куда возвращается все, что проявляется на свету в свое время». Сегодня мне достаточно перечитать эту фразу, чтобы вновь ощутить это мощное движение корабля, который мчится по реке, и она тоже мчится. Я буду ощущать нечто подобное в вагоне поезда, когда в Сибири мы будем мчаться вдоль рек или по тайге, в то время как перед нами будут раскрываться бескрайние просторы… А затем, как пишется в книгах, мы немного опьянели, наступила ночь, и только река отражала электрические огни. Все оживляется и делает нас счастливыми: песни, танцы, стихи, анекдоты, смех.
Понедельник, 31 мая: Казань, продолжение
Я долго спала. Проснулась с ощущением свежести и радости, вспоминаются картины корабля, реки, ночи на воде, надолго запомнившиеся приятные эмоции путешествия. Я долго принимаю душ и мою волосы. Когда я спускаюсь завтракать, Н., N. и I. уже там. Затем приходят наши русские друзья. Яйца, блины с лососем, пирожное, варенье. У меня мало времени. Очень хорошая погода, даже жарко. Я выхожу на пешеходные улицы, сразу растерявшись от звуков, царствующих здесь. С другой стороны улицы ГУМ, ставший сегодня большим магазином. Нескончаемый шум, каждый бутик торгует в полную силу, все двери открыты. Это буйство все подавляет, у меня даже нет сил разглядывать фасады, хотя есть красивые дома 1920-х — 1930-х годов. Все национальное своеобразие стирается в мировом глобализационном декоре. Все теряется в рекламах различных марок видеоигр и одежды. Ну а как же я думала? Чего же я ожидала? Я это хорошо знаю, это теперешний мир, нравится мне это или нет. Большей частью я его принимаю, но ценой постоянной работы мысли, оживляя прошлое, воскрешая образы древности, которые поднимаются за всем, что я вижу, подвижные и ускользающие. Но здесь мне не хватает исторических знаний. Я бы хотела иметь больше образов древней Казани, мне ужасно не хватает фотографий старой России. Накануне кто-то мне говорил о книге Сергея Прокудина-Горского, об итоге исследования, проделанного по распоряжению Николая II по всей России. По возвращении я ее нашла. Ее название по-английски звучит «The empire that was Russia». Найти ее было почти невозможно, и вот на сайте библиотеки конгресса в Вашингтоне я обнаруживаю цветную фотографию казанского собора Успения Богородицы в изначальных красках, розовых, золотых, пастельных. Это как раз то, что мне нужно… но, увы, поздно. Я углубляюсь в город, чтобы найти небольшой бюст Гумилева, который мне показали вчера, когда мы проезжали мимо. Когда я к нему подхожу, то обнаруживаю, однако, что это посвящено не тому Гумилеву, поэту, мужу Ахматовой, расстрелянному в 1921 году, а их сыну. История этого памятника тоже очень интересна. На этом месте планировалось установить двухметровый памятник Петру Великому, но это было плохо воспринято татарами, для которых это царь-уничтожитель. Двумя столетиями позже Ивана Грозного Петр Великий, следуя политике колонизации, обложил татар бесчисленными налогами и податями. Екатерина Великая будет делать так же, но разрешила проездом построить несколько мечетей. В конце концов, вместо Петра Великого бюст Льва Гумилева, установленный на колонне. Бюст более чем скромного размера в центре небольшой площади неправильной геометрической формы. Современная городская сценография России довольно удивительна. Искусственные деревья, мраморные шары, бронзовые персонажи на пешеходных улицах… Да, этот бюст человека средних лет совсем не то, что я ожидала увидеть, бюст человека, расстрелянного в тридцатипятилетнем возрасте. Но моя ошибка, это и удача для меня. Она заставляет меня идти туда, где я бродила наощупь с самого начала: размышления о своеобразной природе отношения русского населения к другим народам. Историк и этнограф, сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой представлен в Казани как националист и большой защитник татарского народа. Таким он и был. (На пьедестале его памятника можно прочесть такие слова: «Я, русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы…») Но впоследствии это явится антитезой западничеству, проповедуемому Сахаровым: его явный «атлантизм» привел Сахарова в конце концов к поддержке сепаратистских инициатив, губительных для СССР. Гумилев же, напротив, выработал историческую теорию, названную этногенезом, защищающую идею, что спасение России состоит в «евразизме», и поэтому ее союз с неславянскими народами естественен. И что ее укоренение в Евразии должно ей подсказывать пути укрепления мощи. Европейская Россия? С точки зрения Гумилева сначала евроазиатская.
Позднее утро, встреча со студентами. Быстро провернули, так как после обеда нужно спешить на новое рандеву, на этот раз с министром культуры Татарстана. Сидя за длинным столом, украшенным цветами, я почувствовала себя вернувшейся далеко назад, на одну из тех ужасно формальных советских встреч, или сразу в постсоветскую эпоху. Например, в Москве большие чиновники в костюмах принимали меня в кабинете тридцатых годов издательства журнала «Дружба народов». Со времен Александра Дюма мало кто из французских писателей приезжали в Казань, сказал министр.
Это утверждение тотчас погрузило меня в воспоминания о моем предыдущем путешествии в Нижний Новгород. Приглашенная на ужин с директрисой московского Центра французской культуры, я пыталась припомнить путешествия в Россию нескольких французских писателей: Дюма, Теофиля Готье — в ответ на многочисленные тосты, которые произносил мэр, становясь все более красным, и который явно насмехался над моими литературными аллюзиями… Конечно же, я тоже выпила достаточно водки, забыв, что дамы не обязаны пить залпом до дна и пользуются очень, на мой взгляд, дискриминирующей привилегией отпивать только маленький глоток. Придя на интервью в телевизионную студию, нужно сказать, плохо освещенную, я сильно вывихнула ногу. На следующий день моя щиколотка распухла, и меня доставили в больницу. Приемный покой был полон, мужчина держал на коленях ребенка, который «упал в костер». Его голова раздулась в два раза, тело было обернуто промасленным бельем. Он даже не двигался. Врач принял меня тотчас же. К моему великому стыду, меня пропустили раньше всех: он перевязал мне ногу бинтом, который совсем не держался, а затем сказал что-то медсестре, и мне принесли деревянный костыль.
По возвращении в Москву со мной произошла сцена из романа (русского): увидев меня, нагруженную чемоданами на бесконечном перроне, носильщик окликнул меня, указав на багажную тележку. У него был вид, как в романах Толстого, штаны, заправленные в сапоги, и пальто, подвязанное веревкой. Русское сочувствие, все уступали нам дорогу. Более того, несколько дней спустя, когда я как раз посещала дом Толстого, за мной из комнаты в комнату ходила участливая смотрительница, которая носила с собой стул и предлагала мне его при каждой моей остановке.
…А тем временем речь продолжалась, и встреча понемногу продвигалась. Несмотря на кофе, все дремали, это подтверждают фотографии, на которых видны задумчивые лица между букетами цветов.
Европейская Россия? С точки зрения Гумилева сначала евроазиатская.
Позднее утро, встреча со студентами. Быстро провернули, так как после обеда нужно спешить на новое рандеву, на этот раз с министром культуры Татарстана. Сидя за длинным столом, украшенным цветами, я почувствовала себя вернувшейся далеко назад, на одну из тех ужасно формальных советских встреч, или сразу в постсоветскую эпоху. Например, в Москве большие чиновники в костюмах принимали меня в кабинете тридцатых годов издательства журнала «Дружба народов». Со времен Александра Дюма мало кто из французских писателей приезжали в Казань, сказал министр.
Это утверждение тотчас погрузило меня в воспоминания о моем предыдущем путешествии в Нижний Новгород. Приглашенная на ужин с директрисой московского Центра французской культуры, я пыталась припомнить путешествия в Россию нескольких французских писателей: Дюма, Теофиля Готье — в ответ на многочисленные тосты, которые произносил мэр, становясь все более красным, и который явно насмехался над моими литературными аллюзиями… Конечно же, я тоже выпила достаточно водки, забыв, что дамы не обязаны пить залпом до дна и пользуются очень, на мой взгляд, дискриминирующей привилегией отпивать только маленький глоток. Придя на интервью в телевизионную студию, нужно сказать, плохо освещенную, я сильно вывихнула ногу. На следующий день моя щиколотка распухла, и меня доставили в больницу. Приемный покой был полон, мужчина держал на коленях ребенка, который «упал в костер». Его голова раздулась в два раза, тело было обернуто промасленным бельем. Он даже не двигался. Врач принял меня тотчас же. К моему великому стыду, меня пропустили раньше всех: он перевязал мне ногу бинтом, который совсем не держался, а затем сказал что-то медсестре, и мне принесли деревянный костыль.
По возвращении в Москву со мной произошла сцена из романа (русского): увидев меня, нагруженную чемоданами на бесконечном перроне, носильщик окликнул меня, указав на багажную тележку. У него был вид, как в романах Толстого, штаны, заправленные в сапоги, и пальто, подвязанное веревкой. Русское сочувствие, все уступали нам дорогу. Более того, несколько дней спустя, когда я как раз посещала дом Толстого, за мной из комнаты в комнату ходила участливая смотрительница, которая носила с собой стул и предлагала мне его при каждой моей остановке.
…А тем временем речь продолжалась, и встреча понемногу продвигалась. Несмотря на кофе, все дремали, это подтверждают фотографии, на которых видны задумчивые лица между букетами цветов.
17 часов. Книжный магазин «Новый книжный», красивое пространство, заполненное слушателями под стеклянным куполом. Мы рассаживаемся, и артисты начинают читать наши тексты на русском и французском языках. Прямо передо мной переполненная полка «Бизнес», что меня несколько остудило. В России у литературы такое же деградирующее состояние, как и у нас? И книжные магазины выживают только за счет литературы по экономике и менеджменту? Есть еще вопросы, но я не осмеливаюсь их задать, на нас смотрят с таким любопытством и доброжелательностью! Я вежливо выслушиваю вопрос о моих любимых русских авторах, но с чего-то вдруг начинаю цитировать пророка Аввакума! Может, это агрессивная реакция на английское слово перед моими глазами… Переводчица, молодая женщина, в замешательстве. Все обратила в шутку; я отказываюсь объясниться. Что сказать по этому поводу? С этим словом перед глазами и с городом за окном, «перестилизованным» новыми преобразователями России? Не он ли был последним автором Древней Руси, писавшим на старославянском? Не он ли вместе с боярыней Морозовой был последней опорой и примером для староверов где бы то ни было? Не он ли это, сопротивляясь реформам, не уступил ни анафеме, ни заключению в ледяной яме? Не он ли умер, сожженный заживо? Я ухожу с подаренной мне брошюрой о юности Толстого в Казани (на русском языке). На всех фотографиях улиц, домов, людей — такое впечатление — ты словно в европейском XIX веке, даже во французском (женские платья, мужские рединготы). Только порт на Волге напоминает, что это тогдашняя Россия, но татар нигде не видно… Мемуары Толстого более точно рассказывают о причине его пребывания в Казани; он хотел тогда записаться на факультет восточных языков, но для вступительного экзамена нужно было владеть понятиями арабского и тюркско-татарского языков, которые в то время преподавали в первом лицее Казани. (Я узнала это не из подаренной брошюры, а от его первого биографа Павла Бирюкова, из его опубликованной в 1906 году книги, то есть еще при жизни Толстого. Там же можно прочесть, что, изучая параллельно право, он активно выступал за отмену смертной казни.)
 Цитируя все это, я исполняю шестью месяцами позже то смутное желание, которое я испытывала, отправляясь на ужин за несколько часов до поезда, разглядывая вокруг здания, предметы, людей, всю эту Россию, которая мне представлялась как набухающие почки на концах веток. Я себе твердила: нужно всегда откладывать про запас даже то, что ты еще не понимаешь.
Цитируя все это, я исполняю шестью месяцами позже то смутное желание, которое я испытывала, отправляясь на ужин за несколько часов до поезда, разглядывая вокруг здания, предметы, людей, всю эту Россию, которая мне представлялась как набухающие почки на концах веток. Я себе твердила: нужно всегда откладывать про запас даже то, что ты еще не понимаешь.
Казанский вокзал, который мы покидаем. И вот еще на перроне много любопытного для нашей группы. Я фотографирую поезд, который также едет в Сибирь, «Москва — Иркутск». Название «Иркутск» кажется мне легендарным! Когда Андрей, студент из Нижнего Новгорода сказал мне, что там родился, я в своем представлении расположила город намного севернее. Может, из-за созвучия с названиями «якуты», «Якутия». За окном поезда ребенок показывает мне знак победы. Я его фотографирую. Его мама медленно машет рукой. Другая женщина улыбается мне, показывая свои золотые зубы.
Ночь с 31 мая на 1 июня В поезде
Мы садимся в поезд достаточно рано, и у нас перед сном есть время, чтобы ходить из купе в купе и обмениваться мнениями о нашем пребывании. Везде тебе наливают немного водки в большой наскоро сполоснутый стакан для чая. Затем мы затихаем, утомленные за день, полностью отдавшись мерному раскачиванию под стук вагонных колес. G. G. снова жалуется на монументальный размер своего чемодана. Я присоединяюсь к группе курильщиков в заднем тамбуре последнего вагона, откуда открывается широкий вид на пути. Скорость невелика, и мы, пятясь, приближаемся к востоку, солнце садится как раз напротив нас. Город вскоре заканчивается, и мы едем по широким просторам, покрытым сочной зеленой травой. Несколько деревень появляется в глубине густых однообразных лесов. Бедные с виду домики, почти убогие. Крыши покрывает толь, прижатая длинными рейками. В целом все, несмотря на роскошную листву деревьев, производит унылое впечатление — и это весной. А зимой? Когда все покрыто снегом и в четыре часа уже темно, а ближайшая деревня находится в нескольких десятках километров? И это еще ничего, мы даже не переехали Урал: в Сибири плотность населения едва достигает два человека на квадратный километр. Вокруг Екатеринбурга, наш следующий этап, она составляет 22 человека на квадратный километр, и то все население сконцентрировано в редких крупных городах. Какая жизнь может быть в этих деревнях, на какие средства? Какие развлечения? Верно ли то, что я читала о российской деревне, которая пустеет, и что в некоторых деревнях остались только старики и старушки? Одинокие и озлобленные старушки, которые видят, как по очереди умирают их соседи, заколачиваются дома, и сады с каждым днем зарастают травой. У них только нищенская пенсия, на которую зарятся остальные члены семьи, сын-пьяница или брошенная дочь с тремя детьми. Это в фильме девяностых годов «В этой стране» показана бабушка, которая запасалась поленом накануне получения пенсии: сын может опять заявиться, так что не лишней будет предосторожность. Внезапно в ярком свете посреди зеленого поля возникает маленькая деревянная церквушка, покрашенная голубой краской, и вносит в окружающую картину желанную радость. Возвращаясь в свое купе, я еще вижу на повороте нескончаемую дугу вагонов, окна которых отражают последний луч заходящего солнца. Я устраиваюсь в купе, прислонившись спиной к свернутой в рулон перине, отправляю несколько CMC-сообщений в Париж, пишу свой дневник. Ну чем не счастье? Абсолютное счастье. Спать еще слишком рано. Поезд мягко покачивается на рельсах. С каждым днем расстояние удваивается, сначала 400, потом 700, потом 1600 километров от Москвы до Екатеринбурга, и тем не менее мы не слишком продвинулись. Когда утром я выхожу в коридор, чтобы оценить по карте темпы нашего продвижения, я не могу даже представить себе расстояние, которое нас еще отделяет от Владивостока. Истощенный, но счастливый Чехов по пути на Сахалин писал: «Я двигаюсь, двигаюсь и все не вижу конца». Но меня, путешествующую в совсем других условиях, это только радует. Ох! Если бы это продолжалось вечно! Вторник, 1 июня, 8 часов утра. На самом деле по екатеринбургскому времени уже 10 часов. Просыпаясь ночью, я все время себя спрашивала, переехали ли мы уже Урал, и с этим нерешенным вопросом, счастливая, опять засыпала. Завтракая с D. F. и отодвинув в сторону шпроты в масле, я пила йогурт в больших количествах… …Резкий белый свет. Огромная равнина, где степь чередуется с лесом. Ни горы, ни холма. Да, конечно, мы уже переехали за Урал, сами того не заметив. Я говорю себе: «Мы выехали из Европы» — и это удесятеряет радость. Также в прошедшие годы, когда я видела на мониторе бурую линию этих гор, я говорила: «Мы покидаем Европу», или «Вот мы опять в Европе», или иногда «С возвращением домой». И я буду преисполнена удивлением, открыв поразительный парадокс, что Екатеринбург гораздо менее «восточен», чем Казань. Своего рода заграничный отросток Европы… Для меня сегодня это не единственный парадокс. Но этим ранним июньским утром 2010 года мои прежние убеждения еще прочно укоренились, и ничто пока не может их поколебать. И если я во время путешествия постепенно стала понимать, что ни на мгновение в России, даже в Сибири, я не покидала пространства европейской цивилизации, то как раз благодаря этим коротким впечатлениям и замечаниям, которые становились все более настойчивыми. Однако Урал есть Урал. По возвращении во Францию эта расплывчатая географическая граница предстала тем, чем она есть на самом деле: картографической и географической выдумкой Петра Великого и Василия Татищева, которому тот в 1723 году поручил определить границы европейского континента. Линия уральских вершин довершила дело. Да, в этой части континента есть горы, но не Гималаи: они не превышают 2000 метров, есть также река с таким же названием; но только их указом там была проведена граница Европы. Указ, царская воля. Все в России, даже география, подчинено истории. Это Петр Великий считал, что Россия только частично принадлежит Европе. Вступить в Европу для него значило оторвать Россию от Азии, символа отсталости и застоя, заставить ее даже силой принять участие в движении мысли, научной революции, техническом прогрессе, во всем, что определяло Европу XVIII столетия. Поскольку Европа — это скорее идея, чем пространство. В конечном счете довольно долгое время, говоря «Европа», подразумевали «цивилизация». Так, в романе Чехова один помещик на почтовой станции, увидев, что лошадей нет, а кучера пьяны, вздохнул: «Нет, это не Европа». Именно вокруг этого и завертится, в конце концов, спор между оксиденталистами и славянофилами; спор двух исторических концепций развития страны, столкновение между моделью заграничной и национальной. …Но сейчас, в этот момент моего путешествия, настоящее Екатеринбурга и, особенно, его прошлое (это здесь нашли смерть царь и его семья) занимают меня гораздо больше.Вторник, 1 июня: Прибытие в Екатеринбург
14 часов, прибытие на вокзал Екатеринбурга. Прибытие волнующее, если подумать о той символической нагрузке, которую несет этот город, называемый в советскую эпоху (вплоть до 1991 года) Свердловском в честь большевика, соратника Ленина, по приказу которого и был, возможно, казнен Николай II. Насчитывающий 1 200 000 жителей, он расположен в самом сердце промышленного Урала. В течение нескольких столетий его название символизировало экономическое развитие России. Вихрь музыки и радости захватил нас, как только наша группа появилась на ступеньках двух зарезервированных для нас вагонов, мешая хоть на мгновение взглянуть на здания вокзала, совершенно не такие, как в Казани, архаичные и «восточные», из темно-красного кирпича. Здесь вы как будто в Северной Европе, везде пастельные тона со времен Петра I, так же как в Швеции или Финляндии: мягкий зеленый цвет, белые колонны, цоколи цвета бледной охры. На фронтоне доказательство того, что Татищев и Петр Великий живы по сей день, под надписью «Вокзал» на междуэтажном карнизе по обе стороны от названия города два слова: «Европа» справа и «Азия» слева. В тот момент, когда к нам подошел генеральный консул, к общему удивлению, по знаку своего могучего начальника военные фанфары без малейшей паузы после гимна грянули нечто вроде бравого джаза, после чего перешли к бурному сиртаки… Казалось, это проделки оркестра британских военно-морских сил. 14 часов. Прибытие в гостиницу «Онегин» (Пушкин и Чайковский всегда рядом). Но это единственное напоминание о прошлом. Здание недавно реставрировано, и в нем есть что-то излишнее и вычурное, современность безо всякого стиля, нагромождение бетонных плит. Последний этаж, разрезанный широкими балконами, представляет собой стеклянный зал, залитый ярким слепящим светом. Своего рода верхняя палуба или командно-диспетчерский пункт круизного лайнера… С террасы, на которой мы обедаем, открывается вид на бетонные башни, бетонные пространства. Это лес из построенных или строящихся зданий, совершенно некрасивых, вероятно пустующих или сдаваемых внаем, — огромный номер телефона закрывает весь верхний этаж. Я опасаюсь, что это предвосхищает тот архитектурный стиль, который будет преобладать в завтрашней России, как и те же ужасные небоскребы Пекина, увенчанные пагодой, приподнятой крышей, установленной на 130-м этаже. Шанхай сделал то же самое и даже хуже на окраинах. Только небоскребы, расположенные в центре, отличаются оригинальностью и дерзостью.
В России я такого не видела. Даже в Москве. Но я, правда, не все видела. Это говорит о том, что город, который осмелился поставить на своих набережныхпамятник Петру Великому руки Церетели, не может подавать пример хорошего современного архитектурного вкуса муниципальных чиновников.
Я стараюсь придерживаться почти военной дисциплины, отдыхать при первой же возможности ввиду насыщенного ритма наших дней. Итак, я иду в свою комнату, чтобы поспать хотя бы несколько минут, после чего просыпаюсь совершенно отдохнувшей. Как только я раздвигаю шторы своей комнаты, я вижу купола. Вероятно, это церковь святой Троицы, которую, как говорит гид, начал строить богатый купец-старовер Иоахим Рязанов в 1818 году, а закончил в 1839-м. В 1852 году она была освящена как православная церковь после объединения староверов с официальной конфессией. В 1920 году была разрушена и отстроена вновь в 1999 году. Целая грань всей русской истории.
В тот момент (в 16 часов 30 минут), когда начинается первый коллективный визит в город, я предпочитаю от него отказаться, чтобы прогуляться в одиночестве и подняться к «литературному кварталу». Мне казалось, что это совсем рядом, что туда можно быстро дойти, следуя берегом канала. Е. К. решает меня сопровождать с фотоаппаратом. Однако я плохо рассчитала масштабы города, улица тянулась бесконечно долго, было жарко и не видно ни одного такси. К счастью, рядом останавливается внедорожник, в нем две смеющиеся женщины, которые отвозят нас к Храму на Крови в память о Николае II: они, конечно, уверены, что иностранные туристы приезжают в Екатеринбург только за этим. Я их благодарю на ломаном русском.
У церкви небольшая толпа, стенды с иконками и крестами, а на эспланаде огромные портреты императора и его семьи… Мы опоздали, и я об этом очень сожалею: визит в «литературный квартал» окончен. Я не увижу деревянных домов XIX века, где жили писатели, которых я не читала, где жили Мамин-Сибиряк (он был другом Чехова, на фотографиях они вместе) или Решетников. Пора возвращаться к группе в камерный театр… Погода по-прежнему прекрасная. У входа меня атакует поэт, дает мне сборник своих стихов, потом показывает мне возвышающиеся повсюду здания. Он видит, что я почти ничего не понимаю, и пытается говорить по-немецки: только «небольшой прослойке» населения живется в России хорошо.
На программке, которую мне дают у входа, только актерские фотографии в медальонах ар-деко. Все они в сценических костюмах, элегантной одежде XIX — начала XX веков. У всех женщин голова наклонена вправо или влево, что надо было бы им не делать. Мужчины держатся достаточно хорошо, но шляпы придают им вид старых художников-мазил. Сначала мы с не очень большим интересом смотрим фильм о Сандраре, а затем нам читают наши тексты на французском и русском языках. Я только что узнала, что сегодня умер Вознесенский, и я предлагаю нашим друзьям-актерам сымпровизировать в его честь чтение по-русски и по-французски. Публика, казалось, была тронута. Потому что Вознесенский, по словам Виктора Ерофеева, человек, который «заставил русское слово выйти из советской тюрьмы»? Или потому, что мы участвуем в том, что их трогает или просто им принадлежит?
…Ужин в камерном театре довольно посредственный, что компенсируется ярким освещением зала и концертом балалаечников. Небольшой недостаток — только квас. После наших протестов к концу ужина нам подали вино, которое, впрочем, невозможно было пить. D. F. и F. F. правильно сделали, что пошли в оперу. Весь этот день, я это предчувствую, был посвящен только развлечениям: и только завтра откроется великая сцена, сцена невероятной судьбы города Екатеринбурга.
14 часов. Прибытие в гостиницу «Онегин» (Пушкин и Чайковский всегда рядом). Но это единственное напоминание о прошлом. Здание недавно реставрировано, и в нем есть что-то излишнее и вычурное, современность безо всякого стиля, нагромождение бетонных плит. Последний этаж, разрезанный широкими балконами, представляет собой стеклянный зал, залитый ярким слепящим светом. Своего рода верхняя палуба или командно-диспетчерский пункт круизного лайнера… С террасы, на которой мы обедаем, открывается вид на бетонные башни, бетонные пространства. Это лес из построенных или строящихся зданий, совершенно некрасивых, вероятно пустующих или сдаваемых внаем, — огромный номер телефона закрывает весь верхний этаж. Я опасаюсь, что это предвосхищает тот архитектурный стиль, который будет преобладать в завтрашней России, как и те же ужасные небоскребы Пекина, увенчанные пагодой, приподнятой крышей, установленной на 130-м этаже. Шанхай сделал то же самое и даже хуже на окраинах. Только небоскребы, расположенные в центре, отличаются оригинальностью и дерзостью.
В России я такого не видела. Даже в Москве. Но я, правда, не все видела. Это говорит о том, что город, который осмелился поставить на своих набережныхпамятник Петру Великому руки Церетели, не может подавать пример хорошего современного архитектурного вкуса муниципальных чиновников.
Я стараюсь придерживаться почти военной дисциплины, отдыхать при первой же возможности ввиду насыщенного ритма наших дней. Итак, я иду в свою комнату, чтобы поспать хотя бы несколько минут, после чего просыпаюсь совершенно отдохнувшей. Как только я раздвигаю шторы своей комнаты, я вижу купола. Вероятно, это церковь святой Троицы, которую, как говорит гид, начал строить богатый купец-старовер Иоахим Рязанов в 1818 году, а закончил в 1839-м. В 1852 году она была освящена как православная церковь после объединения староверов с официальной конфессией. В 1920 году была разрушена и отстроена вновь в 1999 году. Целая грань всей русской истории.
В тот момент (в 16 часов 30 минут), когда начинается первый коллективный визит в город, я предпочитаю от него отказаться, чтобы прогуляться в одиночестве и подняться к «литературному кварталу». Мне казалось, что это совсем рядом, что туда можно быстро дойти, следуя берегом канала. Е. К. решает меня сопровождать с фотоаппаратом. Однако я плохо рассчитала масштабы города, улица тянулась бесконечно долго, было жарко и не видно ни одного такси. К счастью, рядом останавливается внедорожник, в нем две смеющиеся женщины, которые отвозят нас к Храму на Крови в память о Николае II: они, конечно, уверены, что иностранные туристы приезжают в Екатеринбург только за этим. Я их благодарю на ломаном русском.
У церкви небольшая толпа, стенды с иконками и крестами, а на эспланаде огромные портреты императора и его семьи… Мы опоздали, и я об этом очень сожалею: визит в «литературный квартал» окончен. Я не увижу деревянных домов XIX века, где жили писатели, которых я не читала, где жили Мамин-Сибиряк (он был другом Чехова, на фотографиях они вместе) или Решетников. Пора возвращаться к группе в камерный театр… Погода по-прежнему прекрасная. У входа меня атакует поэт, дает мне сборник своих стихов, потом показывает мне возвышающиеся повсюду здания. Он видит, что я почти ничего не понимаю, и пытается говорить по-немецки: только «небольшой прослойке» населения живется в России хорошо.
На программке, которую мне дают у входа, только актерские фотографии в медальонах ар-деко. Все они в сценических костюмах, элегантной одежде XIX — начала XX веков. У всех женщин голова наклонена вправо или влево, что надо было бы им не делать. Мужчины держатся достаточно хорошо, но шляпы придают им вид старых художников-мазил. Сначала мы с не очень большим интересом смотрим фильм о Сандраре, а затем нам читают наши тексты на французском и русском языках. Я только что узнала, что сегодня умер Вознесенский, и я предлагаю нашим друзьям-актерам сымпровизировать в его честь чтение по-русски и по-французски. Публика, казалось, была тронута. Потому что Вознесенский, по словам Виктора Ерофеева, человек, который «заставил русское слово выйти из советской тюрьмы»? Или потому, что мы участвуем в том, что их трогает или просто им принадлежит?
…Ужин в камерном театре довольно посредственный, что компенсируется ярким освещением зала и концертом балалаечников. Небольшой недостаток — только квас. После наших протестов к концу ужина нам подали вино, которое, впрочем, невозможно было пить. D. F. и F. F. правильно сделали, что пошли в оперу. Весь этот день, я это предчувствую, был посвящен только развлечениям: и только завтра откроется великая сцена, сцена невероятной судьбы города Екатеринбурга.
Среда, 2 июня: Второй день в Екатеринбурге
Спала хорошо, но мало. Проснулась в неважном настроении. Так бывает в несимпатичных гостиницах с неотесанным персоналом. Несколько членов группы завтракают в ярко освещенной столовой, напоминающей холл аэропорта. Все мне кажется каким-то пошлым, и только горький растворимый кофе, дополнительно поданный к завтраку, кажется настоящим, чуть лучше всего остального! Но эта усталость от недосыпания быстро рассеялась от нетерпеливого желания увидеть наконец город. По мере того как росло мое нетерпение, все больше вопросов роится в голове. Действительно ли он был основан Василием Татищевым, географом Петра Великого, исследователем Урала? Каково происхождение его названия, не в честь ли императрицы Екатерины, которая два года царствовала под именем Екатерины I? Действительно ли он находится на границе Европы и Азии? Является ли он сам гранью между прошлым и настоящим России? Или это просто символ промышленного развития Урала, гражданской войны и столкновения Красной армии с белогвардейцами? Или это место, предназначенное судьбой, где должна была состояться казнь последних Романовых? Правда ли, что Екатеринбург это столица утопии, русского конструктивизма? какая между всем этим связь? Да и вообще успеем ли мы все увидеть и все понять? Откуда только у меня столько раздражения, когда в 9 часов 30 минут уже собрались наши гиды, историки, преподаватели французского, а двух-трех моих коллег еще нет в назначенное время. Видимо, хорошо погуляли красивой весенней русской ночью… Время идет, а их все нет. Меня охватывает неловкость перед русскими, которые полностью несут за нас расходы и показывают чудеса гостеприимства и организации. Я говорю им об этом, и по их тайной просьбе разражаюсь по прибытии опоздавших суровым призывом к порядку, за что заслуживаю признательность организаторов… К счастью, такое больше не повторится. Мне бы не хотелось слишком часто играть роль «железной леди», как называли в свое время Маргарет Тэтчер. Наконец мы отъезжаем, и этот необыкновенный узел событий, обстоятельств, совпадений, случайностей будет завязываться и развязываться перед нами… Благодаря нашим гидам, их компетенции, их знаниям, их настроению, их чувству юмора визит в Екатеринбург оставит, пожалуй, самые сильные впечатления от поездки. Вся история города необыкновенна. Мы ее схватывали моментально, не успев даже установить и осознать связи между событиями, от самого его основания до появления в 1977 году Бориса Ельцина (во главе партийной организации Свердловской области), который прикажет снести дом Ипатьевых, где была истреблена в июле 1918 года царская семья! Чтобы это место не стало местом культа и поклонения, кто знает, чем оно могло бы стать… Но сейчас я, конечно, ничего этого еще не знаю. Я нахожусь в состоянии необычайного внутреннего возбуждения, постоянного запутанного ощущения, что я частично уже не в себе оттого, что здесь произошли такие великие, вероятно, чудовищные, но и такие решающие события. Становится ясно, что наши гиды не включили ни в начало, ни в середину программы нашего визита место гибели царя и его семьи. И тем не менее так же очевидно, что для всех казнь царя — событие исключительной важности, исторический момент поворота всей русской истории. И когда через несколько месяцев после поездки все это отстоялось, очистилось и прояснилось, я уже не колебалась: все, включая и то, что я впоследствии прочитала к своим заметкам, которые я делала, слушая наших гидов, вся история Екатеринбурга с момента основания города — это путь, который неизбежно вел к смерти царя. Это могло произойти только здесь и больше нигде, таково мое убеждение. Действительно, в 1918 году это было как осадок химической реакции двух необычайно активных веществ: наличие целой корпорации традиционно враждебных царю богатых купцов-староверов и мощный большевистский слой, рожденный в многочисленной гуще рабочего класса… Их объективные цели совпали. Большевики и староверы, такие далекие друг от друга в русской истории, именно в Екатеринбурге соединятся для наиболее решительного и символического действия — смерти царя. Купцы-староверы сохранили старинный бунтарский дух против центральной власти: это в соседнем районе Перелюба во времена Екатерины Великой начался Пугачевский бунт, здесь же произойдут крестьянские восстания против советской власти в 1918 и 1919 годах. Это соединение не оставит царю ни одного шанса. Но начнем по порядку. С индустриализации Урала вскоре после победы Ивана над Казанским ханством. Начали разрабатываться огромные месторождения соли и олова, строиться литейные заводы. В 1558 году Иван дарует семье Строгановых разработки восточных склонов Урала при условии, что те обеспечат защиту региона от набегов татар, укрепившихся к востоку от Урала. Это как раз тогда и происходит шумная история с покорением Сибирского ханства. Но настоящее начало индустриализации происходит только при Петре I. «Уничтожение между 1581 и 1598 годами скромного Сибирского ханства было, разумеется, только начальным этапом покорения Московией, а затем Российской империей, созданной Петром I в начале XVIII века, Сибири в нынешнем понимании этого слова, то есть огромных территорий от Урала до Тихого океана», — пишет Ярослав Лебединский в «Казаках военного сословия». Современный и промышленный Урал стал, таким образом, синонимом Европы. Акинфий Демидов строит там сталелитейные и оружейные заводы, шахты по добыче железа и меди не только на Урале, но и в Западной Сибири, добывает золото и серебро на Алтае, а также драгоценные и полудрагоценные камни. К концу своей жизни он становится самым богатым в России человеком после царя. (Во Франции его имя известно, так как его внук женился на принцессе Матильде, дочери младшего брата Наполеона Жерома.) От столетия к столетию промышленность развивается, и когда большевики приходят к власти, они пытаются там создать новую форму социализма: не общество справедливости и гуманизма, а более мощную и влиятельную страну. Урал вновь становится символом прогресса благодаря сочетанию революции и механизации… Тогда, в 1918 году, и состоялась эта «предметная» встреча купцов и промышленников-староверов… Вероятно, под влиянием книги Пескова «Таежные отшельники», где описывается история семьи староверов, обнаруженных в 1978 году геологической экспедицией после сорокалетней жизни в изгнании вдали от мира людей, меня охватило презрение и к природе раскола, и к тем, кто жил в этой схиме. С самого начала путешествия мои мысли были прикованы к этой семье. Я представляла, как, пересекая Сибирь, я буду продвигаться все ближе к тому месту, где проживает последняя выжившая, Агафья Карповна: я жадно искала на карте реку под названием Абакан и обнаружила ее в 300 километрах от Красноярска. Кто-то из группы, кого я поставила в известность, когда поезд там: проезжал, громко крикнул: «Агафья, Даниель приехала!» А в Красноярске меня угостили кедровыми орешками, ее главной пищей. Но я была бы неправа, считая староверов просто непокорными крестьянами, отшельниками, придерживающимися древних обрядов, проживающими архаически в сельской местности и враждебных ко всяким новшествам. Это как квакеры, которые презирали все открытые объекты, металл и даже выбрасывали стеклянные банки вместо того, чтобы наполнять их медом. Даже наши гиды дали нам понять, что раскол на Руси сыграл огромную роль в ее индустриализации. И в самом деле, в России, описанной Максом Вебером, их трезвость и строгость нравов полностью соответствуют духу капитализма. Петр Ковалевский в «Архивах социальных и религиозных наук» пишет: «В промышленном развитии есть причины, которые проистекают непосредственно из социальной структуры раскола. Он вобрал в себя с самого начала наиболее сильные и наиболее активные национальные элементы, которые, несмотря на консерватизм и недоверие ко всем новшествам, умеют к ним приспосабливаться, поскольку здесь речь не идет о вере». Эмигрировавшие в самом начале на Урал, они оказались на самом острие индустриализации начала коммунизма. Опять же, убийство в Екатеринбурге царя, который планировал огромные инвестиции на Урале во второй пятилетке (1933–1937 годы). Я цитирую статью Гюго Натовича (РИА Новости) «Рабочий Версаль и русский Чикаго». Именно в этом городе, запятнанном императорской кровью, власть решает в тридцатые годы создать «завод заводов» и строит здесь Уралмаш (сегодня уменьшившийся почти до призрачного состояния). Европейские и китайские рабочие были тогда привлечены к этому престижному проекту, «витрине социализма». Передовой отряд русской промышленности, квартал Уралмаша, это своего рода рабочий Версаль, говорит Г. Н., завод в стиле конструктивизма вместо дворца Людовика XIV. Классический план, улицы сходятся к статуе Серго Орджоникидзе, отвечавшему за тяжелую промышленность при Сталине. Два колоссальных мероприятия, начавшихся последовательно в 1928 и 1930 годах, наглядно покажут новую политику, названную впоследствии Сталинизмом: первый пятилетний план и создание ГУЛАГа. Целью пятилеток являлось ликвидировать огромную экономическую отсталость СССР. Индустриализация должна осуществляться форсированным маршем. НЭП (новая экономическая политика) отменена, и сельское хозяйство должно претерпеть глубокое реформирование: массовую коллективизацию. Чтобы позволить промышленности развиваться, Сталин обкладывает крестьян новыми налогами. Но колхозы, огромные государственные фермы, воспринимаются как новое рабство. Крестьян приравнивают к врагам революции, а значит, к врагам народа. Придумали даже целую категорию кулаков, богатых крестьян, которых депортировали и расстреливали тысячами. Добавьте к этому еще великий голод 1932–1933 годов. Сталин в этой ситуации не отступил, и крестьянство покорилось. Тяжелая промышленность и ГУЛАГ идут рука об руку: в тридцатые годы Екатеринбург становится важным перевалочным пунктом заключенных ГУЛАГа на пути в Сибирь и на Дальний Восток. Лагеря строятся по всему региону. И этот двойной процесс не останавливает даже Вторая мировая война. Наоборот, регион становится тыловым рубежом стратегического производства. Индустриализация, таким образом, еще усиливается. Процветает также и ГУЛАГ. С 1942 по 1956 годы, даже после смерти Сталина, военнопленные содержатся в лагерях Среднего Урала. …Солнце, короткая пешая прогулка, остановка перед памятником Серго Орджоникидзе на перекрестке трех улиц: Культуры, Орджоникидзе и Владимира Ильича. Его присутствие здесь необходимо, что подчеркивается широтой его жеста. Типичная судьба для той эпохи, вплоть до своего трагического завершения. Судьба человека, которому Сталин доверил ускорение индустриализации Урала. Грузин, как и Сталин, Григорий Константинович Орджоникидзе, называемый Серго Орджоникидзе, устанавливает советскую власть в Азербайджане, Армении и Грузии в 1920–1921 годах, с 1922 по 1926 годы является первым секретарем партии Закавказской Республики, в 1930-м становится членом политбюро, с 1932 года — министр тяжелой промышленности. Он покончил с собой в 1937 году как раз накануне пленума, который должен был его приговорить. По крайней мере, он не был казнен НКВД. Таинственная смерть: врач судмедэкспертизы Каминский, выписавший свидетельство о смерти в результате самоубийства, сам вскоре будет арестован и казнен.
В эти годы будут казнены более десяти тысяч специалистов. Очевидно, что фронт борьбы за индустриализацию был так же беспощаден, как и чистки в армии, ставшей их жертвой в то же время, которые ее значительно ослабили как раз накануне немецкого вторжения в 1941 году. Член узкого круга доверенных лиц Орджоникидзе был противником «ликвидации саботажников», считая ее контрпродуктивной.
Сегодня очень трудно понять, кроме ее ужаса, эту политику, ослабляющую Советский Союз вместо его укрепления.
Он покончил с собой в 1937 году как раз накануне пленума, который должен был его приговорить. По крайней мере, он не был казнен НКВД. Таинственная смерть: врач судмедэкспертизы Каминский, выписавший свидетельство о смерти в результате самоубийства, сам вскоре будет арестован и казнен.
В эти годы будут казнены более десяти тысяч специалистов. Очевидно, что фронт борьбы за индустриализацию был так же беспощаден, как и чистки в армии, ставшей их жертвой в то же время, которые ее значительно ослабили как раз накануне немецкого вторжения в 1941 году. Член узкого круга доверенных лиц Орджоникидзе был противником «ликвидации саботажников», считая ее контрпродуктивной.
Сегодня очень трудно понять, кроме ее ужаса, эту политику, ослабляющую Советский Союз вместо его укрепления.
Мы продолжаем наш визит. Тот журналист, который писал в недавней статье в «Либерасион»: «Кроме убийства царя и функциональной, но достаточно уродливой архитектуры, город не представляет никакого интереса», — видимо, мало интересуется историей коммунизма в России. Индустриализация и развитие Екатеринбурга в начале тридцатых годов предоставили городу возможность участия в уникальном широкомасштабном эксперименте: строительстве новых зданий — промышленных, административных, жилых — целыми кварталами по законам архитектуры конструктивизма. Это чистый продукт сочетания: революция — машинизм — модернизм. Это то, что как раз понял Арагон, написав «Ура, Урал!» после своей поездки в 1932 году. Пьер Юник, который в то же время порывает с движением сюрреализма и вступает в ряды Коммунистической партии, так определил эту книгу: «„Ура, Урал!“ — это гимн революционной борьбе и укреплению социализма». «Будущее на каждом шагу вытесняет настоящее, кажущееся воспоминанием». Да, эти стихи прекрасно подходят к «столице утопии», городу, который сегодня находится в состоянии упадка и медленного восстановления. Более 140 зданий были законсервированы, в том числе целый квартал, построенный между 1930 и 1934 годами. Что поразительно в архитектуре конструктивизма, так это то, в какой степени она сочетает этику и идеологию советизма: восхвалять способности человека побеждать природу и, стремясь к абсолютной новизне, старательными усилиями уничтожать следы истории — переименовывать всю страну и ее города. И архитекторы также вступили в эту игру: углы зданий застеклены с обеих сторон, что требует наличия скрытых несущих металлических балок. (Дело в том, что Сталин не оценил по достоинству этот стиль, характеризующийся отсутствием всякой декоративной помпезности, и заставил изменить фасад здания горсовета, добавив к нему ряд античных колонн.) Другой пример екатеринбургского вызова законам природы — водонапорная башня. Покоящаяся только на трех опорах, она в конце концов рухнула, приведя к многочисленным жертвам — утонувшим в результате происшествия и расстрелянным за саботаж. Ей приделали еще одну опору, но вскоре от нее отказались. Думая о «вынужденном самоубийстве» Орджоникидзе, мне кажется, что здесь даже смерть не может быть естественной. (Надежда Мандельштам развивает эту тему в своих «Мемуарах»: где те благословенные времена, когда можно было узнать, что кто-то «умер от болезни»!) Бывший Сталинский клуб в чистом конструктивистском стиле, но уже в довольно неприглядном виде, приютил сегодня клуб ветеранов и на первом этаже маленькую сапожную мастерскую под вывеской «Ремонт обуви».
 Но есть надежда, что его все-таки отреставрируют, поскольку он воплощает типичные черты конструктивизма: большие застекленные двери на углах фасада и внутренние планировка и устройство тридцатых годов с эмалированными фресками на лестницах, светлыми декорированными коридорами. Было что-то очень меланхолическое в звуках наших шагов по этим пустым и длинным коридорам. Просторный зал на этаже украшен портретами, оставшимися на своих местах еще с советских времен. Не хватает только портрета Сталина. Большая фреска на стене изображает ордена, в числе которых украшенный бриллиантами орден Победы, кавалерами которого являются от силы десяток человек. По лестнице с прилично истертыми ступеньками я возвращаюсь на улицу, чтобы еще раз осмотреть фасад здания. Над фронтоном старательно стертая надпись «Сталинский клуб» легко читается особенно после дождя.
Именно в Екатеринбурге наиболее отчетливо понимаешь, что формула «побеждать природу» является ключом, тайным двигателем «построения социализма». Эта мысль преследует вас везде в этом городе — и в конкретных архитектурных проявлениях индустриализации, и даже в их руинах. Это движение пронизывает и охватывает все и переворачивает пространство Декарта, к которому хотелось бы сегодня вернуться как к основе природы. Даже крестьяне станут жертвой «построения социализма», как это случилось и во время Французской революции или Китайской революции, которая претендует на название Крестьянской. Их везде считали враждебными, в душе консервативными, приверженными старому порядку вещей, особенно в религии.
Возникшее в начале XX века в рамках футуризма как в Италии, так и в России, это движение оживает в СССР после 1923 года в декларациях футуристических кругов левого фронта и Маяковского, энтузиаста цивилизации машин и технического прогресса. Он хотел организовать послереволюционную жизнь в России, особенно культурную, согласно рациональным законам. Скорость, техника, прогресс. Его захватила политика индустриализации тридцатых годов, но дух соперничества на пути к экономической мощи вносит в этот курс много социальных и культурных утопий, касающихся благосостояния масс. Особенно, вплоть до извращений, это отразилось на Советском Союзе. Таковой была при Лысенко практика яровизации, задачей которой было превратить озимую пшеницу в яровую, подвергая ее низким температурам. Или несколько позже под мичуринскими лозунгами высевание зерновых в сибирской тундре. Мичуринским девизом было: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Или «великая» идея Хрущева: повернуть течение сибирских рек, чтобы оросить пустыни Центральной Азии. Победить законы природы возможно и даже необходимо, так как природа — это женщина, напоминает Доминик Жобар в работе под названием «Маркс, земля и крестьяне». Об этом еще раньше писал Гегель.
11 часов. Короткий осмотр квартала чекистов, закрытого, с охраной на входе и детским садиком и начальной школой внутри… Кое-кто проводил тут допросы в подвалах. О таких говорили: «Он приносит работу с собой». Сооружение квартала, его внутреннее расположение обозначает возврат к старой утопии Шарля Фурье, которой больше века и которая обрела в СССР вторую молодость. Повсеместно в тридцатые годы будут строиться дома нового типа, называемые коммунальными, объединенные в фаланстеры.
Время идет и нужно спешить. Оставив позади этот печальный символ провалившейся утопии, так же как и закрытые решетками останки комбината Уралмаш, мы вернулись в центр города. Справа почта в виде дома-трактора. И церкви более-менее новые. Один из наших гидов поясняет: в двадцатые годы церкви были разрушены, чтобы расчистить место для архитектуры конструктивизма. В 2010 году на развалинах конструктивизма вновь построили церкви.
И вот мы снова на месте трагической казни царя и царской семьи. После почти столетия, истекшего со времени этого события, смерть последнего из Романовых стала не просто историческим эпизодом, но и целым кровавым романом, легендой, мифом, а для некоторых необходимой жертвой на пути России к искуплению…
Авторитарный и ограниченный, без большого ума царь Николай II не был особенно симпатичным сувереном. Его смерть явилась закономерным результатом великого перелома 1917 года, возможно, необходимого для прихода новой власти, нового порядка… Однако можно только сожалеть об особой жестокости его казни и казни его семьи. Даже если и есть что-то тягостное в открытых проявлениях поклонения, которые окружают ужасную церковь, построенную на месте казни.
Но есть надежда, что его все-таки отреставрируют, поскольку он воплощает типичные черты конструктивизма: большие застекленные двери на углах фасада и внутренние планировка и устройство тридцатых годов с эмалированными фресками на лестницах, светлыми декорированными коридорами. Было что-то очень меланхолическое в звуках наших шагов по этим пустым и длинным коридорам. Просторный зал на этаже украшен портретами, оставшимися на своих местах еще с советских времен. Не хватает только портрета Сталина. Большая фреска на стене изображает ордена, в числе которых украшенный бриллиантами орден Победы, кавалерами которого являются от силы десяток человек. По лестнице с прилично истертыми ступеньками я возвращаюсь на улицу, чтобы еще раз осмотреть фасад здания. Над фронтоном старательно стертая надпись «Сталинский клуб» легко читается особенно после дождя.
Именно в Екатеринбурге наиболее отчетливо понимаешь, что формула «побеждать природу» является ключом, тайным двигателем «построения социализма». Эта мысль преследует вас везде в этом городе — и в конкретных архитектурных проявлениях индустриализации, и даже в их руинах. Это движение пронизывает и охватывает все и переворачивает пространство Декарта, к которому хотелось бы сегодня вернуться как к основе природы. Даже крестьяне станут жертвой «построения социализма», как это случилось и во время Французской революции или Китайской революции, которая претендует на название Крестьянской. Их везде считали враждебными, в душе консервативными, приверженными старому порядку вещей, особенно в религии.
Возникшее в начале XX века в рамках футуризма как в Италии, так и в России, это движение оживает в СССР после 1923 года в декларациях футуристических кругов левого фронта и Маяковского, энтузиаста цивилизации машин и технического прогресса. Он хотел организовать послереволюционную жизнь в России, особенно культурную, согласно рациональным законам. Скорость, техника, прогресс. Его захватила политика индустриализации тридцатых годов, но дух соперничества на пути к экономической мощи вносит в этот курс много социальных и культурных утопий, касающихся благосостояния масс. Особенно, вплоть до извращений, это отразилось на Советском Союзе. Таковой была при Лысенко практика яровизации, задачей которой было превратить озимую пшеницу в яровую, подвергая ее низким температурам. Или несколько позже под мичуринскими лозунгами высевание зерновых в сибирской тундре. Мичуринским девизом было: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Или «великая» идея Хрущева: повернуть течение сибирских рек, чтобы оросить пустыни Центральной Азии. Победить законы природы возможно и даже необходимо, так как природа — это женщина, напоминает Доминик Жобар в работе под названием «Маркс, земля и крестьяне». Об этом еще раньше писал Гегель.
11 часов. Короткий осмотр квартала чекистов, закрытого, с охраной на входе и детским садиком и начальной школой внутри… Кое-кто проводил тут допросы в подвалах. О таких говорили: «Он приносит работу с собой». Сооружение квартала, его внутреннее расположение обозначает возврат к старой утопии Шарля Фурье, которой больше века и которая обрела в СССР вторую молодость. Повсеместно в тридцатые годы будут строиться дома нового типа, называемые коммунальными, объединенные в фаланстеры.
Время идет и нужно спешить. Оставив позади этот печальный символ провалившейся утопии, так же как и закрытые решетками останки комбината Уралмаш, мы вернулись в центр города. Справа почта в виде дома-трактора. И церкви более-менее новые. Один из наших гидов поясняет: в двадцатые годы церкви были разрушены, чтобы расчистить место для архитектуры конструктивизма. В 2010 году на развалинах конструктивизма вновь построили церкви.
И вот мы снова на месте трагической казни царя и царской семьи. После почти столетия, истекшего со времени этого события, смерть последнего из Романовых стала не просто историческим эпизодом, но и целым кровавым романом, легендой, мифом, а для некоторых необходимой жертвой на пути России к искуплению…
Авторитарный и ограниченный, без большого ума царь Николай II не был особенно симпатичным сувереном. Его смерть явилась закономерным результатом великого перелома 1917 года, возможно, необходимого для прихода новой власти, нового порядка… Однако можно только сожалеть об особой жестокости его казни и казни его семьи. Даже если и есть что-то тягостное в открытых проявлениях поклонения, которые окружают ужасную церковь, построенную на месте казни.
 Мы в нерешительности топчемся на пороге: входить или не входить? Довольствоваться только разглядыванием тех, кто покупает сувениры, кто фотографируется перед портретами великой княгини Анастасии или группы царских детей? Сфотографировать их в свою очередь? Как избежать этой коллективной психодрамы, не показав явным образом наше осуждение? Один из наших гидов, видимо, поняв причину нашего замешательства, рассказал такой анекдот. Молодежь, говорит он, называет эту церковь «Нотр-Дам на гараже» из-за автомобильной стоянки, построенной прямо под ней. Тогда в нашей группе раздался чей-то голос: «Я бы предпочел посетить стоянку».
Первоначально посвященная их памяти, православная церковь была построена в другом квартале в начале девяностых, маленькая деревянная часовня. Но когда в 2000 году было принято достаточно противоречивое решение о канонизации всей императорской семьи, в их память была построена еще одна церковь прямо на месте казни. Работы были закончены менее чем за три года. Это Храм на Крови, без всяких украшений, строительство которого финансировалось, по некоторым сведениям, для отмывания денег. Закрывая своей массой другую старинную церковь прекрасной архитектуры, она уродует весь квартал: ей даже не присвоена архитектурная классификация церквей России. Ее моделью стал Храм Спаса на Крови, воздвигнутый в Петербурге в память об убийстве царя Александра II. Смысл всего, что мы видим, лежит просто на поверхности: нужно ли его разворачивать, проявлять? Также, когда несколькими месяцами позже мне потребовалось восстановить масштабы этой апокалипсической исторической трагедии, я поняла, что мне просто нужно восстановить цепь приведших к ней событий.
3 марта 1917 года Николай II отрекается от престола. Сначала его помещают под надзором в резиденцию Царское Село, но что делать с ним и его семьей? История Французской революции и бегство Людовика XVI в Варенны стало навязчивой идеей Временного правительства. 31 июля 1917 года его решают вывезти из Царского Села. 3 августа он прибывает в Тюмень, а оттуда на корабле с царицей отправляется в Тобольск, в Западную Сибирь. Там к ним присоединяются дети и их французский воспитатель Пьер Гийар. В апреле приходит решение об их перемещении, так как тем временем власть перешла в руки большевиков. 2 мая 1918 года Президиум Центрального комитета партии решает перевезти Романовых из Тобольска в Екатеринбург или Омск. В какой-то момент поезд повернул в Омск, но Урал, в конце концов, победил. (Судьбы: Евгения Гинзбург, арестованная в Казани в 1937 году и увезенная в неизвестном направлении: «А в Свердловске вы попаритесь».) В своем дневнике царь писал, что хотел бы избежать Екатеринбурга, враждебно настроенного к нему из-за очень активного красного Уралмаша.
Они прибывают туда 30 мая. Поезд встречают гиканьем и свистом (есть фотографии). Их привозят в «дом специального назначения», расположенный в самом центре Екатеринбурга. Это дом купца Ипатьева, которому дали двадцать четыре часа, чтобы убраться. Ипатьев умирает в Калифорнии пятьюдесятью годами позже.
Интересно напомнить, что судьба Романовых началась в Ипатьевском монастыре в Костроме. Это там Михаил Федорович, избранный Земским собором (Палатой представителей), получает из рук своей матери икону святой Федоры, святой заступницы Костромы, перед отъездом в Москву на российский престол.
…В последующие недели положение узников ухудшается, но они не знают, что другие члены семьи Романовых уже казнены: большевики опасались, что белые попытаются освободить царя. 4 июля 1918 года комиссар Яков Юровский принимает командование над домом Ипатьева. 16 июля после полуночи он приказывает Романову и следующим с ним лицам (Евгению Боткину, Анне Демидовой, Ивану Харитонову и Алоису Труппу) приготовиться к переезду в более безопасное место. Все спускаются по внутренней лестнице в подвал. Под предлогом поиска фотоаппарата, чтобы послать в Москву доказательства их хорошей физического состояния, Юровский выходит отдать последние распоряжения перед кровопролитием. Затем он открывает двойную дверь комнаты, где находятся пленники. На пороге двенадцать мужчин, стоящих в три ряда. Снаружи шофер грузовика заводит мотор, чтобы заглушить шум выстрелов. Юровский вынимает бумагу и принимается быстро ее читать: «В связи с тем, что ваши родственники продолжают свое наступление против советской власти, исполнительный комитет Урала принял решение вас расстрелять». Другие утверждают, что Юровский якобы говорил о наступлении иностранных государств на советскую революцию. «Ваша жизнь закончена», — будто бы добавил он в заключение. Царевич просит его повторить.
Расстрел происходит тотчас же в самом невероятном беспорядке. Молодой Алексей пытается защитить голову подушкой. Есть фотографии, снятые как раз после этого момента. Там видны стены в дырках от пуль, разорванный ковер, запятнанный кровью. Несколько ранее тела были расчленены, облиты кислотой и сброшены в шахту.
Эта казнь, даже если она имела тот же смысл, что и казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, очевидно, сильно отличается. Она скорее напоминает подлую и постыдную казнь четы Чаушеску в заднем дворе дома, куда они приехали на суд. Палачи Романовых не пощадили даже их свиту, ни доктора Боткина, ни прислугу императора Труппа, ни Демидову, фрейлину императрицы, ни повара Харитонова. В любом случае она сохраняет свое высоко символическое значение. И в случае с Людовиком XVI и с Николаем II этот символ станет «тайным беззаконием и неправедностью», который исправит церковь.
Возникает ряд вопросов. Кто хотел этой казни? Долгое время поговаривали, что в июне 1918 года большевики потеряли преимущество в Москве, царила большая неразбериха, и решение было принято правителем Урала Свердловым, умершим от эпидемии в 1919 году в Орле, который мог бы стать соперником Сталина. Он принадлежал к жесткой фракции, но не мог бы отдать приказа на казнь без согласования с Лениным. В течение многих лет советские историки утверждали, что Ленин не имеет ничего общего с этим преступлением. Однако Троцкий ему это прямо инкриминирует, передавая свой разговор со Свердловым. На вопрос Троцкого о царе и его семье Свердлов отвечает «расстреляны», решение принято «Ильичом и мной». В действительности такого разговора не могло быть: Троцкий прекрасно все знал. К тому же Троцкий был среди участников собрания, на котором Свердлов объявил о казни экс-царя. Пьер Лорэн в книге «Убийство Николая II» (издательство Fleuve Noir, Париж, 1994) пишет: «Известие об убийстве императорской семьи пришло в Москву вечером 17 июля, и В. И. Ленин был об этом проинформирован в Кремле во время заседания Совета Министров, которое он прервал на несколько минут, чтобы Яков Свердлов мог кратко объявить присутствующим об этом событии. Затем В. И. Ленин потребовал тотчас же продолжить работу — обсуждался вопрос о школьных прививках в Московском регионе».
Еще один вопрос: почему Георг V ничего не сделал, чтобы спасти царя, своего кузена, так на него похожего, и его семью? «Его Величество не мог не понимать, насколько опасно было бы путешествие, и из общих соображений было бы нежелательно, чтобы императорская семья обосновалась в нашей стране», — записывает секретарь разговор короля Георга V с министром иностранных дел (март 1917 года).
В последующие годы гражданская война, разгром белых, установление абсолютной власти и в конце концов распад СССР в 1991 году не могли не отразиться на истории и смысле самой казни царя, на ее обстоятельствах и судьбе останков…
Подытожим, это нужно сделать. Сначала — расследование Соколова . В декабре 1918 года адмирал Колчак, командующий Белой армией, предпринимает наступление на большевиков. Он входит в Екатеринбург в феврале 1919 года и седьмого числа поручает Николаю Соколову расследование обстоятельств смерти «российского царя Николая II» и его семьи. Соколов с жаром берется за эту задачу, но вынужден скрыться после того, как большевики вновь берут Екатеринбург. Затем отступление вместе с частями Белой армии вдоль Транссибирской магистрали. Он добирается до Пекина, затем живет во Франции и умирает в 1924 году в Сальбри у князя Орлова. Однако у Соколова было достаточно времени, чтобы опубликовать свое «Юридическое расследование убийства русской императорской семьи» (издательство Payot, 1924), в котором он подытоживает, что все без исключения члены императорской семьи были убиты в доме Ипатьева. Даже после этого возникает легенда о великой княжне Анастасии, которая якобы пережила казнь и сошла с ума…
Молчание большевиков, тотальное в течение 80 лет. Россия образца 1991 года тоже в замешательстве от груза этого события. 1977 год: по приказу Ельцина сносят Ипатьевский дом. 1978 год: обнаружение неполных останков. Их перевоз в Петербург: июль 1998-го. Ельцин хочет устроить день великого примирения, похоронив с большой помпой останки последнего царя. Он распоряжается об эксгумации, он преклоняет колена перед гробом и заявляет: «Мы все виноваты. Мы хранили молчание долгие годы, но однажды нужно рассказать горькую правду об одной из самых постыдных страниц нашей истории. Виновны не только те, кто совершил это убийство, но и те, кто десятилетиями оправдывал эту бессмысленную жестокость».
17 июля императорская семья была захоронена в соборе Петропавловской крепости. Июль 2007 года: на вероятном месте захоронения тел царевича и одной из его сестер были найдены два тела. Конец легенды об Анастасии.
14 августа 2000 года: царица Мария Николаевна и ее семья были канонизированы сначала зарубежной русской православной церковью, а затем и Российской. Они были признаны мучениками. Великая княжна записана в мартиролог Русской православной церкви. Царица Мария Николаевна поминается 17 июля (святая мученица Мария). В Екатеринбурге построена новая церковь. Никто точно не понимает, что означает канонизация и почему Николай II был провозглашен мучеником.
7 июня 2008 года: Борис Грызлов, председатель Госдумы, нижней палаты Российского парламента, осуждает расправу над императорской семьей такими словами: это «преступление большевизма». Однако не все закончено: семья Романовых обратилась к российскому правосудию в январе 2010 года, чтобы потребовать возобновления уголовного расследования казни последнего российского царя Николая II, прекращенного за год до того, и на пресс-конференции в Москве назвала своих представителей…
…По возвращении в Париж я нахожу в интернете небольшой фильм, в котором дети Романовы играют на мостике императорской яхты. Все они одеты в морские костюмы, самым старшим девочкам 12–13 лет. В какой-то момент царевич пытается от них убежать, но одна из сестер хватает его, и он падает на спину, комично задрав ноги вверх. Я не пытаюсь этим вызвать сочувствие, чтобы осудить то, что произошло в июле 1918 года. Однако эти кадры очень трогательны, и это меньшее, что можно сказать.
Мы в нерешительности топчемся на пороге: входить или не входить? Довольствоваться только разглядыванием тех, кто покупает сувениры, кто фотографируется перед портретами великой княгини Анастасии или группы царских детей? Сфотографировать их в свою очередь? Как избежать этой коллективной психодрамы, не показав явным образом наше осуждение? Один из наших гидов, видимо, поняв причину нашего замешательства, рассказал такой анекдот. Молодежь, говорит он, называет эту церковь «Нотр-Дам на гараже» из-за автомобильной стоянки, построенной прямо под ней. Тогда в нашей группе раздался чей-то голос: «Я бы предпочел посетить стоянку».
Первоначально посвященная их памяти, православная церковь была построена в другом квартале в начале девяностых, маленькая деревянная часовня. Но когда в 2000 году было принято достаточно противоречивое решение о канонизации всей императорской семьи, в их память была построена еще одна церковь прямо на месте казни. Работы были закончены менее чем за три года. Это Храм на Крови, без всяких украшений, строительство которого финансировалось, по некоторым сведениям, для отмывания денег. Закрывая своей массой другую старинную церковь прекрасной архитектуры, она уродует весь квартал: ей даже не присвоена архитектурная классификация церквей России. Ее моделью стал Храм Спаса на Крови, воздвигнутый в Петербурге в память об убийстве царя Александра II. Смысл всего, что мы видим, лежит просто на поверхности: нужно ли его разворачивать, проявлять? Также, когда несколькими месяцами позже мне потребовалось восстановить масштабы этой апокалипсической исторической трагедии, я поняла, что мне просто нужно восстановить цепь приведших к ней событий.
3 марта 1917 года Николай II отрекается от престола. Сначала его помещают под надзором в резиденцию Царское Село, но что делать с ним и его семьей? История Французской революции и бегство Людовика XVI в Варенны стало навязчивой идеей Временного правительства. 31 июля 1917 года его решают вывезти из Царского Села. 3 августа он прибывает в Тюмень, а оттуда на корабле с царицей отправляется в Тобольск, в Западную Сибирь. Там к ним присоединяются дети и их французский воспитатель Пьер Гийар. В апреле приходит решение об их перемещении, так как тем временем власть перешла в руки большевиков. 2 мая 1918 года Президиум Центрального комитета партии решает перевезти Романовых из Тобольска в Екатеринбург или Омск. В какой-то момент поезд повернул в Омск, но Урал, в конце концов, победил. (Судьбы: Евгения Гинзбург, арестованная в Казани в 1937 году и увезенная в неизвестном направлении: «А в Свердловске вы попаритесь».) В своем дневнике царь писал, что хотел бы избежать Екатеринбурга, враждебно настроенного к нему из-за очень активного красного Уралмаша.
Они прибывают туда 30 мая. Поезд встречают гиканьем и свистом (есть фотографии). Их привозят в «дом специального назначения», расположенный в самом центре Екатеринбурга. Это дом купца Ипатьева, которому дали двадцать четыре часа, чтобы убраться. Ипатьев умирает в Калифорнии пятьюдесятью годами позже.
Интересно напомнить, что судьба Романовых началась в Ипатьевском монастыре в Костроме. Это там Михаил Федорович, избранный Земским собором (Палатой представителей), получает из рук своей матери икону святой Федоры, святой заступницы Костромы, перед отъездом в Москву на российский престол.
…В последующие недели положение узников ухудшается, но они не знают, что другие члены семьи Романовых уже казнены: большевики опасались, что белые попытаются освободить царя. 4 июля 1918 года комиссар Яков Юровский принимает командование над домом Ипатьева. 16 июля после полуночи он приказывает Романову и следующим с ним лицам (Евгению Боткину, Анне Демидовой, Ивану Харитонову и Алоису Труппу) приготовиться к переезду в более безопасное место. Все спускаются по внутренней лестнице в подвал. Под предлогом поиска фотоаппарата, чтобы послать в Москву доказательства их хорошей физического состояния, Юровский выходит отдать последние распоряжения перед кровопролитием. Затем он открывает двойную дверь комнаты, где находятся пленники. На пороге двенадцать мужчин, стоящих в три ряда. Снаружи шофер грузовика заводит мотор, чтобы заглушить шум выстрелов. Юровский вынимает бумагу и принимается быстро ее читать: «В связи с тем, что ваши родственники продолжают свое наступление против советской власти, исполнительный комитет Урала принял решение вас расстрелять». Другие утверждают, что Юровский якобы говорил о наступлении иностранных государств на советскую революцию. «Ваша жизнь закончена», — будто бы добавил он в заключение. Царевич просит его повторить.
Расстрел происходит тотчас же в самом невероятном беспорядке. Молодой Алексей пытается защитить голову подушкой. Есть фотографии, снятые как раз после этого момента. Там видны стены в дырках от пуль, разорванный ковер, запятнанный кровью. Несколько ранее тела были расчленены, облиты кислотой и сброшены в шахту.
Эта казнь, даже если она имела тот же смысл, что и казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты, очевидно, сильно отличается. Она скорее напоминает подлую и постыдную казнь четы Чаушеску в заднем дворе дома, куда они приехали на суд. Палачи Романовых не пощадили даже их свиту, ни доктора Боткина, ни прислугу императора Труппа, ни Демидову, фрейлину императрицы, ни повара Харитонова. В любом случае она сохраняет свое высоко символическое значение. И в случае с Людовиком XVI и с Николаем II этот символ станет «тайным беззаконием и неправедностью», который исправит церковь.
Возникает ряд вопросов. Кто хотел этой казни? Долгое время поговаривали, что в июне 1918 года большевики потеряли преимущество в Москве, царила большая неразбериха, и решение было принято правителем Урала Свердловым, умершим от эпидемии в 1919 году в Орле, который мог бы стать соперником Сталина. Он принадлежал к жесткой фракции, но не мог бы отдать приказа на казнь без согласования с Лениным. В течение многих лет советские историки утверждали, что Ленин не имеет ничего общего с этим преступлением. Однако Троцкий ему это прямо инкриминирует, передавая свой разговор со Свердловым. На вопрос Троцкого о царе и его семье Свердлов отвечает «расстреляны», решение принято «Ильичом и мной». В действительности такого разговора не могло быть: Троцкий прекрасно все знал. К тому же Троцкий был среди участников собрания, на котором Свердлов объявил о казни экс-царя. Пьер Лорэн в книге «Убийство Николая II» (издательство Fleuve Noir, Париж, 1994) пишет: «Известие об убийстве императорской семьи пришло в Москву вечером 17 июля, и В. И. Ленин был об этом проинформирован в Кремле во время заседания Совета Министров, которое он прервал на несколько минут, чтобы Яков Свердлов мог кратко объявить присутствующим об этом событии. Затем В. И. Ленин потребовал тотчас же продолжить работу — обсуждался вопрос о школьных прививках в Московском регионе».
Еще один вопрос: почему Георг V ничего не сделал, чтобы спасти царя, своего кузена, так на него похожего, и его семью? «Его Величество не мог не понимать, насколько опасно было бы путешествие, и из общих соображений было бы нежелательно, чтобы императорская семья обосновалась в нашей стране», — записывает секретарь разговор короля Георга V с министром иностранных дел (март 1917 года).
В последующие годы гражданская война, разгром белых, установление абсолютной власти и в конце концов распад СССР в 1991 году не могли не отразиться на истории и смысле самой казни царя, на ее обстоятельствах и судьбе останков…
Подытожим, это нужно сделать. Сначала — расследование Соколова . В декабре 1918 года адмирал Колчак, командующий Белой армией, предпринимает наступление на большевиков. Он входит в Екатеринбург в феврале 1919 года и седьмого числа поручает Николаю Соколову расследование обстоятельств смерти «российского царя Николая II» и его семьи. Соколов с жаром берется за эту задачу, но вынужден скрыться после того, как большевики вновь берут Екатеринбург. Затем отступление вместе с частями Белой армии вдоль Транссибирской магистрали. Он добирается до Пекина, затем живет во Франции и умирает в 1924 году в Сальбри у князя Орлова. Однако у Соколова было достаточно времени, чтобы опубликовать свое «Юридическое расследование убийства русской императорской семьи» (издательство Payot, 1924), в котором он подытоживает, что все без исключения члены императорской семьи были убиты в доме Ипатьева. Даже после этого возникает легенда о великой княжне Анастасии, которая якобы пережила казнь и сошла с ума…
Молчание большевиков, тотальное в течение 80 лет. Россия образца 1991 года тоже в замешательстве от груза этого события. 1977 год: по приказу Ельцина сносят Ипатьевский дом. 1978 год: обнаружение неполных останков. Их перевоз в Петербург: июль 1998-го. Ельцин хочет устроить день великого примирения, похоронив с большой помпой останки последнего царя. Он распоряжается об эксгумации, он преклоняет колена перед гробом и заявляет: «Мы все виноваты. Мы хранили молчание долгие годы, но однажды нужно рассказать горькую правду об одной из самых постыдных страниц нашей истории. Виновны не только те, кто совершил это убийство, но и те, кто десятилетиями оправдывал эту бессмысленную жестокость».
17 июля императорская семья была захоронена в соборе Петропавловской крепости. Июль 2007 года: на вероятном месте захоронения тел царевича и одной из его сестер были найдены два тела. Конец легенды об Анастасии.
14 августа 2000 года: царица Мария Николаевна и ее семья были канонизированы сначала зарубежной русской православной церковью, а затем и Российской. Они были признаны мучениками. Великая княжна записана в мартиролог Русской православной церкви. Царица Мария Николаевна поминается 17 июля (святая мученица Мария). В Екатеринбурге построена новая церковь. Никто точно не понимает, что означает канонизация и почему Николай II был провозглашен мучеником.
7 июня 2008 года: Борис Грызлов, председатель Госдумы, нижней палаты Российского парламента, осуждает расправу над императорской семьей такими словами: это «преступление большевизма». Однако не все закончено: семья Романовых обратилась к российскому правосудию в январе 2010 года, чтобы потребовать возобновления уголовного расследования казни последнего российского царя Николая II, прекращенного за год до того, и на пресс-конференции в Москве назвала своих представителей…
…По возвращении в Париж я нахожу в интернете небольшой фильм, в котором дети Романовы играют на мостике императорской яхты. Все они одеты в морские костюмы, самым старшим девочкам 12–13 лет. В какой-то момент царевич пытается от них убежать, но одна из сестер хватает его, и он падает на спину, комично задрав ноги вверх. Я не пытаюсь этим вызвать сочувствие, чтобы осудить то, что произошло в июле 1918 года. Однако эти кадры очень трогательны, и это меньшее, что можно сказать.
Конец посещения Екатеринбурга, который вновь обрел свое имя в 1991 году. Первое десятилетие посткоммунизма было очень трудным. Из статьи ассоциации Франция — Урал, появившейся в 1993 году: «Урал и его столица занимают особое место в криминальном списке России. Этот регион действительно богат ресурсами, способными привлечь иностранный капитал: медь, изумруды, золото… Обладание этими богатствами вызвало настоящую гангстерскую войну в Екатеринбурге, часто называемую в прессе „Чикаго на Урале“. Этот город является театром противостояния двух мощных лагерей». Автор перечисляет сотни убийств, связанных с этой гангстерской войной. Двадцать лет спустя Екатеринбург больше не мафиозный город, каким он был в 1990-е годы. Количество работающих на Уралмаше сократилось с 30 000 до 3000 человек. В 1940-е годы здесь собирали танки, которые победили нацистскую Германию. Но по версии статьи газеты «Фигаро» в марте 2010 года «Екатеринбург еще пользуется отвратительной репутацией». Но я на месте не смогла удостовериться в этом более точно. Продолжают существовать темные пятна и загадки. И когда я несколько дней спустя делаю предположение, что для строительства Храма на Крови использовались деньги мафии, то один из русских, путешествующих вместе с нами, меня прервал: будучи туристом нельзя задавать такие вопросы. Разве я тебя спрашиваю, на какие деньги построен собор Парижской Богоматери? …Моя жажда информации была так велика, что во время обеда на пресс-конференции для «Вечерней газеты» у меня возникло желание поменяться ролями. Я задавала вопросы по поводу больших строек, виднеющихся повсюду: на какие деньги? кто строит? кто там работает? для кого строят? Я уже задавала эти вопросы. Мне всегда отвечали: да, деньги мафии в строительстве присутствуют; работают там иммигранты-таджики; точно неизвестно, для кого эти постройки предназначены. Сколько во время моего путешествия приоткрывается дверей, которые я не могу или не осмеливаюсь открыть пошире! По вопросу стоимости социальных реформ в России, как стыдливо говорят переходного периода (девяностых годов), я узнаю очень мало. Впоследствии, вернувшись в Париж, я прочла статью Жозефа Стиглица, вышедшую в 2002 году под названием «Глобализация и ее раздосадованность». Суть в том, что ссуда, предоставленная России Международным валютным фондом в 1998 году, чтобы предотвратить новое обесценивание рубля, предназначалась не столько для поддержки России, сколько для спасения западных банков. МВФ скрыл размах коррупции в России и одолжил ей деньги, в то время как по этой причине отказывал в займах многим африканским странам с гораздо меньшим ее уровнем. Вдруг мне попадается «Великое разочарование» того же Стиглица. И там в главе «Кто потерял Россию?» я читаю о том, что советы ребят из Чикаго не дали обещанного результата. «Глобализация и переход к рыночной экономике не произвели ожидаемого эффекта ни в России, ни в большинстве других, прежде плановых, экономик». Все. Тем не менее во время путешествия, чтобы нарисовать полный портрет сегодняшней России, мне достаточно говорили об этом. О советской эпохе: никаких враждебных высказываний. О нынешнем развитии, о религии, о лжи и обмане нового времени: открытая критика в полный голос или намеки… В один момент кто-то сказал: «Мы не были так несчастны, как теперь, это была совершенно другая жизнь. Пища не была идеалом, людей интересовали книги, диски, культура, а вовсе не общество потребления. У тебя нет машины? Ничего, обойдусь!» Часов в 14, направляясь (наконец) обедать в кафе Демидов, переходя по мосту через Исеть, я попросила у молодой пары разрешения их сфотографировать. Оба были очень далеки от той эпохи, что я упомянула… Самодовольно улыбаясь, молодой человек с круглым лицом и коротко остриженной головой, с вызывающим галстуком, в голубой тесной рубашке с расходящимися пуговицами на пузе заговорил по-французски. Он, оказывается, работал в Тунисе и стал жаловаться на свою очаровательную и недовольную спутницу. «Она не хочет выходить за меня замуж!» Девушка улыбнулась только для фотографии и вновь приняла надменный вид. М. d. К. несколькими днями позже сказал, когда я показала ему эту фотографию: жирный малый, вскормленный сосисками! Я думаю обо всех этих красивых девушках, вынужденных продаваться. Снова прогулка по городу. Мэрия, увиденная и откорректированная Сталиным, все же имеет гордый вид, который ей придают колоннада и мозаика под входным портиком, а особенно два нижних барельефа. Это горсовет — городское собрание. В центре площади статуя Ленина с поднятой к солнцу правой рукой будто указывает на большую надпись над современным зданием: «Европа». Это можно понять двояко: географически именно она здесь начинается, но также это и будущее России… Молодой велосипедист на 17-скоростном велосипеде разрешает себя сфотографировать у подножия статуи. Мы продолжаем прогулку по пешеходной зоне.

Я бомбардирую вопросами свою новую сопровождающую: здоровье? пенсионеры? школа? Ответы с красноречивыми гримасами недовольства. Везде приватизации, бакшиш. Пенсионеры? В деревне у крестьян или ремесленников зарплата 2000 рублей (около 55 евро). У преподавателя — около 6000 рублей. Стоимость жизни описана в «Независимой газете» от 9 ноября 2010 года: «Обычная семья из четырех человек, живущая в Москве и годами записывающая свои расходы, потратила 900 рублей на фрукты в сентябре 2009 года и около 1400 рублей в сентябре 2010 года». Проживание? Трудно ответить, эти красивые здания ничего не значат. Для молодых проблема еще серьезнее. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры — 7000 рублей. Они не могут ее ни купить, ни снять. Их родители этого не знали. В большинстве случаев квартиру получали служебную, ее не нужно было искать, высказывает она мне так называемые идеологические сожаления о временах коммунизма (хотя я в этом не уверена). У молодежи проблема трудоустройства: из бывших республик СССР, ставших независимыми и вошедших в СНГ, приезжают много рабочих мигрантов. Например, в Екатеринбург рабочие прибывают из Туркменистана или Таджикистана. Она добавляет: с ними возникла и проблема наркотиков. Таким образом, в России тоже есть свои реальные или мнимые вопросы об «опасностях иммиграции»: слишком много иммигрантов опасных и коррумпированных. Отличие в том, что она их видит в масштабе одного пространства, Евразии, двух континентов без географических разрывов, тогда как нас отделяют моря и океаны от стран, которые мы некогда колонизовали. «Колонизация» произошла и в России, только не было никакой насильственной и кровавой деколонизации. Вывод из вопросов и ответов. Школа? Демографический спад привел к закрытию множества школ. Сейчас ощущается подъем рождаемости, но для маленьких детей не хватает мест, только в частных школах, что очень дорого. Значит, они учатся читать и писать со своими бабушками и дедушками. И все равно, говорит наш гид, уровень образования падает. (Во всяком случае, в школах, которые я увижу, сохраняется тот стиль и содержание, которые у нас давно сметены временем.) Наша гид сама, будучи преподавателем французского языка и работая в университете, готовит теперь кадры для сети Auchan, распространенной в России, и зарабатывает в десятки раз больше. И заключение: общая тревожность, экономический кризис, растущая доля брошенных детей. Несмотря на все это, как же вокруг красиво и тепло, все, кажется, светятся радостью этого весеннего дня; мягкая и теплая погода, которая долго не продлится. С августа уже начнет холодать. Везде вдоль тротуаров торговое оживление, витрины, выставки товара прямо на улице — эти небольшие бронзовые скульптурки, которые так нравятся россиянам. Дети на них залезают и фотографируются (я, кстати, тоже). В дорогом бутике я покупаю фарфоровых кота и сову, D. F. - поросенка. В витрине успеваю рассмотреть алюминиевую сковородку за 6000 рублей. Месячная пенсия учителя. К концу этого утомительного дня, в 17 часов, нас ждали в библиотеке «Читай-город» (в названии игра слов наподобие «Китай-город» в Москве, китайского квартала, расположенного у Красной площади напротив Кремля). Опять та же постыдная для нас реальность: наши русские друзья гораздо лучше знают французскую литературу, чем мы, за редким исключением, русскую. Тем не менее D. F. рассказывает, как он читал Толстого в 12 лет, а я о своем чтении «Преступления и наказания» в 14. Я вспоминаю во время рассказа, как в поисках следов Достоевского в Петербурге в окрестностях прежней Сенной площади, а ныне площади Мира я случайно зашла в один дом, где, наверное, и было совершено преступление. Там на втором этаже висели картины, как в пустой комнате, где одно время скрывался Раскольников. Я не знала, что об этом подумают наши слушатели, особенно молодые. И потом я была очень уставшей и взволнованной всеми образами, порожденными сегодняшнейэкскурсией по городу. 19 часов. Ужин в ресторане «Штолле». Пироги и пирожные. Исеть образует гладь, которая отражает пока еще яркий, но угасающий свет. Мы уже проконсультировались на одном известном сайте, работающем в автоматическом режиме, что «Исеть — это река, протекающая по Свердловской, Курганской и Тюменской областям России. Левый приток реки Тобол». О, чудные языковые путешествия! В 21 час с сумками на плечах мы направляемся к вокзалу. Издалека на перроне вагона нас жестами подзывают наши проводницы: «Ваш дом, ваш дом»! Что они делают, так долго ожидая нас вдалеке от своих семей? Я надеюсь, что им за это платят. Мы бросаем книги, провизию, куртки, шарфы, подарки и всякого рода сувениры на наши полки, но еще не расходимся на ночь. Смеемся, кто-то поет, кто-то шутит, ходим из одного купе в другое. В дверь всовывается рука, предлагая стакан водки по кругу. У входа в вагон висит большой белый лист бумаги: каждый оставляет там свой комментарий или рисунок. N., президент союза издателей, написала на французском: «A la gare comme a la gare» («На вокзале как на вокзале»). Это мораль путешествия, которое нам навязывает свой распорядок и свои специфические ограничения, свой коллективный разум, свою регулярность, но также и нашу обязанность постоянно адаптироваться, легко переносить перегруженное расписание дня, мало спать и много ходить, слушать, смотреть, понимать, безропотно уходить на новые рандеву в течение 10–12 часов подряд… Но поезд — высшая за это награда. Чудесным образом он возит вас по миру, пока вы остаетесь неподвижны. Кроме того, постоянная смена часовых поясов (каждый день на час больше, всего девять) — это потеря привычной системы отсчета, которую я сначала радостно приветствовала, даже если говорят, что она может вас ввергнуть в страх и тревогу. И все-таки нужно решиться пойти спать.
Четверг, 3 июня В поезде на Новосибирск
Ночь в поезде. Сибирь, Сибирь! Стучат колеса. Каждый раз, когда я сегодня об этом думаю, я как будто бы вижу удаляющуюся в темноту маленькую золотую надпись, эти буквы «Сибирь», название реки или древнего ханства, которое сегодня является названием всей Сибири. Во сне мы оставили столицу Тобольск (Тюменский край) в трехстах километрах к северу. Отдаленность от Транссибирской магистрали помешала его развитию. Утро в купе, дружеские приветствия (я не разбудила тебя вчера вечером? Нет, я даже не слышала, как ты вернулась). Счастье вновь увидеть эти бесконечные молчаливые равнины, березовые леса, быстро теряющиеся между деревьев дороги, эти загадочные следы человеческого присутствия: крышу шалаша, охотничьи заимки… Вдоль реки стоят цапли и расположено что-то вроде электростанции. Взгляд какую-то минуту скользит по ним, затем движение поезда все стирает, так как каждую секунду возникают новые композиции: болота, пруды, река, которую мы проезжаем по мосту, дребезжащему всем своим железом. Путь изгибается, поезд наклоняется, солнце проблескивает сквозь облака. Все говорят, что деревни заброшены, в них остались только старики. «Без детей, без пенсии ты умираешь». Мы еще не в самой глубинке Сибири… Частые остановки. На этой поезд на Таллинн на другой стороне пути и еще один «Сибиряк» с двуглавым орлом. Поезда и еще поезда. Когда опускается вечер и мы продвигаемся дальше в неизвестные края, красный цвет заката, кажется, толкает нас вперед, и двойная вибрирующая гласная в слове «Сибирь» между гулкой «с» в начале и раскатистой «р» в конце гармонично сочетаются с монотонным стуком колес и короткими гудками на вокзалах, на которых мы не останавливаемся. Зов, ностальгия, печаль и вновь призыв — ничто не может остановить путь на восток.7 часов 30 минут. Каждое утро мы встречаемся в коридоре с полотенцем на плече, зубной щеткой и бутылкой минеральной воды в руке. Затем время завтрака, и мы идем цепочкой через поезд в вагон-ресторан: блины, каша с маслом, апельсиновый сок и кофе. Затем в купе чай, галеты и изюм! Так как до вагона-ресторана, расположенного где-то посередине состава, добраться нелегко, мы часто ждем остановок, чтобы дойти до него по перрону. Действительно, довольно трудно пройти по поезду, так как вагоны соединены подвижными переходами, огороженными слева и справа цепями. Шум и пропасть немного пугают. И, кроме того, в этих битком набитых вагонах мы опасались задеть какую-то личную жизнь народа, вломиться в незнакомую нам обстановку. Однако мы никогда не сталкивались с признаками неприязни, скорее наоборот. На полках спят молодые, по-детски розовощекие солдаты, свесив головы и приоткрыв рты; их белые, босые, очень чистые ноги болтаются в пространстве. Иногда нужно приподнять чью-то ногу или убрать руку, чтобы освободить проход. Многие одеты в специальную удобную спортивную одежду, так как дорога занимает целую неделю: сегодня нигде в мире не ездят поездами на такие длинные расстояния. Жарко. Мужчины обнажены по пояс, женщины, не стесняясь, оголяют руки и ноги, время от времени работает вентиляция. Все едят, дети оставляют бутерброды, чтобы посмотреть на нас. Затем, как только поезд останавливается, все выходят на перрон, чтобы побыть на солнце, размять ноги, купить булочки, сок, пиво, вяленую рыбу. Перрон — цветной, оживленный рынок на открытом воздухе. Слышатся крики: «Мороженое!» На шеях продавщиц, торгующих вразнос, складной прилавок. Кое-где стационарные киоски с газетами и игральными картами. Все это создает атмосферу такой детской простоты и наивности, что и делает, наверное, Россию симпатичной и трогательной, как и наше путешествие через ее огромную территорию. В любой момент мы здесь можем заметить то, что осталось от прежних времен и прежнего образа жизни. И это в эпоху глобализации, где каждый, кто накопил немного денег и пользуется смартфоном последней модели, может принять непереносимо надменный, насмешливый, высокомерный вид превосходства… Естественно, время от времени появляется какой-нибудь толстый мужчина в трусах, который бросает на вас не слишком нежный взгляд, или продавщица с накрашенными глазами, которая протягивает вам сдачу с суровым видом. Или достаточно неприятная молодая пара, которая прогуливается в одежде на американский манер. Но все это носит какой-то неопределенный отпечаток «прежнего времени» — смесь нынешней и советской России, физический и ментальный мир, из которого эта страна еще только выходит, не отказавшись целиком от старого, и без четкого представления о новом, к которому мы все, однако, неотвратимо идем. Это очень сильное и настойчивое ощущение. Это последнее время старого времени. Мы (Франция, Западная Европа, США) уже пошли дальше. То же ожидает и Россию. Это просто короткая остановка в прежнем времени. Эти два мира, русский и наш, одинаковы с разницей в несколько лет (десятилетий?): ностальгия по минувшему здесь намного сильнее, чем чувствуешь на землях более архаичных, таких, как юг Магриба или север Индии… Эти женщины среднего возраста в цветастых передниках, молодые девушки, слегка полные с ярко окрашенными волосами — я часто встречала таких в пригородах Крея или Марселя, но их вид меня трогал, и к ним я испытывала какое-то особое чувство. Однако я не осмеливаюсь их фотографировать из опасения, что они неправильно поймут природу моего к ним внимания и любопытства. Сфотографировать совсем не означает проявить сочувствие, которое испытываешь к кому-либо, а как раз совсем наоборот…
Мы позавтракали в вагоне-ресторане и вышли на перрон. Не теряя бдительности наверху лестницы, L. и V. нам подают красноречивые знаки: пора возвращаться, поезд не предупреждает об отправлении. Я вбегаю в купе и кидаюсь на постель. За окном опять зеленые равнины, облака и на опушке леса перекошенный одноэтажный домик с крышей, покрытой рубероидом, и выкрашенными в выцветший зеленый цвет стенами, почти подобными светлой бирюзе торжественного вокзала в Омске, такого отличного от остальных своей штукатуркой под итальянский мрамор, которую можно увидеть в Павловске или Зимнем дворце. Вокзалы Сибири — это те же дворцы, те же соборы, те же памятники во славу покорения Сибири. Омск: город, куда в 1850 году депортировали Достоевского, осужденного за его участие в кружке Петрашевского, группе свободомыслящих интеллектуалов. Его смертельный приговор был смягчен высылкой после «постановки» подобия казни. Это все известно, но мы часто забываем тот вывод, который он извлек из пережитого в тюрьме: «Я не зря потратил время, я узнал русский народ так, как его знают, наверное, немногие». Он пробудет на каторге четыре года. Он читает Гегеля и заливается слезами… Самые лучшие страницы в его «Воспоминаниях о доме мертвых» те, где он описывает каторжный театр: «Детская радость» каторжников, лучезарное удовлетворение, которое «сияет на этих клейменых лбах, во взглядах этих угрюмых людей, которые до этого момента тлели огнем жестокости». Короткие и смутные воспоминания, поезд возобновил свой монотонный стук.
 Мимолетный взгляд на Иртыш: реки обладают успокаивающей красотой, которая несколько компенсирует тоску от вида покинутой деревни. Это тема разговора с нашими гидами: большая часть Сибири еще не записана в кадастре, и повсюду русская деревня умирает. Феномен, который начался не вчера и является последствием разрушительной политики большевиков по отношению к крестьянам, считавшимся естественными противниками революции: насильственная коллективизация, сопротивление крестьянства, закончившееся самыми ужасными репрессиями. Даже если сельское хозяйство необходимо, чтобы удовлетворить первейшие потребности человека, крестьянство не принимается в расчет. Их яростная привязанность к частной собственности, право на которую было признано только немногим более 50 лет назад (в 1861 году, после отмены крепостного права), рассматривалось как показатель их преданности старому режиму, а их религиозная вера — как показатель их отсталости. Я опять цитирую статью Доминика Жобара, о которой я уже говорила. В ней пишется о том, что в 1872 году в газете International Herald в статье без подписи, но, вероятно, автором которой являлся Маркс, можно было прочесть следующее: «Сельское хозяйство находится в еще докапиталистическом состоянии. Следовательно, нужно объединить участки земли […] для того, чтобы смочь, когда грянет революция, национализировать эти большие поместья и развить там социалистическое сельское хозяйство, для того чтобы удовлетворить всех нуждающихся». Мнение самих крестьян никто и не спрашивает. По своей природе они являются контрреволюционерами: вспоминается известное определение Маркса в «18 брюмера Луи Бонапарта»: крестьяне не составляют класса, они — как «мешок картошки». Не Энгельс ли написал: «Крестьянин может стать революционером, только тогда, когда он перестанет считать себя крестьянином»?
Размышляли ли мы так в 1793 году в Вандее?
Российское крестьянство больше к этому не вернулось… А теперь уже и поздно. Старые пружины лопнули.
…И опять степь и полузаброшенные деревни. Я снова погружаюсь в размышления: умирание деревень и вообще деревни — не является ли это гибелью целой цивилизации со своим образом жить, говорить, думать? Без всякого сомнения с ней исчезнут или уже исчезли и мысли и слова тех, кто уже вышел из русской деревни. Чтобы получить об этом представление, достаточно прочесть рассказ Лескова «Очарованный странник». Свобода, смелость, примитивный анархизм, разум, пренебрежение к смерти, душевная боль — все это выросло из народной культуры, из народного образа жизни, который уже исчез: в некоторой степени из-за школы, всеобщего образования. Сколько «мудрецов», стариков и старушек со своей жизненной философией остались в чернобыльских деревнях! Такого сегодня нет нигде в мире, кроме некоторых стран с арабо-мусульманской цивилизацией. Один из недавних фильмов, правда, показывает поселение нескольких русских экологов в заброшенной деревне, которую они восстановили. Но не это направление предпочитают в верхних эшелонах власти. Сейчас времена не возрождения деревни, а проектов «фараонных» масштабов, строительства огромных городов на юге Сибири. Кто-то проходит по вагонам с «Вечерним Екатеринбургом», который нас приветствует статьей под названием «Беллетризм из „Belle France“» («Изящная словесность из „Belle France“»), А в самом деле, откуда это выражение «Belle France» — «Прекрасная Франция»? Сегодня это просто сорт крекеров компании «Франкап Дистрибюшн». Кто осмелился бы его сегодня употребить, кроме как Жорж Дариен в насмешку? Или Национальный фронт, понося иммиграцию и вторжение ислама? Я немного сплю, пытаюсь читать, заняться русским и в конце концов отдаюсь движению и мягкому покачиванию поезда. На обед — салат из капусты с яблоками, холодное мясо, нарезанные ломтиками фрукты. Замечательно. Последняя остановка — Барабинск в 300 километрах от Новосибирска. Я раньше думала, что это от слова «барабан». Ничего подобного: название городу дала степь Бараба, раскинувшаяся между Обью и Иртышем. Транссибирская магистраль делает здесь остановку, но вокзал очень прост, здание шестидесятых годов…
По возвращении, всегда опасаясь упустить что-нибудь важное, я роюсь, ищу в интернете… И вдруг пропасть открывается под моими ногами: я прошу прощения у россиян, которые будут меня читать, я не хочу их обременять воспоминаниями о прошедших временах, но это действительно, как разверзшаяся пропасть под моими ногами. Пропасть ужаса, бесконечных страданий, отчаяния. Я останавливаюсь, измеряю разницу между тем путешествием, что я проделала весной, и тем, что проделала теперь, погрузившись в то, что оно от меня прятало.
Барабинск — родной город Анатолия Марченко. Возможно, это имя вам ни о чем не говорит, но позвольте мне на минуту остановиться. Когда я корректировала этот рассказ, в интернете я обнаружила, что он родился в Барабинске. Вот что я знаю о нем: он умер в тюрьме во времена перестройки после 11 лет заключения. Ужасная смерть после объявления голодовки. Я поискала еще информацию и проследила его жизненный путь. Рабочий, затем стал писателем и диссидентом. Какая светлая голова! Его деятельность началась в пятидесятые годы, следствие которой — десятилетие тюрьмы. Он не остановился: протестовал против содержания лагерей после смерти Сталина, против ввода танков в Прагу в 1968 году и вновь протестовал в 1975 против нарушения Хельсинкских соглашений. И снова тюрьма. Горбачев ничего для него не сделал. 1986 год! Перестройка, однако! Надежда, оттепель, гласность! Нет: страшная смерть на тюремном матрасе в Чистополе в Татарстане в 130 километрах от Казани. После этого я искала и нашла книги Анатолия Марченко. Например, «Мои показания», в которой он рассказал о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х годов. Нельзя, чтобы память о нем стерлась совсем. Русская весна возникла на всех этих трупах.
Мы, западные люди, одно время (или долгое время!), очарованные коммунизмом, «вернулись из него» окончательно в 1970-е и 1980-е годы (Жид даже в конце тридцатых). Но этот порыв и одобрение, а затем резкое отторжение нам ничего не стоили: мы поигрались с жизнью других, мы тоже были причастны к их смерти.
Мимолетный взгляд на Иртыш: реки обладают успокаивающей красотой, которая несколько компенсирует тоску от вида покинутой деревни. Это тема разговора с нашими гидами: большая часть Сибири еще не записана в кадастре, и повсюду русская деревня умирает. Феномен, который начался не вчера и является последствием разрушительной политики большевиков по отношению к крестьянам, считавшимся естественными противниками революции: насильственная коллективизация, сопротивление крестьянства, закончившееся самыми ужасными репрессиями. Даже если сельское хозяйство необходимо, чтобы удовлетворить первейшие потребности человека, крестьянство не принимается в расчет. Их яростная привязанность к частной собственности, право на которую было признано только немногим более 50 лет назад (в 1861 году, после отмены крепостного права), рассматривалось как показатель их преданности старому режиму, а их религиозная вера — как показатель их отсталости. Я опять цитирую статью Доминика Жобара, о которой я уже говорила. В ней пишется о том, что в 1872 году в газете International Herald в статье без подписи, но, вероятно, автором которой являлся Маркс, можно было прочесть следующее: «Сельское хозяйство находится в еще докапиталистическом состоянии. Следовательно, нужно объединить участки земли […] для того, чтобы смочь, когда грянет революция, национализировать эти большие поместья и развить там социалистическое сельское хозяйство, для того чтобы удовлетворить всех нуждающихся». Мнение самих крестьян никто и не спрашивает. По своей природе они являются контрреволюционерами: вспоминается известное определение Маркса в «18 брюмера Луи Бонапарта»: крестьяне не составляют класса, они — как «мешок картошки». Не Энгельс ли написал: «Крестьянин может стать революционером, только тогда, когда он перестанет считать себя крестьянином»?
Размышляли ли мы так в 1793 году в Вандее?
Российское крестьянство больше к этому не вернулось… А теперь уже и поздно. Старые пружины лопнули.
…И опять степь и полузаброшенные деревни. Я снова погружаюсь в размышления: умирание деревень и вообще деревни — не является ли это гибелью целой цивилизации со своим образом жить, говорить, думать? Без всякого сомнения с ней исчезнут или уже исчезли и мысли и слова тех, кто уже вышел из русской деревни. Чтобы получить об этом представление, достаточно прочесть рассказ Лескова «Очарованный странник». Свобода, смелость, примитивный анархизм, разум, пренебрежение к смерти, душевная боль — все это выросло из народной культуры, из народного образа жизни, который уже исчез: в некоторой степени из-за школы, всеобщего образования. Сколько «мудрецов», стариков и старушек со своей жизненной философией остались в чернобыльских деревнях! Такого сегодня нет нигде в мире, кроме некоторых стран с арабо-мусульманской цивилизацией. Один из недавних фильмов, правда, показывает поселение нескольких русских экологов в заброшенной деревне, которую они восстановили. Но не это направление предпочитают в верхних эшелонах власти. Сейчас времена не возрождения деревни, а проектов «фараонных» масштабов, строительства огромных городов на юге Сибири. Кто-то проходит по вагонам с «Вечерним Екатеринбургом», который нас приветствует статьей под названием «Беллетризм из „Belle France“» («Изящная словесность из „Belle France“»), А в самом деле, откуда это выражение «Belle France» — «Прекрасная Франция»? Сегодня это просто сорт крекеров компании «Франкап Дистрибюшн». Кто осмелился бы его сегодня употребить, кроме как Жорж Дариен в насмешку? Или Национальный фронт, понося иммиграцию и вторжение ислама? Я немного сплю, пытаюсь читать, заняться русским и в конце концов отдаюсь движению и мягкому покачиванию поезда. На обед — салат из капусты с яблоками, холодное мясо, нарезанные ломтиками фрукты. Замечательно. Последняя остановка — Барабинск в 300 километрах от Новосибирска. Я раньше думала, что это от слова «барабан». Ничего подобного: название городу дала степь Бараба, раскинувшаяся между Обью и Иртышем. Транссибирская магистраль делает здесь остановку, но вокзал очень прост, здание шестидесятых годов…
По возвращении, всегда опасаясь упустить что-нибудь важное, я роюсь, ищу в интернете… И вдруг пропасть открывается под моими ногами: я прошу прощения у россиян, которые будут меня читать, я не хочу их обременять воспоминаниями о прошедших временах, но это действительно, как разверзшаяся пропасть под моими ногами. Пропасть ужаса, бесконечных страданий, отчаяния. Я останавливаюсь, измеряю разницу между тем путешествием, что я проделала весной, и тем, что проделала теперь, погрузившись в то, что оно от меня прятало.
Барабинск — родной город Анатолия Марченко. Возможно, это имя вам ни о чем не говорит, но позвольте мне на минуту остановиться. Когда я корректировала этот рассказ, в интернете я обнаружила, что он родился в Барабинске. Вот что я знаю о нем: он умер в тюрьме во времена перестройки после 11 лет заключения. Ужасная смерть после объявления голодовки. Я поискала еще информацию и проследила его жизненный путь. Рабочий, затем стал писателем и диссидентом. Какая светлая голова! Его деятельность началась в пятидесятые годы, следствие которой — десятилетие тюрьмы. Он не остановился: протестовал против содержания лагерей после смерти Сталина, против ввода танков в Прагу в 1968 году и вновь протестовал в 1975 против нарушения Хельсинкских соглашений. И снова тюрьма. Горбачев ничего для него не сделал. 1986 год! Перестройка, однако! Надежда, оттепель, гласность! Нет: страшная смерть на тюремном матрасе в Чистополе в Татарстане в 130 километрах от Казани. После этого я искала и нашла книги Анатолия Марченко. Например, «Мои показания», в которой он рассказал о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х годов. Нельзя, чтобы память о нем стерлась совсем. Русская весна возникла на всех этих трупах.
Мы, западные люди, одно время (или долгое время!), очарованные коммунизмом, «вернулись из него» окончательно в 1970-е и 1980-е годы (Жид даже в конце тридцатых). Но этот порыв и одобрение, а затем резкое отторжение нам ничего не стоили: мы поигрались с жизнью других, мы тоже были причастны к их смерти.
К вечеру мы прибыли в Новосибирск.
Новосибирск. Тот же день
17 часов 15 минут. Вечер еще не наступил, а мы уже оказались на платформе вокзала, сооруженного в 1893 году при строительстве Транссибирской магистрали недалеко от моста, перекинутого через Обь. Теплый воздух. А ведь всего месяц назад, в конце апреля, здесь было минус 35 градусов. Как всегда, нас ждет небольшая делегация, оркестр, хлеб-соль, и группа девчат в желтом держат бандероль, на которой по-французски написано: «Добро пожаловать к сибирякам». Слово «Сибирь» и прилагательное «сибирский» нужно теперь ассоциировать и с менее условными, нежными и веселыми образами: с образами сегодняшних людей, с сегодняшней российской Сибирью. Угрюмые зимние картины, ужасный холод, промерзшая земля, бесконечная история депортаций… Нужно на некоторое время отстраниться от этого: не для того, чтобы о них забыть, — кто смог бы это сделать? — а для того, чтобы позволить жить живущим сегодня. Мы собираемся на большой площади перед вокзалом. Нам открывается странный «вокзал в форме вагона», как говорят гиды. Да, добавили к этому локомотив и несколько зданий в форме вагонов, чтобы создать иллюзию железнодорожного состава… К 18 часам мы уже устроились прямо напротив в гостинице «Конгресс». Уют, качественное обслуживание, современные номера в прекрасном состоянии, как везде. Возможно, не в этом случае, но цены в гостиницах, переоборудованных или построенных в России начиная с девяностых годов, очень высоки — в Хилтоне, например, до 300 долларов за ночь. Несмотря на предоставляемый комфорт, наша гостиница уж больно некрасива: однообразный фасад 20-этажного здания, ни одного балкона, маленькие квадратные окна и цвет серого бетона. Вот что я быстро записала из того, что мне говорили: в общем, уровень жизни в полуторамиллионном Новосибирске, самом большом городе Сибири, довольно высокий. Нет ничего действительно старинного в этих городах, которые до прокладки Транссибирской магистрали были просто большими деревнями. Первое кирпичное и каменное здание было построено в 1896–1899 годах — это собор Александра Невского…
Сегодня это современные города, которые развивает посткоммунистическая Сибирь: каждая вторая семья имеет автомобиль, чаще всего подержанный японский, привезенный из Владивостока с рулем с правой стороны. Есть поговорка: «Автомобили рождаются в Японии, но умирают в Сибири». Мы быстро устраиваемся и идем ужинать в ресторан «Экспедиция» на улице Железнодорожной.
После ужина (меню которого я тщательно записала: салат, суп с фрикадельками, мясо, мороженое, водка и вино) я вижу, что еще не поздно, по весеннему тепло, и спрашиваю, как пройти до гостиницы пешком (это совсем не сложно, все время прямо). И вот я на улице. Быть там одной, никого не зная, всем безразличной, доставляет мне чрезвычайное удовольствие. Я постоянно ищу такие минуты одиночества. Не для того, чтобы сбежать от группы и моих друзей, а потому, что я из опыта знаю, что нужно быть одной, чтобы вещи прояснились. Я иду, даже не фотографирую, я жду, я очень внимательна, я знаю, что это придет, жду еще немного, и это приходит. Что? То, что я ищу: мир без меня. Прохожие, полностью погруженные в свою жизнь, о которой я ничего не знаю, даже меня не замечают. Громадные здания вдоль железной дороги, трава и деревья нежно-зеленого цвета, растущие повсюду. Солнце садится справа от меня, я замечаю дворы, откуда слышатся звуки телевизора, музыки. Я сворачиваю на минуту со своего пути, чтобы обойти здание. Теплый вечер, мальчишки играют, занимаются с мотоциклом, в другом дворе дикая сирень и силуэты автомобилей.
В 10 часов я уже в своей гостинице, умиротворенная тишиной и минутным знакомством с маленьким кусочком сегодняшней русской жизни. (Мне даже кажется, что он ее содержит всю целиком.)
Вот что я быстро записала из того, что мне говорили: в общем, уровень жизни в полуторамиллионном Новосибирске, самом большом городе Сибири, довольно высокий. Нет ничего действительно старинного в этих городах, которые до прокладки Транссибирской магистрали были просто большими деревнями. Первое кирпичное и каменное здание было построено в 1896–1899 годах — это собор Александра Невского…
Сегодня это современные города, которые развивает посткоммунистическая Сибирь: каждая вторая семья имеет автомобиль, чаще всего подержанный японский, привезенный из Владивостока с рулем с правой стороны. Есть поговорка: «Автомобили рождаются в Японии, но умирают в Сибири». Мы быстро устраиваемся и идем ужинать в ресторан «Экспедиция» на улице Железнодорожной.
После ужина (меню которого я тщательно записала: салат, суп с фрикадельками, мясо, мороженое, водка и вино) я вижу, что еще не поздно, по весеннему тепло, и спрашиваю, как пройти до гостиницы пешком (это совсем не сложно, все время прямо). И вот я на улице. Быть там одной, никого не зная, всем безразличной, доставляет мне чрезвычайное удовольствие. Я постоянно ищу такие минуты одиночества. Не для того, чтобы сбежать от группы и моих друзей, а потому, что я из опыта знаю, что нужно быть одной, чтобы вещи прояснились. Я иду, даже не фотографирую, я жду, я очень внимательна, я знаю, что это придет, жду еще немного, и это приходит. Что? То, что я ищу: мир без меня. Прохожие, полностью погруженные в свою жизнь, о которой я ничего не знаю, даже меня не замечают. Громадные здания вдоль железной дороги, трава и деревья нежно-зеленого цвета, растущие повсюду. Солнце садится справа от меня, я замечаю дворы, откуда слышатся звуки телевизора, музыки. Я сворачиваю на минуту со своего пути, чтобы обойти здание. Теплый вечер, мальчишки играют, занимаются с мотоциклом, в другом дворе дикая сирень и силуэты автомобилей.
В 10 часов я уже в своей гостинице, умиротворенная тишиной и минутным знакомством с маленьким кусочком сегодняшней русской жизни. (Мне даже кажется, что он ее содержит всю целиком.)
Париж, 26 января 2011 года
Резкий контраст: все газеты рассказывают об обстоятельствах взрыва, который произошел в понедельник, 24 января, в Москве в зале для прибывших (выдачи багажа) аэропорта Домодедово. Нужно ли в рассказе о путешествии оставлять место о событиях, которые произошли в то же время? То, что случилось в Москве, меня заставляет это сделать. Ввести в мое путешествие этот аспект действительности современной России… Две фразы. Одна ужасная, другая волнующая: «Обнаружена голова террориста-самоубийцы, молодого тридцатилетнего мужчины». И другая: «Вероятнее всего, это исламский след с Кавказа». Как же можно мирно думать о России, как я делала это до сих пор, о ее многокультурном настоящем в Татарстане, забыв о Чечне, об ужасной войне, которая развернулась там дважды? Забыв о присутствии на Кавказе далеко не мирного ислама с радикальными течениями? Во время пути я почитывала книгу норвежской военной корреспондентки Асне Серштад «Ангел Грозного». Я не ставлю под сомнение ее свидетельства, но одной из целей моего сегодняшнего путешествия была попытка опровергнуть следующее утверждение: «Россия = ужасы в Чечне, подавление кавказкой борьбы за независимость». Но я также должна отдавать себе отчет, что война явилась причиной религиозной активности на Кавказе. Рамзан Кадыров, русский человек, повел Чечню по пути радикального ислама, построил громадную мечеть и год назад ввел паранджу в университете. Не перешел ли он границы, впитывая ценности Аль-Каиды? Невозможно избежать этих мыслей или поставить это под сомнение, но насколько кажется далекой мечта о мирном сосуществовании с исламом, так восхваляемая в Казани!Опять в Новосибирске Пятница, 4 июня
Я не без труда приспособилась к новому времени пробуждения, так как не могу привыкнуть к постоянной смене часовых поясов Плохо спала, тем более что несколько раз меня будили звонки из Парижа (ошиблись номером). Я бы не придавала этому особого значения, но здесь это гибельно: у нас столько дел в течение дня, что совершенно невозможно предусмотреть хотя бы минутку послеобеденного отдыха. Но, в конце концов, «на вокзале как на вокзале», как любит говорить N. Нет времени об этом рассуждать, к 9 часам назначена первая встреча, нужно умыться, причесаться и т. д. Чудесный завтрак возвращает мне силы: йогурт, бутерброды, пироги с сыром, фрукты. На улице черное небо. Я присутствовала при прибытии S. G. и многих других, в том числе М. d. К., с которой я буду делить свое купе в поезде до конца путешествия. На новеньких смотрели доброжелательно, со скрытой снисходительностью бывалых солдат… После обязательной пресс-конференции мы разделяемся, D. F. и F. F. идут в консерваторию, а я остаюсь с группой, чтобы осмотреть город. Большинство названий улиц и площадей остались такими же, как в советскую эпоху: «Мэрия все оставила так, как есть, потому что это большой период нашей истории», — говорит наша гид, (та же самая, которая вчера начала свою речь следующими словами: «Возможно, вы знаете, что у нас здесь произошла Великая революция в 1917 году»). Статуя Ленина на большой площади, носящей его имя, относительно современная, так как она была построена к столетию его рождения в ноябре 1970 года перед театром оперы и балета. Ленин был большим любителем оперы и балета (и танцовщиц?). Это именно он инициировал строительство в Новосибирске театра оперы и балета. Еще раз здесь, как и в предшествующих больших городах, город обязан своим рождением Транссибирской магистрали. Его строительство было необходимым для российской власти, чтобы расширить свое влияние до конца континента и использовать главные пути сообщения с запада на восток для развития Сибири. Новосибирск зародился в то время, когда в 1897 году в экстремально трудных условиях удалось построить мост через Обь длиной 7000 метров: никто не подсчитал того количества смертей, которого стоила эта стройка. Долгое время это был простой остановочный пункт, деревня с разными названиями; невозможно в это поверить, когда видишь город, его классические здания, его архитектуру 1930-х годов, его оперный театр. В небольшом фильме о визите де Голля в Новосибирск в июне 1966 года я услышала такой комментарий: «Если иногда Новосибирск и покажется провинциальным городом, который очень быстро вырос, то только потому, что всего несколько десятилетий назад его называли „деревней в сердце самой большой территории в мире“»… Мало городов, в действительности, так часто меняли свои названия. В 1893 году это была новая деревня. Два года спустя он стал называться Александровский. В 1905 новое название Новониколаевский (в честь последнего из Романовых). Затем, в 1917 году, Новониколаевск и, наконец, в 1925-м — Новосибирск. Представляется, каким был вокзал Транссибирской магистрали в такой бескрайности. Длинный, высокий, массивный, но с украшениями, покрашенный в элегантный зеленый цвет, подчеркиваемый белыми аркадами и контрфорсами. Он и сегодня самый большой в Сибири.Тот, кто интересуется великими перемещениями народов, должен заинтересоваться и Новосибирском. Именно сюда были депортированы в 1941 году поволжские немцы, ошибочно обвиненные в сотрудничестве с врагом. Треть из них были уничтожены или умерли во время депортации. Они сами были выходцами из переселенного народа: немцами с юго-запада Германии, которые по приглашению Екатерины II приехали колонизировать Саратовскую губернию. Их реабилитировали в 1964 году. После 1990 года более двух миллионов из них вернулись в Германию. А еще глубже именно после Новосибирска начинаешь понимать, до какой степени Сибирь является землей завоеваний. Сибирь! Сибирь! Это слово звучит, как военный клич… Вперед, вперед! Пройденная и исследованная в XVII веке казаками, которые в 1639 году достигли Тихого океана, Сибирь постепенно колонизировалась царями в следующем веке. Земля, заселяемая иногда добровольно, а в большинстве случаев насильственно: депортация побежденных поляков, депортация староверов, депортация политзаключенных в течение нескольких веков. Большевистский режим систематически продолжает эту же практику заселения Сибири крестьянскими массами. ГУЛАГ растянулся также по всей ее территории от Уральских гор до Колымы. И до сих пор самые жестокие тюрьмы находятся в Сибири. Сибирь, говорят русские, это наша Австралия: каторжники и поселенцы. И как в США или Австралии, так и в Сибири есть то, что нужно называть культурным геноцидом. Коренные народы, туземцы и аборигены были согнаны, уничтожены или исчезли под тяжестью совершенно другого образа жизни.
…Наша программа, как обычно, чрезвычайно насыщенна, и не только по времени: множество визитов в день, многочисленные встречи, пресс-конференция, посещение школ, но и грандиозностью возникающих вопросов. Но возможно, еще больше эмоциями, вызываемыми воображением. В России все вас волнует чрезвычайно. Предполагается, что сегодня мы посетим одну из достопримечательностей советского периода: деревню ученых Академгородок, совершенно искусственное творение в глубине леса в тридцати километрах от Новосибирска. Но сначала нам хотят показать Железнодорожный музей. Это меня чрезвычайно радует, у меня страсть к поездам. Больше всего мне нравится путешествовать в вагоне (я комфортно себя ощущаю в Транссибирском экспрессе). Но к физическому удовольствию этого путешествия примешивается и другое, более тайное: поезд для меня — это живой символ того государственного устройства, которое я люблю, — Республики. Вместе со школой. Это именно они вывели из изоляции, как говорят сегодня, провинции Франции. Эту идею я формулирую впервые, но она во мне уже давно, я нашла подтверждение ей в книге Франсуазы Лорсери «Школа и этнический вызов: образование и интеграция». Именно с железной дорогой, школой и воинской повинностью происходит в начале Третьей республики то, что Эжен Вебер называет «концом провинциализма»: национальное единство и национальное самосознание. Многие люди это смутно чувствуют со щемящим сердцем, когда больше не пользуются железнодорожным путем, когда закрывают школу: что-то от республиканской идеи теряется. Это то, что случилось, когда отменили военную службу, а школа превратилась в неопределенную «педагогическую услугу». Желание стать железнодорожным служащим или учителем не имело целью, как сейчас пренебрежительно говорят, обретение «обеспеченности и стабильной пенсии», а значило участие в прогрессе. Прогресс как следствие образования и экономического развития. То же самое было в и России. С тем же самым двойным смыслом. К тому же была чудесная техника, которая развивалась вместе с железной дорогой. Кто из детей страстно не любил паровозы!.. А воспоминания о движении сопротивления, о «рельсовой войне»…
Музей поездов растянулся на многие гектары на железнодорожных путях, по которым они больше никогда уже не поедут. Локомотивы разных эпох, перекрашенные в их оригинальные цвета: черный, ярко-красный, зеленый, часто отмеченные впереди красной звездой… Также и вагоны, начиная с самых старых и неудобных до роскошных апартаментов с велюровыми и шелковыми скамейками (но в них еще не было туалетов, как, впрочем, и отопления). Как везде, где есть техника и история, возникает много эмоций. В музейной витрине медали воинов Великой Отечественной войны. Я не могу не назвать здесь их имен: Николаев Василий Борисович, Трубников Иван Ефимович. И опять на других перронах локомотивы разных лет, целые поезда с вагонами, надписями об их маршрутах. Между ними очень чистые широкие платформы. Слишком толстый слой краски придает им, как и старым кораблям, что-то вроде искусственной молодости. Но большая красная звезда, которая сияет впереди каждого паровоза, сохранила мистическую власть. Мирные, окончательно умолкшие, будто бы в витрине специализированного магазина модели больших, немного напыщенных игрушек в натуральную величину. Многие молодые пары приходят сфотографироваться перед ними или в салонах первых классов, украшенных тканями и занавесками…
 Самое ценное, что я сохранила: пилотка из газеты, которую сделала по моей просьбе одна рабочая несколькими быстрыми и умелыми движениями. Я ее сфотографировала в зеркале нашего вагона. Я хотела подарить эту пилотку моему дяде, который водит локомотивы всю свою жизнь, сначала на угле, а затем на электротяге. Я много о нем думала в тот день, о его добром лице, его чувстве юмора, рабочей походке, лукавых анекдотах, о его желании петь.
Затем мы поехали в Академгородок. В момент, когда перед тобой предстает действительность, которая для тебя пока только мифическое название, убеждаешься в парадоксальности путешествий: то, что видишь своими глазами, не может заменить никакое чтение, и всегда в недостаточной степени пользуешься возможностью увидеть… Несмотря на добрую волю и компетентность наших гидов, всего, что удастся увидеть, будет недостаточно. И это неизбежно. Нужно было до отъезда работать с книгами и документацией… Но я также знаю и следующее: то, что меня тревожит во время путешествия, ничуть не омрачая ощущения полного счастья, найдет свое решение спустя несколько месяцев.
Я уже это переживала и практиковала. Я знаю, что приобретаю опыт, самый ценный, к которому, вероятно, тянется вся моя жизнь: это форма познания мира, которая достигается, когда к пережитому путешествию добавляется путешествие по книгам. А когда пытаешься об этом еще и рассказать, то глубина познания удваивается.
Академгородок — это один из научных центров, построенных в Советском Союзе, чтобы обеспечить ученым наилучшие условия для их работы вдали от людской суеты. Этот центр был не единственным. Нужно было бы не спеша проанализировать этот сложный механизм научных исследований, в котором господствовал дух холодной войны: знаки внимания и уважения к науке никогда не скрывали идеологические и политические масштабы проекта. Это была форма войны против «империалистического блока».
Статья Мари-Лауры Кудер и Витторио Францечи («Преобразование бывшего закрытого города Кольцово») описывает в деталях огромный научный комплекс, окружающий Новосибирск, частью которого и являлся Академгородок. Кольцово, основанный несколько позже, в 1979 году, разместил лаборатории и служащих Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии. Это говорит о том, каково было его стратегическое значение и окружавшая его секретность. В 2003 году у Кольцово появился новый статус Наукоград. Академия наук СССР передавала некоторые свои секции в многочисленные регионы советских республик. Особенно самые отдаленные, такие как в ту эпоху Центральная Сибирь или Норильск на севере за Полярным кругом. Ведущие ученые должны были там жить и работать в ультрасекретных областях исследований (ядерной и бактериологической).
Быть ученым в ту эпоху было очень почетно, это наивысшая служба своему народу во имя «построения социализма». Это также обеспечивало целый ряд привилегий. Советский Союз был мастером в искусстве все это смешивать. Авторитарная природа режима создала смесь террора и государственного меценатства: исследователи и ученые имели такие условия работы и жизни, которых не знали не только остальные советские люди, но и обитатели Силиконовой долины в США. Взлелеянные, хорошо оплачиваемые, но запертые, тем не менее, вдалеке от всех и всего на прогалине сибирских лесов в тридцати километрах от Новосибирска. Загородный домик задом наперед… Так в 1957 году был основан Академгородок, но в отличие от Кольцово он не был закрыт для иностранцев. Речь шла не только о поддержке определенного типа исследований, но и о навязчивой идее пятидесятых годов, как и всей новой российской истории, развитии Сибири.
Сибирь всегда была зоной полутени и полусвета: развитие и депортация, чистая наука и автократия.
Современная Россия перевела все это на мирные рельсы, и ранней весной 2010 года это небольшой, несколько строгий городок, немного печальный, как обычный спальный пригород… Но с первых же шагов, которые мы сделали по этим тихим улицам, стало понятно, в каком духе был задуман, вплоть до архитектурной компоновки, этот фаланстер научных исследований. Хорошо отапливаемые дома, библиотеки, лаборатории, рестораны, спортивные центры: удобства, даже сегодня далекие от уровня жизни остальной России. В интернете множество российских сайтов (на английском и французском языках) рассказывают об истории создания Академгородка. Трое друзей, члены Академии наук СССР, Лаврентьев, Соболев и Христьянович, решают переместить научные исследования высокого уровня по другую сторону Урала, на бескрайние просторы Сибири, богатейшие, но слабо развитые. В 1958 году недалеко от промышленного Новосибирска открывается отделение Академии наук Советского Союза. В течение нескольких лет создается академический центр — академический в советском смысле — с молодыми исследователями в области химии, информатики, математики, физики, сельского хозяйства. Советское правительство решает создать для них идеальные условия жизни и работы: современные здания в лесной гуще вблизи ботанического сада и огромной глади Оби, с искусственным пляжем и заведениями досуга. В номере «Правды» за 20 июля 1959 года в репортаже, посвященном открытию Академгородка, он описывается как «ансамбль богатых и удобных индивидуальных домов, каких мало в СССР». Это здесь «Силиконовая тайга» Советского Союза, торжественно открытая 26 сентября 1959 года большим концертом в Театре оперы и балета Новосибирска. В советскую эпоху здесь ничего не производилось, все получали из Москвы.
Генерал де Голль направился сюда в июне 1966 года во время долгого путешествия, которое он тогда совершил туда, что он всегда называл не иначе как Россия. Документальный фильм, снятый во время этого путешествия, очень волнует. Даже если это вовсе не было его целью. Так, на всем пути официальной делегации прекрасным летним днем видны улицы Москвы, можно видеть советских людей, женщин в цветастых платьях, мужчин в рубашках, полные лица, густые волосы. Это как исчезающая мечта или обманчивая внешность: видимость демократии и ее результата, так как за всем этим есть то, что все знают, и то, о чем Жид так хорошо сказал: «Народ, подвергнутый трагическому эксперименту».
Де Голль хотел увидеть Академгородок, и в перспективе мирного сближения стран Востока со своей стороны произнес одну из тех торжественных, но пустых фраз, неизбежных в официальном дипломатическом визите: «Франция смотрит на Академгородок не только с интересом, но и с восхищением». Это сказано, и, возможно, он так и думал. Он всегда говорил «Россия» и никогда — «Советский Союз», в этом видна идеологическая позиция из-за ее роли во Второй мировой войне, а также из-за ее достижений в научной области. В интервью советскому радио и телевидению он заявляет: «Проезжая Москву, Новосибирск, Ленинград, Киев, Волгоград, пролетая над вашими равнинами, реками, лесами и горами, видя рядом с собой ваших мужчин, женщин и детей, я наполнялся волнением, корни которого в глубинах истории». Были ли французы голлистами или нет, это были времена, когда холодная война отдалялась, и это все чувствовали. Россия, наверное, единственная страна в мире, где историческая глубина имеет космические масштабы…
Самое ценное, что я сохранила: пилотка из газеты, которую сделала по моей просьбе одна рабочая несколькими быстрыми и умелыми движениями. Я ее сфотографировала в зеркале нашего вагона. Я хотела подарить эту пилотку моему дяде, который водит локомотивы всю свою жизнь, сначала на угле, а затем на электротяге. Я много о нем думала в тот день, о его добром лице, его чувстве юмора, рабочей походке, лукавых анекдотах, о его желании петь.
Затем мы поехали в Академгородок. В момент, когда перед тобой предстает действительность, которая для тебя пока только мифическое название, убеждаешься в парадоксальности путешествий: то, что видишь своими глазами, не может заменить никакое чтение, и всегда в недостаточной степени пользуешься возможностью увидеть… Несмотря на добрую волю и компетентность наших гидов, всего, что удастся увидеть, будет недостаточно. И это неизбежно. Нужно было до отъезда работать с книгами и документацией… Но я также знаю и следующее: то, что меня тревожит во время путешествия, ничуть не омрачая ощущения полного счастья, найдет свое решение спустя несколько месяцев.
Я уже это переживала и практиковала. Я знаю, что приобретаю опыт, самый ценный, к которому, вероятно, тянется вся моя жизнь: это форма познания мира, которая достигается, когда к пережитому путешествию добавляется путешествие по книгам. А когда пытаешься об этом еще и рассказать, то глубина познания удваивается.
Академгородок — это один из научных центров, построенных в Советском Союзе, чтобы обеспечить ученым наилучшие условия для их работы вдали от людской суеты. Этот центр был не единственным. Нужно было бы не спеша проанализировать этот сложный механизм научных исследований, в котором господствовал дух холодной войны: знаки внимания и уважения к науке никогда не скрывали идеологические и политические масштабы проекта. Это была форма войны против «империалистического блока».
Статья Мари-Лауры Кудер и Витторио Францечи («Преобразование бывшего закрытого города Кольцово») описывает в деталях огромный научный комплекс, окружающий Новосибирск, частью которого и являлся Академгородок. Кольцово, основанный несколько позже, в 1979 году, разместил лаборатории и служащих Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии. Это говорит о том, каково было его стратегическое значение и окружавшая его секретность. В 2003 году у Кольцово появился новый статус Наукоград. Академия наук СССР передавала некоторые свои секции в многочисленные регионы советских республик. Особенно самые отдаленные, такие как в ту эпоху Центральная Сибирь или Норильск на севере за Полярным кругом. Ведущие ученые должны были там жить и работать в ультрасекретных областях исследований (ядерной и бактериологической).
Быть ученым в ту эпоху было очень почетно, это наивысшая служба своему народу во имя «построения социализма». Это также обеспечивало целый ряд привилегий. Советский Союз был мастером в искусстве все это смешивать. Авторитарная природа режима создала смесь террора и государственного меценатства: исследователи и ученые имели такие условия работы и жизни, которых не знали не только остальные советские люди, но и обитатели Силиконовой долины в США. Взлелеянные, хорошо оплачиваемые, но запертые, тем не менее, вдалеке от всех и всего на прогалине сибирских лесов в тридцати километрах от Новосибирска. Загородный домик задом наперед… Так в 1957 году был основан Академгородок, но в отличие от Кольцово он не был закрыт для иностранцев. Речь шла не только о поддержке определенного типа исследований, но и о навязчивой идее пятидесятых годов, как и всей новой российской истории, развитии Сибири.
Сибирь всегда была зоной полутени и полусвета: развитие и депортация, чистая наука и автократия.
Современная Россия перевела все это на мирные рельсы, и ранней весной 2010 года это небольшой, несколько строгий городок, немного печальный, как обычный спальный пригород… Но с первых же шагов, которые мы сделали по этим тихим улицам, стало понятно, в каком духе был задуман, вплоть до архитектурной компоновки, этот фаланстер научных исследований. Хорошо отапливаемые дома, библиотеки, лаборатории, рестораны, спортивные центры: удобства, даже сегодня далекие от уровня жизни остальной России. В интернете множество российских сайтов (на английском и французском языках) рассказывают об истории создания Академгородка. Трое друзей, члены Академии наук СССР, Лаврентьев, Соболев и Христьянович, решают переместить научные исследования высокого уровня по другую сторону Урала, на бескрайние просторы Сибири, богатейшие, но слабо развитые. В 1958 году недалеко от промышленного Новосибирска открывается отделение Академии наук Советского Союза. В течение нескольких лет создается академический центр — академический в советском смысле — с молодыми исследователями в области химии, информатики, математики, физики, сельского хозяйства. Советское правительство решает создать для них идеальные условия жизни и работы: современные здания в лесной гуще вблизи ботанического сада и огромной глади Оби, с искусственным пляжем и заведениями досуга. В номере «Правды» за 20 июля 1959 года в репортаже, посвященном открытию Академгородка, он описывается как «ансамбль богатых и удобных индивидуальных домов, каких мало в СССР». Это здесь «Силиконовая тайга» Советского Союза, торжественно открытая 26 сентября 1959 года большим концертом в Театре оперы и балета Новосибирска. В советскую эпоху здесь ничего не производилось, все получали из Москвы.
Генерал де Голль направился сюда в июне 1966 года во время долгого путешествия, которое он тогда совершил туда, что он всегда называл не иначе как Россия. Документальный фильм, снятый во время этого путешествия, очень волнует. Даже если это вовсе не было его целью. Так, на всем пути официальной делегации прекрасным летним днем видны улицы Москвы, можно видеть советских людей, женщин в цветастых платьях, мужчин в рубашках, полные лица, густые волосы. Это как исчезающая мечта или обманчивая внешность: видимость демократии и ее результата, так как за всем этим есть то, что все знают, и то, о чем Жид так хорошо сказал: «Народ, подвергнутый трагическому эксперименту».
Де Голль хотел увидеть Академгородок, и в перспективе мирного сближения стран Востока со своей стороны произнес одну из тех торжественных, но пустых фраз, неизбежных в официальном дипломатическом визите: «Франция смотрит на Академгородок не только с интересом, но и с восхищением». Это сказано, и, возможно, он так и думал. Он всегда говорил «Россия» и никогда — «Советский Союз», в этом видна идеологическая позиция из-за ее роли во Второй мировой войне, а также из-за ее достижений в научной области. В интервью советскому радио и телевидению он заявляет: «Проезжая Москву, Новосибирск, Ленинград, Киев, Волгоград, пролетая над вашими равнинами, реками, лесами и горами, видя рядом с собой ваших мужчин, женщин и детей, я наполнялся волнением, корни которого в глубинах истории». Были ли французы голлистами или нет, это были времена, когда холодная война отдалялась, и это все чувствовали. Россия, наверное, единственная страна в мире, где историческая глубина имеет космические масштабы…
После этой прогулки по «умным» аллеям научного городка мы направляемся к этнографическому музею. Именно там мы наконец узнаем ту часть истории, незнакомую большинству из нас, мне во всяком случае: прошлое сибирской глубинки до российской колонизации. Итак, я вхожу в этот музей, как двадцать лет назад в Нью-Йорке я вошла на Audubon Terrace, в музей, где тогда были выставлены этнографические экспозиции об «американских индейцах», затем перевезенные в Вашингтон. Хотя наше незнание Сибири и велико, это, однако, не только наша вина. Кто у нас о ней говорит? Какие книги, какие фильмы? Кроме Мишеля Строгова и век спустя рассказов о ГУЛАГе? Ничего о Сибири, об истории ее завоевания и колонизации. Еще меньше о тех, кто был ее жертвами. Благодаря многочисленным рассказам и, особенно, кино мы намного лучше осведомлены об исконной популяции индейцев Северной Америки и американского «Дальнего Востока», чем Дальнего Востока России. (Этот «дальний восток» не имеет ничего общего ни с Китаем, ни с Японией). Естественно, сравнение скоро заканчивается. Северная Америка — густонаселенный континент, а Сибирь — большая морозная пустыня, в которой еще многое нужно развивать. Впрочем, как и везде, как на других континентах до завоевания и колонизации живших там народов, которые иностранное присутствие массово истребило до того, как вновь заселить эти земли каторжниками и ссыльными поселенцами. Сибирь не исключение. Противопоставление этнографического музея и научного городка не кажется больше случайным. Когда полностью установилось господство, когда за лавками купцов и казацкими острогами-крепостями последовали знания и научные учреждения, когда повсюду установился доминирующий язык, настал момент обернуться в прошлое и отдать запоздалые почести народам, которых уже нечего опасаться. Музей тихий и провинциальный, прием спокойный и серьезный. У смотрительниц музея ворчливый и немного уставший вид тех, кто постоянно встречает группы детей или подростков, за которыми нужно все время наблюдать. Сидящий под портретом белокурого парня с медалями охранник даже на нас не смотрит. На нагрудном кармане его униформы можно прочесть: охрана. Сегодня это не оскорбительно, но у слова есть своя история: «охранка» (или охранное отделение) — это название тайной полиции в Российской империи в конце XIX века и вплоть до революции 1917 года. И после нее она не стала лучше. Женщина, которая занималась нами, сразу поняла, что мы не школьники в поисках парка юрского периода. Она начала с этимологии слова «Сибирь», что изначально вызывает трудности, так как там можно увидеть или тюркско-монгольское название, обозначающее «пустоту», или производное от русского слова «север». Или еще, я это теперь знаю, ханство Сибирь или река, которая его пересекает… Одно наверняка: если русская колонизация дала Сибири ее нынешний облик, то народы, жившие там прежде, вправе определить ее название. И именно их мне хотелось бы встретить, забравшись как можно дальше: быстрее в первый зал, может, исконные жители нас там ждут? Разочарование: я ищу первых здешних людей, а меня встречает громадный череп мамонта. Все погружение в прошлое как артиллерийская пристрелка: сначала перелет, потом недолет, а затем попадание в цель. Кто же они, в конце концов, первые народы, населявшие Сибирь? Енисейские племена не говорили ни на языке алтайской группы, ни на тюркско-монгольском, слово «Сибирь» принадлежит их преемникам. Но как же тогда они называли свою страну? Отсутствие этого слова или его незнание, наличие слов из разных языков для ее названия является доказательством того, что Сибирь — это повторно-возвратное изобретение; народы здесь чередовались: енисейцы, угро-самоеды, восемь веков спустя хакасы и уйгуры, затем монголы, татары и, наконец, русские-московиты… Сибирь: «пустота» или «север», сильный холод, ужасное сочетание в жизни тех людей, которые были сюда депортированы. Мороз и вправду очень сильный. Зимние температуры могут достигать 60 градусов ниже нуля. Житель Европы (до карикатуры) ассоциирует это слово с маркой холодильника или маркой зимних кальсон. И огромная метафизическая волнующая пустота. Дальний Восток был еще мало заселен в 1991 году (это подпитывало фантазмы китайского вмешательства, так как китайцев было очень много в пограничных районах). Представьте: тринадцать миллионов квадратных километров и сегодня около сорока девяти миллионов жителей — три человека на квадратный километр. В то же время Сибирь очень богата, но богатства ее недр длительное время слабо осваивались. Сегодня это пытаются исправить: с конца XX века огромные усилия были направлены на то, чтобы осваивать ее минеральные и нефтяные ресурсы. Но вернемся к туземцам. Вот и они, наконец, в следующем зале, в окружении одежды, оружия, предметов быта и представлены так тщательно и явно, как живые, даже если речь идет о замерзших мумиях, которых вечная мерзлота сохранила в том состоянии, в каком мы их сегодня видим. Первые енисейцы: эти мумии обнаружены около Новосибирска недалеко от границы Казахстана и Монголии, принадлежат кочевникам, жившим еще в железном веке (VII–V века до нашей эры), где-то в эпоху Гомера. Однако это намного раньше, чем Ермак, бывший разбойник, казак, пришедший на службу к Строганову, чтобы укротить татар Зауралья с согласия, а может, и по поручению Ивана Грозного. Могилами этих кочевников были курганы, похожие на скифские. Две мумии музея, мужчина и женщина, лежат в позе спокойного сна. Их хорошо сохранившаяся кожа кажется свежей и почти эластичной под татуировками. Чтобы избежать детских вопросов, их гениталии (или то, что от них осталось) прикрыли полосками желтой ткани. Внимание всех, естественно, приковано к женщине, «ледяной даме», обнаруженной в 1993 году археологом Натальей Полосмак. Она была похоронена в гробу из выдолбленного ствола лиственницы, и шесть коней были с ней в погребальной комнате. Снаружи на гробе были выгравированы картинки, изображающие оленей и снежных барсов. Красота мужской и женской одежды, их ткани, фасон, орнаменты просто чудесны. Прически тоже, особенно женские, приподнятые, стилизованные под оленя, а также их украшения и оружие… Все указываетна богатую и помпезную цивилизацию. На блюдах оленина, как можно было это все увидеть на первых выставках «Золота скифов», которые нас так впечатлили в восьмидесятые годы… Впервые реконструкция повседневной жизни и быта исчезнувшего народа в его естественном окружении, его жители, одежда не вызывают воспоминаний о доисторических экспонатах музея Grevin: красота и современность (не совсем удачное слово, но я не нахожу другого) их одежды придает им благородство, которое и смущает, и сближает с ними. На картине, которая представляет ее в полный рост, в вышитой ткани, переброшенной через плечо, с высокой изящной прической, «мисс Сибирь» изображена с красивым лицом Симоны де Бовуар. Отойдя на мгновение от группы, я сфотографировала настенную карту, чтобы на досуге ее изучить. Я только что заметила на ней, что совсем близко от нас (несколько сотен километров для Сибири — это не расстояние!) протекает река Абакан, последнее пристанище Агафьи, еще одной «мисс Сибирь», последней из семьи староверов, сосланных в Алтайскую глушь. После посещения быстрый обед и такой же быстрый поход в бутик, соседствующий с музеем. Там продаются шали очень оригинальных расцветок и мотивов, но глупый и неудержимый смех овладевает нами перед серыми и шершавыми льняными чулками, колготками и кальсонами огромных размеров…
И снова дорога. Мы едем в автобусе корейского производства с занавесками. Я немного дремлю, глядя на вышитые на подголовнике буквы «Добро пожаловать!», продублированные, насколько я понимаю, на корейском. Я пытаюсь восстановить силы (моральные и интеллектуальные больше, чем физические) для нашего следующего посещения языковой школы. Небольшая остановка у довольно посредственного памятника архитектуры из красного кирпича, собора Александра Невского, одного из первых каменных зданий Новосибирска. Я пыталась представить, но мне так это и не удалось, этот город деревней, которой он раньше являлся. Неовизантийский стиль 1890-х годов меня совсем не трогает. Массивные конструкции с короткими и мощными башнями, которые сплошь встречаются вдоль Транссибирской магистрали. Это типичный стиль второй половины XIX века (вместе с неорусским стилем, в котором построен собор Василия Блаженного): определенная манера укрепить могущество и пробудить русский национализм, подчеркнув при этом православные религиозные корни страны. Он также был в эту эпоху преимущественным архитектурным стилем и во Франции, хотя у католицизма было гораздо меньше причин, чем у православия, распространять византийские корни, как мы видим в Фурвьере, в соборе Богоматери, или в Париже в соборе Святого Сердца на Монмартре, или в Реймсе в церкви святой Клотильды и так вплоть до северной Африки!.. У входа попрошайка протягивает руку с отсутствующим видом и пустыми глазами. На ней надето платье-передник из цветастой крестьянской материи, голова покрыта платком с другим рисунком. Рядом с ней стоит мужчина, опирающийся на костыль. Центр города современный с огромными зданиями голубого стекла. Массивные и не элегантные, но по дороге к гимназии № 16 (французская) — несколько зданий тридцатых годов в чисто конструктивистском стиле. На крыше громадные буквы: «Дом культуры» и чуть ниже: «Октябрьской революции». Не нужно переводить. Как всегда, мы опаздываем; небольшая группа волнующихся преподавателей ждет нас на крыльце гимназии. В России гимназия — это и начальная школа, и колледж, и лицей вместе под русско-французскими флагами. Это школа с углубленным изучением французского языка. Позже я узнала, что в конкурсе, организованном Франкоманией в 2010 году по теме «Идиоматические выражения», именно ученица этой гимназии Анна Дубовик в категории 11–15 лет заняла первое место. Ее текст на французском и русском языках был о французском выражении, которое по-русски звучит как «вешать лапшу на уши». Я пообещала себе использовать его в речи, хотя оно кажется мне довольно загадочным. Радостные, краснощекие дети с горящими от нетерпения глазами, в традиционных костюмах встречают нас в холле цветами и воздушными шариками. Улыбающаяся маленькая девочка в блестящем зеленом платье преподносит нам хлеб. Преподаватели кажутся взволнованными и счастливыми, некоторые одеты в джинсы, но большинство в деловых костюмах и блузках. Мы идем в классы. Ученики встают, когда мы входим. Меня всегда волнует вид парт и школьных досок. Моя страсть к школам, в каких бы уголках мира я ни была, диктует мне всегда тысячу вопросов.
 Но на первый, который у меня возник здесь, я сразу получила ответ, так и не успев его задать: стены были украшены портретами великих русских писателей! (Я видела такое однажды во Франции в начальной школе в Экс-ан-Провансе.) Впечатление, усиленное учебниками 3-го и 4-го классов, где много текстов заимствованы из великой русской литературы (Лермонтов и т. д.) и совсем не короткие, а, наоборот, длинные, что во Франции предлагается детям 12–13 лет. (Я предпочитаю умно выбранные отрывки нужного размера: из них дети узнают много полезного.)
Мы переходим из класса в класс по очень тихим коридорам. Это из-за нашего визита? Ученики получили очень строгие указания? Мне передают учебник для 4-го — 5-го классов, первый уровень. Я нахожу там одно из самых известных стихотворений Булата Окуджавы. Вот как оно звучит:
Но на первый, который у меня возник здесь, я сразу получила ответ, так и не успев его задать: стены были украшены портретами великих русских писателей! (Я видела такое однажды во Франции в начальной школе в Экс-ан-Провансе.) Впечатление, усиленное учебниками 3-го и 4-го классов, где много текстов заимствованы из великой русской литературы (Лермонтов и т. д.) и совсем не короткие, а, наоборот, длинные, что во Франции предлагается детям 12–13 лет. (Я предпочитаю умно выбранные отрывки нужного размера: из них дети узнают много полезного.)
Мы переходим из класса в класс по очень тихим коридорам. Это из-за нашего визита? Ученики получили очень строгие указания? Мне передают учебник для 4-го — 5-го классов, первый уровень. Я нахожу там одно из самых известных стихотворений Булата Окуджавы. Вот как оно звучит:
Пятница, 4 июня и суббота, 5 июня В поезде на Красноярск
Вот мы в 4000 километрах от Москвы и все ближе и ближе к Агафье, отшельнице в тайге. Абакан, река, на берегах которой обосновались ее родители в 1938 году, протекает через саянские горы в 300 километрах к югу от Красноярска, куда мы прибудем в субботу поздним утром. Поезд едет неторопливо, со скоростью от 60 до 80 километров в час, по местности, где не слишком густой лес чередуется с редкими населенными пунктами, состоящими из нескольких бедных домиков. Знакомый пейзаж. Копны сена, крыши, покрытые рубероидом, прижатым камнями или бревнами, позади широкие сопки и опять лес, березы, лиственницы. Луга покрыты ковром желтых цветов, над которым покачиваются провода линий электропередач. Поезд движется, но мы не продвигаемся: колеса крутятся, поезд дрожит и качается, меняются пейзажи, а впереди у нас все еще половина пути. Мы околдованы и опьянены пространством. Этим бесконечным пространством, безграничной мощью, источником и порождением мира. Это физическое ощущение пространства-творца не покидает меня с самого начала нашего путешествия. …Наступает ночь. Мне дали книгу Захара Прилепина. У меня совсем не было времени даже начать ее читать. Сегодня я узнала, что он — член национал-большевистской партии, как и Эдуард Лимонов, с которым я познакомилась в Париже в 1993 году. Их газета называется «Лимонка» (Граната). Раньше они организовывали в России многочисленные демонстрации протеста, а у нас часто говорили о «красно-коричневых». Сейчас о них говорят меньше. Не знаю, каково их влияние. Я очень устала от долгого чтения и засыпаю крепким сном. …Подъем в 7 часов. Быстрый утренний туалет. Я немного сожалею о том времени, когда, как это видно из некоторых романов (английских), путешествовали со складным широким плоским тазом и «махровым мешком» (должно быть, он немного покрывался плесенью изнутри). Я тоже придумала что-то вроде душа, который действовал. Я вешала свою одежду на крючок (поднимала ее после каждого резкого толчка поезда), смачивала одно полотенце водой (надо много раз нажимать кран), обтиралась мокрым и вытиралась сухим полотенцем. Ощущение холода было приятным. Затем поход в вагон-ресторан с кем-нибудь из нашей группы, так как меня пугали эти шумящие тамбуры между вагонами: дверь хлопает, пол опасно двигается под ногами. Вновь в каждом вагоне спящие полураздетые тела. Сильный запах ног. Затем плацкартные вагоны и вновь один, два, три сидячих вагона; семьи, еще полностью не проснувшиеся дети кушают, сидя на коленях у матерей. Взгляды иногда безразличные, но всегда лишенные агрессии. Иногда какие-то жесты. Это меня удивляет: универсальные знаки, которые невозможно принять за проявления симпатии или любви…11 часов 30 минут: прибытие в Красноярск
Шестой этап нашего путешествия начиная с Москвы. Красноярск — это типичный город российского (колониального) присутствия: третий по величине город Сибири с 900 000 жителей, бывший казацкий острог, построенный на берегу Енисея в XVII веке против татар. Теперь это административный центр Красноярского края, простирающегося на 2 366 797 квадратных километров от монгольской границы до арктических морей. Название «Красноярск» он получил вместе со статусом города. Казаки под командованием Андрея Дубенского так назвали крепость, которую они построили, — Красный Яр… Незадолго перед прибытием в Красноярск мое внимание привлекло большое заброшенное фабричное здание в стиле 1930-х годов с выбитыми стеклами. На верхней части стены надпись, которую я так и не смогла расшифровать, кроме восклицательного знака на конце. Что-то есть исторически печальное в этом смехотворном полустершемся восклицательном знаке. На платформе шум, музыка, оживление, яркие цвета. Мы торопливо выгружаем наши дорожные сумки. Еще один из самых импозантных вокзалов. Их всего около девятисот вдоль Транссибирской магистрали, но только с десяток такого масштаба. На этот раз толстые, белые, мощные стены и зеленые или светло-бирюзовые крыши. На переднем плане небольшое здание с водруженным на него светло-зеленым куполом. Изящная металлическая арматура поддерживает и обрамляет большие проемы. Нас ждет небольшой казацкий отряд, одетый в шкуры из белого меха: папахи, бурки и черкески, тоже белые с двумя нагрудными патронташами, снаряженными ружейными патронами. Аккордеонист. Молодые округлые девушки с хлебом-солью… За ними, навсегда обездвиженный на приподнятом цоколе, сверкающий свежей краской паровоз «Серго Орджоникидзе», наш постоянный попутчик от самого Екатеринбурга…
Пауза. Вступает аккордеон, затем подхватывает маленькая дудочка, на которой играет самый рослый казак. Начинается танец. Женские костюмы очень к лицу, особенно прически, украшенные жемчужными клипсами. Однако ткань платьев слишком блестит, — видимо, посредственного качества. Эти фольклорные представления, сегодня только туристическая экзотика, уже не такие достоверные, как в советские времена, когда стремились придать новой власти национальную и историческую глубину.
Изящная металлическая арматура поддерживает и обрамляет большие проемы. Нас ждет небольшой казацкий отряд, одетый в шкуры из белого меха: папахи, бурки и черкески, тоже белые с двумя нагрудными патронташами, снаряженными ружейными патронами. Аккордеонист. Молодые округлые девушки с хлебом-солью… За ними, навсегда обездвиженный на приподнятом цоколе, сверкающий свежей краской паровоз «Серго Орджоникидзе», наш постоянный попутчик от самого Екатеринбурга…
Пауза. Вступает аккордеон, затем подхватывает маленькая дудочка, на которой играет самый рослый казак. Начинается танец. Женские костюмы очень к лицу, особенно прически, украшенные жемчужными клипсами. Однако ткань платьев слишком блестит, — видимо, посредственного качества. Эти фольклорные представления, сегодня только туристическая экзотика, уже не такие достоверные, как в советские времена, когда стремились придать новой власти национальную и историческую глубину.
Здесь, на сибирской земле, казаки повсюду. Это слово символизирует само покорение и российское присутствие на этих землях… Но слова — весомый символ… Или это отпечаток со времен холодной войны и созданный ими чрезвычайно отрицательный образ СССР? Но это слово не вызывает во мне положительных эмоций. Может, это также из-за национальной памяти о кампании 1812 года и их лошадях, пьющих из фонтана на Елисейских полях? Один любопытный документ, обнаруженный в интернете, описывает, как в 1814 году казаки под командованием графа Чернышева, в 1812 году полномочного представителя Александра I при Наполеоне, столкнулись под Орлеаном с французскими кирасирами. В 1880 году Антуан-Жуль Дюмесниль, «сенатор и вице-президент Генеральной ассамблеи департамента Луаре», публикует статью в Pithiviers («Слоеный пирожок») под названием «Казаки в Гатинé в 1814 году». Он написал длинную поэму, продиктовав ее мадам Минен в возрасте 82 лет. «Вот она, песня войны», — пишет он, воодушевленный скорее богом Марсом, чем Аполлоном и музами. Я процитирую только одно четверостишие, посвященное сражению при Эйлау: «И эти „славные“ казаки, / Боясь оказаться в плену, / Кричали друг другу: „Давайте отступим, / Сейчас кирасиры придут“». Казак, казак, казах: слова похожие, этимология пересекается, еще одно маленькое зернышко для пищи фантазии… …А вообще, я плохо знаю историю. Я говорю себе это, стоя на платформе вокзала Красного Яра, откладывая на возвращение, уже в который раз, внести ясность в этот вопрос. Кто такие казаки? Их история будет долгой и захватывающей. Наемники из-под Киева, их разделяют на несколько групп: украинские казаки, которые, в свою очередь, делятся на зарегистрированных (записанных) и запорожских (за днепровскими порогами), и донские казаки… Это благодаря им веками после их подчинения центральной власти осуществлялась безопасность южных и восточных границ: от Кавказа и до Урала, русское присутствие и русский порядок. Во время второй чеченской войны в интервью международной прессе в 1997 году Юрий Чуреков в черной традиционной казацкой форме атамана об этом сказал: «Мы давно умеем наводить порядок на Северном Кавказе». И в заключение: «Нужно посылать в Чечню не российские формирования, а только казаков, настоящих профессионалов». Комментарии излишни… Усмиренная дорога, которой мы направляемся во Владивосток, не всегда была такой. И намеки на это туристического ритуала совершенно непонятны неискушенному в глубинах истории… Это, однако, повод вернуться к Ермаку, которого я уже несколько раз кратко упоминала. В XVI веке, пишет Ярослав Лебединский в уже упомянутой статье, «казаки под предводительством славного Ермака в отместку предпринимают в 1582 году поход, оплаченный уральскими купцами-московитами, по покорению Сибири». Они захватывают Сибирь и вручают ее царю Ивану Грозному. «Они являются передовым ударным отрядом российской колонизации региона». Казаки вовсе не мирные люди, и они не отнюдь не прекращают бунтовать до тех пор, пока Петр Великий не подчиняет их своей власти. Последние большие казацкие бунты, такие как восстание Пугачева на Урале в 1772–1774 годы, были безжалостно подавлены. «Казаки превращаются в военное сословие, члены которого за различные привилегии и ограниченную внутреннюю автономию должны были нести долгую военную службу, в основном в легкой кавалерии. Их нещадно использовали в войнах, и известно, какие жгучие и мучительные воспоминания оставили они у французских захватчиков в 1812 году!» (Ярослав Лебединский). Подчиняющиеся центральной власти и тем не менее часто непокорные, приверженные своему образу жизни, своей «воинской демократии», своему диалекту, после 1917 года они смешались с Белой армией, несмотря на то что некоторая часть перешла на сторону красных, и затем были репрессированы Сталиным. В 1941 году некоторые примкнули к немецкой армии. Во времена расцвета Коммунистической партии Франции считалось плохим тоном слушать «Калинку» в исполнении хора донских казаков и хорошими тоном — в исполнении хора Красной армии… Не удивительно, что после 1991 года они захотели возродить свою культуру и традиции. Все это история, живая, обжигающая, часто непостижимая: «Наше прошлое непредсказуемо», — говорится в одной советской шутке. И это также верно, его нужно без конца переписывать и без конца пересматривать свои собственные суждения.
12 часов. Гостиница «Октябрьская». (Октябрь у русских как число 89 у французов, эквивалент революции). Прекрасная гостиница, как и в целом, весь город, создающий впечатление процветающего. Повсюду ухоженные лужайки, обрамленные каменным бордюром. Молодые деревца, терновник, вишня, акация — все уже расцвело. Перед нами здание двадцатых годов, дворец правосудия (попросту суд) Красноярского края и статуя в стиле ар-деко, тоже правосудие с весами в руках. Окружена фонтаном с короткими струйками воды. Все эти украшательства стали возможными благодаря Петру Пимачеву, мэру города, избранному в 1996 году. Это то, что вместе с прекрасными площадями и маленькими кафешками вдохновило корреспондента «Вашингтон Пост» написать, что уличная жизнь «кажется более итальянской, чем русской». Исторический центр повсюду отреставрирован, и некоторые даже упрекают мэра за излишнее его обновление в ущерб старым деревянным домам… Погода после нашего приезда испортилась, стало холодно и пошел дождь. Завтра нас ждет очень насыщенный день, и я чувствую огромную усталость и непреодолимое желание пропустить все мои обязанности, которым я добровольно подчинялась целую неделю, да еще в каком ритме! И потом, мне нужно найти подходящую сумку, чтобы складывать все подарки, которые нам дарят: книги по искусству, романы, подписанные самими авторами. И вот в 14 часов после обеда я прошу молодого университетского преподавателя стать моим проводником на вторую половину дня. Он преподает и где-то еще работает, я толком не поняла где. Частные уроки? Туризм? Переводы? Он соглашается, и мы отправляемся. Он «счастлив попрактиковаться со мной во французском». У него машина (японская с правосторонним рулем): меня зовут Сергей, говорит он. Вскоре я называю его Сережей. Еще больше похолодало, опять немного зимы и дождя, несмотря на цветение фруктовых деревьев на бульварах и тюльпаны на газонах. Маленькое недоразумение: Сергей считает, что я ищу красивую сумку, и привозит меня в бутик Гуччи, где они продаются по 500 долларов. Я объясняю: нет, мне нужна большая и прочная сумка, чтобы сложить туда много книг, такую пластичную шотландскую сумку, которыми пользуются рабочие-мигранты. «Я понял!» — говорит он, и вот мы оказываемся на рынке «Содружество». Мне даже не нужно в него углубляться, чтобы найти то, что я ищу. Тут же на лотке у пожилой женщины довольно бедного вида я покупаю ее за 40 рублей (около 1 евро). Продавцов на рядах больше, чем покупателей, и повсюду в основном куртки, брюки, рубашки китайского производства. Все, что здесь есть, можно найти на рынках Парижа. Все это сейчас привозится из Пекина. Его мать, говорит Сережа, будучи в отпуске в Испании, не смогла ему ничего привезти: и там те же посредственного качества китайские вещи, что и здесь на рынке «Содружество». Поскольку сейчас Россия является новым многообещающим рынком, то конкуренция между Китаем и Японией складывается в пользу последней, продукция которой лучшего качества… Но здесь все китайское и только китайское. Полная женщина монгольского типа, улыбаясь всеми своими (золотыми) зубами, хочет показать мне свой ларек; на ней поверх цветастого пуловера и цветастой юбки надета полосатая полярная куртка. Я спешу купить такую же, она кажется мне теплой. И в самом деле, она мне очень пригодится на следующий день в ущельях Енисея и еще через несколько дней на озере Байкал. …Возвращение в центр города: тающий снег, дождь, холодно. Вдалеке на холме небольшая церковь, в которой я так и не побываю… Тем хуже, я останусь в отеле до ужина, буду читать, просматривать свои записи, может, посплю, у меня нет никакого желания что-либо осматривать. Мне хочется примирить два противоположных чувства, возникающих во время этого путешествия. Одно — счастливое, лелеемое, переполняющее. А другое — более мрачное, тревожное и беспокоящее. Во время каждого посещения это повторяется: сначала радость открытия, легкое чувство потерянности в новой, непривычной обстановке, ощущение отпуска. Ноги еще дрожат от вибрации поезда, в голове еще слышен стук колес. Только что пересекли широкую реку по огромному железному мосту, и вот вокзал со своим гулом и красивыми зданиями. Деревянные двухэтажные дома середины XX века такие же, как и в Нижнем Новгороде… Но очень быстро возникает другое ощущение и возвращает меня в прошлое, на задворки истории… Откуда же эта необычная тревога, покидающая меня только в моменты любования весной, стирающая все и возрождающая какую-то неосознанную доверчивость? Которая, впрочем, быстро проходит. Периодически меня мучает беспокойство: что я вижу и что я понимаю? Я напрасно стараюсь ни на мгновение не терять внимания, но все мимолетом, надолго нигде не задерживаясь; и вот уже нужно вновь садиться в поезд и переводить время на час вперед… То же самое в поезде: я отдаюсь монотонному покачиванию вагонов на рельсах, движению, которое уносит все — деревни, горизонт — в бесконечную, непрерывную и бурлящую бездну прошлого, воспоминаний, будущего… Бесконечные города, качающиеся мосты над реками, леса, деревни из рассказов Лескова и новелл Чехова, красота голосов, песен и русского языка и эта торжествующая везде весна! А затем вновь возвращается ощущение, доводящее меня до слез: мне не говорят всего, что-то скрывают, я ничего не знаю; то, что я вижу, ничего не значит.
Название города Минусинск, например, я узнала спустя несколько месяцев после возвращения. Кто мне о нем сказал? Никто; даже не сказали об археологических раскопках и поселениях доисторических обитателей Сибири, датированных 1000 годом до нашей эры, обнаруженных там. Этот город расположен всего в 200 или 300 километрах от Красноярска, что, я повторюсь, ничто для Сибири. Ленин был там в ссылке в 1897–1900 годах. Но кто мне расскажет о том, что там произошло в 1920 году? Никто. Однако этот город, расположенный у слияния рек Минуса и Енисей, был театром ужасных событий в противостоянии большевиков и белых. Геолог Оссендовский рассказывает об этом в своей книге «Звери, люди и боги». У меня была эта книга с собой, но не было времени ее открыть. Вот что я обнаружила в ней после своего возвращения. Покинув Красноярск, Оссендовский следует вдоль Енисея в самый разгар таяния льда. Он пишет: «Наблюдая это невероятное отступление льдов, я остолбенел от страха и ужаса перед чудовищной картиной останков, которые принес Енисей своим очередным ежегодным ледоходом: это были тела казненных контрреволюционеров, офицеров, солдат и казаков бывшей армии правителя всей антибольшевистской России адмирала Колчака». Это только один пример из тысячи: в течение всего моего путешествия я не могла избавиться от ощущения, часто подтверждаемого, что тебя просто дурят тем, что говорят, и дурят тем, что не говорят… …В течение всей второй половины дня я одна у себя в гостинице, вдали от группы и беспечных искушений компании. Я собираюсь, я концентрируюсь на своих предчувствиях и ожиданиях, обещая себе наконец в них разобраться. Ведь вся история страны состоит из истории региона, города, человека. В Красноярске, а тем более в Екатеринбурге я убедилась, что это искусственно созданные города в интересах центральной власти (и это продолжается до сих пор: и город, и край обеспечиваются дотированными авиарейсами, чтобы способствовать продвижению на восток). Неумолимая логика принимается за дело с той поры, как за Уралом на берегу великой реки возникает казацкий острог. Именно по этой логике в 1825 году город, расположенный в 5000 километрах от Санкт-Петербурга, принимает восемь декабристов. По этой логике развития российского Востока между 1893–1896 годами строится самый длинный в ту эпоху железнодорожный мост с полигональной арматурной сеткой (я очень продвинулась в этом вопросе!). И в сталинскую эпоху это крупный центр ГУЛАГа. (Самым протяженным лагерем был Краслаг, или красноярский исправительно-трудовой лагерь (1938–1960 годы), состоящий из двух частей в Канске и Решетах.) И наконец, до 1991 года, как и Енисей, это закрытый для иностранцев город, так как его экономика теснейшим образом связана с военно-промышленным комплексом. Одна статья в «Экспрессе» (сентябрь 1993 года) сообщает, что в «нескольких километрах ниже по течению была построена сверхсекретная радарная станция, так же как и под землей возник целый город с ласковым названием Красноярск-26, который стал самым мощным в мире производителем плутония и новейших вооружений». По этой логике в эти часы покоя и тишины я догадываюсь обо всем только по каким-то крупицам. Она полностью опустошает меня, и чтобы успокоить тревогу в момент размышлений, в которые я погрузилась, включаю телевизор. Один из федеральных каналов передает документальные кадры времен Великой Отечественной войны. Я мало что понимаю, кроме нескольких слов, которые мне легче написать, чем произнести: победа, герои. (В русском языке нет звука «h», откуда и известная, как говорили раньше, крестовая гамма четырех Г: Гиммлер, Геринг, Геббельс, Гитлер.) Я опять вижу улицы Москвы, где А. V. мне об этом рассказывал. Мне кажется, что это была улица Энгельса, но вдруг я замечаю, что я ее перепутала с одной тогдашней Ленинградской улицей перед моей гостиницей, где покончил с собой Есенин, гостиницей «Англетер», объединенной с отелем «Астория», где Гитлер планировал организовать банкет победы, который так никогда и не состоялся. (Каждое путешествие переполняет и смывает предыдущее, но эта путаница мне не мешает получить правдивое и точное ощущение того, что для меня есть Россия: то, что можно описывать без конца всю свою жизнь.) Телевизионные кадры, особенно парад победы, меня волнуют. Я совсем забыла о том политическом контексте, который ему придают нынешние российские власти. Истина такова, что Советский Союз пожертвовал для победы в этой войне миллионы жизней своих людей. Герои вернулись домой в свои деревни и города. Красивые лица, красивые густые волосы. Парады, ордена, все трогает до слез. И песни, эти прекрасные солдатские песни, которые совсем не похожи на военные и воинственные, а совсем наоборот, в них все то человеческое, что остается в солдате в ярости и бешенстве бесчеловечной войны. Я не понимаю слов, но мне вдруг вспоминается анекдот из книги Орландо Фиже «Стукачи», посвященной тем, кто по очереди становились пособниками и жертвами режима. Писатель Константин Симонов в 1942 году был, как и Василий Гроссман, фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». Будучи женатым, Симонов влюбился в актрису Серову, которая сама была любовницей маршала Рокоссовского; их тогда называли СССР: «Союз Серовой, Симонова, Рокоссовского». С фронта Симонов пишет ей стихотворение: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди», которое он читает на публике. Солдаты учат его наизусть, цитируют в письмах, которые пишут своим, надписывают на танках и на татуировках на руках. Как и «Синенький платочек», эта песня сопровождала красноармейцев, воскрешая разлуку, ревность, страх быть забытым и замененным с точки зрения не только солдата, но и невесты, жены:
 …Я так и не вышла из гостиницы этим вечером 5 июня 2010 года. Но когда перед ужином я присоединяюсь к группе в холле первого этажа, я уже начинаю видеть все более ясно, лучше понимать смысл нашего путешествия и содержание моего репортажа о нем. Перед тем как сесть за стол у входа в ресторан «Кабинет», надо мной подтрунивают по поводу моего отсутствия после обеда. Я вовсе не хочу объяснять истинную причину этого и начинаю фотографировать какие-то старые фотографии, висящие на стенах холла.
…Я так и не вышла из гостиницы этим вечером 5 июня 2010 года. Но когда перед ужином я присоединяюсь к группе в холле первого этажа, я уже начинаю видеть все более ясно, лучше понимать смысл нашего путешествия и содержание моего репортажа о нем. Перед тем как сесть за стол у входа в ресторан «Кабинет», надо мной подтрунивают по поводу моего отсутствия после обеда. Я вовсе не хочу объяснять истинную причину этого и начинаю фотографировать какие-то старые фотографии, висящие на стенах холла.
Воскресенье, 6 июня: Красноярск, продолжение
В 9 часов перед гостиницей нас уже ожидает автобус: «Агафья, Даниель едет!» — раскатывается по перрону радостный голос. Я знаю, что если мы поедем к ущельям Енисея, то окажемся в километрах в 250 от затерянного в тайге уголка, где до сих пор живет единственная, кто выжил из всей семьи. С тех пор как я прочла книгу Василия Пескова «Таежный тупик» более пятнадцати лет назад, я не прекращала о ней думать, и более чем когда-либо, готовясь к этому путешествию. О ночах, которые она проводила по пояс в реке, расставляя сети, о ее ските, избе, полной куриного помета, о ее козочке, толстых псалтырях на старославянском, о ее детских рисунках, подписанных «петух», «собака», «рыба». Иногда, проснувшись среди ночи, она наблюдала над собой звездопад. Это не Дева Мария, не ее святые, а первые ступени ракет, стартовавших с Байконура, несколько южнее отсюда. При крушении вертолета в 2002 году недалеко от нее погиб генерал Лебедь при сомнительных обстоятельствах… «Крушение произошло утром недалеко от Абакана, города, расположенного в 3400 километрах к востоку от Москвы и в 300 километрах к югу от Красноярска, столицы края» по информации агентства «Новости». Если бы даже она об этом знала, ей от этого было бы ни холодно, ни жарко: она жила в эпоху Петра Великого, хотя и ездила на поезде и однажды даже летала на самолете. В ней не было ни малейшего страха; в окружении своих мешков с кедровыми орешками она все время только молилась. Но вот я концентрируюсь на дороге. В это утро нас сопровождают две полицейские машины, освобождая нам путь. Назначение нашей поездки — ущелья Енисея, плотина Дивногорска, самая большая гидроэлектростанция бывшего СССР. И деревня Овсянка, где родился и жил Виктор Астафьев, о котором к тому моменту я еще почти ничего не знаю. К весне 2011 года я еще ничего о нем не прочла. Но передо мной красивая фотография его лица русского рабочего или русского солдата. Мне следовало бы сказать «советского», каким он действительно был, несмотря на все свое «русистское» сопротивление. А впрочем, все это путешествие имеет типичный советский дух. И зачем на это жаловаться? Красота русского пейзажа, громадность промышленных предприятий, посещение дома, в котором родился писатель. На выезде из города ряды зданий средней высоты, это хрущевки с комфортом того времени. В конце последних пригородов открывается вид: вдалеке виднеются леса, небо светлое, с несколькими облаками. Я рассеянно слушаю основные объяснения, еще раз о том — но наш гид здесь ни при чем, я это уже где-то читала — что «Красноярск» обозначает «красную лощину», «яр», что Енисей делит Россию на две части, что его длина составляет 4000 километров, а ширина в устье достигает 20 километров. Я узнаю также, что Достоевский проходил через Красноярск по дороге в ссылку и что Чехов считал его «самым красивым городом Сибири». До строительства Транссибирской магистрали население Красноярска не превышало 10 000 жителей, но дорожная связь с Москвой уже была. Я отдаюсь движению автобуса, удовольствию езды по гладкому асфальту этой красивой горной дороги среди скал и деревьев. Затем меня поражает одна фамилия, и я даже не знаю ее правильного написания, но речь идет об открытии Сибири — со времен новосибирских мумий было не так много информации о ее прошлом и путешественниках, которые здесь сменялись. Речь идет о некоем «бароне де Бэйе», если я правильно поняла. Я тогда вообще почти ничего не знала ни о русских, ни об иностранных экспедициях в Сибирь. Его настоящее имя Жозеф Бертло, барон де Бэйе. Родился в 1853 году и умер в 1931 году, археолог и антрополог. В 1892 году Министерство иностранных дел отправило его в многомесячную командировку в Российскую империю. Она довела его до Сибири. Он привез оттуда множество предметов: керамику, доисторическое оружие, каменные орудия труда. С 1893 по 1897 годы он дарил это различным музеям, в которых сначала проводил лекции. Его красивая фотография есть в интернете, так же как и небольшой фильм (комментарий к которому, к сожалению, на русском языке, а субтитры на уйгурском или на татарском…), показывающий фотографии, отснятые им во время путешествия, в основном портреты, которые очаровывают разнообразием и правдивостью лиц… «Бюллетень антропологического общества Парижа» в 1-м томе (1899 год) приветствует пером своего президента доктора Капитан недавние открытия барона де Бэйе: «Вниз по течению от Красноярска господин де Бэйе исследовал в этом, как и в прошлом, году очень любопытные месторождения Ладейки. […] Он нашел там палеолитическую фауну, полностью сопоставимую с фауной Афонтова гора мустьерской эпохи. В прошлом году он показывал нам два очень красивых скребка из каменисто-клиновидной скалы, внешний вид которых абсолютно соответствовал палеолиту: а рядом с ними были обнаружены кости быка». И вот вновь Минусинск. «В 1000 километрах выше по Енисею окрестности Минусинска предоставили месье де Бэйе множество изделий из бронзы, среди которых очень интересный топор с наконечником в форме двух симметричных колец, острие копья, множество бронзовых ножей (и один железный такой же формы) с рукояткой, заканчивающейся кольцом». И вот мы уже во временах более ранних, чем мумии Пазилика… Во время революции 1917 года барон вновь в России. Его арестовали, но отпустили с Лубянки после вмешательства жены Троцкого Натальи Седовой… Немного мимолетом о ней, так как от нее потянется ниточка всей дальнейшей российской истории! Седова умерла во Франции в Корбее такой же убежденной антисталинисткой. Два письма, которые это доказывают: одно из Мехико в 1951 году, адресованное IV Интернационалу по поводу СССР: «В мире нет другой такой страны, где идеи и истинные защитники социализма подвергаются таким жестоким преследованиям». И еще одно из Франции в 1961 году по поводу маоистского Китая: «Я считаю нынешний китайский режим, как и режим российский, так как он построен по той же модели, таким же далеким от марксизма и пролетарской революции, как те от Франко и Испании». …Дорога извилиста, как и мои отвлечения. Сейчас это гора, и наши шоферы разворачиваются. По-русски такую извилистую дорогу называют «тещин язык», говорит наш гид. Заметим, что теща — это мать жены: это она для мужа как жало гадюки, и именно о ней рассказываются анекдоты. А о матери мужа и ее жестокости по отношению к невестке не говорится ничего. Огромные скалы причудливых форм возвышаются над лесами, столбы, служащие ориентирами, им дают даже свои названия: слоноподобные, бабушка, перо, внучка… И наконец, тайга! Слово, которое на местном диалекте значит «непроницаемая». Которую мы до теперешнего момента видели только из поезда. Сейчас мы углубляемся в нее по дороге: бескрайние просторы плотно стоящих деревьев. В этой части тайги деревни появились в XVIII веке и то только вдоль Енисея. Многие дома, которые мы видим сегодня, это дачи горожан. Слово, которое совсем не подходит тому, что оно обозначает, так как сюда приезжают больше не за отдыхом, а за работой на грядках в огородах. Но и лес тоже в хорошее лето — это ценный ресурс с кедровыми орехами, грибами, ягодами (ни один русский роман не обходится без сбора ягод!), растениями, медицинскими и ароматическими травами, медом, маслами и мясом дичи. Есть ли еще большие и опасные звери? Конечно! Волки, лисы, маралы и, конечно, медведи (я вспоминаю о том, который ходил вокруг скита Агафьи), летом приходящие в города. Останавливаемся возле ущелья реки. С другой стороны стоянки небольшой прицепной домик, покрашенный в ярко-зеленый цвет. Кто-то, должно быть, там живет, так как на веревке сушится белье и привязаны две собаки. Оттуда мы идем на площадку, с которой открывается вся панорама реки. Впечатляющая ширина, вдалеке горы, обрывистые склоны лощин, перерезанные полосами красной рудной глины… Вот откуда название Красный Яр… Затем мы спускаемся к реке. Ее берега очень обрывисты, но больше всего удивляет то, что, несмотря на широту реки, она имеет очень быстрое течение. Жуль Верн пишет: Мишель Строгов «знал Енисей, так как пересекал его уже много раз. Он знал его яростное течение,особенно в глубоком рукаве между островами». Как его пересечь? Путешественники в основном ждут зимы, чтобы пройти по льду. Но Мишель Строгов не может ждать: он ставит свою кибитку на плавучие бурдюки. Однако течение там такое быстрое, что кибитка достигает другого берега только в пяти верстах ниже. Это в общей сложности около одиннадцати верст (более десяти километров). Можно поверить ему на слово: Тургенев, которого Жуль Верн пригласил рецензировать его книгу, не нашел там ни одной ошибки…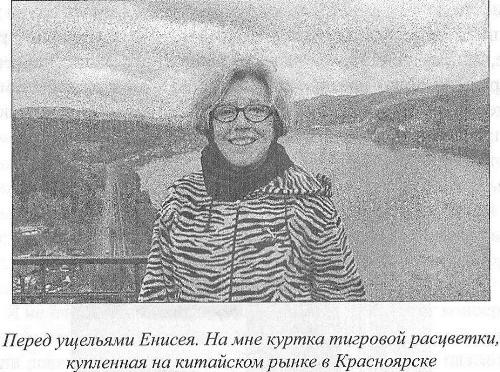 Вдалеке парят несколько птиц. Рыбаки готовят к спуску на воду моторную лодку. Вода с легким шелестом набегает на береговую гальку. Мы отъезжаем, теперь по направлению к деревне Овсянка, расположенной недалеко отсюда, где жил Виктор Астафьев. Всего несколько километров, и ее дома возникают на повороте дороги, немного в низине, с крышами из потемневшей от непогоды гонты, с резными ставнями, выкрашенными в темно-синий или ярко-зеленый цвет. Небольшие огороды скрываются за палисадниками. Обильная растительность окружает деревню и прячет ведущую к ней извилистую дорогу: кажется, что ты находишься на острове, а огромный лес представляется как море.
…Дом Астафьева сохранил скромность советской дачи, ограниченный комфорт, простые украшения, домашнюю утварь, предметы обихода, вышивку семидесятых годов. Астафьев родился в доме своей бабушки, совсем рядом отсюда, в 1924 году и вернулся в Овсянку провести остаток жизни (он умер в 2001 году).
Его жизнь очень похожа на судьбу Горького полвека спустя. Он получит, кстати, премию имени Горького в 1975 году: сирота, его мать утонула, когда ему было восемь лет, воспитанный своей бабушкой, он был то рабочим, то рыбаком… Добровольцем пошел на фронт в 1942 году, будучи всего восемнадцати лет от роду. Демобилизовавшись в 1945 году и обосновавшись на Урале, он посылает свои первые тексты в местную газету, которая их печатает и принимает его на работу журналистом. Потом будут рассказы для детей, повести о войне, романы о тайге, Енисее и сибирской деревне. В библиотеке, носящей его имя, некоторые его книги, красиво иллюстрированные в устаревшем стиле, разложены в витринах, в том числе французский перевод «Васюткино озеро».
Вдалеке парят несколько птиц. Рыбаки готовят к спуску на воду моторную лодку. Вода с легким шелестом набегает на береговую гальку. Мы отъезжаем, теперь по направлению к деревне Овсянка, расположенной недалеко отсюда, где жил Виктор Астафьев. Всего несколько километров, и ее дома возникают на повороте дороги, немного в низине, с крышами из потемневшей от непогоды гонты, с резными ставнями, выкрашенными в темно-синий или ярко-зеленый цвет. Небольшие огороды скрываются за палисадниками. Обильная растительность окружает деревню и прячет ведущую к ней извилистую дорогу: кажется, что ты находишься на острове, а огромный лес представляется как море.
…Дом Астафьева сохранил скромность советской дачи, ограниченный комфорт, простые украшения, домашнюю утварь, предметы обихода, вышивку семидесятых годов. Астафьев родился в доме своей бабушки, совсем рядом отсюда, в 1924 году и вернулся в Овсянку провести остаток жизни (он умер в 2001 году).
Его жизнь очень похожа на судьбу Горького полвека спустя. Он получит, кстати, премию имени Горького в 1975 году: сирота, его мать утонула, когда ему было восемь лет, воспитанный своей бабушкой, он был то рабочим, то рыбаком… Добровольцем пошел на фронт в 1942 году, будучи всего восемнадцати лет от роду. Демобилизовавшись в 1945 году и обосновавшись на Урале, он посылает свои первые тексты в местную газету, которая их печатает и принимает его на работу журналистом. Потом будут рассказы для детей, повести о войне, романы о тайге, Енисее и сибирской деревне. В библиотеке, носящей его имя, некоторые его книги, красиво иллюстрированные в устаревшем стиле, разложены в витринах, в том числе французский перевод «Васюткино озеро».
 В центре его воспоминаний, как для всех русских его поколения, война: она как «Затесь на сердце», так называется его альбом, посвященный войне. На старом телевизоре семидесятых годов установлен монитор, где по замкнутому кругу показывается документальный фильм «Астафьев и его читатели», снятый в 1982 году. Позванный на помощь S. переводит мне его слова: «Я сожалею только о двух вещах: о том, что не был на похоронах своей бабушки, и о том, что не смог похоронить своих павших боевых товарищей». Когда он попросил у своего начальника разрешения оставить завод и поехать на похороны, тот ответил: «Только на похороны матери или отца». «А для меня она была и за мать, и за отца», — скажет позже Астафьев. После возвращения я нашла одно интервью, которое у него взял журналист L’Express Марк Эпштейн в 1993 году. Астафьеву тогда было семьдесят лет. То, что его в то время беспокоило, это защита окружающей среды и ухудшение экологии, вызванное строительством Дивногорской плотины. «Эта несчастная река, ею так злоупотребляют… Люди из администрации меня обвиняют в том, что я препятствую прогрессу, они говорят, что я хочу жить без электричества. Да, я прекрасно без него обойдусь, если они уничтожат электростанцию и вернут все, как было! В кого мы превращаемся?»
Как Распутин или Белов, Астафьев принадлежал к группе писателей, иногда называемой русистами, которая возникла в семидесятые годы… Они смешивали в своих книгах националистические, экологические и славянофильские идеи, похожие нате же предшествующего столетия, где славянофилы призывали к аутентичности русского крестьянства, его обычаев, веры, выступали «против чужеродного влияния современности». В его деревне я поняла лучше, чем где бы то ни было, то, что Астафьев имел в виду и что он хотел сохранить: и реку, и русскую деревню, и свою деревню, память о бабушке, о Великой Отечественной войне. Я не очень сильно ошибусь, если скажу, что этот консерватизм не имеет ничего общего с шовинизмом и ксенофобией, разразившимися в начале девяностых годов. Это была позиция тех, кто называл себя славянофилами в прошлом веке, противодействуя «европейскому», «западному» отклонению России…
В семидесятые годы прошлого века модернизацию в России путали с курсом на гонку вооружений и промышленное развитие. «Русизм» Астафьева, как сказал другой писатель этого же течения В. Распутин, не только ностальгическое и болезненное возвращение в прошлое, это размышление о будущем: чего мы хотим? И он отвечает: наше будущее не в изобилии (тогда они жили в тотальном дефиците и бедности!), «пришло время подумать об ограничении наших нужд». Это тоже было одним из аспектов диссидентства в Центральной Европе. Это один из актуальнейших аспектов современного экологического сознания.
…Библиотекарь — совсем не пожилая женщина, но носит такие же очки, как у моей бабушки, а ее улыбка напоминает улыбку бывшей учительницы. Снаружи нас ждет женский хор. Мы уже слышали их высокие и чудные голоса. И хотя это часть туристической программы, лица этих женщин, их сильные голоса и лукавство их глаз дают ощущение чего-то настоящего, подлинного, которое там еще действительно есть.
В центре его воспоминаний, как для всех русских его поколения, война: она как «Затесь на сердце», так называется его альбом, посвященный войне. На старом телевизоре семидесятых годов установлен монитор, где по замкнутому кругу показывается документальный фильм «Астафьев и его читатели», снятый в 1982 году. Позванный на помощь S. переводит мне его слова: «Я сожалею только о двух вещах: о том, что не был на похоронах своей бабушки, и о том, что не смог похоронить своих павших боевых товарищей». Когда он попросил у своего начальника разрешения оставить завод и поехать на похороны, тот ответил: «Только на похороны матери или отца». «А для меня она была и за мать, и за отца», — скажет позже Астафьев. После возвращения я нашла одно интервью, которое у него взял журналист L’Express Марк Эпштейн в 1993 году. Астафьеву тогда было семьдесят лет. То, что его в то время беспокоило, это защита окружающей среды и ухудшение экологии, вызванное строительством Дивногорской плотины. «Эта несчастная река, ею так злоупотребляют… Люди из администрации меня обвиняют в том, что я препятствую прогрессу, они говорят, что я хочу жить без электричества. Да, я прекрасно без него обойдусь, если они уничтожат электростанцию и вернут все, как было! В кого мы превращаемся?»
Как Распутин или Белов, Астафьев принадлежал к группе писателей, иногда называемой русистами, которая возникла в семидесятые годы… Они смешивали в своих книгах националистические, экологические и славянофильские идеи, похожие нате же предшествующего столетия, где славянофилы призывали к аутентичности русского крестьянства, его обычаев, веры, выступали «против чужеродного влияния современности». В его деревне я поняла лучше, чем где бы то ни было, то, что Астафьев имел в виду и что он хотел сохранить: и реку, и русскую деревню, и свою деревню, память о бабушке, о Великой Отечественной войне. Я не очень сильно ошибусь, если скажу, что этот консерватизм не имеет ничего общего с шовинизмом и ксенофобией, разразившимися в начале девяностых годов. Это была позиция тех, кто называл себя славянофилами в прошлом веке, противодействуя «европейскому», «западному» отклонению России…
В семидесятые годы прошлого века модернизацию в России путали с курсом на гонку вооружений и промышленное развитие. «Русизм» Астафьева, как сказал другой писатель этого же течения В. Распутин, не только ностальгическое и болезненное возвращение в прошлое, это размышление о будущем: чего мы хотим? И он отвечает: наше будущее не в изобилии (тогда они жили в тотальном дефиците и бедности!), «пришло время подумать об ограничении наших нужд». Это тоже было одним из аспектов диссидентства в Центральной Европе. Это один из актуальнейших аспектов современного экологического сознания.
…Библиотекарь — совсем не пожилая женщина, но носит такие же очки, как у моей бабушки, а ее улыбка напоминает улыбку бывшей учительницы. Снаружи нас ждет женский хор. Мы уже слышали их высокие и чудные голоса. И хотя это часть туристической программы, лица этих женщин, их сильные голоса и лукавство их глаз дают ощущение чего-то настоящего, подлинного, которое там еще действительно есть.
 Мы покидаем Астафьева под волнующим впечатлением, что оставляем этот вид его дома и образ его жизни таким, какой она на самом деле и должна быть: простой, открытой природе и книгам. Но как же не видеть того, что действительность теперешней жизни этой деревни от этого значительно отдалена? Наша радостная группа поднимается по центральной улице обратно в автобус. И вдруг я почти столкнулась с пожилой рыжеволосой женщиной, которая, увидев нас, торопливо вышла из своей избы. Я не уверена, что она обращается лично ко мне, она говорит тихим, торопливым голосом. Н. N. мне переводит: «Все нам лгут». «Да, все нам лгут».
Мы покидаем Астафьева под волнующим впечатлением, что оставляем этот вид его дома и образ его жизни таким, какой она на самом деле и должна быть: простой, открытой природе и книгам. Но как же не видеть того, что действительность теперешней жизни этой деревни от этого значительно отдалена? Наша радостная группа поднимается по центральной улице обратно в автобус. И вдруг я почти столкнулась с пожилой рыжеволосой женщиной, которая, увидев нас, торопливо вышла из своей избы. Я не уверена, что она обращается лично ко мне, она говорит тихим, торопливым голосом. Н. N. мне переводит: «Все нам лгут». «Да, все нам лгут».
…В нескольких километрах отсюда, на обратном пути, вот он, враг Астафьева: большая плотина на Енисее, построенная совсем близко от деревень староверов. Другие автобусы останавливаются в том месте, откуда открывается великолепный вид: бурлящая пена закрывает весь низ сооружения, такого же величественного, как естественная гора. Мы недалеко от города Дивногорска, в нескольких километрах вверх по течению от Красноярска. Плотина, имеющая семьсот метров в длину и шестьдесят метров в ширину, напоминает гигантскую руку, останавливающую воду.
 Ее особенность: для компенсации большой разницы уровней придуман лифт для судов, принцип действия которого наш гид пытается нам объяснить (что в отношении меня совершенно бесполезно). Это самоходный паром без троса и противовеса, который на левом берегу реки позволяет поднять или опустить с одной ступени каскада на другую с перепадом высот до 100 метров суда водоизмещением до 2000 тонн. Я не все понимаю, но это неважно. Я охвачена этим зрелищем: тем, что продолжает зачаровывать, громадностью сооружения и не только его полезными сторонами, такими как электризация, развитие городов и сел, благосостояние, которое оно приносит. Я восхищена тем, что это победа человека над природой. В этом есть что-то прометеево.
Уже довольно давно я не питаю прометеевских иллюзий, так как знаю их разрушительные последствия. И не только экологические. Я даже выкинула несколько лет назад афишу, привезенную из России после предыдущего посещения, которая в то время меня привлекла. В напыщенном агрессивном стиле на фоне гаек и шестеренок белокурый мужчина, откинувшись всем телом назад, держит в мускулистой руке громадный разводной ключ; за ним в бесконечность уходят металлические конструкции моста, завода: «Мы строим социализм!» Эта форма социализма рухнула, оставив после себя промышленную пустыню — и не только в России: ею изуродован весь юг Богемии: высохшие или загрязненные озера или атомные подводные лодки, медленно загрязняющие воды Балтийского моря…
Однако у основания плотины мне наконец удается избавиться от энтузиазма, который порождает во мне весь ее вид… По возвращении статья в «Экспрессе», где я нашла интервью Астафьева, окончательно его уничтожает. В ней Астафьев дает ужасающие подробности о Дивногорской плотине, которая чуть меньше Асуанской, но не менее разрушительна. Ее водохранилище, пишет Марк Эпштейн, «в самом широком месте имеет протяженность двенадцать километров. Многие еще помнят, сколько деревень и полей было затоплено. Затем власти не стали обрезать верхушки сосен и елей, выступающих над поверхностью воды, что очень удивило поклонников водных лыж. Умирающий хвойный лес вызвал заражение воды фенолом („как сказано в толковом французском словаре Робер, это ядовитый антисептик, растворяющийся в воде и использующийся в фармацевтике, производстве пластмасс и красителей“), В спешке были затоплены и кладбища — людям даже не позволили забрать своих умерших. […] Сама плотина — это новое проявление „комплекса Фауста“, этой тяги к монументализму, которой отмечен сталинизм, а в больших сибирских проектах царствует Хрущев».
Победа над рекой, завоевание огромной Сибири — так же как и завоевание околоземного пространства с помощью спутников — должно было быть «конкретным доказательством счастливого продвижения к коммунизму…», подводит итог журналист. Какое-то время даже мечтали «повернуть вспять течение сибирских рек (которые текли на север) по направлению к пустынным районам Центральной Азии (на юге)»… А эта история с Лысенко о зерновых, которые должны расти зимой. В советскую эпоху была шутка, что можно совместными усилиями каждый год приближать урожай на несколько дней. Люди говорили: вперед, товарищи, скоро можно будет убирать хлеб в январе!
14 часов. Обед в ресторане «Маяк». Совпадение! История Дивногорской плотины уже окунула нас в экологическую тревогу. И Маяк — это также название города в Челябинской области на юге Урала, в котором при Сталине были созданы первые лаборатории по производству атомной бомбы. В пятидесятых годах тщательно скрываемая авария повлекла за собой заражение населенного пункта Мелино, полностью вымершего…
Быстрое возвращение в город, в 15 часов 30 минут нас ждут в библиотеке для слабовидящих. Уже в течение тридцати лет она является гордостью красноярских властей. Библиотека — это здание громадных размеров, где нас встречают со всей торжественностью, которую диктует его архитектура и предназначение: предложить слабовидящим города и края все богатства литературы, культуры и науки. Краевой бюджет мне кажется, однако, не очень большим (7 000 000 рублей), или я неправильно записала. Бюст Брайля украшает вход в один из залов, но есть также и записанные тексты и даже книги, записанные на пленку. Я думаю о Дидро, о его «Письме о слепых» и о вопросе, который всегда погружает меня в тревогу: что может представить себе человек, слепой от рождения, когда он что-либо ощупывает? Перед нашим отъездом нам предложат сделать запись для библиотеки и ее читателей. Я импровизирую стихотворение, которое тут же переводит S.: «Три великие реки мы прошли, / Волгу…» и т. д.
Церемониальные, дружелюбные, немного напыщенные ответственные работники вчетвером объясняют нам, в чем состоит их работа, и в завершение предлагают прохладительные напитки, пирожные и дарят очень красивый разрезной нож для бумаги. Больше всего меня растрогали молодые слепые девушки, занятые изготовлением бумажных птиц. Сжимается сердце при виде этих ловких белых пальцев, складывающих тонко нарезанные полоски бумаги, в то время как их лица и глаза кажутся далекими и отключенными от происходящего.
Ее особенность: для компенсации большой разницы уровней придуман лифт для судов, принцип действия которого наш гид пытается нам объяснить (что в отношении меня совершенно бесполезно). Это самоходный паром без троса и противовеса, который на левом берегу реки позволяет поднять или опустить с одной ступени каскада на другую с перепадом высот до 100 метров суда водоизмещением до 2000 тонн. Я не все понимаю, но это неважно. Я охвачена этим зрелищем: тем, что продолжает зачаровывать, громадностью сооружения и не только его полезными сторонами, такими как электризация, развитие городов и сел, благосостояние, которое оно приносит. Я восхищена тем, что это победа человека над природой. В этом есть что-то прометеево.
Уже довольно давно я не питаю прометеевских иллюзий, так как знаю их разрушительные последствия. И не только экологические. Я даже выкинула несколько лет назад афишу, привезенную из России после предыдущего посещения, которая в то время меня привлекла. В напыщенном агрессивном стиле на фоне гаек и шестеренок белокурый мужчина, откинувшись всем телом назад, держит в мускулистой руке громадный разводной ключ; за ним в бесконечность уходят металлические конструкции моста, завода: «Мы строим социализм!» Эта форма социализма рухнула, оставив после себя промышленную пустыню — и не только в России: ею изуродован весь юг Богемии: высохшие или загрязненные озера или атомные подводные лодки, медленно загрязняющие воды Балтийского моря…
Однако у основания плотины мне наконец удается избавиться от энтузиазма, который порождает во мне весь ее вид… По возвращении статья в «Экспрессе», где я нашла интервью Астафьева, окончательно его уничтожает. В ней Астафьев дает ужасающие подробности о Дивногорской плотине, которая чуть меньше Асуанской, но не менее разрушительна. Ее водохранилище, пишет Марк Эпштейн, «в самом широком месте имеет протяженность двенадцать километров. Многие еще помнят, сколько деревень и полей было затоплено. Затем власти не стали обрезать верхушки сосен и елей, выступающих над поверхностью воды, что очень удивило поклонников водных лыж. Умирающий хвойный лес вызвал заражение воды фенолом („как сказано в толковом французском словаре Робер, это ядовитый антисептик, растворяющийся в воде и использующийся в фармацевтике, производстве пластмасс и красителей“), В спешке были затоплены и кладбища — людям даже не позволили забрать своих умерших. […] Сама плотина — это новое проявление „комплекса Фауста“, этой тяги к монументализму, которой отмечен сталинизм, а в больших сибирских проектах царствует Хрущев».
Победа над рекой, завоевание огромной Сибири — так же как и завоевание околоземного пространства с помощью спутников — должно было быть «конкретным доказательством счастливого продвижения к коммунизму…», подводит итог журналист. Какое-то время даже мечтали «повернуть вспять течение сибирских рек (которые текли на север) по направлению к пустынным районам Центральной Азии (на юге)»… А эта история с Лысенко о зерновых, которые должны расти зимой. В советскую эпоху была шутка, что можно совместными усилиями каждый год приближать урожай на несколько дней. Люди говорили: вперед, товарищи, скоро можно будет убирать хлеб в январе!
14 часов. Обед в ресторане «Маяк». Совпадение! История Дивногорской плотины уже окунула нас в экологическую тревогу. И Маяк — это также название города в Челябинской области на юге Урала, в котором при Сталине были созданы первые лаборатории по производству атомной бомбы. В пятидесятых годах тщательно скрываемая авария повлекла за собой заражение населенного пункта Мелино, полностью вымершего…
Быстрое возвращение в город, в 15 часов 30 минут нас ждут в библиотеке для слабовидящих. Уже в течение тридцати лет она является гордостью красноярских властей. Библиотека — это здание громадных размеров, где нас встречают со всей торжественностью, которую диктует его архитектура и предназначение: предложить слабовидящим города и края все богатства литературы, культуры и науки. Краевой бюджет мне кажется, однако, не очень большим (7 000 000 рублей), или я неправильно записала. Бюст Брайля украшает вход в один из залов, но есть также и записанные тексты и даже книги, записанные на пленку. Я думаю о Дидро, о его «Письме о слепых» и о вопросе, который всегда погружает меня в тревогу: что может представить себе человек, слепой от рождения, когда он что-либо ощупывает? Перед нашим отъездом нам предложат сделать запись для библиотеки и ее читателей. Я импровизирую стихотворение, которое тут же переводит S.: «Три великие реки мы прошли, / Волгу…» и т. д.
Церемониальные, дружелюбные, немного напыщенные ответственные работники вчетвером объясняют нам, в чем состоит их работа, и в завершение предлагают прохладительные напитки, пирожные и дарят очень красивый разрезной нож для бумаги. Больше всего меня растрогали молодые слепые девушки, занятые изготовлением бумажных птиц. Сжимается сердце при виде этих ловких белых пальцев, складывающих тонко нарезанные полоски бумаги, в то время как их лица и глаза кажутся далекими и отключенными от происходящего.
 Можно было бы подумать, что день закончен, но нет: нужно идти в книжный магазин «Топ-книга», в котором очень мало посетителей. Такая хорошая погода, все люди на дачах, слегка смущенно объясняют нам работники магазина. Как я их понимаю! Я удерживаю себя от разговора о пророке Аввакуме, опасаясь услышать то же, что молодая девушка в прошлый раз ответила на вопрос о Солженицыне: «Мы читаем Бегбедера!»
Я цитирую Улицкую, Аксенова, Маканина, Ерофеева. Вспоминаю, что сегодня день рождения Пушкина, родившегося 26 мая (или 6 июня по другому календарю). Я не очень хорошо помнила анекдот, чтобы его рассказать, я вспомнила его позже: он так любил читать, что его нашли спящим в библиотеке. Наши слушатели, в свою очередь, говорят о большом влиянии французской литературы. Но разве все это еще правда? Разве мы, французские авторы, все еще представлены в сегодняшней России? С тех пор, как Золя и реалисты XIX века исчезли вместе с СССР?
Улыбки, несколько автографов на книге на французском и русском языках, где собраны произведения каждого из нас. Потом — не могу поверить! — так как еще только 19 часов: филармония! Мы уезжаем из Красноярска поздно ночью, но перед ужином приглашены на один из тех концертов, которые я не очень люблю: «Шедевры мировой классики на берегах Енисея». В программе кроме прочего произведения Мендельсона и Рахманинова. Я должна признаться, что очень плохо знаю творчество Рахманинова. Но в этот вечер я открыла для себя очень красивое произведение — кантату «Весна». История казака, который хочет отомстить неверной жене, но наступает весна, и он отказывается от своего замысла. Нигде, как в Сибири, без сомнения, можно быть таким чувствительным к этой теме — в прямом и, мне кажется, в переносном смысле: кто может остаться бесчувственным, когда что-то грандиозное начинает происходить?
Красивые лица в оркестре и в хоре. Я фотографирую. Усталость улетучивается! И музыка добавляется к тому, что меня уносит. Радость и что-то еще. Покачивание, легкое головокружение и что-то вроде тревоги, как будто движение поезда продолжается в нас даже на остановках. Но это также и более потаенное чувство: чувство ускользающего времени… Медлительность нашего продвижения обязывает нас менять ритм и, несмотря на нашу очень насыщенную программу, находить что-то вроде ощущения античного, архаичного покоя по мере пересечения этого бесконечного пространства. Мы слегка забываем о нем днем, во время встреч, но как только мы останавливаемся, это ощущение возвращается. Возможно, это оно и защищает нас от усталости.
Чудо путешествия. И какого путешествия! Оно уводит нас назад к опыту, сегодня ставшему редким: опыту путешественников того времени, когда Дидро понадобилось два месяца пути, чтобы доехать до Петербурга, а Бальзаку две недели, чтобы приехать к своей возлюбленной мадам Ганской на Украину. Владивосток еще далеко, в самом конце этой железной дуги, которая следует округлости глобуса и которую мы пройдем как в старые времена, когда у людей не было другого выбора и пространство вынуждало их больше, чем сегодня, подчиняться времени…
Именно для этого время и пространство, небо и земля, обычно подгоняемые нашими заносчивыми желаниями, вновь обретают свое бесконечное великолепие, состояние новизны, в котором человек также чувствует себя новым. Путешествие на самолетах, эти абсурдные прыжки морских блох, которые мы постоянно делаем по поверхности планеты, не открывают нам мира. Они позволяют нам узнать самые отдаленные от нас уголки мира, но и сужают его: мир становится узкой тюрьмой, в которой мы обеспокоенно натыкаемся на стены… Это, несомненно, шок, опуститься на посадочную полосу, с глазами, воспаленными от южного солнца и от бессонницы, и изумление от краткосрочного столкновения с совершенно другим миром. Но смена часовых поясов — очевидное доказательство, что мы где-то очень далеко, не воссоздает в нас физического, телесного чувства принадлежности к конкретному миру, катящему свои составные части в бесконечность. Наоборот.
Иногда эта медлительность, это растяжение времени нас беспокоит, нервирует, вгоняет в страх: мы от этого давно отвыкли, медлительность для нас означает смерть. А с другой стороны, то, что воспринимается с радостью, мы скользим в этом медленном течении вещей. Сибирь, Сибирь!
Можно было бы подумать, что день закончен, но нет: нужно идти в книжный магазин «Топ-книга», в котором очень мало посетителей. Такая хорошая погода, все люди на дачах, слегка смущенно объясняют нам работники магазина. Как я их понимаю! Я удерживаю себя от разговора о пророке Аввакуме, опасаясь услышать то же, что молодая девушка в прошлый раз ответила на вопрос о Солженицыне: «Мы читаем Бегбедера!»
Я цитирую Улицкую, Аксенова, Маканина, Ерофеева. Вспоминаю, что сегодня день рождения Пушкина, родившегося 26 мая (или 6 июня по другому календарю). Я не очень хорошо помнила анекдот, чтобы его рассказать, я вспомнила его позже: он так любил читать, что его нашли спящим в библиотеке. Наши слушатели, в свою очередь, говорят о большом влиянии французской литературы. Но разве все это еще правда? Разве мы, французские авторы, все еще представлены в сегодняшней России? С тех пор, как Золя и реалисты XIX века исчезли вместе с СССР?
Улыбки, несколько автографов на книге на французском и русском языках, где собраны произведения каждого из нас. Потом — не могу поверить! — так как еще только 19 часов: филармония! Мы уезжаем из Красноярска поздно ночью, но перед ужином приглашены на один из тех концертов, которые я не очень люблю: «Шедевры мировой классики на берегах Енисея». В программе кроме прочего произведения Мендельсона и Рахманинова. Я должна признаться, что очень плохо знаю творчество Рахманинова. Но в этот вечер я открыла для себя очень красивое произведение — кантату «Весна». История казака, который хочет отомстить неверной жене, но наступает весна, и он отказывается от своего замысла. Нигде, как в Сибири, без сомнения, можно быть таким чувствительным к этой теме — в прямом и, мне кажется, в переносном смысле: кто может остаться бесчувственным, когда что-то грандиозное начинает происходить?
Красивые лица в оркестре и в хоре. Я фотографирую. Усталость улетучивается! И музыка добавляется к тому, что меня уносит. Радость и что-то еще. Покачивание, легкое головокружение и что-то вроде тревоги, как будто движение поезда продолжается в нас даже на остановках. Но это также и более потаенное чувство: чувство ускользающего времени… Медлительность нашего продвижения обязывает нас менять ритм и, несмотря на нашу очень насыщенную программу, находить что-то вроде ощущения античного, архаичного покоя по мере пересечения этого бесконечного пространства. Мы слегка забываем о нем днем, во время встреч, но как только мы останавливаемся, это ощущение возвращается. Возможно, это оно и защищает нас от усталости.
Чудо путешествия. И какого путешествия! Оно уводит нас назад к опыту, сегодня ставшему редким: опыту путешественников того времени, когда Дидро понадобилось два месяца пути, чтобы доехать до Петербурга, а Бальзаку две недели, чтобы приехать к своей возлюбленной мадам Ганской на Украину. Владивосток еще далеко, в самом конце этой железной дуги, которая следует округлости глобуса и которую мы пройдем как в старые времена, когда у людей не было другого выбора и пространство вынуждало их больше, чем сегодня, подчиняться времени…
Именно для этого время и пространство, небо и земля, обычно подгоняемые нашими заносчивыми желаниями, вновь обретают свое бесконечное великолепие, состояние новизны, в котором человек также чувствует себя новым. Путешествие на самолетах, эти абсурдные прыжки морских блох, которые мы постоянно делаем по поверхности планеты, не открывают нам мира. Они позволяют нам узнать самые отдаленные от нас уголки мира, но и сужают его: мир становится узкой тюрьмой, в которой мы обеспокоенно натыкаемся на стены… Это, несомненно, шок, опуститься на посадочную полосу, с глазами, воспаленными от южного солнца и от бессонницы, и изумление от краткосрочного столкновения с совершенно другим миром. Но смена часовых поясов — очевидное доказательство, что мы где-то очень далеко, не воссоздает в нас физического, телесного чувства принадлежности к конкретному миру, катящему свои составные части в бесконечность. Наоборот.
Иногда эта медлительность, это растяжение времени нас беспокоит, нервирует, вгоняет в страх: мы от этого давно отвыкли, медлительность для нас означает смерть. А с другой стороны, то, что воспринимается с радостью, мы скользим в этом медленном течении вещей. Сибирь, Сибирь!
21 час 30 минут. Ужин в ресторане «Урарту». Кто это, что это Урарту (сейчас у меня нет никакой возможности узнать об этом)? Жид где-то пишет, что путешествия вас ничему не учат. Я хорошо понимаю, что он имеет в виду: он, который смог извлечь уроки из своих поездок в Конго и в СССР. Жид говорит, что путешествия имеют смысл только при условии наличия первоначальных знаний, которые они либо оспорят, либо обогатят. Опыт без знания ничего не значит; и знание становится живым, активным и действующим, только когда чувственный опыт его стимулирует. (Сведения найдены: это название тюркско-монгольского ханства.) И теперь этого вполне достаточно на сегодня. Быстрее сесть в поезд, найти свои вещи, расстелить постель и отдаться медленному покачиванию вагона, чувствовать скользящие по тебе фонари перрона. И вновь тебя окутывает ночь, и вновь сон. Уже 1 час 15 минут 7 июня 2010 года.
Понедельник, 7 июня: двенадцатый день
…Мы должны провести в поезде весь день, наконец-то большой и чрезвычайно ожидаемый отдых! Однако проснувшись, я еще ощущаю тревогу, которой охватила меня уже исчезнувшая музыка. Вчера вечером на концерте я, не сопротивляясь, отдалась этому почти физическому чувству замедленного течения времени, смешанному с сокращением пространства. В темноте ко мне опять вернулось четкое ощущение этого пространственно-временного сплава, но уже менее приятное. Вытянутое положение, невозможность определить, где я, (который сейчас час, какая была последняя станция?), ритмичный стук колес и покачивание поезда, все совпало, чтобы растворить границы моего тела, моей личности, и принести, наконец, тошнотворную волну. Я опять засыпаю, но при пробуждении все та же тошнота. Завтракать я остаюсь в купе. От завтрака меня сразу же мутит, и действительно, что за глупая идея — холодный завтрак натощак, слоеные пирожки с мясом после бессонной ночи! Все смешалось, физика и метафизика. Образы и ощущения, все спуталось — кривизна земного шара, вращение Земли, открывающейся встающему солнцу. Я закрываю глаза. Все началось ночью. Я проснулась в полной темноте. Поезд только что остановился, и после его грохота наступила тишина. Наполовину опущенные занавески пропускали прерывистые блики света. Должно быть, мы проехали мост, это его лязг и разбудил меня. Несомая поездом в направлении, перпендикулярном положению моего вытянутого на полке тела, укачиваемая с головы на ноги и затем с одного плеча на другое бортовой качкой, я вдруг почувствовала, что меня уже нигде нет. Счастлив тот, кто может сам себя облегчить. Мое сознание трудно приспосабливается к таким потрясениям. Ни день, ни ночь больше не являются прочной системой отсчета, как и исторические времена. Ко мне возвращаются образы. Но куда ведут их следы, быстро теряющиеся в лесу? Водоемы, реки, вдруг несколько изб темного цвета, маленькое синее кладбище, вчера большой город, усеянный новыми зданиями, вокзалы, заброшенные заводы и снова деревня, лес и его бесконечная кудрявая зелень. Все сводится в одну точку, чтобы тотчас рассыпаться и рассеяться в бесконечности, погибшие, лагеря, зима. А я? Реки со стремительными потоками, стволы берез как белый занавес до самого горизонта, а я? Я больше ничто. Я прохожу, я скольжу, я рассеиваюсь, я боюсь. Тошнота возвращается, как несколько лет назад в Калькутте перед выставленными повсюду доказательствами нашей мимолетности в этом мире. Все наши телодвижения напоминают мне робкую напуганную ящерицу, затерявшуюся под солнцем в своем бесполезном беге. Сонное утро. Полдень в самом сердце тайги. Я пытаюсь думать о Красноярске, пышущем зеленью, о его маленьких деревьях ярких цветов. Города ободряют. Но они исчезли. Уступы темной и светлой зелени на склонах сопок вдалеке, но чаще всего вид закрыт густым бесконечным лесом. Радостно, когда видишь деревню. Две помятые машины на дороге, кладбище в синих крестах, коричневые крыши и ухоженные огороды. Затем все стирается, и вновь километры природы, где не ступала нога человека. Уже несколько дней я думаю об экспедиции Льюиса и Кларка, которая заняла у них два года. Они жили в местах, где никто не был со времен сотворения мира. Сибирь навевает мне эти образы начала мира, и от этого тоже кружится голова. Льюис и Кларк так и не смогли прийти в себя после пересечения таких огромных пространств и того, что они были свидетелями такого нетронутого великолепия. Вполне возможно, что смерть Льюиса была самоубийством.Поздним утром R. приносит мне кедровые шишки. Кто-то меня ими уже угощал перед Красноярском в честь отшельницы Агаты, для которой часто это единственная пища. Все о ней знают, это здешняя героиня. Я вновь засыпаю на некоторое время. Когда я проснулась, снаружи за окном ничего не изменилось. В лесах, которые кажутся непроходимыми, еще поблескивают лужи недавно растаявшего снега. А еще через неделю-две их наводнит мошкара. Серые крыши. Я не хочу терять ни одной минуты пейзажа и погружаюсь в эти наружные картинки, чтобы избежать приступов мучительной тошноты. Но так как моя полка расположена перпендикулярно движению поезда, я все время должна поворачивать голову, чтобы смотреть в окно… Я прислоняюсь к боковой стенке, ноги вытянуты, из других купе слышен смех, у меня вновь возникает желание поспать… Непродолжительный сон меня полностью восстановил. М. d. К. возвращается в наше купе, чтобы пообедать. Мы чистим сваренные вкрутую яйца, чтобы запить их вишневым соком. Я рассказываю ей эпопею Льюиса и Кларка. На десерт кедровые орехи, которые мы грызем без особого удовольствия. После полудня возвращается тревога, и меня опять тошнит. Я спрашиваю себя, метафизично ли это? Доказательством того, что нет, является то, что мне стало намного лучше после того, как я приняла одну или две таблетки, которые мне дал N., а ему, в свою очередь, его отец-врач от определенных расстройств…
В купе соседнего вагона корреспондент «Нового обозревателя» D. С. берет несколько интервью. Это было условлено накануне, и я иду туда с облегчением. У меня складывается впечатление возвращения в нормальный привычный мир с его обязанностями и пустяками, большое облегчение после этого блуждания без границ… Назови мне основание, сильный мотив этого путешествия, говорит он. Я без колебания отвечаю: Агафья! Я с радостью поговорю о ней еще раз! О ее семье! Об ее обнаружении группой геологов в 1978 году. Я почти выздоровела. Это ее отец, Карп Осипович, укрылся со своей женой в непроходимой тайге у Абакана перед войной, чтобы избежать преследований, которым староверы опять подверглись со стороны советской власти. Все пятеро (у них родятся два сына и дочка) проживут сорок лет в полной изоляции. Дети вырастут и станут взрослыми, не зная ничего другого. Когда геологи их встретят впервые, увидев со своего самолета обработанный кусочек земли, у них сложится впечатление, что они попали в прошлое. К этому времени мать уже умерла, отец остался один с дочерью, устроив сыновей на расстоянии от их сестры. Все были одеты так, как одевались в 1750 году. Их цвет лица был ненормально бледным, они никогда не ели моркови, помидоров, фруктов. Их язык был устаревший, полный старославянских слов. Они не знали ни электричества, ни стекла. Когда несколько позже Агафья впервые увидела поезд, она тихо сказала: «Ах, избы катятся на колесах!» Ничто не могло ее удивить, поскольку «мир» не стоит ничего. Они долго молятся даже несколько раз за ночь. Братья не перенесли этого грубого вмешательства сегодняшнего мира в их жизнь: или вируса, против которого не имели иммунитета, или стресса открытия? Несколько лет Агафья жила со своим отцом, а потом, после его смерти, оказалась совсем одна. Несколько посещений геологов раз или два в год и все. Несмотря на радиомаяки, которые они установили, это была полная изоляция. Никто не мог попасть к ее скиту, кроме как на вертолете или через несколько дней запутанного пути по непроходимой тайге. Она пробовала обосноваться у своих родственников и приглашала религиозную «мать», тоже приверженицу старой веры. Но они не ужились, и Агафья прогнала женщину, так как увидела, что та подмела избу и повесила занавески на окна! Она даже пыталась выйти замуж, но настаивала на замужестве без физического контакта. Опять неудача. Так она сопротивлялась «миру», как того желал ее отец, «дядька», на которого она без конца ссылалась. Василий Песков, привязавшийся к ней, продолжал описывать ее жизнь в газете «Комсомольская правда». Читатели волновались за нее, посылали ей подарки: она принимала только немногие из них, и те нехотя. Сегодня Агафье около шестидесяти лет, и чувствует она себя плохо. Во втором томе «Рассказов Агафьи», написанном незадолго перед своей смертью, Василий Песков говорит, что она страдает от ревматизма и болей в животе. Во всяком случае, благодаря разговору об Агафье я полностью пришла в себя. Я часто спрашивала себя, откуда у меня такой к ней интерес. Но я такая не одна. Тысячи советских людей страстно следили за ее приключениями, как и многочисленные читатели во Франции, после того как в 1992 году была переведена книга Пескова «Таежные отшельники». И не только потому, что она дает яркое представление об отжившем прежнем мире, который современность вытеснила неумолимо и беспощадно. Это гораздо большее: проявляется как острое внутреннее потрясение перед прошлым, существующим в настоящем. Только она одна со всеми своими недостатками, упрямством, капризами — свидетельство, след, живое доказательство того, что этот мир существовал и что он может возродиться в любом из нас. Эта мысль иногда укрепляет, а иногда глубоко разрушает.
И в заключение, после всех этих внутренних пертурбаций, спокойная вторая половина дня…
Прибытие в Иркутск, конец дня
20 часов, Иркутск. Еще один достаточно большой город, более полумиллиона жителей, следует за сибирской «пустыней». Довольно изолированный, так как из него идут всего две дороги: одна в восточные Саяны и вторая к озеру Байкал. В полную противоположность представлениям, которые обычно связывают с этим городом: пространственная отдаленность, сильные морозы, последовательные депортации, начиная с декабристов и заканчивая заключенными ГУЛАГа, прибытие в Иркутск ясным весенним вечером было очаровательным. Чехов писал: «Сибирь обладает неописуемым очарованием, от которого, однажды испытав, уже никогда не избавишься». Чистое светлое небо, тепло, и вдоль улиц и проспектов цветущие деревья. В переулках между домами и во дворах, пишет Горький, «растут одинокие ивы, кривоногие кусты бузины», а сегодня целые рощи сирени, обильная пахнущая растительность, которая вселяет в вас праздник. Приятная гостиница «Виктория», как и все, где мы до сих пор останавливались. Чудный ужин в нашей приятной компании, D. Е, F. F. и молодой Н. N. недалеко от нее, в Берхаузе, где своды украшены немецкими афишами тридцатых годов. Пока мы кушали, на большом экране показывали совершенно бредовую рекламу. Выйдя на улицу, мы не имели не малейшего желания возвращаться в гостиницу. Опускалась ночь. Теплый воздух на улице пахнет цветущим садом. Прогулка, фото. Архитектура деревянных домов, изысканное украшение и расцветка оконных наличников и ставен. Но нужно возвращаться. Рядом с гостиницей, прямо под большим рекламным щитом Cartier, спотыкаясь, нетвердой походкой идут совершенно пьяные мужчина и женщина, повисшие друг на друге. У мужчины на плече сумка, в которой дребезжат пустые пивные бутылки. N., наша переводчица, кажется очень огорченной. Она рассказывает, что несколько дней назад во время прогулки на острове Свияжск маленькая девочка лет пяти притащила домой своих родителей, мертвецки пьяных. Есть какой-то ужасный символ в этой встрече падшей пары и сверкающей рекламы шикарных и дорогих часов. Чтобы прогнать эти мысли, я машинально записываю название улицы: Богдана Хмельницкого. Я не знаю, кто это и, естественно, любопытствую: я догадываюсь, что в каждом мгновении этого путешествия разыгрывается история России.
Но нужно возвращаться. Рядом с гостиницей, прямо под большим рекламным щитом Cartier, спотыкаясь, нетвердой походкой идут совершенно пьяные мужчина и женщина, повисшие друг на друге. У мужчины на плече сумка, в которой дребезжат пустые пивные бутылки. N., наша переводчица, кажется очень огорченной. Она рассказывает, что несколько дней назад во время прогулки на острове Свияжск маленькая девочка лет пяти притащила домой своих родителей, мертвецки пьяных. Есть какой-то ужасный символ в этой встрече падшей пары и сверкающей рекламы шикарных и дорогих часов. Чтобы прогнать эти мысли, я машинально записываю название улицы: Богдана Хмельницкого. Я не знаю, кто это и, естественно, любопытствую: я догадываюсь, что в каждом мгновении этого путешествия разыгрывается история России.
По возвращении мое любопытство удовлетворено: Богдан Хмельницкий действительно очень важный персонаж для россиян. Это казацкий украинский гетман, или атаман, который после кровавого противоборства с Польшей в 1654 году обратился к России с просьбой о присоединении. Как и в других местах моего повествования, я не могу отказать себе в удовольствии на мгновение оживить эту личность, до сих пор мне неизвестную. Родившийся в семье мелкой украинской шляхты, он хорошо учится в Киеве, а затем Львове. Кроме украинского он знает латынь, польский и русский. Получив военное образование, он участвует в боевых действиях запорожских казаков против Турции. В имении Субботово, куда он вынужден был отступить, он подвергся истязаниям польской шляхты. Его младший сын был запорот плетьми насмерть. «Эта жестокость породила в нем сильное чувство ненависти и непреодолимое желание мести польской знати» (заметка из Всемирной энциклопедии). Несмотря на ненависть большевиков по отношению к казакам, благодаря присоединению Украины к России его именем был назван орден, которым наградили 323 советских деятеля. Все это несколько освещает иногда скрываемое в наше время противоборство русских получению независимости Украины. Настоящее отрыгивает ядрами прошлого, покрытыми тлеющими углями, которые разгораются при малейшем дыхании на них…
Вторник, 8 июня: Иркутск, тринадцатый день
8 часов. Какое-то время я одна в зале цокольного этажа, куда спустилась на завтрак. Мне предложили несколько меню, из которых я выбрала наугад. Завтра я закажу что-нибудь другое… Телевизор работает, непонятно для кого. Во всяком случае, прием плохой, почти ничего не видно, и звук очень слабый. Почему бы его не выключить? Это очень неприятно постоянно видеть перед глазами мутный аквариум. И потом, утром так хочется немного тишины. Я смотрю на узкий проход, по которому идет официантка, маленькая японка, серьезная, точная. Кто она? Откуда? Все эти судьбы, с которыми я пересекаюсь в путешествии, жизни, которые вспыхивают на мгновение и свет которых удаляется безвозвратно… Так, без сомнения, происходит и в нашей повседневной жизни, особенно если, как я, жить в большом городе. Но этого достаточно, чтобы я вновь почувствовала безотчетный страх предыдущих дней. Усталость и волнения путешествия делают вас восприимчивыми ко всякого рода беспокойствам, на которые мы обычно не обращаем внимания. Громадность мира, плотность населения, различие и шаткость судеб — все это переворачивает. Вдруг происходит что-то, что вне вашей власти. Вы больше не владеете собой, вами владеют, вы не управляете собой, вами управляют. Откуда-то слезы и приступ бурных неконтролируемых эмоций. Так вдруг выплескивается подземная река. Я не одна это ощущаю. Когда это приходит, я ищу глазами F. F., и она своей ладонью стирает на щеке маленькую спускающуюся полоску, и глаза у нее красные.Вернувшись в свою комнату, я готовлюсь к экскурсии на озеро Байкал (инструктаж: всем тепло одеться). Но я думаю скорее о визите в дом Волконского, музей декабристов, предусмотренном на завтра. Иркутск, несмотря на вечернее очарование улиц, остается наполненным образами ссыльных, их бесконечными страданиями. Я возвращаюсь во времени, вспоминаю рассказы о ГУЛАГе, рассказы Достоевского, воспоминания жен декабристов и вообще особенную озабоченность писателей XIX века Достоевского, Виктора Гюго, Толстого каторгой, наказанием, смертной казнью… Виктор Гюго до самых ворот Парижа сопровождал цепь каторжников, отправляющихся пешком в Тулон, Толстой проделал ради «Воскресения» часть пути приговоренных на высылку в Сибирь… У меня немного времени до нашего отъезда, и я ограничиваюсь краткими напоминаниями в блокноте, чтобы их развить после возвращения. Например: говорил ли Виктор Гюго с Достоевским? Или с Толстым? Я знаю, что Достоевский в юности читал Гюго. Я говорю себе, что название «Отверженные» могло быть также «Униженные и оскорбленные». Я вспоминаю даже, что обе книги были написаны примерно в одно и то же время (точнее с разницей в один год: «Униженные и оскорбленные» — в 1861 году, «Отверженные» — в 1862-м). Я была очень рада, увидев ее в Красноярске в библиотеке для слабовидящих, переводной том в красивой синей обложке. Т. К. меня перед ним сфотографировал. Но я уже опаздываю. Нужно спускаться.
…В 9 часов мы садимся в автобус, который должен нас отвезти на Байкал по одной из двух дорог, которые идут из Иркутска, большого города, затерянного в бесконечности. Гид рассказывает нам опять общие сведения о Сибири. Природные ресурсы: лес, нефть, алмазы. Площадь — 8 миллионов квадратных километров, население — 42 миллиона жителей. Эти цифры немного отличаются от тех, которые я уже записала несколько раньше: 49 и 13. В действительности, по последним данным, 39 миллионов жителей на 13 миллионов квадратных километров. Это значит три человека на один квадратный километр. (Во Франции — 110 человек на квадратный километр.) Сравним с китайским городом-регионом Шонкинг, который насчитывает почти столько же жителей. Теперь немного понятны русские измышления о китайской угрозе колонизации южных районов Сибири. Но когда мы едем далеко за город, путь в автобусе — это всегда счастливая возможность подышать… Почти все что-то пишут, возможно, для будущих книг. Это подсказывает мне идею небольшой новеллы. Это была бы история двух писателей А. и Б., которые совершают одно и то же путешествие, и каждый хочет по возвращении написать о нем рассказ. Они беспрестанно следят друг за другом. Каждый пытается сохранить для себя самые интересные сведения, а другого снабдить ложной информацией, чтобы дискредитировать его книгу. Так как А. немного глуховат, Б. подсказывает ему вымышленные названия и слова, когда тот не понял название региона или горы. — Какие горы? — спрашивает А. — Карамбар, — отвечает Б. — Хорошо! (В действительности это горы Карабах…) В это время наш гид рассказывает о представителе сибирской фауны росомахе. Так как много русских в этих местах катаются на велосипедах, и мы встречаем множество таких групп, то я представляю, как это мог бы разыграть А., воспользовавшись этим. Он спешит рассказать Б., что росомаха нападает на велосипедистов, чтобы полакомиться велосипедными шинами. Я так и не закончила эту новеллу. Утро свежее, в воздухе чувствуются капельки воды из-за большой влажности. Я спокойно продолжаю безобидно фантазировать. Впрочем, Байкал вызывает у меня только мирные картинки времен Мишеля Строгова: я все еще не прочитала книгу Оссендовского. (Как, впрочем, и книги Сильвена Тессона, среди них его «Небольшой трактат о необъятности мира», который был бы мне таким хорошим компаньоном в сибирском одиночестве: по мнению автора, во время путешествия не надо читать ничего связанного с этим путешествием. Я об этом сейчас сожалею.) Я прочту Оссендовского в самолете, возвращаясь домой. И сразу пойдут впечатляющие образы. В 1919 году, во время отступления Белой армии из Сибири, как ранее Енисей, так позднее и Байкал покрылся трупами. «Когда Красная армия гналась за ними по пятам, многие белые пытались уйти на юг по льду замерзшего озера: тридцать тысяч солдат, их семьи и пожитки. С приходом весны замерзшие трупы и их добро ушли на дно озера. Сотни тысяч гражданских лиц в эту сибирскую зиму продолжали идти на восток вдоль Транссибирской железной дороги, пытаясь добраться до Владивостока». Несколько минут переправы на пароме, и мы достигаем пункта нашего назначения. Ледяной воздух, сильный мороз, вдали горы, увенчанные белым над зелеными склонами, и, вокруг нас до бесконечности кристально чистая голубая вода, тихая и гладкая. Поверхность озера имеет вытянутую форму, как Бельгия, его глубина достигает местами 2000 метров. Здесь сосредоточены 25 процентов запасов питьевой воды планеты. Воды чистейшей, без конца очищаемой разными бактериями. Небольшая, довольно бедная деревня Слюдянка расположена вокруг жалкого маленького порта с несколькими ржавыми судами. Именно отсюда отъезжает экскурсионный поезд, который едет вдоль озера несколько десятков километров, делая остановки в нескольких избранных местах. Я покупаю пуловер в магазинчике, скорее вагончике, хозяйка которого, несговорчивая девушка с резкими чертами лица, продолжает тем временем свой разговор с двумя не менее резкими типами. Там продаются всякого рода продукты, зубная паста, банки сардин, игрушки. Как старый передвижной домик американского запада, он стоит на угловых клиньях, в него заходят по деревянным ступенькам. Наклонный откос заканчивается рельсами. Маленькая черно-белая собачка бегала, а затем улеглась перед этой будкой, сама более напуганная нашей группой, хоть и яростно на нас лаяла. Мне хотелось ее сфотографировать и хотелось, чтобы она в это время смотрела на меня. Я вдруг вспомнила русские слова и крикнула ей: «Собачка, собачка, смотри на меня!» Русские с удивлением оглянулись, я еще никогда не произносила такую длинную фразу. Собачка в неподвижности застыла, глядя на меня, а затем принялась радостно лаять. Маленький поезд останавливается в определенных местах, давая нам возможность пройтись по берегу. Затем мы собираемся и продолжаем путь. Из моего окна, тем более при движении вдоль берега, озеро вызывает ощущение, что вся его масса водяного молчания через все поры проникает глубоко в вас, будит и настораживает. На одной остановке на прекрасном пляже, покрытом мраморной галькой чистейшего белого цвета, становится опять очень холодно, пахнет водой, озоном и хвоей. Температура воды, должно быть, не превышает восьми градусов, но двое или трое из нас, и среди них М. d. К., настоящая дочь моряка, собираются искупаться и делают это! Когда они выходят из воды, торопливо проплыв несколько метров, они похожи на вареных раков…
 Мы возвращаемся в поезд, чтобы перекусить. Я оставляю слишком жирную колбасу, но блины великолепны, за ними апельсины. Я приклеиваю поперек странички моего дневника этикетку «Жемчужина Байкала», которую отрываю от бутылки с водой. И мы опять выходим немного пройтись, вновь охваченные этой необыкновенной тишиной, которую я ни с чем не могу сравнить: прозрачная, чистая, вибрирующая мириадами капелек воды, которыми, кажется, дышишь. Расположенные на горных склонах гостиницы альпийского стиля на самом деле летние лагеря, которых было много в советские времена, пионерских лагерей для детей бывших и нынешних номенклатурщиков. Наша группа вытягивается на тропинку в траве. Впервые мы можем спокойно побеседовать, в то время как раньше нам приходилось спешить с одной встречи на другую. Кто-нибудь время от времени останавливается, пропуская группу, и с минуту стоит неподвижно. Я тоже так делаю два или три раза, чтобы вновь почувствовать в запахе воды и ее поднимающуюся за нами свежесть, и этот покой, покрывающий всю бело-голубую поверхность озера, физическое ощущение огромного простора, которым дышит все твое «я».
…Пространство, простор! Как его измерить? Широкий, обширный, огромный? Пустой, изолированный, ненаселенный? Безжизненный? Как найти подходящее слово, объясняющее то, что позади нас и перед нами? То, что здесь никогда не будет человека… Если только продолжить смысл слова «огромный» как протянувшийся вдаль до бесконечности, и слышать его эхо запустения. И при этом ощущать всю бесконечную мощь создателя, которая еще все здесь изменит так, как мы и не можем себе представить и никогда не увидим. И угроза времени, тоже уходящего в бесконечность и которая у меня всегда связана с пространством, хоть это, наверное, и не имеет смысла.
Но понятно, что в такой бескрайней пустоте душа чувствует себя шатко и неустойчиво, лишенной и опоры, и подвеса. Человек не создан для этого. Подтверждение тому самоубийство Мериветера Льюиса, умного и мужественного американского капитана. Это на мгновение может вдохновить, но ненадолго. Без других людей мир — это тюрьма, каким бы огромным он ни был. Особенно если он так огромен, что не имеет конца…
Возвращаемся на берег Байкала. Это озеро больше, чем страна. Это огромная протяженность ледяной воды, находящейся в одиночестве, едва населенная людьми, и она навевает нам самую трудную истину: человек так же реален, как и капля воды, падающая в океан, — буддийская теория, но и мы недалеко от Улан-Удэ. В конце фильма Пана Налина «Самсара» монах говорит: «Чем становится капля воды, падающая в океан?» Эта истина звучит в наших ушах как молчаливое предупреждение. И вдруг эти метафизические отголоски, которые мы слышим, переходят в медленное движение поезда, в который мы опять сели. Наш коллега I. показывает нам игру своего детства: он кладет монету на рельс, а затем забирает после прохождения поезда. В результате она превращается в античную монету неправильной формы, разной толщины, с расплывчатыми плоскими надписями, как будто бы стертыми временем…
Поздний обед в красивом просторном деревянном ресторане. У нас волчий аппетит. Таковы последствия пребывания на свежем воздухе! Нет ничего более действенного против меланхолии! В меню: знаменитый байкальский омуль, горбуша разных сортов, рыба семейства сиговых. Нежная вкусная кожа. Один из самых аппетитных обедов нашего путешествия своей утонченностью и сервировкой.
Опять прогулка. На краю дороги я фотографирую дикого барана, который наблюдает за нами с вершины острой скалы. Его спина такая узкая, что кажется, будто он несет на ней шерстяное обтрепанное одеяло. Когда я увеличиваю изображение, то меня ошеломляет его выражение хитрого и злобного ликования в его рассеченном глазу. Маленькое творение сатаны между двумя деревьями на горе!
Начинало темнеть. Поезд пустился в обратный путь, чтобы остановиться теперь уже только в конце. Зажатые между голубым небом, все более бледным, и озером, все более белым, горы на противоположном берегу наливались темной голубизной, прозрачной, светящейся, увенчанной белой линией снегов в форме зубьев пилы. Вершины отражались в спокойной воде. Ни ветерка, ни ряби. Кажется, что их полупрозрачная плотная масса поднялась на ровную и гладкую поверхность, точно как на картинках Великих американских озер, сфотографированных Анселем Адамсом. (Вечером следующего дня на Транссибирской магистрали по дороге на Улан-Удэ озеро было совершенно красно-оранжевым,освещенное удаляющимся от нас солнцем, склоняющимся к горизонту.)
В поезде поют «Цыганочку». Возвращение в Иркутск показалось нам долгим. Опустилась ночь, мы нескончаемо едем между вагонными депо, нагромождениями жалких лачуг, сараев, целый полуразвалившийся пригород. Крутят бесконечный фильм, довольно слабый, надо признаться, но я всегда интересуюсь сценами с животными: одна семья вместе с котом воспитывает детеныша белого тюленя, нерпу. Этот вид можно найти только на берегах Байкала. Кот и нерпа делят между собой тарелку с рыбой. Как это возможно? Я долго разговариваю с H. N.: Россия это не страна, это идея. Я понимаю все лучше и лучше, что это значит. Но тогда возникает вопрос: кто может сегодня принять такую идею?
Мы возвращаемся в поезд, чтобы перекусить. Я оставляю слишком жирную колбасу, но блины великолепны, за ними апельсины. Я приклеиваю поперек странички моего дневника этикетку «Жемчужина Байкала», которую отрываю от бутылки с водой. И мы опять выходим немного пройтись, вновь охваченные этой необыкновенной тишиной, которую я ни с чем не могу сравнить: прозрачная, чистая, вибрирующая мириадами капелек воды, которыми, кажется, дышишь. Расположенные на горных склонах гостиницы альпийского стиля на самом деле летние лагеря, которых было много в советские времена, пионерских лагерей для детей бывших и нынешних номенклатурщиков. Наша группа вытягивается на тропинку в траве. Впервые мы можем спокойно побеседовать, в то время как раньше нам приходилось спешить с одной встречи на другую. Кто-нибудь время от времени останавливается, пропуская группу, и с минуту стоит неподвижно. Я тоже так делаю два или три раза, чтобы вновь почувствовать в запахе воды и ее поднимающуюся за нами свежесть, и этот покой, покрывающий всю бело-голубую поверхность озера, физическое ощущение огромного простора, которым дышит все твое «я».
…Пространство, простор! Как его измерить? Широкий, обширный, огромный? Пустой, изолированный, ненаселенный? Безжизненный? Как найти подходящее слово, объясняющее то, что позади нас и перед нами? То, что здесь никогда не будет человека… Если только продолжить смысл слова «огромный» как протянувшийся вдаль до бесконечности, и слышать его эхо запустения. И при этом ощущать всю бесконечную мощь создателя, которая еще все здесь изменит так, как мы и не можем себе представить и никогда не увидим. И угроза времени, тоже уходящего в бесконечность и которая у меня всегда связана с пространством, хоть это, наверное, и не имеет смысла.
Но понятно, что в такой бескрайней пустоте душа чувствует себя шатко и неустойчиво, лишенной и опоры, и подвеса. Человек не создан для этого. Подтверждение тому самоубийство Мериветера Льюиса, умного и мужественного американского капитана. Это на мгновение может вдохновить, но ненадолго. Без других людей мир — это тюрьма, каким бы огромным он ни был. Особенно если он так огромен, что не имеет конца…
Возвращаемся на берег Байкала. Это озеро больше, чем страна. Это огромная протяженность ледяной воды, находящейся в одиночестве, едва населенная людьми, и она навевает нам самую трудную истину: человек так же реален, как и капля воды, падающая в океан, — буддийская теория, но и мы недалеко от Улан-Удэ. В конце фильма Пана Налина «Самсара» монах говорит: «Чем становится капля воды, падающая в океан?» Эта истина звучит в наших ушах как молчаливое предупреждение. И вдруг эти метафизические отголоски, которые мы слышим, переходят в медленное движение поезда, в который мы опять сели. Наш коллега I. показывает нам игру своего детства: он кладет монету на рельс, а затем забирает после прохождения поезда. В результате она превращается в античную монету неправильной формы, разной толщины, с расплывчатыми плоскими надписями, как будто бы стертыми временем…
Поздний обед в красивом просторном деревянном ресторане. У нас волчий аппетит. Таковы последствия пребывания на свежем воздухе! Нет ничего более действенного против меланхолии! В меню: знаменитый байкальский омуль, горбуша разных сортов, рыба семейства сиговых. Нежная вкусная кожа. Один из самых аппетитных обедов нашего путешествия своей утонченностью и сервировкой.
Опять прогулка. На краю дороги я фотографирую дикого барана, который наблюдает за нами с вершины острой скалы. Его спина такая узкая, что кажется, будто он несет на ней шерстяное обтрепанное одеяло. Когда я увеличиваю изображение, то меня ошеломляет его выражение хитрого и злобного ликования в его рассеченном глазу. Маленькое творение сатаны между двумя деревьями на горе!
Начинало темнеть. Поезд пустился в обратный путь, чтобы остановиться теперь уже только в конце. Зажатые между голубым небом, все более бледным, и озером, все более белым, горы на противоположном берегу наливались темной голубизной, прозрачной, светящейся, увенчанной белой линией снегов в форме зубьев пилы. Вершины отражались в спокойной воде. Ни ветерка, ни ряби. Кажется, что их полупрозрачная плотная масса поднялась на ровную и гладкую поверхность, точно как на картинках Великих американских озер, сфотографированных Анселем Адамсом. (Вечером следующего дня на Транссибирской магистрали по дороге на Улан-Удэ озеро было совершенно красно-оранжевым,освещенное удаляющимся от нас солнцем, склоняющимся к горизонту.)
В поезде поют «Цыганочку». Возвращение в Иркутск показалось нам долгим. Опустилась ночь, мы нескончаемо едем между вагонными депо, нагромождениями жалких лачуг, сараев, целый полуразвалившийся пригород. Крутят бесконечный фильм, довольно слабый, надо признаться, но я всегда интересуюсь сценами с животными: одна семья вместе с котом воспитывает детеныша белого тюленя, нерпу. Этот вид можно найти только на берегах Байкала. Кот и нерпа делят между собой тарелку с рыбой. Как это возможно? Я долго разговариваю с H. N.: Россия это не страна, это идея. Я понимаю все лучше и лучше, что это значит. Но тогда возникает вопрос: кто может сегодня принять такую идею?

Среда, 9 июня: второй день в Иркутске
8 часов: еще один чудесный день многообещающе заглядывает в мое окно… В цокольном этаже под мигающими и бегущими кадрами ненастроенного телевизора я заказываю завтрак № 1 (вчера был № 4): яйцо с ветчиной, блины с вареньем, апельсиновый сок. Я так мало поспала, что еще, наверное, толком не проснулась, так как довольно долго, не замечая того, жевала бумажную салфетку, которую съела вместе с бутербродом, завернутым в нее. Вдруг картинка стала более четкой, но не это меня окончательно разбудило, я бы еще охотно поспала, если бы не помешал вернувшийся звук… На экране металась одна из низших форм сегодняшней жизни (слава богу, есть и другие): оголенные девочки с какими-то толстыми типами на фоне выносящей мозги музыки. Путешественники постепенно прибывают, тут же встречаемые молодой бесстрастной японкой, к которой присоединился и русский официант. Опять (возможно, это у меня такой способ отдыха), как и в каждом моем большом путешествии, я чувствую себя заполоненной чужими жизнями и мечтаниями. Новые метафоры к нам приходят чаще из опыта работы в интернете, это как бы зоны Wi-Fi, появляющиеся вблизи нашей жизни, но к которым нельзя подключиться и которые я ощущаю, как бесшумную вибрацию. Хорошо ощущаю и их силу, и их непрочность. 9 часов: отъезд от гостиницы на круглый стол об экологии в областную библиотеку. Полно народу. Видно, что эта тема здесь людей волнует. Я абсолютно к ней не готова, и это то, о чем я сегодня очень жалею… Поскольку суть дискуссии от меня ускользает, ее участники, ее смысл, так же как и беспокойство и тревога собравшихся. По возвращении выясняется, что здесь, на Байкале, опасность на каждом шагу, неотвратимая, которую почти невозможно удалить. Район Байкала богат огромными запасами природного газа, особенно на востоке в Ковыктинском газоконденсатном месторождении, разработка которого должна начаться в 2013 году. Из-за особенностей его горных пород, а это вся Восточная Сибирь, это колоссальная кладовая газа и нефти. Отсюда и проблема, связанная с прокладкой нефте- и газопровода. В 2006 году потребовалось вмешательство Путина, отодвинувшего дальше к северу трассу нефтепровода, который должен был пройти вблизи Байкала. «Изменяя трассу нефтепровода, Российская Федерация демонстрирует свою добрую волю участвовать в международных усилиях по защите общего наследия человечества и способствовать дальнейшему его развитию», — заявил Коитиро Мацуура, генеральный директор Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). Правда или казенная политическая пропаганда? Нефтепровод должен был пройти всего в 800 метрах от берега озера, а теперь он пройдет в 40 километрах от него…. Однако ясно, что однажды это случится и что в один прекрасный день через сто, двести, тысячу лет на Байкале произойдет непоправимая экологическая катастрофа… И так от катастрофы до катастрофы однажды человек полностью исчезнет с лица земли, оставив после себя опустошенную необитаемую планету. Но не безжизненную. Новые виды жизни будут порождены уже известными нам бактериями, которые могут питаться и перерабатывать нефть (как это уже происходит в Мексиканском заливе). Они будут переваривать и другое: радиоактивные сплавы, пластические отходы. На это потребуются миллионы лет, это случится намного позже, чем последние люди исчезнут в зараженных радиоактивных зонах среди мертвых деревьев. Странные голубые растения с глазами и ртами вырастут на влажных местах без названия (ни «Байкал», ни даже «озеро»), которые с ними возродятся к жизни. Где будут ваши воспоминания, воспоминания о вас, I., N., V., об этом маленьком поезде, который переделывал под своими колесами 20-копеечные монеты в римские? …Ожидая, мы слушали большой и туманный доклад, к которым экологи имеют особое пристрастие. Например, о Природе, требующей от нас того-то, запрещает нам то-то, предназначена для того-то… Всегда Природа с большой буквы П. Боюсь, что некоторые присутствующие путают ее с Богом. (В общем, революционное предложение Спинозы наоборот; не «бог или природа», а «природа или бог»). Молоденький эколог, ведущий этой дискуссии, красивый и стройный парень одет в темно-зеленую куртку с многочисленными карманами, нечто среднее между экипировкой для спортивной рыбной ловли и спецназа. По его виду ясно, что ему не до шуток. Есть ли у меня вопросы, спрашивают у меня. Я доставляю себе удовольствие фразой, что человек живет не в «окружающей среде», а в «мире», и что нужно сохранять Природу именно для него, а не для «наших детей». И наконец, что «экология» книг, языка, мыслей так же актуальна, перед лицом того вреда, который им наносит современность. Кто-то другой взял слово, я пишу небольшое стихотворение для дочерей Р. и S., рифмуя «кашка», «ромашка», «Наташка»… Затем я пытаюсь расшифровать с помощью словаря, который всегда со мной, слова, написанные на моей бутылке с водой: «Открой свежесть Ниагары!» Эти развлечения скучающего школьника проходят, я надеюсь, незамеченными. Вновь моя очередь участвовать в разговоре. Я вступаю на опасную дорожку, так как, забыв в это мгновение о Дивногорской плотине, воздаю хвалу созидательной мощи человека, которая здесь сегодня очерняется, а слепо восхваляется только значение природы. Кажется, что никто особо не обратил внимание на мое выступление, которое было немного «советским». Со времен СССР бедную Россию разграбили настолько, что их можно понять: осушение Аральского моря, засоленность пустынь Центральной Азии… Не говоря уже о радиоактивных последствиях присутствия атомных подводных лодок в Балтийском море. И Чернобыль. Даже если я была не совсем права по существу, я все же, надо полагать, рассердила тех, кто меня слушал, тем, что восхваляла плотину, последствия строительства которой были такими шокирующими в то время. Лучше помолчать в путешествии, так как многого мы не знаем. Человек в форме спецназа, кажется, тоже не был доволен. Но я также заметила, что некоторые из наших сопровождающих одобрительно кивали головой. Одна из них, издательница N., подошла ко мне со словами благодарности. За всем этим есть какое-то противостояние, которое меня не касается: в основном политика, для которой экология только предлог. На чьей стороне они были до 1991 года, те, кто поддерживает сегодня противоположные тезисы? После обеда я встретилась с D. F., F. F., Н. N. (которых не было на круглом столе), чтобы осмотреть квартал. Все в нем было невероятно очаровательно, поэтично, в этом немного туманном свете широких улиц, среди обилия листвы и цветов больших деревьев. Как везде в России деревянные дома в не очень хорошем состоянии, говорят, что их будут классифицировать, чтобы спасти от сноса. От их полинявших деревянных фасадов исходит глубокая грусть даже тогда, когда они ярко освещены солнцем. За вышитыми занавесками угадываются всякие старинные предметы, стоящие на подоконниках: вазы из голубого стекла, зеленые растения, плюшевый мишка… У некоторых домов ставни закрыты, как упрямо зажмуренные веки. Везде в беспорядке нагромождены старые вещи, но нас окутывает мягкость воздуха, пастельные цвета, обильная растительность, сирень, деревья, вишни, черешни, акации, летающая пыльца, просеивающая голубой свет весны. Солнце, мелькая меж деревьев, отбрасывает на тротуар зубчатую тень листвы. Мы не можем удержаться от прогулки по этой движущейся пестроте, чтобы она запестрела и на нас… Старенький Трабант, такой же синий, как и ставни, удачно вписывается в эту картину, возможно обманчивую, счастья ушедшей жизни.
Завтрак намечен в ресторане «Старое кафе» на улице Марата (прошлое еще не полностью уничтожено в постсоветской России). Я, как обычно, опять записала название улицы. В Париже, когда я принимаюсь за свои записи, все сдвигается с места, и я набрасываюсь на вопрос, который меня давно одолевает: вопрос о революции. По мнению Надежды Мандельштам, это слово, от которого «никто не может решиться отказаться». От ее форм, от ее неудач… Были ли успешные революции? Каковы причины неудач революций? Внимательное чтение произведений Мартина Малиа, особенно его книги «Запад и русская загадка», окончательно меня убедили: я, впрочем, к этому готова, отказываясь долгое время от периодически повторяющихся надежд и от бесплодных сожалений. Всеобщая революция никогда не бывает этим «прыжком из царства нужды в царство свободы», о котором говорил Маркс. Ей не удается примирить равенство и свободу, так как в ее сути есть что-то искаженное. Что? Мысль о том, что страдание неизбежно породит искупление. Тогда появляется обобщающая система, которая «избавляется от невежественного учения о загробной жизни, заменяя его основанной на фактах социальной наукой».
Заключение Малиа обязывает пересмотреть приписываемую ему репутацию жесткого неоконсерватора-либерала: нет ничего выше «гражданства, провозглашенного якобинской республикой» и его дополнения в области справедливого распределения. Государство-покровитель. Один вопрос тем не менее остается незатронутым: а люди? Люди, во имя которых эти революции совершаются? И кто в них верил, в них участвовал? О чем они мечтали? Чем они довольствовались? И что сегодня делается с глубокой и неискоренимой жаждой справедливости, которая согласно Чехову живет в сердце каждого самого грубого и примитивного человека? Я также не могу забыть слова Пушкина: «Да хранит нас Бог от русского бунта!»
После обеда я встретилась с D. F., F. F., Н. N. (которых не было на круглом столе), чтобы осмотреть квартал. Все в нем было невероятно очаровательно, поэтично, в этом немного туманном свете широких улиц, среди обилия листвы и цветов больших деревьев. Как везде в России деревянные дома в не очень хорошем состоянии, говорят, что их будут классифицировать, чтобы спасти от сноса. От их полинявших деревянных фасадов исходит глубокая грусть даже тогда, когда они ярко освещены солнцем. За вышитыми занавесками угадываются всякие старинные предметы, стоящие на подоконниках: вазы из голубого стекла, зеленые растения, плюшевый мишка… У некоторых домов ставни закрыты, как упрямо зажмуренные веки. Везде в беспорядке нагромождены старые вещи, но нас окутывает мягкость воздуха, пастельные цвета, обильная растительность, сирень, деревья, вишни, черешни, акации, летающая пыльца, просеивающая голубой свет весны. Солнце, мелькая меж деревьев, отбрасывает на тротуар зубчатую тень листвы. Мы не можем удержаться от прогулки по этой движущейся пестроте, чтобы она запестрела и на нас… Старенький Трабант, такой же синий, как и ставни, удачно вписывается в эту картину, возможно обманчивую, счастья ушедшей жизни.
Завтрак намечен в ресторане «Старое кафе» на улице Марата (прошлое еще не полностью уничтожено в постсоветской России). Я, как обычно, опять записала название улицы. В Париже, когда я принимаюсь за свои записи, все сдвигается с места, и я набрасываюсь на вопрос, который меня давно одолевает: вопрос о революции. По мнению Надежды Мандельштам, это слово, от которого «никто не может решиться отказаться». От ее форм, от ее неудач… Были ли успешные революции? Каковы причины неудач революций? Внимательное чтение произведений Мартина Малиа, особенно его книги «Запад и русская загадка», окончательно меня убедили: я, впрочем, к этому готова, отказываясь долгое время от периодически повторяющихся надежд и от бесплодных сожалений. Всеобщая революция никогда не бывает этим «прыжком из царства нужды в царство свободы», о котором говорил Маркс. Ей не удается примирить равенство и свободу, так как в ее сути есть что-то искаженное. Что? Мысль о том, что страдание неизбежно породит искупление. Тогда появляется обобщающая система, которая «избавляется от невежественного учения о загробной жизни, заменяя его основанной на фактах социальной наукой».
Заключение Малиа обязывает пересмотреть приписываемую ему репутацию жесткого неоконсерватора-либерала: нет ничего выше «гражданства, провозглашенного якобинской республикой» и его дополнения в области справедливого распределения. Государство-покровитель. Один вопрос тем не менее остается незатронутым: а люди? Люди, во имя которых эти революции совершаются? И кто в них верил, в них участвовал? О чем они мечтали? Чем они довольствовались? И что сегодня делается с глубокой и неискоренимой жаждой справедливости, которая согласно Чехову живет в сердце каждого самого грубого и примитивного человека? Я также не могу забыть слова Пушкина: «Да хранит нас Бог от русского бунта!»
Присутствие Марата в бывшем СССР ничуть не удивляет: революция 1917 года недвусмысленно ссылается на наиболее радикальные эпизоды Великой французской революции. В СССР Марат — это враг частной собственности, идеолог Террора и большой друг рабочего класса, который писал в «Друге народа» 12 июня 1791 года по поводу закона Шапелье, запрещающего право на профсоюзы и, значит, забастовки: «Недовольные накопленными колоссальными богатствами за счет бедных рабочих, эти алчные угнетатели дошли до такой бесчеловечной жестокости, что обратились к законодателям, чтобы получить против нас варварский закон, который доведет нас до голодной смерти». И который, чтобы осуществить эту программу и обуздать силы контрреволюции, взывает к «военному трибуну, неподкупному, просвещенному и авторитетному вождю» — «диктатору», безусловно, в древнеримском смысле этого слова, но можно утверждать, что именно здесь и зарождается Террор. И наоборот, по тем же самым соображениям образ Марата во Франции отрицателен. Очень скоро после его казни были возвращены изначальные названия городам Сэнт-Назэру, Гавру, Компьеню, ставшему Марат-на-Уазе. Во Франции больше нет улиц Марата, кроме одной-двух то ли в парижском пригороде, то ли в пригороде Лиона. На этой иркутской улице, пропитанной запахом акации, возле ресторана, где я собираюсь позавтракать, я очень далека даже от подозрения, что между Маратом и Россией существует какая-то другая связь. Я путешествую в полном неведении! Я вижу (или думаю, что вижу), но, оказывается, ничего не знаю. Меня окружает только сладкий запах цветущей акации… Эта связь — младший брат Марата Давид. Я довольно случайно узнала о его существовании, разыскивая сведения о старшем. Отсюда и начал разматываться клубок… Приехав из Женевы в Петербург с русским графом, который подыскивал воспитателя для своих детей, Давид Марат пробует стать промышленником, возвращается к преподаванию, пишет на русском французскую грамматику и становится преподавателем литературы в императорском Царскосельском лицее. Такой же некрасивый, неопрятный и небрежный, как и его брат, но любезный, умный, галантный, он проторил себе дорогу в Санкт-Петербург. В 1793 году после казни своего брата Давид Марат находит более осторожным сменить имя и становится «Давидом де Будри», фальшивым аристократом по названию своей родной деревни. Но, как замечает один биограф, «он не прекращает распространять республиканские идеи среди учеников, выходцев из аристократии». Эта фраза все развязывает. Возникает гипотеза, да и даты более-менее подходят. Давид Марат умер в 1821 году, несколькими годами ранее восстания декабристов в 1825 году. И нет ничего невозможного в том, что кто-нибудь из декабристов десятью-пятнадцатью годами ранее являлся его бывшим учеником в императорском Царскосельском лицее. Не явилось ли его «либеральное» преподавание в политическом смысле этого слова причиной их приверженности к идеям французской революции? И не оно ли их толкнуло в 1825 году на это безумное предприятие, так плохо подготовленное, за участие в котором их ждала смерть, или тридцатилетняя высылка в Сибирь? Ознакомление со списком арестованных и приговоренных декабристов делает мою гипотезу вполне правдоподобной: Вильгельм Кюхельбекер и Иван Пущин, два молодых поэта, которые в 1825 году будут участвовать в этом восстании против Николая I, учились в Царскосельском лицее. Не здесь ли недостающее звено? Страсть к свободе и демократии, воспламененная уроками Давида, младшим братом Марата. Иван Пущин был другом и одноклассником Пушкина, который не участвовал в восстании 1825 года, так как находился тогда в опале в своем селе Михайловское. Оставим это, если можно, хотя бы на время, русскую революцию, французскую революцию и не будем больше возвращаться к вопросу об их связи. Он проливает свет на обоих, но так и не разгадывает загадку ни одного, ни второго… Возвратимся на иркутскую улицу, к ее июньскому свету и пыльце деревьев и цветов…
14 часов 30 минут. Опять небольшая группа, выбравшая посещение университета, опаздывает. И, как назло, я теряю шариковую ручку. Я задерживаюсь у входа возле киоска, чтобы купить другую. И вдруг я еще больше опаздываю, так как теряюсь в этих гулких вестибюлях. Я поднимаюсь и спускаюсь по лестницам, пока не слышу сверху голос: «Сюда! Сюда!» И вот, наконец, я в большой аудитории, где нас ждут. Студенты все уже здесь сидят длинными терпеливыми рядами. Но что я им скажу? С чего начать? Как не скатиться на банальности, бесполезные общие места? Нужно не спешить, поговорить с каждым с глазу на глаз, выслушать их, дать им почитать, почитать им — все слишком быстро. Их взгляды обращены к нам, благожелательные, немного равнодушные, в то время как через широкие оконные проемы видно, что самое важное происходит на улице: весна. В запахе сирени, волнующем, мимолетном, настойчивом, восторженном — самые красивые привои сирени были получены как раз в России: «красавица Москвы» (бледно-голубая), «знамя Ленина» (темно-красная)… Чего они от нас ждут, эти юноши и девушки? Как сделать, чтобы эта встреча не стала для них простым нарушением расписания занятий? («На завтра? Нет, ничего не нужно готовить. Преподаватель сказал, что будет встреча с французскими писателями. Какие вопросы ты хочешь, чтобы я им задал?») А может, я глубоко ошибаюсь? Наоборот. Может, какая-нибудь из наших ремарок пробудит в них идею, которую они никогда не встречали в литературе. Может, некоторым из них писатель представится безобидным, симпатичным, немного навязчивым, который хочет суть вещей воплотить в форму фразы, желает, чтобы «все это» (мир, жизнь, уходящее время, чувства, людей) не существовало напрасно, не потерялось навсегда… Разве им об этом говорят перед чтением Лермонтова или Виктора Гюго? Разве говорят об этом с учениками, с французскими студентами?
17 часов. Несколько в стороне на красивой тихой улочке дом Волконского, музей декабристов… Красивый просторный дом с серо-голубым фасадом, украшенным рамками из слоновой кости… Два закрытых балкона выступают на улицу. Таким, каким мы видим его сегодня, он кажется вышедшим из другой эпохи и другого времени: из Петербурга XIX века, города скорее европейского, чем русского. Построенный в 1839 году за городской чертой в деревне Урик, в 1846 дом был перевезен в Иркутск. Его ухоженный вид стирает глубину невероятных страданий, которыми в предыдущие годы была отмечена жизнь выселенных семей — Трубецких и Волконских. То, что мы видим здесь, относится ко времени, когда их положение улучшилось, и оно улучшится еще больше после амнистии 1856 года, последовавшей после смерти Николая I. Впрочем, мы плохо можем представить, каким был Иркутск в 1840 году и какое невероятное расстояние — 6000 километров! — отделяло его от Петербурга и от жизни этих аристократических семей до катастрофы 1825 года. Я много фотографирую в салонах на первом этаже — свет, приглушенный гардинами с тяжелыми занавесками, красивые ткани, маленькие рамки на стенах. Свет попадает и настойчиво задерживается на сверкающем углу секретера. Это атмосфера парижского салона у Малибран или салона Жорж Санд в Ноане… В другой комнате пианино, диван, чуть дальше зимний сад, растения и везде книги, портреты и партитуры. Забывается холод и ссылка… А затем вдруг шок. Всплывает действительность. На стене портрет женщины, которая отводит взгляд. У нее впалое лицо, удрученное выражение, круги под глазами. Это княгиня Волконская. В то время ей было сорок пять лет. Изнуренная и разбитая тяжестью путешествия и первыми условиями своего пребывания в восточной Сибири, особенно холодом, ужасными сибирскими морозами, от которых она так страдала. Она умерла немного спустя.
 Все сказано: есть что-то обманчивое в роскоши (относительной) этого красивого дома. В 1846 году Волконским разрешили перевезти его в Иркутск. Часть их имущества была им возвращена, они вновь обрели почти нормальную жизнь, но им было предписано оставаться в этой резиденции. Они объединили вокруг себя других ссыльных, среди которых были поляки — двадцать тысяч было выслано в Сибирь до 1863 года за участие в национально-освободительном движении или за Варшавское восстание 1831 года, потопленное в крови. «Finis Polonae?» Нет. Польша продолжала жить на тысячах километров… Поляки построили католическую церковь в Иркутске… Все эти эмигранты объединяются, беседуют, читают, музицируют, создают в этой глуши рафинированную атмосферу высокой культуры и искусства. Эти поляки и обучали французскому языку детей Волконских.
Символ русского деспотизма, преждевременного либерализма русской элиты — история декабристов осталась в памяти русских, и она продолжает волновать. Особенно незабываемый пример женщин, которые, будучи не только замужем, но и просто помолвлены, последовали за своими приговоренными любимыми в ссылку. Это уникальное событие в истории России, и еще долго оно будет привлекать внимание потомков. Благородное и плохо подготовленное, отмеченное непростительными колебаниями и нерешительностью, восстание русских дворян с самого начала было обречено на неудачу из-за огромной пропасти, которая отделяла этих мечтателей от реальной жизни народа.
После смерти царя Александра I 14 декабря 1825 года небольшое число молодых аристократов собралось на сенатской площади Санкт-Петербурга, чтобы поднять гарнизон. Отсюда и название «декабристы», которое дали восставшим. По выражению Пушкина, заговор родился «между стаканом бордо и бокалом шампанского» (он также почтит их память своим стихотворением: Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье…).
Страстные, великодушные идеалисты, иногда наивные, эти молодые дворяне, члены тайных обществ или франко-масоны, посещали свободомыслящие круги во время кампании 1814 года во Франции. Это был момент, когда Россия была предметом всеобщего восхищения: мадам де Сталь занялась русским языком. Она употребляет два десятка русских слов в своих книгах: господарь, царь, казак, поп, водка, изба, копейка… Эти молодые аристократы привезли из Франции не только французский язык, на котором они уже говорили, но и ненависть к деспотизму и рабству. Их цель окрепла, несмотря на то, что для ее достижения отсутствовали средства: речь шла о свержении абсолютной монархии путем вооруженного восстания, провозглашении республики, об отмене крепостного права, установлении демократических свобод, в том числе свободы слова. Плохо подготовленное восстание терпит крах. Среди заговорщиков существовали большие разногласия, особенно между Южным тайным обществом, одной из первых русских тайных организаций, в которую входил впоследствии повешенный Павел Пестель, и северным обществом Муравьева, Рыкова, Трубецкого, которые предадут в день восстания и которые тем не менее будут приговорены к казни, замененной потом на ссылку. Бакунин приветствует Пестеля в своем письме Герцену в 1866 году: «Пестель смело призвал к уничтожению самой империи, к свободной федерации живущих в ней народов и к социальной революции». Поднятые солдаты не оправдали возлагаемых на них ожиданий. Не зная слова «конституция», они единодушно считали ее женой великого князя Константина, законного наследника трона, от которого он отказался… Пришедший парламентером губернатор города был убит, и великий князь Николай дал приказ стрелять.
Репрессии будут ужасными: три тысячи арестованных, пятеро повешенных — для этого нужно будет узаконить смертную казнь. Повешены будут Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский и Бестужев-Рюмин… 121 человек будет приговорен к депортации на каторгу или ссылку в Сибирь. В самых худших условиях: в цепях в течение трех лет (Анненков скажет, что это то же самое, как быть брошенным живым в могилу) и в заточении в течение девяти лет. Лишенные имущества и даже имени, декабристы полностью лишались гражданских прав: теряли свой гражданский и юридический статус, их жены объявлялись вдовами и могли вновь вступать в брак. Если у них будут дети, они будут считаться незаконнорожденными. Большое количество декабристов вскоре умерли или сошли с ума. Другие обосновались в Омске, Красноярске или Иркутске. Их помиловали только по случаю коронования царя Александра II в 1856 году.
Консерватизм, страсть к власти, порядку и военной дисциплине, безжалостная цензура, опирающаяся на грозную полицию: начавшись жестоким подавлением движения декабристов, царствование Николая I на долгие годы сделает слово «Россия» синонимом самодержавия, «восточного» деспотизма — снова этот образ России «азиатской». «Он хотел бы пользоваться всеми преимуществами европейской цивилизации, не отказываясь ничуть от своей необъятной азиатской власти», — пишет князь Долгоруков в своей книге «Правда о России». Умирая, он говорит своему сыну, будущему Александру II: «Все держи в руках», будучи сам противником крепостного права. Но не по причинам юридическим или гуманитарным, а потому, что сам прекрасно понимал, какой это тормоз экономического развития России… Чтобы царствовать над всем, в 1831 году он топит в крови Варшавское восстание, город отдается на разграбление. Николай I становится чудовищем Европы, «жандармом». Десять тысяч поляков эмигрируют во Францию. «Польское дело — это наше дело», — заявляет генерал Лафайет. Назавтра после восстания одна фраза повергла всех в ужас. Отвечая на вопросы сената, министр иностранных дел генерал Бастьян Себастиани сказал: «В Варшаве покой и порядок». Правда, он сказал «спокойствие», но от этого не легче. Париж воспламеняется страстью к Польше и несколькими годами позднее курсами Адама Мицкевича в Коллеж де Франс.
Мечта декабристов и их несчастная судьба, жестокость их приговоров оставили значительный след в России на протяжении почти целого века. Спустя десять лет в память о них собралась группа Петрашевского — в 1849 году именно за посещение этого кружка Достоевский после ложной казни был сослан в Сибирь на десять лет, сначала на каторгу («дом мертвых»), а затем в качестве ссыльного. В 1860-х годах Герцен и Бакунин отдают им явные, недвусмысленные почести. В отличие от них большевики более сдержанны в отношении декабристов. Ленин подчеркивает их нерешительность во время восстания, боязливость перемен, которые они хотели предпринять. В заключение он подчеркивает деталь, которая в его глазах все объясняет: «Они были очень далеки от народа». Именно это, по его словам, и явилось причиной их неудачи.
Безусловно, не все они являлись наивными мечтателями: их ненависть к деспотизму была вполне реальной, как и их желание освободить народ. И «Малый философский словарь» в разделе «Коммунистические материалы» настойчиво подчеркивает философский материализм главных вдохновителей движения.
Все сказано: есть что-то обманчивое в роскоши (относительной) этого красивого дома. В 1846 году Волконским разрешили перевезти его в Иркутск. Часть их имущества была им возвращена, они вновь обрели почти нормальную жизнь, но им было предписано оставаться в этой резиденции. Они объединили вокруг себя других ссыльных, среди которых были поляки — двадцать тысяч было выслано в Сибирь до 1863 года за участие в национально-освободительном движении или за Варшавское восстание 1831 года, потопленное в крови. «Finis Polonae?» Нет. Польша продолжала жить на тысячах километров… Поляки построили католическую церковь в Иркутске… Все эти эмигранты объединяются, беседуют, читают, музицируют, создают в этой глуши рафинированную атмосферу высокой культуры и искусства. Эти поляки и обучали французскому языку детей Волконских.
Символ русского деспотизма, преждевременного либерализма русской элиты — история декабристов осталась в памяти русских, и она продолжает волновать. Особенно незабываемый пример женщин, которые, будучи не только замужем, но и просто помолвлены, последовали за своими приговоренными любимыми в ссылку. Это уникальное событие в истории России, и еще долго оно будет привлекать внимание потомков. Благородное и плохо подготовленное, отмеченное непростительными колебаниями и нерешительностью, восстание русских дворян с самого начала было обречено на неудачу из-за огромной пропасти, которая отделяла этих мечтателей от реальной жизни народа.
После смерти царя Александра I 14 декабря 1825 года небольшое число молодых аристократов собралось на сенатской площади Санкт-Петербурга, чтобы поднять гарнизон. Отсюда и название «декабристы», которое дали восставшим. По выражению Пушкина, заговор родился «между стаканом бордо и бокалом шампанского» (он также почтит их память своим стихотворением: Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье…).
Страстные, великодушные идеалисты, иногда наивные, эти молодые дворяне, члены тайных обществ или франко-масоны, посещали свободомыслящие круги во время кампании 1814 года во Франции. Это был момент, когда Россия была предметом всеобщего восхищения: мадам де Сталь занялась русским языком. Она употребляет два десятка русских слов в своих книгах: господарь, царь, казак, поп, водка, изба, копейка… Эти молодые аристократы привезли из Франции не только французский язык, на котором они уже говорили, но и ненависть к деспотизму и рабству. Их цель окрепла, несмотря на то, что для ее достижения отсутствовали средства: речь шла о свержении абсолютной монархии путем вооруженного восстания, провозглашении республики, об отмене крепостного права, установлении демократических свобод, в том числе свободы слова. Плохо подготовленное восстание терпит крах. Среди заговорщиков существовали большие разногласия, особенно между Южным тайным обществом, одной из первых русских тайных организаций, в которую входил впоследствии повешенный Павел Пестель, и северным обществом Муравьева, Рыкова, Трубецкого, которые предадут в день восстания и которые тем не менее будут приговорены к казни, замененной потом на ссылку. Бакунин приветствует Пестеля в своем письме Герцену в 1866 году: «Пестель смело призвал к уничтожению самой империи, к свободной федерации живущих в ней народов и к социальной революции». Поднятые солдаты не оправдали возлагаемых на них ожиданий. Не зная слова «конституция», они единодушно считали ее женой великого князя Константина, законного наследника трона, от которого он отказался… Пришедший парламентером губернатор города был убит, и великий князь Николай дал приказ стрелять.
Репрессии будут ужасными: три тысячи арестованных, пятеро повешенных — для этого нужно будет узаконить смертную казнь. Повешены будут Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский и Бестужев-Рюмин… 121 человек будет приговорен к депортации на каторгу или ссылку в Сибирь. В самых худших условиях: в цепях в течение трех лет (Анненков скажет, что это то же самое, как быть брошенным живым в могилу) и в заточении в течение девяти лет. Лишенные имущества и даже имени, декабристы полностью лишались гражданских прав: теряли свой гражданский и юридический статус, их жены объявлялись вдовами и могли вновь вступать в брак. Если у них будут дети, они будут считаться незаконнорожденными. Большое количество декабристов вскоре умерли или сошли с ума. Другие обосновались в Омске, Красноярске или Иркутске. Их помиловали только по случаю коронования царя Александра II в 1856 году.
Консерватизм, страсть к власти, порядку и военной дисциплине, безжалостная цензура, опирающаяся на грозную полицию: начавшись жестоким подавлением движения декабристов, царствование Николая I на долгие годы сделает слово «Россия» синонимом самодержавия, «восточного» деспотизма — снова этот образ России «азиатской». «Он хотел бы пользоваться всеми преимуществами европейской цивилизации, не отказываясь ничуть от своей необъятной азиатской власти», — пишет князь Долгоруков в своей книге «Правда о России». Умирая, он говорит своему сыну, будущему Александру II: «Все держи в руках», будучи сам противником крепостного права. Но не по причинам юридическим или гуманитарным, а потому, что сам прекрасно понимал, какой это тормоз экономического развития России… Чтобы царствовать над всем, в 1831 году он топит в крови Варшавское восстание, город отдается на разграбление. Николай I становится чудовищем Европы, «жандармом». Десять тысяч поляков эмигрируют во Францию. «Польское дело — это наше дело», — заявляет генерал Лафайет. Назавтра после восстания одна фраза повергла всех в ужас. Отвечая на вопросы сената, министр иностранных дел генерал Бастьян Себастиани сказал: «В Варшаве покой и порядок». Правда, он сказал «спокойствие», но от этого не легче. Париж воспламеняется страстью к Польше и несколькими годами позднее курсами Адама Мицкевича в Коллеж де Франс.
Мечта декабристов и их несчастная судьба, жестокость их приговоров оставили значительный след в России на протяжении почти целого века. Спустя десять лет в память о них собралась группа Петрашевского — в 1849 году именно за посещение этого кружка Достоевский после ложной казни был сослан в Сибирь на десять лет, сначала на каторгу («дом мертвых»), а затем в качестве ссыльного. В 1860-х годах Герцен и Бакунин отдают им явные, недвусмысленные почести. В отличие от них большевики более сдержанны в отношении декабристов. Ленин подчеркивает их нерешительность во время восстания, боязливость перемен, которые они хотели предпринять. В заключение он подчеркивает деталь, которая в его глазах все объясняет: «Они были очень далеки от народа». Именно это, по его словам, и явилось причиной их неудачи.
Безусловно, не все они являлись наивными мечтателями: их ненависть к деспотизму была вполне реальной, как и их желание освободить народ. И «Малый философский словарь» в разделе «Коммунистические материалы» настойчиво подчеркивает философский материализм главных вдохновителей движения.
Но, возможно, судьба их женщин, жен и невест оставила наиболее сильный и трогательный отпечаток на трагедии, которая обрушилась на целое поколение молодых русских аристократов. Большинство этих женщин приняли решение следовать за ними и разделить их судьбу. В этой жертвенности, в этом величии есть что-то «древнеримское»: в поэме, посвященной княгине Волконской, изможденное лицо которой на стене дома в Иркутске я никогда не забуду, Виньи называет ее «северной Эпониной». Эта история, или легенда, относится к 78 году от Рождества Христова, когда предводитель галлов с римским именем Сабинус отправился в Рим, чтобы просить Веспасьяна о милосердии, в котором ему было отказано. Эпонина, его жена, попросила разделить с ним его мучительную казнь. Их было одиннадцать, пожелавших того же. Они были сильны духом и бесстрашны, хотя им едва минуло двадцать лет. Перед свадьбой княгиня Волконская путешествовала в Крыму и на Кавказе и встретила Пушкина, который сочинил по сюжету легенды поэму и прочел ей. Княгиня Трубецкая, урожденная француженка Катрин Лубрери де Лаваль, в шестнадцать лет познакомилась с князем Трубецким на одном из парижских балов, которые посещали русские офицеры, участвовавшие в кампании 1814 года. Несколько месяцев спустя она выходит за него замуж и следует за ним в Петербург. Другие еще не были замужем, как еще одна француженка Полина Гебль 1800 года рождения, оставившая Мемуары. Происходившая из разорившейся знатной семьи, она оказалась в Москве в магазине модной одежды «Деманси». Она знакомится с Иваном Анненковым, рожает от него дочь, однако совершенно не собирается за него замуж. Но когда его приговаривают к ссылке, она решается на это, чтобы следовать за ним. Царь этому удивляется: «Это не ваша родина, мадам». Свадьба состоялась в Чите в 6200 километрах от Петербурга. Тогда это было небольшое поселение: десяток изб, тюрьма и деревянная церковь. «Привели в кандалах новобрачного и его двух товарищей… В закрытом помещении им сняли кандалы. Церемония была короткой, священник спешил, песнопений не было. В конце церемонии всем троим, мужу и двум свидетелям вновь надели кандалы и вновь отвели в острог» («Воспоминания Полины Анненковой»). Тридцать лет спустя к моменту амнистии Иван Анненков не получает права селиться в Петербурге и Москве и обустраивается в Нижнем Новгороде. До конца своих дней он посвящает себя освобождению крепостных, сохранив, как он сам это говорил, «прежнюю ненависть к рабству». «Я чувствовала в себе сверхъестественные силы и необыкновенную решимость преодолеть все препятствия», — пишет Полина в своих «Воспоминаниях». Родившись вместе с веком, она видела во Франции в 1812 году знаменитую комету, зловещее предзнаменование для русских о вторжении, намеченном Наполеоном! Та же самая сила вдохновляет одиннадцатую из этих героинь, Камиллу ле Дантю, тоже француженку, дочь гувернантки семьи Ивашевых, которая поехала в Сибирь, чтобы соединиться со своим мужем, хозяйским сыном Василием Петровичем Ивашевым… Когда первая группа отправляется в Сибирь вместе с Сергеем Трубецким, Катрин, несмотря на запрет, через три дня следует за ними. Ее путешествие по «тракту» едва не стоило ей жизни. Задуманный Петром Великим и построенный уже после его смерти «тракт», до строительства Транссибирской магистрали был единственным путем из Петербурга до китайской границы. По нему передвигались на санях, зимой пересекали реки по льду, а в остальное время на лодках. В областном художественном музее Иркутска (у нас не было времени его посетить) есть красивое полотно 1886 года Николая Добровольского «Переправа через Ангару в Иркутске». Вылезшие из глубоких снежных сугробов на берегу реки сани пытаются подняться на длинный деревянный понтон. Вдалеке в тумане виднеются высокие колокольни церквей Иркутска. Морозный образ, усугубленный грозовым небом, намного поэтичнее, чем реальность этой бесконечной дороги по степи… Длившиеся многие месяцы путешествия женщин, ехавших с ссыльными, или выехавших вслед за ними, происходили в чрезвычайно трудных условиях, и их размещение в сибирских деревнях было очень ненадежным. Но связи, которые установились между ними, а позже и между их семьями, были невероятно крепки: «Все было общим, радости и печали, все делилось поровну, все было отмечено взаимной симпатией. Мы все были объединены тесной дружбой», — пишет Полина Гебль в своих мемуарах. Что касается Марии Волконской, то она присоединилась к Екатерине Трубецкой, и они обе жили месяцами возле тюрьмы в маленькой избе, практически никогда не топленой. «Было так холодно, — пишет она, — что мы просыпались с волосами, примерзшими к стенке». Удивительное эхо истории! Об одном из первых заключений в тюрьме Екатерина Гинзбург, арестованная в Казани в 1937 году, говорит, что холод был таким сильным, что «волосы примерзали к стене». Она часто думала о женах декабристов и цитировала по памяти стихи Некрасова, посвященные Марии Волконской: «Прежде чем поцеловать своего мужа, я поцеловала его кандалы». Недоверчивое вначале местное население, русские крестьяне, живущие в среде местных народов, быстро узнали, кто они и каковы были цели их мужей-декабристов. «Я узнал от твоего слуги, зачем ты ходила к императору, — сказал однажды один старик Полине Анненковой. Великое дело, матушка, да хранит тебя Бог. Я знаю, что они хотели, эти господа: они хотели нашей свободы, свободы крестьянам». Им помогают. В благодарность они учат крестьян читать, в том числе женщин и девочек, что уже само по себе в то время было революционно. …Наш визит завершается концертом. Костюмам, манерам и даже голосам артистов не хватает изящества и воодушевления, но это произведения композиторов, которые нравились Марии Волконской: Шопен, Шуберт, Глинка и Александр Варламов. Посещение этого дома окунуло нас в ощущение исторической симпатии и такого сопереживания ей и ее страданиям, что мы даже быстро забыли искусственный и почти стесняющий характер этой музыкальной интермедии. Ничто не могло лучше помочь нам понять, сколько потребовалось храбрости и сил, чтобы создать культурный петербуржский — европейский — салон в этой ледяной пустыне в 6000 километрах от столицы… Островок мысли, поэзии, музыки после ужасных лет тюрем и дымных, грязных и ледяных изб, среди казаков и русских крестьян, неподалеку от бурятских юрт! …В доме декабристов мне казалось все более ясным, что Сибирь является «фронтом», подвижной и продвигающейся «границей» европейского присутствия. На этот раз это не фронт завоеваний и насильственной колонизации. Это прививка на чужой земле либеральных идей, пришедших из Европы — культуры, музыки и книг. Ссылка сюда обернулась свободой. Это вызов власти, настоящий триумф над жестоким тираном. В этом пристанище среди стен, обтянутых светлой тканью, пианино, картины, поющая женщина. А снаружи вместо всеобщего освобождения, о котором мечтали декабристы, они принесли этим крестьянам немного медицины и научили читать их детей. Триумф Европы в этой безлюдной глуши, Европы не завоевательницы, не колонизатора, а Европы просвещения, воплощение несбыточной мечты, которая побудила этих ссыльных благородных молодых людей. Пианист играет Шуберта, это «Экспромт», который особенно любила Мария Волконская. Именно тогда к вам приходит мысль, которая переходит в уверенность: жизнь этих ссыльных женщин была несравнима богаче и полнее смыслом, чем судьба, к которой они были предназначены и которая была у их матерей. Классическая судьба русской аристократки: сыновья поступают в военную академию, дочерей нужно выдать замуж, несколько месяцев в году скучать в сельской усадьбе, несколько путешествий на воды Бадена, несколько тайных страстей, игра, молодые офицеры… А может, что-нибудь еще, такое же секретное и обманчивое, и приближающаяся старость рядом с супругом, который вас обманывает с оперными танцовщицами…
…Когда я выхожу на свет уже уходящего дня в нежность этих улочек с низкими домами, все кажется покрытым тонким слоем пыли, пахнущей пыльцой. Перед тем как сесть в поезд на Улан-Удэ, нас ждет быстрый ужин в ресторане «Снежинка». В этот момент совсем не думается о снеге в Иркутске.
21 час. Сейчас у меня немного больше времени, чем при нашем прибытии, чтобы осмотреть вокзал. Я не заметила тогда две поразительные колонны, обрамляющие монументальный вход, они сами увенчаны массивным куполом с не менее массивным каменным орнаментом. С обеих сторон два более низких сооружения длиной около пятидесяти метров, как сторожевые башни, оштукатуренные в бледно-желтый на бодряще-зеленом фундаменте. Вот она власть, императорская власть, в которой никто не должен усомниться. Веками она внушала свое величие в регионах, намного раньше строительства Транссибирской магистрали: на картине Добровольского четко видны слева «Врата Москвы», арка высотой 19 метров, построенная между 1811 и 1813 годами в честь десятой годовщины правления Александра I. Эти громадные врата были видны издалека и служили главным входом в город; сегодня они исчезли, но в других городах Сибири есть такие триумфальные арки в память о визите или юбилее царя. Одна из последних была установлена в Улан-Удэ, куда мы сейчас направляемся, в честь визита будущего Николая II в 1891 году. Наступает ночь. Толпа, громадные лестницы, переходы над путями. Уже пора. Вот длинная цепочка вагонов, и в самом конце вновь радостный прием наших проводниц: «Ваш дом!» Усталые и счастливые, мы бросаемся на наши узкие полки с ногами, поставленными на наши большие чемоданы, в которых невероятно перемешаны одежда, книги и обувь. Мы рассовываем это как можем. (А как сделал это G. G. со своим блестящим металлическим монстром?) На подоконнике кедровые орешки, стаканы, часы, пара книг, камушки с Байкала, засохшие цветы, бутылка фруктового сока, записная книжка. Все это движется в ритме поезда, который разгоняется в сопровождении железного лязга. Мы огибаем с юга Байкал, «священное море» бурятского народа: заканчивается его алмазная гладь, темная, покрытая красными бликами лучей заходящего солнца. Огибание озера было самым трудным участком Транссибирской магистрали, строительство которого стоило тысяч жизней заключенных и крестьян. Я долго смотрю на горную гряду, пока она в конце концов не исчезает. Нужно еще подготовить сумку к завтрашнему дню и попытаться немного поспать. Поезд прибывает в 4 часа утра. Завернувшись в одеяло, испытываешь восхитительное ощущение отдыха, как будто само движение уносит усталость из тела, как общий массаж спины, затылка и ног: остается только отдаться течению, и ты «течешь». Тоже завернувшись в одеяло, на соседней полке в слабом свете лампы для чтения М. d. К. цитирует фразу Николя Бувье: «Думаешь, что ты совершаешь путешествие, а это путешествие совершает тебя, либо улучшает, либо разрушает». Усталость, необъятность, простор, смена часовых поясов — все это нас уносит, и это ощущение наиболее сильно ночью, когда нас будят остановки на станциях, а затем вновь начинается это «течение» поезда. Мы вне себя, говорил вчера S. G., и в то же время в самой глубине себя.

Четверг, 10 июня Улан-Удэ
4 часа утра. Добро пожаловать на бурятскую землю. Волоча огромные сумки, согнувши шеи от увешанных на них фотоаппаратов и видеокамер, группа еще не проснувшихся и плохо прилизанных медведей вываливается в наступающий день на платформу вокзала Улан-Удэ, Красный Улан с 1934 года, а ранее — Верхнеудинск. Транссибирская магистраль прибыла сюда, в эти азиатские пределы, в 1900 году. И мы тоже этим июньским утром, спустя чуть более столетия, чувствуем себя на краю света, хотя находимся, однако, всего в 4700 километрах от Москвы, и нам еще столько же остается до Владивостока. Но Азия уже заметно приблизилась. Расположенная в нескольких десятках километров от Монголии, эта бывшая советская республика сегодня входит в Российскую Федерацию. В течение долгого времени она являлась перекрестком торговых путей между Европой и Азией, поворотным пунктом «чайного пути» длиной 10 000 километров, промежуточным этапом для караванов, следовавших из Азии на ярмарки Тобольска, Тюмени, Нижнего Новгорода. Дорога занимала в то время почти целый год. Населенная на четверть бурятами, а в остальном украинцами, белорусами, татарами и русскими (70 процентов), она отстояла свой статус автономной республики потому, что ее столица Улан-Удэ преимущественно бурятская. Это пример плавильного котла: культурного, языкового, этнического, которым являются сегодня российские окраины. Перемешаны русский и бурятский языки, религии: буддизм, шаманизм, православие и даже ультраправославие. Но сам СССР разве не был чем-то иным, как шаткой мозаикой объединенных народов, и его падение в 1991 году было развалом империи? Чтобы не развалиться в свою очередь, Российская Федерация должна установить мирные отношения с местными народами и их культурами, как мы видели, например, в столице Татарстана Казани, где половина населения русские. …Естественно, в 4 часа утра с висящей на плече сумкой я думаю совсем о другом… Мне бы хотелось еще немного поспать (это предусмотрено), а до этого взглянуть на большой памятник Ленину, громадная голова которого уже видна над ровным рядом деревьев. Этот не совсем подходящий момент, чтобы задерживаться на национальном вопросе, к нему можно будет вернуться после возвращения. Что я делаю, так это вспоминаю работу Сталина «Марксизм и национальный вопрос», статья 1913 года, которая ранее за ее глубину и ясность высоко ценилась в определенных кругах (я говорю о Коммунистической партии). О ней вспомнили во время войны в Югославии. Об этой статье очень высоко высказался Троцкий: «Это безо всякого сомнения самая важная теоретическая работа Сталина, а точнее, его единственная работа». Во время Октябрьской революции член Политбюро Сталин был назначен народным комиссаром по национальному вопросу. Тогда он разделял точку зрения Ленина: «Самоопределение и равенство между народами». В своей борьбе за свержение царизма новая власть не могла обойтись без поддержки угнетенных народов. Но когда в январе 1922 года он становится генеральным секретарем ЦК партии, несмотря на формально провозглашенное равенство между республиками, Сталин выступает за доминирование русских в новом федеративном государстве. Это его первая серьезная конфронтация с Лениным. «Нации, — говорит он, — это устойчивые исторически сформировавшиеся сообщества людей, объединенных языком, территорией, экономической жизнью и психологическим характером, проявляемым в общей культуре». Но они должны оставаться в подчинении русскому языку, русской культуре, русской власти. С этим обзором идей Сталина — я, должно быть, единственная, кто сегодня этим занимается, — я без сомнения несколько задерживаю рассказ о нашем прибытии в Улан-Удэ. Но я предупреждала: кто это читает, тот читает рассказ о двух путешествиях, а не об одном. И должен согласиться на путешествия во времени не только до эпохи Ленина — Сталина или первых казацких острогов (больше нет необходимости переводить эти уже знакомые читателю слова), но и до времен самого Чингисхана. Иначе какой смысл бродить по улицам города, по дорогам страны, о которых ты ничего не знаешь? Оказаться в Бурятии — это что-то выходящее за прохладный и вежливый комментарий об этой пустынной одинокой планете. Это значит обнаружить следы древней степной империи и увидеть, как писалась страница русского покорения Сибири… Мирная смесь местных народностей шаманского культа и монгольских кочевников-буддистов тибетского толка, буряты в XII веке почти на столетие попадают под монгольское владычество. Чингисхан ставит их под свои знамена, как говорят исторические книги, вместе с другими монгольскими племенами Байкала и Забайкалья. После его падения бурятские князья решают перейти под опеку Российской империи и становятся офицерами ее армии. Четыре века спустя Россия входит на эти отдаленные земли; в 1647 году в верховьях Ангары строится небольшая крепость, в 1648-м еще одна в Баргузине и на Селенге. В 1666 году отряд казаков ставит заимку на слиянии Уды и Селенги. Этапы развития, как в исторической классике: сначала центр сбора податей (ясак), которыми были обложены местные народы, — этим же словом назывался налог, установленный Чингисханом в начале XIII века, — затем казацкий военный опорный пункт, затем промежуточная база российского продвижения на восток. Зависимость и покорность Бурятии продолжается… Естественно, в советские времена положение постепенно ухудшается тремя сталинскими перегибами: коллективизация, перевод на оседлый образ жизни, чистки. Следствие сталинской эпохи — слово «монгол» — отменено. Сегодня, через двадцать лет после падения СССР, являются ли буряты более бурятами, чем русскими, или наоборот? Есть ли у них право на свое вероисповедание (их у них два), свой язык, свои традиции? Я об этом еще не имею понятия тогда, ранним июньским утром 2010 года, прибыв на вокзал в Улан-Удэ. Но, однако, довольно. Спать. По дороге к гостинице, которая находилась как раз напротив, за нами пристально следила «огромная голова Ленина» восьмиметровой высоты на постаменте, поднимающем ее еще вдвое выше. Поскольку еще только 4 часа 30 минут утра, я быстро беру свой ключ, поднимаюсь в комнату, закрываю шторы и засыпаю на несколько часов. Однако, проснувшись, я не выдерживаю и устремляюсь к окну. Так ли она впечатляет, как на фотографиях? Да. И более того. Даже на фотографиях, круглая и массивная, возвышающаяся над всеми деревьями и даже надсоседними зданиями, она могла бы напугать кого угодно… Но по правде, как говорят дети, все гораздо хуже. Я хочу сказать, что всегда испытывала какой-то священный ужас, самую настоящую панику при виде гигантских статуй, а тем более фрагментов. Такое со мной было в один из первых приездов в Рим возле дворца консерваторов: перед гигантской рукой и ногой Константина, в общем, довольно безобидными, я вынуждена была уйти.
Назавтра я попросила Н. N. сфотографировать меня у подножия монумента: не столько для того, чтобы отметить, что «я тут была», а чтобы дать примерный масштаб ее размеров и чтобы избавиться от ее вида, так как я стала к ней спиной. Я вспоминаю польский анекдот, услышанный в Варшаве. Откуда открывается самый лучший вид в городе? От Дворца культуры: это сталинский близнец гигантских московских «семи сестер». Почему? Потому что это единственное место, откуда он не виден… Ленин же виден отовсюду: даже если стоишь к нему спиной, он отбрасывает на землю круглую угрожающую тень, несмотря на все напрасно посаженные, я полагаю, после 1991 года, вокруг него деревья. Припоминаю фразу Брехта, сказанную как раз о Ленине: «Он думал своей головой и мыслями других, а его мысли жили в чужих головах»… Я люблю Брехта. Но я не понимаю, как некоторое время я могла одобрять эту фразу: ведь это ужасно представить свои мысли крутящимися в этой полой металлической башке и иметь в своей голове мысли этого бронзового метеорита… Слово «метеорит» здесь хорошо подходит. Этот памятник, поставленный в 1970 году на центральной площади Улан-Удэ в ознаменование 100-летия вождя, настоящий «черный посланник небес». Хуже то, что, уже немного об этом подзабыв, вдруг видишь этот возвышающийся среди деревьев над окрестными домами металлический череп-полусферу. Двадцать пять метров в высоту. Это не самый большой памятник из посвященных Ленину и Сталину или, например, Ким Ир Сену… То, что его делает таким чудовищным, это то, что здесь только одна голова. «Сталин наблюдает за вами», — говорила надпись на картине, которую я видела в гостинице «Юность». Склонившись над бумагой с ручкой в руках (возможно, как раз за написанием работы «Марксизм и национальный вопрос» или визируя очередной список расстрелянных, полученный из какого-нибудь провинциального города?), он более похож на американского автора детективных романов, работающего ночью в мягком свете своего ночника, пока его жена и дети спят. Ленин же не спит, не бодрствует. Подбородок вперед, жесткая бородка, неподвижный взгляд его глаз, направленный над вашей головой, который ничего не видит. Он просто внушает доверие. Он здесь. По крайней мере, эта голова без тела, так неважно сделанная, но с решительным взглядом, бронзовыми гранями. Но мне у подножия его постамента слышатся почему-то такие слова: у тебя нет шансов, козявка, ты «это» видела? И сразу представляется «это» — огромный ГУЛАГ, пропорциональный этой невероятной голове. Ужасающий и смехотворный культ всевышних спасителей? В Северной Корее портреты вождя и его сына пишутся на дне коробок с тряпками, предназначенными для вытирания пыли, и больше ни для чего.
В 8 часов 30 минут столовая гостиницы «Байкал» заполнена китайскими туристами, и я нахожусь определенно в Китае, если судить по национальным звукам, которые, отвратительно дыша, издает мой сосед напротив. В его меню за отсутствием лапши за кашей на молоке следуют блины и капучино. Трудно судить о его манерах за столом, слишком быстро он вызывает к себе отвращение. То, что я позволяю себе его судить, и очень сурово, это его грубая манера обращаться к женщине, вероятно, к его жене, которая встает и тотчас же уходит, наверно, чтобы выполнить его распоряжение, так как она быстро возвращается. Это принципиально грубое обращение с женщиной отделяет вас в моих глазах от человечества, какова бы ни была ваша культура. Я несколько раз прошлась по залу от буфета до своего столика, встречаясь, приветствуя, обнимаясь со своими товарищами по путешествию, которые спускались в столовую. Это путешествие — настоящее чудо. Оно породило новые дружбы, укрепило старые, пробудив давнюю забытую, благословенную эпоху, когда люди были товарищами. (Я не говорю о партии, а о лицее, университете.) Встречая их за своим столом или подходя к их столикам, я беру кусочек или два салями, фрукты, жареные овощи, йогурт, варенье и другое!.. Я, которая обычно так следит за фигурой… Затем мы выходим немного прогуляться по улице, постоянно бросая (я в меньшей степени) незаметные взгляды на Громадную Голову. А затем, чтобы не завтракать в вагоне-ресторане, мы покупаем какую-то провизию в магазине самообслуживания «Спутник». Все помнят о собаке Лайке, в меньшей степени помнят об одном из первых автобиографических рассказов Горького «Мой спутник», очень тяжелой истории дружбы, предательства, забвения. У меня она есть на двух языках, я начала читать на русском, это для меня очень трудно, и я недалеко продвинулась.
10 часов. Мы собираемся возле автобуса. Нужно ли в этом признаваться, но у меня нет никакого особенного желания увидеть Иволгинский дацан. Хорошо, что местность, где он возведен, очень близка от Монгольских гор… Я хорошо знаю, что это религия части бурятов, но буддийский храм в этот момент у меня не вызывает большего интереса, чем тот камбоджийский храм, перед которым каждым воскресным утром я проезжаю на велосипеде в Венсенском лесу. В этой восточной части Сибири я все еще не чувствую себя на востоке. Но, вероятно, это доставляет тебе удовольствие? (Я говорю себе всегда «ты», когда упрекаю себя в чем-то.) Разве ты не была довольной с начала этого путешествия, даже слишком довольной тем, что никогда ни в России, ни даже в Сибири у тебя не было ощущения, что ты уже уехала из Европы? Не пришло ли наконец время хоть на чуть-чуть ее покинуть? Но, по правде говоря, в этом путешествии и не было предусмотрено покидать «Европу»: не то чтобы я к этому не была готова, а этого и не требовалось. Даже перед большой мечетью Кул-Шариф в Казани, потому, что она была установлена (я бы сказала интегрирована) в чисто русский пейзаж, то есть в европейский. Я вижу все меньше различий между Россией европейской и азиатской. Я уже говорила, что это стало великим открытием в моем путешествии: с каждой большой рекой, которую я пересекала (мне остался только Амур), я вступала на новую территорию, незаметно связанную с предыдущей железнодорожными мостами XIX века, но никогда не меняла страну, культуру, цивилизацию. Впрочем, в этот момент автобус проезжает через кварталы 1960-х-1970-х годов в стиле хрущевок окраин Екатеринбурга. Здесь Улан-Удэ — русский город со своими прямоугольными улицами, расположенными в шахматном порядке. Русский «колониальный» город, раньше бывший вне империи, а затем в нее интегрированный. «Колониальный» сразу вызывает у нас ассоциации с экзотикой, с пробковыми шлемами, с романами Френсиса де Круассэ или Маргариты Дюрас о колониальных и освободительных войнах. Здесь совсем другое дело: это «завоевание Востока» в пространстве одного и того же континента напоминает больше покорение американского Запада. За счет, естественно, тех, кто там уже жил. Но колонизация — это война, следы которой чаще всего стираются, и ее успешность оценивается как раз по этой степени стирания, даже если бывшее население, сохранившее местами большинство, требует, как сегодня, своего правового признания… В ожидании я продолжаю чувствовать себя «как дома» в 5000 километров от того, что я обычно им считала. Я не могу определить это более точно. Это «как дома» гораздо легче понять, будучи в Индии или Китае: там ты видишь все абсолютно другое. Но когда это чувство продолжается через мутации и метаморфозы, когда невиданно раздвигается пейзаж, растительность отлична и в то же время похожа: те же хлеба на полях, та же листва, только чуть темнее или чуть светлее, когда города отмечены тем же современным техническим и технологическим прогрессом — невольно думаешь, что ты все еще дома. Но что же это — «как дома»? Это только внешняя форма вещей или непосредственный и сокровенный способ их постижения? По сути, все сводится к тому, каким приметам и признакам придаем мы значение в путешествии и которое из наших «я» на них откликается. …В конце концов, я забываю свой вопрос. «I am changing my mind» («Я меняю свое мнение»), говорю я сама себе по-английски, так как это звучит более радикально, когда, выехав из города, мы увидели вдали горы Монголии. Улан-Батор отсюда всего в 600 километрах. Это уже Азия! Вперед! Забудем время триумфальной арки будущего царя Николая II! Достаточно России, достаточно Европы! Меня охватывает демон экзотики, укусы которого так сладки… И в самом деле, чем больше мы удаляемся от города, тем больше размаха и величия приобретает пейзаж, и становится все более ясно, что мы вот-вот покинем Европу. Желтая степь покрывает круглые горы, между которыми видны широкие долины с пологими коническими склонами. Зов веков был бы здесь хорошо слышен, если бы резные окна последних деревень не напоминали так настойчиво о присутствии сильного сообщества, некогда пришедшего сюда из России. Русификация вовсе не пустой звук: черты бурятской жизни местами полностью исчезли. Хотя, как говорит наш гид, земля здесь богата историческими и доисторическими следами их существования. Повсюду много археологических мест, которые еще ждут своих раскопок. Прибываем в монастырь, занимающий обширное пространство в пустынной равнине, окруженной горами. Открытый в 1946 году после того, как все буддийские монастыри были закрыты, а ламы расстреляны или сосланы в ГУЛАГ, Иволгинск в советские времена был единственным центром буддизма в СССР. Сегодня это ансамбль строений с приподнятыми лакированными крышами, отблескивающими яркими цветами, окруженными большой укрепленной стеной, предваряемой двориком, где продаются сувениры, а также продукция местного производства: кофты, мягкие украшенные кожаные туфли на меху, серебряные кольца и т. д. Повсюду храмы различной значимости, но я не в состоянии отличить монастырь недавней постройки от старинных, которым уже по несколько веков, какие я видела в Северо-Восточном Китае или на Яве. Через шумные строительные площадки молодые монахи в бордовых одеждах быстро перебегают из одного храма, или места занятий, в другой. Внутри большого храма я покупаю несколько безделушек, рассматриваю бурят, которые, помолившись, пятятся назад от алтаря и статуи Будды. Одна из статуй Будды, предназначенных для устрашения зла, действительно вселяет ужас. После некоторой неукоснительной общей информации о прошлом и настоящем этой части Монголии наш гид переходит к тому, что составляет особенности Иволгинска, цель и гвоздь программы всех посещений: нетленное тело второго Хамбо-Лама, умершего более восьмидесяти лет назад, и которое, по мнению некоторых ученых, до сих пор живет. Кажется, что оно дышит и его волосы продолжают расти — пусть и очень медленно. Можно ли его увидеть? Нет, нельзя, кроме семи дней в году. Очень жаль, придется поискать в интернете… По возвращении я легко нахожу две его фотографии: одну, где он еще жив, одетый в черное и белое, и другую, уже «живого-умершего», всего в цветном. Его звали Даша-Доржо Итигэлов, он играл большую роль в бурятском буддизме. 19 марта 1917 года царь наградил его орденом Святого Станислава. В 1926 году нагрянула «красная доктрина» преследования религии, и он советует монахам покинуть Россию, но сам решает остаться. После его смерти его тело в позе лотоса помещается в кедровый гроб и захоранивается в бухано (кладбище лам) в местности Хухэ-Зурхэн («темно-синее сердце» по-бурятски). Он попросил, чтобы монахи регулярно открывали его саркофаг, что и было сделано несколько раз. И всякий раз констатировалось, что тело даже не начинало разлагаться. Для консультации пригласили специалиста — и какого! Самого Владислава Козельцева, эксперта центра биомедицинских технологий, который занимается телом Ленина. Он дает этому феномену довольно банальное объяснение: «Наличие солей в саркофаге могло замедлить процесс разложения тела». Но он не исключил возможность того, что монахи могли владеть секретной древней технологией мумификации. Это довольно примитивный способ уверовать в святость, равно как и в нашей традиции ощущать запах роз, исходящий из открытой могилы. Известно, что в «Братьях Карамазовых» тело старца Зосима источало отвратительный запах, как и любое другое, к великому разочарованию его приверженцев. В христианской традиции называется только единственный случай, когда тело не было тронуто разложением, — тело Марии, матери Христа. То, что позволило, говорится в одном из текстов Катехизиса, по призыву ее сына «вознестись на небо и телу, и душе». Это не значит, добавляет источник, предназначенный, наверно, для детей, что «она взлетела вертикально, как самолет» (это скорее похоже на взлет вертолета), а то, что она «отправилась к Богу». Я, правда, еще лет двадцать назад, путешествуя по Северной Индии и читая Александру Давид-Неэль, собрала все что можно о совершенной медитации с глубокими изменениями дыхания и температуры тела… Я даже написала об этом небольшой роман. Но я ничего не слышала о подобной посмертной консервации… Разве когда облик ламы сохраняется таким, каким был при жизни, он выглядит так отталкивающе на цветном фотоснимке: круглый, одутловатый, более желтый, чем того требует его генотип, похожий на большое яйцо всмятку, слегка приплюснутое спереди? Оставим загадку Иволгинска, хорошее название (классическое) для детективного романа, и воротимся к вопросам сегодняшнего дня, более насущным и политическим. Действительно, через двадцать лет после падения СССР (двадцать лет в декабре 2011 года) много говорится о «новой терпимости» и «возрождении бурятской культуры». То же и в Туве в Средней Сибири или в Калмыкии к западу от Урала. (Ленин имел калмыцкие корни по линии родителей своего отца, что видно по чертам его лица, тщательно выделяемым скульпторами на его бюстах и статуях). Буряты — единственный в России народ, исповедующий буддизм. Другая часть бурятов придерживается шаманских верований. Обе религии находятся в «хорошей форме», по словам нашего гида: «процветающий» буддизм и «вечно живой» шаманизм. Живой и вновь утвердившийся. Я записываю (неправильно и, более того, так, что сама не могу потом прочесть, автобус чудовищно трясет) имя Роберты Амайон, большого знатока шаманизма. В одной из своих статей, опубликованных в журнале «Диоген» в 2012 году, которую я изучила внимательно и с большим интересом, можно прочесть несколько ее очень оригинальных замечаний: то, что падение СССР открыло перед бурятами «невообразимый» простор для раскрепощения. Возвращение их идентичности и прошлого через историю эпического воина Гэсэра, распространенную в Монголии и Тибете. Впервые большое празднование в его честь состоялось в Улан-Удэ в июле 1995 года. Был создан природный заповедник, храмы и святилища, и его тысячелетие отпраздновали в 1999 году. По этому случаю даже местной водке дали название Гэссэр… Речь идет, говорит Роберта Амайон, о «мессианском ожидании» в духе Гершэма Шолема, «обращение к идеализированному прошлому, чтобы представить себе идеализированное будущее». Не воинствующие и политические требования. Это хорошая новость. Меня бы удивило, если бы это обернулось терроризмом или камикадзе, опоясанными взрывчаткой… На выезде со стоянки автобусов, откуда открывается вид на Монгольские горы, я покупаю себе на этот раз кожаные на меху кофту, варежки и туфли без задника.
12 часов. Посещение деревни староверов, в которой мы должны обедать, будет единственным туристическим отклонением в строгой программе нашего путешествия… Но как без этого? Туризм очень часто — единственный источник существования бедных стран, которые, не колеблясь, предоставляют свои исторические места на торг, на инсценировку. Все превращается в огромный тематический парк, где все жители сами претендуют на реконструкцию прошлого. Костюмы, песни, танцы, блюда фольклорные и гастрономические… Кажется, что при условии наличия приличной суммы можно было бы даже провести ночь в камере ГУЛАГа на большом сибирском севере… То, что нас ждало в деревне староверов Тарбагатай, было совершенно безобидно. Мы останавливаемся на обочине дороги, вокруг грандиозный пейзаж, в чистом поле нам приготовлены напитки. Сначала я удивляюсь, но затем моя бдительность уступает красоте места. Потом какой-то мужчина в национальном костюме, красной русской косоворотке из скверного нейлона садится к нам в автобус. Он громким голосом рассказывает о ссылке староверов в эти места, гид переводит. Дорога поворачивает, пустыня, крутой спуск, въезжаем в долину, и вдруг возникает деревня: в ее виде — простые одноэтажные домики, вытянувшиеся вдоль улицы, маленькая белая церквушка в глубине холмистой и совершенно пустынной степи — есть что-то захватывающее. Если бы повсюду вокруг не было машин и антенн, можно было бы подумать, что мы вернулись во времена первых поселенцев-староверов в районе Абакана. Я уже говорила, что не определяла значение раскола в российской истории, но теперь вижу, что староверы нам встречались повсеместно на нашем пути: богатые московские купцы, как Савва Морозов, экстравагантным испано-мавританским дворцом которого у меня не было времени вновь полюбоваться, уральские промышленники, парадоксальным образом связанные с большевиками в истории казни царя. И с другой стороны лестницы скит в глухой тайге, где сорок лет, абсолютно отрезанная от мира, прожила семья Агафьи. Деревня Тарбагатай основана в 1765 году. Ее населяют потомки тысяч староверов, высланных в Сибирь Екатериной II. Около восьми тысяч из них обосновались в этом регионе, оставленном даже местным туземным населением, с единственным багажом — железным плугом. Среди враждебных народов и племен они смогли выжить и преуспеть. Сейчас они законные граждане страны, которая была им чужой.
Наш автобус останавливается перед несколькими избами, декорированными под старину. Мы заходим. Сам дворик сильно раскрашен, петухи, кружева цветов в ярко-красном и зеленом цвете — все слишком отдает фольклором. Но мы так прекрасно настроены! Все одеты по-старорусски, женщины, молодые и пожилые, мужчины, молодые парни. В центре двора колодец, и опять живопись на деревянных стенках. Обед нас поджидает в большом зале с деревянными лавками, блюда изысканные, даже водка… Немного позже и недолго думая D. F. и я приняли участие в шутливой свадьбе, смешной и веселой пародии, за что мне в следующие несколько часов было немного стыдно. Это в первый и, я надеюсь, в последний раз я поддалась на обычный туристический кич под старину. Мы смело вступили в игру, D. F. в ярко-красной рубахе и я, притворяясь скромной девицей. «Мать! Я боюсь!» И одна женщина притворно меня ободряет. Несколько танцев, конец действия, и я с облегчением избавляюсь от цветастого сарафана и «ребенка» в довольно темных тонах (завернутого в каштановую шаль), которого я тайком родила под веселый хохот, в то время как W. N.’S. требовал открыть тайну отцовства. Центральная улица деревни прямая и унылая. Немного сжимает сердце, когда думаешь о зимних месяцах, когда ее покрывает снег, ночь и туман… Мы поднимаемся к этнографическому музею. Рядом с ним церковь, в которую я не захожу. Мне бы хотелось лично поговорить с нашим гидом. Меня занимает то, что мне говорят случайно в спешке на наших остановках. Так, в Красноярске одна женщина, хотя я у нее ничего не спрашивала, сказала: «Мне было шестнадцать лет, когда умер Сталин. И я очень хорошо помню, что мы с матерью были просто оглушены! Как! Было столько ужасов, а мы о них ничего не знали!» Это совершенно неправдоподобно, говорю я нашей сопровождающей, которая живо реагирует: конечно, это неправда, конечно, это невозможно! Знали все! Она сама и более молодые. А ее дедушка исчез в 1937 году. Небольшое разочарование: музей только о староверах, нет ничего о местном населении, бурятах или монголах. Экспонаты невероятно разнообразны с точки зрения использованных материалов: кованая сталь, дерево, плетеная березовая кора. Изобретательные технические приспособления: утюг, хитроумная мельница для измельчения кедровых орехов. Но многие инструменты, истершиеся и грубые, кажутся также неудобными, трудными в изготовлении и даже опасными. Ими можно прищемить палец или даже поломать руку. Никаких самогонных аппаратов: алкоголь староверам был категорически запрещен. По дороге уставшая, с достаточно противоречивыми чувствами от участия в недавней комедии, я засыпаю глубоким сном. Когда я просыпаюсь, мне уже гораздо лучше. Я тихо напеваю себе считалочку собственного сочинения о том, как жалуется маленький монгол, укушенный насекомым. (Во время путешествия я не перестаю сочинять абсурдные стишки.)
19 часов. Быстро приведя себя в порядок и освежившись в гостинице, мы собираемся в вестибюле. F. F., D. Е, Н. N. и я решаем пропустить ужин, чтобы прогуляться по городу. Погода чудная: тепло, светло, ночь еще далека. Даже не взглянув на Большую Голову, мы проходим под аркой Николая II. Город постепенно спускается к приятной пешеходной зоне с магазинами и террасами кафе. Какой-то тип усаживается за наш столик. О лучшем я и не мечтала, это будет прекрасная возможность пообщаться с представителем местного населения, что мы и пытаемся сделать с помощью Н. N. Однако по нему видно, что он не в своей тарелке, и нам в конце концов с трудом удается от него отделаться. Чего он хочет? Чтобы мы оплатили ему выпивку? Или чтобы мы нашли ему женщину? (Он бросал настойчивые взгляды на всех проходящих мимо дам.) Подобный случай был у нас в поезде несколько дней назад с одним молодым человеком. Мы возвращались из вагона-ресторана. Со своей полки он сделал нам знак присесть рядом. Он сидел, склонившись вперед, руки между коленями и рассказывал нам, что он молдаванин и едет во Владивосток искать своего брата, которого не видел пятнадцать лет. Затем Н. N. переводит, что «он хочет женщину». Когда назавтра мы вновь проходим мимо, он опять подает нам знак. Но, к сожалению, мы не располагаем женщинами. В который раз мы с Н. N. начинаем разговор о России как о продолжении Европы, и вновь эта мысль ввергает меня в какую-то смутную, тревожную радость… Везде, значит, Европа завоевательница, колонизатор, цивилизатор. Кроме нескольких часов в Иволгинске, мы ее так и не покидали. Мы не можем покинуть Европу, поезд толкает ее перед собой в своем медленном и упрямом продвижении на восток. Меня беспокоит, что я испытываю от этого своего рода удовлетворение. Разве я в поезде не для того, чтобы погрузиться в старые этноцентрические предрассудки, делающие Европу прообразом и эталоном цивилизации? Согласно Гусерлю и Хайдеггеру это что-то «над Востоком и Западом» и что проходит через «Европейское». Наверное, ни один европеец не в состоянии полностью этого избежать, даже если это исправляется путешествиями, знакомством с другими народами и строгим самоанализом. И, кроме того, хорошо это или плохо, но это просто правда: Россия — это продолжение Европы, простирающееся далеко за пределы ее родной земли… «Европа», и это очевидно, существует и за ее историческими и географическими границами. Это определенная манера закладывать и строить города, поручать им заботу об обустройстве и привитии культуры в сельской местности, это традиции свободного и мирного соперничества идей, верований и образов жизни. Это высокое и почетное место, отведенное книгам и культуре. Это рывок после вековой борьбы из ярма абсолютизма и религиозного владычества. И ее противоположность — надменное высокомерие считать себя центром Вселенной и пытаться силой убедить в этом всех остальных. В России в течение долгого времени Европа представляет собой некий набор ценностей, идей и принципов… То, что составляло «Общий европейский дом, основанный на солидарности», о чем говорил Горбачев, человек, о котором у меня так и не сложилось определенное мнение. Слишком часто расхваливаемый и превозносимый Западом до небес и потом несправедливо очерненный? В своей речи 6 июля 1989 года в Страсбурге он говорил о «единой Европе, мирной и демократичной, сохраняющей свое многообразие и верность общечеловеческим ценностям». И об «уникальной возможности, представившейся европейцам, сыграть достойную их прошлому, их экономическому и духовному потенциалу роль в строительстве нового мира». Владимир Путин кажется далеко отступившим от этого назад, именно он призвал 26 ноября 2006 года в «Зюддойче Цайтунг» к «гармоничному экономическому сообществу от Лиссабона до Владивостока». Но хотят ли все еще этого русские? Не толкает ли их к Европе страх перед американским могуществом и бурным развитием Китая? Во всяком случае, часть французов хотела бы этого, так как Европа нуждается в России. В марте 2010 года в своей статье в «Либерасион» Бернар Гетта подчеркивает: «Нужно соединяться с Россией, которая необходима для решения наиболее горячих международных кризисов, затрагивающих интересы Европы и США, чем подталкивать ее в сторону Китая». И Жан-Пьер Шевенман пишет: «Россия — это нация, необходимая для поддержания мира на нашем континенте и равновесия на планете». Значит, Россия европейская? Да, несомненно, считает Хелен Каррер д’Анкосс: «Россия — это азиатская страна, находящаяся в Европе, и европейская страна, присутствующая в Азии». «Большая европейская страна, географически располагающаяся также и в Азии», — добавляет она. …Мы останавливаемся перед входом в парк «Медведица» — возможно, по названию речки. (Такое же имя носят несколько речек бассейна Дона.) Кажется, тут собирается только молодежь, и не всегда для невинных свиданий: возможно наркотики, алкоголь наверняка, много сумок с торчащими горлышками бутылок. Собор Одигúтрия и его золоченый купол сверкают в лучах заката, его синие цвета индиго массивные крыши отрезают зелень от неба, которое уже начинает темнеть. «Одигúтрия» с греческого holigos — «тот, кто указывает путь» (это название одного из образов Богородицы с благословляющим сыном на руках.) Стройная и элегантная, несмотря на свой внушительный размер, недавно отреставрированная церковь уже почти разрушилась, служа музеем для религиозных экспонатов, зачастую буддийских.
Пятница, 11 июня: Улан-Удэ, продолжение
Улан-Удэ, который мы должны покинуть сегодня в конце дня, это наша последняя остановка, но до конца нам еще ой как далеко. Впрочем, я вовсе об этом не жалею. Еще 3000 километров, два с половиной дня и три ночи пути до Владивостока… 10 часов: пресс-конференция. Вопросов почти не разобрать из-за ужасной акустики и моей усталости. Какая-то женщина встает и задает вопрос по-французски, затем переходит на русский язык: «Очень рада видеть вас здесь» (я того же мнения). Это бурятская писательница с очень приятным лицом. Кто-то говорит, что староверы сегодня — это некая достопримечательность, и в один прекрасный день они разбазарят всю свою культуру. А я спрашиваю себя, а не происходит ли уже это? А не внесла ли и я в это свою лепту, участвуя вчера в этом представлении? Этим поражена вся планета. Я вспоминаю короля маленького государства в Гималаях: вскоре после его открытия внешнему миру монахи стали продавать туристам свои молитвенные мельницы, а король — надевать носки «Берлингтон» под свои традиционные одежды… Затем пианистка играла нам какие-то шаманские ритмы: отзвуки танцев на Волжском берегу под Казанью. И вдруг раздается голос, за которым сразу же следует перевод: голос серьезный и по тону, и по теме. Он произносит: «Сегодня все стало очень трудно, и не столько в материальном смысле, сколько в человеческом, духовном». Что именно имел в виду этот голос, который я даже не смогла идентифицировать? Неужели я уеду, так и не будучи уверенной, что правильно его поняла? Я чувствую, что вплотную приблизилась к реальности, которая до сих пор от меня ускользала. Больше чем когда-либо, в это мгновение Я понимаю, что хочу выиграть время, говорить по-русски или найти надежного переводчика и остаться здесь одной на несколько дней. То, что я только что услышала, не является ли ключом к России, который я тщетно искала? Разве в России не чувствуют более остро, чем где бы то ни было, то, что чувствуем сегодня мы все — этот кризис «не столько материальный, сколько духовный»? Я часто об этом думаю, иногда даже беспрестанно. В небывалых условиях технологического и промышленного развития, личной безопасности, здравоохранения и даже счастья, которые мы, очевидно, имеем в развитых странах, мы тем не менее чувствуем, что что-то не так именно «в человеческом и духовном смысле». Что в настоящее время в истории человечества происходит нечто ужасное, в чем мы не отдаем себе отчет. Глубокое, серьезное и опасное разрушение, которое затрагивает ту нашу нить, по которой мы могли бы передавать друг другу главные чувства: сострадание, сопереживание, понимание. Полная атрофия этих рецепторов человечности, без которых человечество не сможет выжить. Это фундаментальные положения, которые необходимо выковать, потому что никто не выживет без солидарности, без внимания друг к другу. В обществе, где обеспечены свобода, комфорт и безопасность, мы думаем, что нам больше ничего не нужно. Это заблуждение: мы погибаем от их отсутствия (это главная мысль чудесного романа «Дверь» венгерской писательницы Магды Сабо). Это совершенно очевидно, и я повсюду это чувствую: сожаление об ушедшем времени. Не в смысле и не только как о периоде коммунизма, никто не может о нем сожалеть с тем, что мы теперь о нем знаем, но о времени, когда рецепторы человечности, как скорая помощь, ежедневно были в пути. Как Улицкая говорит об одном из своих персонажей, естественное великодушие и благородство которого кажутся сегодня исчезнувшими: «Она пришла из будущего, которого никогда не было». Не все, что говорит Улицкая, мне нравится, но эта фраза просто великолепна: «Будущее, которого никогда не было». Будущее, которое должно было бы воцариться после того, как были пройдены все муки и ужасы реального коммунизма, будущее общество, к которому были обращены все надежды, общество, в котором люди обрели бы наконец между собой действительно человеческие отношения. И то, что это будущее так и не пришло, это настоящая трагедия, и не только для России.…Вероятно, именно об этом думал человек, чей голос произнес: что-то не так «в человеческом смысле».
11 часов. Встреча в университете. Как всегда, мы бежим, мы опаздываем, не можем найти аудиторию… И потом я решительно в большом сомнении: уверена, что эта предстоящая встреча для меня будет совершенно бесполезна. Длинный стол, четыре или пять французских писателей, дружеские взгляды, доброжелательные улыбки. Я делаю несколько фотографий. Каждый из нас рассказывает о своих планах, манере работать. Что важно для меня, так это дать присутствующим понять, что писатель — это не какое-то исключительное существо. Его жизнь не так важна, как его книги. Как сказал недавно Хавьер Серкас на одной встрече, где я тоже присутствовала, «если писатель более интересен, чем его произведения, то это плохой писатель». Писать — это не какой-то особый дар или превосходство, это состояние пристального внимания к миру, в котором я слышу и книги, и даже умерших. Какая-то женщина просит слово, я ее узнаю. Она подошла ко мне в конце пресс-конференции, и я тогда так и не поняла, кто она: студентка, преподаватель, автор? Торопясь покинуть зал, я ей неосторожно предложила следовать за нами в университет, чтобы продолжить беседу, что она и сделала. Теперь нам это стоило вопроса, который нас затруднил меньше всего на свете, но только не преподавателей и переводчиц: как получилось, что такая великая страна, как Франция, терпит гей-манифестации и парады? И в дополнение, и как мы лично к этому относимся, за или против? Ответ единодушный: «За!» (Что касается меня, то я от этого не в восторге, но, естественно, я против всяких запретов.) Спор так и не успел разгореться, так как русская сторона решила, что вопрос не по теме встречи. А это уже вызвало протест с нашей стороны: даешь гей-парад в Улан-Удэ перед головой Ленина! Ясно, что эта женщина вслух задала вопрос, которым задаются многие, и решительно выразила свое резкое неприятие, которое другие определенно разделяли. Во времена СССР, как теперь в коммунистическом Китае, гомосексуализма просто не существовало. (Отсюда и закрывание глаз на губительные последствия СПИДа.) Это советское пуританство, граничащее с гомофобией и оправдывающее ее, не исчезло со сменой режима. И это то, что в социальном и ментальном плане отличает нас от европейских стран, освободившихся недавно от коммунистической системы. Запрещая гей-парад, мэр Москвы Юрий Лужков, смещенный вскоре с поста (но не по этой причине), назвал гомосексуалистов «сатанинским отродьем». В 2008 году в Брно, в Моравии, первый чешский парад геев и лесбиянок был разогнан полутора сотней правых экстремистов. И из последних новостей (15 февраля 2011 года): префектура полиции города Будапешта отозвала свое разрешение на ежегодный венгерский гей-парад, назначенный на июнь месяц, по причине чрезмерной нагрузки на уличное движение. В России отмена уголовного преследования за гомосексуализм датируется 1993 годом, но в 2007 году четырнадцатилетняя годовщина была отмечена жестокими манифестациями. И, как всегда, свое дело сделал тройственный монотеистический блок: православный епископ Южно-Сахалинска Даниил сравнил гомосексуализм с проказой и предостерег общество от «распространения греха». Председатель центрального духовного управления мусульман России муфтий Тальгат Таджуддин заявил: «Пророк Мухаммед приказывал убивать гомосексуалистов, поскольку „их поведение приведет к концу существование человеческого вида“». Что же касается Берля Лазаря, главного раввина России, то и он не отставал: «Как представитель религии я прежде всего хочу сказать, что наша вера категорически отвергает гомосексуализм».
В 13 часов мы обедаем в поезде восхитительной солянкой. Если хотите, я могу поделиться рецептом, который мне дали. Если коротко, то в мясном бульоне несколько минут варятся обжаренные в томатной пасте соленые огурцы с морковкой и луком с добавлением нарезанных соломкой копченостей, колбасы, ветчины, сосисок. Все это заправляется свежей сметаной. Мысль провести два дня и три ночи в поезде меня радовала и несколько беспокоила: Я боялась, что меня свалит усталость и я просплю все время. Но этого не случилось. В едущем университете работа шла полным ходом. Чтение, видео- и аудио записи в купе, где обустроилась France-Culture, фрагменты фильмов, снятых Е. К., перевод с русского, обеды в вагоне-ресторане, водка и фотографии. И я, конечно, буду скучать по тем свободным и сердечным манерам, которые естественным образом сложились между нами в пожеланиях друг другу доброй ночи, или в сталкивании друг с другом по утрам в узком коридоре с зубной щеткой во рту… Что касается сигарет (в путешествии я не соблюдаю никаких запретов, режимов и воздержаний), то в тамбуре вагона или на узком и шумном перроне я всегда находила нескольких завзятых курильщиков, которые могли запросто втянуть меня в свою компанию. Я не знаю, является ли это частью путешествия или своего рода товариществом… И опять унылый вид по обе стороны железнодорожного полотна, и ряды елей и пихт, исчезающие в свете заката. Горизонт скрывается, Россия закончилась, простирается бескрайняя Сибирь, а мы продвигаемся к Японскому морю. Да, прав был Чехов: Сибирь обладает «необъяснимым очарованием», которое уже никогда не забудешь. Сибирь! Сибирь! Даже когда ты в горе, боли и печали, ее колдовство продолжает действовать.
Ранний ужин в поезде. Сон после часа блаженного покачивания в купе. Я научилась очень уютно заворачиваться в свое теплое одеяло и задвигать под ноги сумку, которая занимает слишком много места между полками, класть на узенькую сеточку мой мобильник, вложенный в томик Мандельштама, часы и очки, зацепленные за дужку. Одна из наиболее счастливых сторон путешествия — это вновь обретенная (или вновь открытая в себе) способность к самоограничению, уменьшению потребностей и комфорта и радостное ощущение свободы от них.
Суббота, 12 июня и воскресенье, 13 июня: в поезде
Долгие дни в поезде. Время, пространство — для меня больше нет разницы — расширились без края вдоль девяти часовых поясов, которые мы успешно пересекли, и наше путешествие заканчивается, превращаясь в какой-то приобретенный опыт, где уже нет места страхам и опасениям начального этапа… (Не поэтому ли так много русских напиваются вусмерть с первыми же оборотами колес?) Кого-то это выражение могло бы удивить, но на самом деле оно не является слишком сильным. Освещенное причудливым светом, все принимает живые контуры, делает вас более счастливым, и вы видите все в новом свете, который заставляет вас забыть обо всем. Грустное видение или, наоборот, радостное? Особой разницы нет. Вот оно все тут: деревни появляются и исчезают, трава зеленая, стены синие, надгробные камни кладбищ мирно вклиниваются в это беспорядочное нагромождение зелени. Ровное море растительности, обильной, но не пышной, на всем своем протяжении не кажется ни диким, ни культивированным. Оно покрывает бескрайние луга, где не встретишь ни человека, ни зверя. Вдруг покажутся один или два огорода напротив палисадника или бревенчатой стены, явный признак человеческого присутствия, старая машина, которая кажется еще на ходу, или какая-нибудь «избушка на курьих ножках», как у Бабы Яги, или пасека? Самое время вернуться в прошлое, в историю. Повторяющиеся образы этих пустынных просторов, находящихся вне времени, скрывают упорное любопытство, объектом которого веками являлись и эти непостижимые уму просторы, и климат, и население, и фауна, и флора, и их подземные природные богатства. Они были европейцами, эти мужественные путешественники, ученые исследователи, часто французы — те, кто открыл, «изобрел» нынешнюю Сибирь, этого неразрывного спутника России, утвердившего и укрепившего ее на востоке. Среди первых был аббат Жан Шапп д’Отрош, имя которого вчера упомянул наш гид. Мне оно ни о чем не сказало по той причине, что я ничего о нем не знала… Сейчас я о нем уже более осведомлена. Какая судьба! Он родился в Мориаке (провинция Канталь) в 1722 году и умер в Сан-Хосе (мексиканская Калифорния) в 1769-м. Десятью годами ранее Академия наук выбирает его своим членом-корреспондентом, а через год отправляет в Сибирь наблюдать прохождение Венеры по диску солнца в Тобольск, самое сердце бывшего сибирского ханства… Путешествие в санях через тысячи преград из Петербурга в Тобольск (2670 километров) заняло целый месяц. По возвращении в Париж в августе 1762 года он пишет свое «Путешествие в Сибирь». То, что он говорит о русском правительстве и его методах, настолько отрицательно, что в 1771 году книга становится предметом опровержения, заказанного Екатериной II и опубликованного под названием «Антидот, или Обсуждение скверной, но прекрасно изданной книги под названием „Путешествие в Сибирь“». Тем, кто когда-то пользовался чугунными эмалированными сковородками «Мирус», украшенными просвечивающимися цветочками, которые зачастую лопались от нагревания, будет интересно узнать, что это именно аббату Шапп д’Отрошу мы обязаны их открытием под названием «стекло из Московии». Ах, как бы мне понравилось это выражение — «стекло из Московии», когда я в своей комнате на голодный желудок читала Мишеля Строгова на коврике, окрашенном красными пылающими отблесками Мируса! С аббатом д’Отрош я чествую вас всех, о Джеки Лондоны Великого Востока, исследователи, покрытые инеем, этнологи без методик, но и без предубеждений, минерологи, одетые в оленьи шкуры! А вместе с вами и ваши самые прекрасные открытия: драгоценные украшения курганов, золотой песок рек, рудные среброносные жилы во чревах откосов. Потому что сегодня все уже иначе: мы окончательно покинули чудный мир детских книжек для мальчиков и девочек. Рудные запасы почти истощены, остались только воспоминания о Колыме, об ужасной смертности, царившей на золотых рудниках из-за цианида и кислоты, применявшихся там для извлечения золота. Заключенные копали вечную мерзлоту по четырнадцать часов в день. Согласно данным историка Роберта Конквеста 30 процентов из них умирали в первый же год, остальные — на втором году. Колыма значит смерть, говорили в то время. Туда отправлялись по морю из Владивостока — возможно, Мандельштам, когда умер, как раз и находился на пути туда. (Последний свидетель, который уверял, что узнал его, говорил о полусумасшедшем человеке, искавшем пропитание среди протухших костей и тряпья.) В бассейнах Амура и Лены есть еще немного золота, и большие предприятия создаются для его добычи. Но предметом особой зависти, как и наибольших рисков для Сибири, сегодня являются огромные запасы нефти. К сожалению, мне не удалось поприсутствовать на конференции, организованной Иветтой Вагэ, географом из Руанского университета, на тему: «Арктическая Сибирь: кочевые нефтяные города» во вторник, 30 ноября 2010 года. В этом и есть вся суть конференции: в глубоких территориальных и урбанистических изменениях, которым подвергается весь регион из-за добычи нефти. Соглашения, подписанные с Японией в 2009 году, очень тревожны в смысле сохранения окружающей среды: сырая нефть, добытая здесь, будет поставляться на рынки Северо-Восточной Азии и в Японию, как только закончится строительство русского нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Одна экологическая катастрофа уже случилась десять лет назад в западной Сибири («Либерасион» от 7 августа 2001 года): «Вследствие интенсивной добычи нефти в Западной Сибири огромная область, в семь раз превышающая площадь Москвы, от 700 000 до 840 000 гектаров тундры, была загрязнена из-за крупной утечки углеводородов». Исследования показывают также, что в опасности исчезновения пребывают некоторые виды животных, таких, например, как серый кит. Все это, естественно, я узнаю потом. А теперь я полностью поглощена мерным качанием поезда. Оно так глубоко проникло в меня, что, выходя на станциях на перрон, я шатаюсь, как матрос после качки. Белые облака катятся над монотонными просторами, разрезанными иногда широкими полосками воды. Мой взгляд безостановочно блуждает по нескончаемым занавескам белых берез, которые вдруг раскрываются, показывая сопку, поросшую лиственницей, или затерянную дорогу, реку с ее широким и сильным течением. Ничто в Европе не может датьпредставление о красоте и полноводности этих рек… Взгляд поднимается вновь к поездам белых облаков, ветер метет низкую траву, на деревянных покосившихся столбах висят длинные нити электрических проводов, соединяющих между собой бедные деревянные домики, вымытые дождями и снегом. Я вытягиваю ноги, спина прижата к подушкам, временами дремлю, радуюсь, вдруг проснувшись, что я здесь. Я уверена, что все мной увиденное мне только кажется. Но радость путешествия влечет сладкую усталость и ожидание прибытия на неизведанное море.Маленький праздник в вагоне-ресторане по поводу прилетевшей в CMC-сообщении новости о большой премии, которая только что была присуждена О. R. Когда я возвращаюсь в свое купе, то кажется, что ничего не изменилось, разве что в сумерках уходящего дня деревья стали темнее, а стволы берез светлее. Те же домики вдруг появляются, но на этот раз с лампочкой, горящей над крыльцом, и параллельные борозды маленьких огородов представляются кусочками ткани. Вот опускается ночь, и снаружи опускается полная темнота, прерываемая вдруг светом одинокого окна, с освещенной и, наверно, протопленной теснотой. Чувство ненадежности и поспешности, болезненное и ободряющее, какое всегда вызывает борьба за выживание: мы радуемся, видя, что человек может преодолевать чрезвычайные трудности, и в то же время чувствуем нотки грусти, задумываясь, а зачем все это. Опущенная занавеска, качание моей полки, ночь, как и все предыдущие, теплая, тихая, успокаивающая, несмотря на пробуждение на каждой станции, после которого я тут же вновь засыпаю. Утром потянуться, принять душ по моему способу и выпить более-менее сполоснутую чашку растворимого кофе. «На вокзале как на вокзале»! В поезде все просто, грубовато и тем не менее здорово. Несколько раз в день пылесосят коридоры и моют туалеты. Две наши проводницы проявляют заботу о нас и замечательное терпение. Одна из них мне даже сделала комплимент: она любит французов за то, что «они любезные и чистоплотные».
Суббота, все то же
W. N.’S. читает мне свою «Русалку Байкала», потом я ей читаю, в свою очередь, свое. Мы проводим много времени в чтении друг другу, это одно из очарований писательского дома на колесах. Это так мне нравится, что я боюсь того момента, когда все это закончится. Даже если наше писательское путешествие иногда напоминает «организованный вояж» (организованный, кстати, спасибо русским друзьям, великолепно), в действительности это не так, поскольку этот коллективный поход не является исключением в нашей обычной жизни. Это скорее ее продолжение в несколько другой форме. Что часто мешает в «организованных вояжах» и делает их настоящим мучением, так это то, что не все могут вынести за скобки свою привычную жизнь. Нередко в каком-нибудь далеком археологическом месте, куда их привез автобус с кондиционером, в то время как гид изощряется под палящим солнцем оживить исчезнувших богов, какие-нибудь дамы определенного возраста будут обсуждать действия, успехи и горести супружеской жизни своих детей и внуков… Но мы с нашими мозговыми шестеренками, айфонами, сомнительными шутками и этой необычной формой незрелости, свойственной писателям или вообще артистам, — живем своей обычной жизнью. И если кто-то оставляет свои семьи и детей ради других интересов, здоровья или сексуальных влечений, то мы ради главного: записных книжек, музыки, бесед, книг, часов, проведенных над текстами, немного водки, тайного обольщения, для смеха или более серьезного… Тесное соседство людей, постоянное внимание ко всему новому, к новым книгам, звукам, чужим разноязыким голосам — для меня это все возврат в мое самое любимое время, радостное и тревожное, в годы учебы. Не желая слишком быстро отступаться от благословенной исключительной возможности, я предаюсь сложным подсчетам, как можно было бы перенести мое возвращение в Москву, продлить мое пребывание во Владивостоке и оттуда отправиться прямо в Париж. Мне дают понять, что я могу не успеть на пересадку, так как самолет с Дальнего Востока прилетает в Домодедово, в то время как самолет на Париж летит из Шереметьево, расположенного в 50 километрах в обратном направлении, и что нужно учитывать, что это самое время пробок на дорогах. Я чувствую, что мне придется отказаться от своих планов. И я опять в очередной раз погружаюсь в зрелище меняющихся милых образов, деревенских, мирных: крестьянин ведет своих лошадей, люди возвращаются к себе домой, как мы возвращаемся в свои пригороды. Мы только что проехали Мороцу. Для моего будущего рассказа я фотографирую список станций в тамбуре (он мне, правда, не понадобится). Затем я принимаюсь за двуязычный томик Мандельштама, подаренный нам при отъезде. Он был издан в Москве в 2008 году под названием, которое на французский перевели как «Я усвоил доктрину прощаний». Но мое слабое знание русского подсказывает мне, что слово «наука» совсем не нужно было переводить как «доктрина», а «прощание» совсем не то, что «расставание», как в оригинале. Я предлагаю, следовательно, — «Я изучил науку расставания». Так мне больше нравится. Затем я пытаюсь читать вслух (я одна в купе), соблюдая тонические ударения, которые S. мне пометил карандашом на странице. Я дочитываю, наконец, до красивой поэмы, где Улисс, «полный пространства и времени», собирается покинуть свой корабль с поникшими парусами (1917 год). Я тоже в ожидании послезавтра Владивостока, чтобы вскоре его покинуть, чувствую себя «полной пространства и времени».…Обед в вагоне-ресторане, неплохой рыбный суп. На обратном пути нас опять останавливает молдаванин. В конце концов, оказывается, что у него не один, а несколько братьев, к которым он едет. И на этот раз, возможно, потому, что еще не вечер, он не просит нас найти ему женщину… Туда и обратно путешествие займет у него почти три недели только езды. Мужчина, сидящий напротив него с женщиной и маленьким мальчиком, не прекращает бросать на нас раздраженные взгляды. Н. спрашивает у него, все ли в порядке, и мужчина объясняет, что это не мы его раздражаем и не наше присутствие в поезде. Наоборот, есть другие люди в поезде, за которых ему стыдно, и ему стыдно, что мы видим этот спектакль: русские, которые сели в Москве, так и не протрезвели и не привели себя в порядок ни разу за все время путешествия. (Мое допущение не так уж и дурно: «заполнить до краев метафизическую пропасть», но я не осмеливаюсь утруждать Н. его переводом.) Он несколько раз, вздыхая, качает головой. Я предлагаю свое шоколадное пирожное, еще в обертке, его мальчику, спросив разрешения у мамы, которое она дает улыбаясь. Эта гордость русских меня поражает и трогает, это желание представить Россию в добром свете, и что объясняет, почему иногда у них вид, будто они следят за нами. Теперь я понимаю, что это значит: что же вы о нас подумаете? К 17 часам 30 минутам, что для нас уже абсолютно ничего не значит, поскольку мы меняем время ежедневно, пришла новость: нет возможности задержаться во Владивостоке. Тем хуже. Я вновь принимаюсь упражняться в русском и очень медленно перевожу две последние строфы из Тристии: «О, нашей жизни скудная основа, куда как беден радости язык!» В 10 часов 30 минут я укладываюсь спать, задвинув занавески и заткнув уши. Я уже умею заворачиваться в одеяло, и я уже не сойду с полки, как Луара не выйдет из своего русла… Перед тем как заснуть, я пересказываю себе историю, которую мне рассказал V. R, один из наших сопровождающих. В одном вагоне мама учит дочку: «бон жур» (выделяя «n» как в женском роде). Учит, чтобы та попрощалась с французами, когда они будут уходить! Я подумала: эта история для Даниэля… У меня прекрасное взаимопонимание с V. Я спросила у него имя его отца, чтобы называть его торжественно и церемониально по имени-отчеству. Его отец прошел Великую отечественную войну, воевал на Волге, чудом уцелел, напоровшись на мину. Его дед был пчеловодом. Сам он всякое повидал в жизни. Классическая судьба русского средних лет. Мы обменялись поздравлениями на Новый год по электронной почте.
Воскресенье, 13 июня
Все еще в поезде. Целый час я навожу порядок в своем фотоаппарате и мобильном телефоне, так как довольно давно у меня не было такой возможности. Завтракаем в купе: кефир, который я делю с F. Е, хлеб с сыром, растворимый кофе. Никогда мне еще не казалось, что поезд едет так медленно. Его скорость теперь редко превышает 80 километров в час. Но я вовсе не жалуюсь, наоборот. Я совершенно не спешу приехать. Что это за большое здание в таком плачевном состоянии? Заброшенная электростанция в полном «одиночестве»? Подходящее слово для обозначения мест, «удаленных от посещения людей», как говорит Литтрэ. Бесконечное время проходит, пока мы замечаем, наконец, ряды низких домиков, затерянных среди лугов, пересеченных редкими деревьями, в основном ивами и тополями. Одиночества, во множественном числе, совершенно подходящее слово. В том числе в своем старинном значении, как добровольное удаление от мира в целях духовного и морального совершенства. Мало какой опыт сравнится с этим раздумьем о себе и мире в течение нескольких зим (хватило бы и одной) в Сибири. (Я еще не читала Сильвэна Тессона). Я вспомнила это слово еще раз через несколько дней в Москве, когда в аэропорте покупала чудесную перламутровую шкатулку, которая мне понравилась за слабый отблеск заката за крышами (а может, зари?). Маленькими буковками на ней можно было прочесть: «Федоскино, Оптина пустынь». «Федоскино» — это стиль лакированных шкатулок. Пустынь — это «одиночество», полное, как «пустыня», так говорили в XVII веке. А Оптина — монастырь, где столько русских стали отшельниками и куда Толстой впервые отправился в 1881 году. Это в точности то, чем для меня стала Сибирь: место одиночества (одиночеств), заселенное сожалениями, воспоминаниями, ожиданиями и мечтами.13 часов. В то время, как мы обедаем в вагоне-ресторане, наш поезд останавливается в Биробиджане. На фронтоне вокзала написано по-русски и на идиш «Биробиджан». Это в то же время столица Еврейской Автономной области, задуманной в 1928-м и образованной в 1934 году. Это название в целом ассоциируется с ужасными образами, с идеей, что создание еврейского государства в невероятно отдаленных районах замаскирует фактическую депортацию. «Депортация», может, слишком сильно сказано, скорее перемещение, удаление в места чрезвычайно суровые и изолированные, это правда. Это «политическое образование еврейского народа» должно было позволить советским евреям «располагать определенной территорией для того, чтобы самоопределиться как советскому народу» — цитируя знаменитую статью Сталина. Это также была ясно выраженная альтернатива сионистским «националистическим и буржуазным» планам. В своей статье в журнале «Взгляд на Восток» (Regard sur Est) Габриель Шоментовский пишет следующее: чтобы отвлечь евреев от Палестины, «власти прилагали все усилия для поощрения их иммиграции в ЕАО (Еврейскую Автономную область), предлагая бесплатный проезд, обещая планы развития региона и размещения там промышленных предприятий. В период с 1946 по 1948 годы тысячи советских евреев обосновались в Биробиджане. К концу 1948 года еврейское население ЕАО достигло 30 000 человек. Эти инициативы сопровождались возрождением культуры идиш: после закрытия еврейских школ во время чисток тридцатых годов идиш становится обязательным для изучения в школе, тиражи издающейся на идиш газеты Birobidjan Shtern возросли, и даже возникло целое издательство, выпускающее книги на идиш. Но все меняется в 1948 году с созданием Государства Израиль: „Сомневаясь, что еврейское сообщество сохранит свою лояльность после образования Израиля, и движимый крайним антисемитизмом, Сталин начинает антиеврейскую кампанию, кульминацией которой является изобличение законспирированной еврейской организации, так называемое дело врачей. Начинаются аресты, депортации и даже казни среди биробиджанской элиты“». После смерти Сталина еврейское население уменьшается, и большинство евреев, еще оставшихся в ЕАО, эмигрируют в Израиль в 1991 году после развала СССР.
С утра мы с нетерпением ждем встречи с Амуром, пятой и последней большой рекой, которую пересекает Транссибирская магистраль. Затем мы свернем на юг, и это будет конец нашего путешествия. Но погодите: несмотря на то, что мне сказал один русский: «Амур — это единственная река, которая говорит по-французски!» и несмотря на его величественный вид, его название вовсе не французское и уж тем более не поэтическое. С тюркского или бурятского оно означает «грязный». Но его бурятское происхождение мало волнует того, кто выдумывает каламбурчики сомнительного вкуса. Как? Вы еще не знали «Амур»? Или еще. Его устье очень широкое и разделяется надвое при впадении («Все в объятиях „Амура…“»), и когда мы встречаемся с эшелоном цистерн, один голос говорит: «После „Амура“ цистерны полны…» Никто из нас не хочет окончания путешествия. Многие сожалеют, что чуть раньше мы не свернули в сторону Пекина. В то время как мы проезжаем Хабаровск, я говорю себе, что было бы неплохо пересесть на ветку, идущую на север к Байкало-Амурской магистрали, которая останавливается как раз напротив Сахалина… Но что теперь? Мы уже пересекли Амур, Хабаровск позади, и нет пути назад. После изгиба, явившегося следствием русско-японской вражды, мы разворачиваемся на юг, оставляя справа Северный Китай. Я буду рада после возвращения перечитать повествование Чехова о его поездке на Сахалин. Опять опускается вечер, наш последний вечер в поезде. Решительно наши русские хозяева усилили свое к нам внимание! Появляется праздничная корзина: целый цыпленок, копченая рыба, водка, пирожные… И даже соль в маленьких спичечных коробках, как бывало в детстве на пикниках. И это тоже Россия: высокомерная и наглая мафия, мультимиллионеры, и остальные, еще живущие в старом времени без кривляний и церемоний… Мы идем из купе в купе, чтобы разделить всем вместе наше пиршество, но понимаем, что глаза наши гораздо больше желудков. Мы решаем отдать добрую половину нашим двум проводницам, что они принимают со сдержанной благодарностью. Завтра утром Владивосток. Нам осталось всего один раз поспать на наших узких полках под мелодичное и скрипящее выстукивание колесами «Сибирь»… Во всяком случае, в этот раз после внимательной проверки и укладки вещей мы ничего не будем оставлять в купе. И это сжимает мое сердце.
Понедельник, 14 июня: Владивосток
6 часов 30 минут: прибытие в туман. Я спала так глубоко, что когда М. d. К. меня разбудила, все уже были в коридоре с сумками, стоящими возле ног. Я поспешно собираюсь. К счастью все наши подарки, книги, диски остаются здесь. Поездом они вернутся в Москву, откуда служба нашего посольства отправит их следом за нами. (В настоящий момент все они меня окружают.) Снаружи уже привычный прием с оркестром. Напротив железнодорожного вокзала (1912 год) — вокзал морской (1951 год). На вокзале нас ожидает Ленин, как несколько позже на набережной его товарищи: большая группа бронзовых солдат, мужчин и женщин, победоносной Красной армии. Внутри и снаружи большие памятные надписи, мемориальные таблички, паровозы-памятники. Мы фотографируем друг друга перед столбиком с цифрами «9288 километров». Я ничего не знаю о Владивостоке, кроме необычности его расположения как бы на самом конце стебля и названия, которое напоминает о давнем абсолютизме. Меня ожидает подтверждение того, что я предчувствую уже за километры: мыс, который вдается в Японское море, это «финистерре»[1] Европы, ее крайняя точка. Это чисто русское творение, относительно новое, поскольку ему чуть более полутора веков. Первый ребенок в нем родился в 1863 году… Открывая здесь первый военно-морской пост в 1859 году, граф Муравьев-Амурский назвал его Влади-Восток — наподобие названия русской крепости Владикавказ, «владеющий или царствующий на Кавказе». «Владеющий Востоком», куда уж ясней, «царствующий на Востоке»: сам Восток присутствует здесь только в цепях, он не правит, им правят. Укрепленный оборонительный город, защищенный системой стен, сооруженных между 1870–1880 годами, и связанный в 1871 году с Шанхаем и Нагасаки телеграфной линией. И вот мы на конце света, России, Европы, в конечном пункте и нашего путешествия, и Транссибирской магистрали, двадцатипятилетней стройки, начатой с двух концов…
Шатаясь под тяжестью сумок, которыми я увешана со всех сторон, я чувствую, что мне очень трудно покидать поезд, набраться сил для последнего прыжка из вагона, с которым я так сжилась за последние три недели. Я отхожу в сторону, чтобы скрыть свои слезы, которые смешиваются на моем лице с капельками тумана в сильном запахе нагретого железнодорожного полотна и близкого моря. Мы трогательно прощаемся с проводницами, они тоже плачут, я их фотографирую на ступеньках вагона… Это то, что так привязывает меня к России, этот пережиток в современном мире прежних чувств и способов их выражения! Плакать при расставании — это не неуместная сентиментальность, а чувство, глубокое, врожденное, трагичное и необратимое. Мы больше никогда не увидимся! Уникальное общение и дни, которые мы разделили вместе, больше никогда не повторятся. И это символ нашей жизни, ничто никогда нельзя повторить. Что-то происходило, существовало, захватывало тебя, и вдруг ты это насильно рвешь. Расставание — это что-то разрывающее.
На платформе последний взгляд на наш последний оркестр: перед старым памятником-паровозом красавцы-матросы в темной униформе.
10 часов. Спешное размещение в гостинице. Постоянная дымка, плотная, прилипающая к лицу, с запахом пены, металла, угля. Нам нельзя терять времени, всего несколько часов на торопливую встречу. Пристань совсем рядом со старыми военными кораблями, резко выделяющимися на фоне прибрежного тумана, который постепенно рассеивается, становится более прозрачным, перламутровым и ароматным… (Старые или новые? Я не сильно разбираюсь в военных кораблях, видела их только в фильмах о войне, поэтому не понимаю разницы.) Позади нас прекрасные фасады 1900 года в стиле ар-деко или «Нева»: здесь были апартаменты, построенные специально для морских офицеров, приезжающих из Санкт-Петербурга.
Русское присутствие и русское население региона — актуальный сегодня вопрос. Открывая морские маневры в конце июня 2010 года, вскоре после нашего путешествия, президент Медведев подчеркнул необходимость «заселения Дальнего Востока». Эту цель он обозначил «стратегической» и даже более важной, чем Сибирь. Что без сомнения не очень понравилось Японии.
Доминантой порта является бронзовая группа, напоминающая о взятии города 25 октября 1922 года частями Красной армии: это и стало окончанием русского завоевания, начатого еще Ермаком. Дивизия под командованием Иеронима Уборевича положила конец гражданской войне и Белой армии (не могу забыть образ замерзших трупов белогвардейцев, погружающихся весной в воды Байкала). В 1937 году Уборевич был приговорен к смерти и казнен за троцкизм и контрреволюционную деятельность. И, как многие, реабилитирован в 1957 году. (На фотографиях он не очень симпатичный.)
Бронзовые солдаты и матросы застыли в чрезмерно героических и драматичных позах. Есть также и женщины, но с другой стороны памятника, повернувшись спиной к морю и к победе, несмотря на их выразительную решимость.
Открывая здесь первый военно-морской пост в 1859 году, граф Муравьев-Амурский назвал его Влади-Восток — наподобие названия русской крепости Владикавказ, «владеющий или царствующий на Кавказе». «Владеющий Востоком», куда уж ясней, «царствующий на Востоке»: сам Восток присутствует здесь только в цепях, он не правит, им правят. Укрепленный оборонительный город, защищенный системой стен, сооруженных между 1870–1880 годами, и связанный в 1871 году с Шанхаем и Нагасаки телеграфной линией. И вот мы на конце света, России, Европы, в конечном пункте и нашего путешествия, и Транссибирской магистрали, двадцатипятилетней стройки, начатой с двух концов…
Шатаясь под тяжестью сумок, которыми я увешана со всех сторон, я чувствую, что мне очень трудно покидать поезд, набраться сил для последнего прыжка из вагона, с которым я так сжилась за последние три недели. Я отхожу в сторону, чтобы скрыть свои слезы, которые смешиваются на моем лице с капельками тумана в сильном запахе нагретого железнодорожного полотна и близкого моря. Мы трогательно прощаемся с проводницами, они тоже плачут, я их фотографирую на ступеньках вагона… Это то, что так привязывает меня к России, этот пережиток в современном мире прежних чувств и способов их выражения! Плакать при расставании — это не неуместная сентиментальность, а чувство, глубокое, врожденное, трагичное и необратимое. Мы больше никогда не увидимся! Уникальное общение и дни, которые мы разделили вместе, больше никогда не повторятся. И это символ нашей жизни, ничто никогда нельзя повторить. Что-то происходило, существовало, захватывало тебя, и вдруг ты это насильно рвешь. Расставание — это что-то разрывающее.
На платформе последний взгляд на наш последний оркестр: перед старым памятником-паровозом красавцы-матросы в темной униформе.
10 часов. Спешное размещение в гостинице. Постоянная дымка, плотная, прилипающая к лицу, с запахом пены, металла, угля. Нам нельзя терять времени, всего несколько часов на торопливую встречу. Пристань совсем рядом со старыми военными кораблями, резко выделяющимися на фоне прибрежного тумана, который постепенно рассеивается, становится более прозрачным, перламутровым и ароматным… (Старые или новые? Я не сильно разбираюсь в военных кораблях, видела их только в фильмах о войне, поэтому не понимаю разницы.) Позади нас прекрасные фасады 1900 года в стиле ар-деко или «Нева»: здесь были апартаменты, построенные специально для морских офицеров, приезжающих из Санкт-Петербурга.
Русское присутствие и русское население региона — актуальный сегодня вопрос. Открывая морские маневры в конце июня 2010 года, вскоре после нашего путешествия, президент Медведев подчеркнул необходимость «заселения Дальнего Востока». Эту цель он обозначил «стратегической» и даже более важной, чем Сибирь. Что без сомнения не очень понравилось Японии.
Доминантой порта является бронзовая группа, напоминающая о взятии города 25 октября 1922 года частями Красной армии: это и стало окончанием русского завоевания, начатого еще Ермаком. Дивизия под командованием Иеронима Уборевича положила конец гражданской войне и Белой армии (не могу забыть образ замерзших трупов белогвардейцев, погружающихся весной в воды Байкала). В 1937 году Уборевич был приговорен к смерти и казнен за троцкизм и контрреволюционную деятельность. И, как многие, реабилитирован в 1957 году. (На фотографиях он не очень симпатичный.)
Бронзовые солдаты и матросы застыли в чрезмерно героических и драматичных позах. Есть также и женщины, но с другой стороны памятника, повернувшись спиной к морю и к победе, несмотря на их выразительную решимость.
 Вынужденные смотреть назад, а не вперед, они становятся невольными защитницами того, что уничтожают и что вот-вот исчезнет, символом сожаления, прощания с минувшим, заняв внезапно то место, которое им традиционно предназначалось. Об этом, очевидно, авторы памятника даже не задумывались… Несколько далее также в бронзе — мужественная фигура в честь большого сибирского тигра, символа города с 1883 года, привлекающая внимание своим размером. Обычай требует, чтобы женщина достала до него рукой. Я подчинилась и, к своему стыду, увидела, как наверху крутой улицы какие-то рабочие смеялись и аплодировали. Это были китайцы или корейцы. Китайские и корейские женщины также работают на уборке улиц. Одна из них приветствует нас слегка поднятой рукой, как снисходительный глава государства (Мао тоже так приветствовал). Насколько я поняла, эти азиатские рабочие, китайцы и корейцы, не слишком здесь счастливы. Свою статью, опубликованную в «Ле Монд Дипломатик» в апреле 2006 года, Ален Девальпо назвал «Северокорейские рабочие в русском аду». В ней автор говорит, что, чтобы рассчитаться с Москвой за долги, режим Пхеньяна, не колеблясь, продает России дешевую рабочую силу. «И вот уже несколько десятилетий северокорейские лесорубы выгрызают дальневосточную тайгу, особенно в районе Амура». Недостаток рабочей силы сильно ощущается в Восточной Сибири, поэтому даже после падения СССР поддерживаются тесные связи с Северной Кореей. Владивосток с Пхеньяном связывает еженедельный авиарейс, и, кроме того, между ними восстановлено железнодорожное сообщение. Долгое время это были заключенные, но теперь это «свободные рабочие», которые, имея рабочую визу, ежегодно пересекают границу численностью около десяти тысяч человек. Условия работы в тайге суровые: шестнадцатичасовой рабочий день, шестидесятиградусный мороз зимой, один выходной в неделю. В самом Владивостоке, где множество корейцев работают на стройке, условия несколько легче, но в Северной Корее эти люди просто могли бы буквально погибнуть от голода.
Гид ведет нас к подводной лодке S-56, которая потопила десять японских судов во время Второй мировой войны. Я зашла в нее вместе с остальными. Вход был превращен в музей с афишами, фотографиями, предметами.
Как эти плакаты все еще нас трогают! На одном из них женщина протягивает мобилизационный листок. Большая надпись пересекает плакат «Родина-мать зовет!». Она имеет большой драматический эффект, типичный стиль эпохи: красные кофта и шаль на фоне штыков, суровое лицо, рука откинута назад, неуложенные волосы, как и положено женщине из народа…
Я сделала полукруг перед тем, как войти в круглое отверстие, слишком узкое для такого клаустрофоба, как я. Я жду остальных и роюсь в это время в коробке, где стоят в беспорядке оплетенные бутылки с узким горлышком, морские четвертушки советской эпохи с именем Ленина и большими красными звездами… И последний памятник на пристани — это барельеф во славу бойцам Великой Отечественной войны, солдатам и матросам: в рывке напряженные мышцы груди, красивые просветленные лица, вырубленные в камне плашмя в стиле конструктивизма.
В маленькой церкви, где мы долго не задерживались, бочка со святой водой была такой же формы и размера, как и те, в которых на каждом углу торгуют квасом. Несколько позже вычурная неровность береговой линии залива, открывшаяся с крепости, вновь оживила мое сожаление о том, что путешествие закончилось и я больше не побываю в узких залах довольно скучных музеев, где рядами выставлены оранжевые бюсты Ленина из неопределенного материала.
Обед. И в 15 часов 30 минут встреча в библиотеке имени Муравьева-Амурского. История колонизации нас опять не оставляет ни на минуту: Николай Муравьев-Амурский — великий «объединитель русских земель» (которого упоминал Медведев во время своего визита в июне 2010 года), вдохновитель экспансии на Дальний Восток, но репрессированный в 1831 году в ходе польского восстания. (Это тот самый, который предлагал царю отменить крепостное право, чем заслужил репутацию либерала.) Нас ожидают на причале. Молодые девушки в традиционных костюмах с хлебом-солью, улыбки, радостные лица: наш визит для них — целое событие. Все принарядились, блузки из тафты. Мне удалось увеличить фотографию этой группы. Я вспомнила: библиотека была имени Антона Павловича Чехова. Это мне больше нравится.
Наконец, последняя пресс-конференция. Надеюсь, что это не было очень заметно, но после трех недель сумасшедшего ритма мы стали такими сумрачными и хмурыми, что, на мой взгляд, отвечали на вопросы не так, как следовало бы. Я возвращаюсь в гостиницу настолько уставшей, что, встретив N., садящуюся в такси, даже не спрашиваю, куда она направляется. Вечером я узнаю, что она поехала к памятнику Мандельштаму, перенесенному в довольно удаленный квартал после нескольких демонстраций явно антисемитского толка. Жгучее, но запоздалое сожаление.
Вынужденные смотреть назад, а не вперед, они становятся невольными защитницами того, что уничтожают и что вот-вот исчезнет, символом сожаления, прощания с минувшим, заняв внезапно то место, которое им традиционно предназначалось. Об этом, очевидно, авторы памятника даже не задумывались… Несколько далее также в бронзе — мужественная фигура в честь большого сибирского тигра, символа города с 1883 года, привлекающая внимание своим размером. Обычай требует, чтобы женщина достала до него рукой. Я подчинилась и, к своему стыду, увидела, как наверху крутой улицы какие-то рабочие смеялись и аплодировали. Это были китайцы или корейцы. Китайские и корейские женщины также работают на уборке улиц. Одна из них приветствует нас слегка поднятой рукой, как снисходительный глава государства (Мао тоже так приветствовал). Насколько я поняла, эти азиатские рабочие, китайцы и корейцы, не слишком здесь счастливы. Свою статью, опубликованную в «Ле Монд Дипломатик» в апреле 2006 года, Ален Девальпо назвал «Северокорейские рабочие в русском аду». В ней автор говорит, что, чтобы рассчитаться с Москвой за долги, режим Пхеньяна, не колеблясь, продает России дешевую рабочую силу. «И вот уже несколько десятилетий северокорейские лесорубы выгрызают дальневосточную тайгу, особенно в районе Амура». Недостаток рабочей силы сильно ощущается в Восточной Сибири, поэтому даже после падения СССР поддерживаются тесные связи с Северной Кореей. Владивосток с Пхеньяном связывает еженедельный авиарейс, и, кроме того, между ними восстановлено железнодорожное сообщение. Долгое время это были заключенные, но теперь это «свободные рабочие», которые, имея рабочую визу, ежегодно пересекают границу численностью около десяти тысяч человек. Условия работы в тайге суровые: шестнадцатичасовой рабочий день, шестидесятиградусный мороз зимой, один выходной в неделю. В самом Владивостоке, где множество корейцев работают на стройке, условия несколько легче, но в Северной Корее эти люди просто могли бы буквально погибнуть от голода.
Гид ведет нас к подводной лодке S-56, которая потопила десять японских судов во время Второй мировой войны. Я зашла в нее вместе с остальными. Вход был превращен в музей с афишами, фотографиями, предметами.
Как эти плакаты все еще нас трогают! На одном из них женщина протягивает мобилизационный листок. Большая надпись пересекает плакат «Родина-мать зовет!». Она имеет большой драматический эффект, типичный стиль эпохи: красные кофта и шаль на фоне штыков, суровое лицо, рука откинута назад, неуложенные волосы, как и положено женщине из народа…
Я сделала полукруг перед тем, как войти в круглое отверстие, слишком узкое для такого клаустрофоба, как я. Я жду остальных и роюсь в это время в коробке, где стоят в беспорядке оплетенные бутылки с узким горлышком, морские четвертушки советской эпохи с именем Ленина и большими красными звездами… И последний памятник на пристани — это барельеф во славу бойцам Великой Отечественной войны, солдатам и матросам: в рывке напряженные мышцы груди, красивые просветленные лица, вырубленные в камне плашмя в стиле конструктивизма.
В маленькой церкви, где мы долго не задерживались, бочка со святой водой была такой же формы и размера, как и те, в которых на каждом углу торгуют квасом. Несколько позже вычурная неровность береговой линии залива, открывшаяся с крепости, вновь оживила мое сожаление о том, что путешествие закончилось и я больше не побываю в узких залах довольно скучных музеев, где рядами выставлены оранжевые бюсты Ленина из неопределенного материала.
Обед. И в 15 часов 30 минут встреча в библиотеке имени Муравьева-Амурского. История колонизации нас опять не оставляет ни на минуту: Николай Муравьев-Амурский — великий «объединитель русских земель» (которого упоминал Медведев во время своего визита в июне 2010 года), вдохновитель экспансии на Дальний Восток, но репрессированный в 1831 году в ходе польского восстания. (Это тот самый, который предлагал царю отменить крепостное право, чем заслужил репутацию либерала.) Нас ожидают на причале. Молодые девушки в традиционных костюмах с хлебом-солью, улыбки, радостные лица: наш визит для них — целое событие. Все принарядились, блузки из тафты. Мне удалось увеличить фотографию этой группы. Я вспомнила: библиотека была имени Антона Павловича Чехова. Это мне больше нравится.
Наконец, последняя пресс-конференция. Надеюсь, что это не было очень заметно, но после трех недель сумасшедшего ритма мы стали такими сумрачными и хмурыми, что, на мой взгляд, отвечали на вопросы не так, как следовало бы. Я возвращаюсь в гостиницу настолько уставшей, что, встретив N., садящуюся в такси, даже не спрашиваю, куда она направляется. Вечером я узнаю, что она поехала к памятнику Мандельштаму, перенесенному в довольно удаленный квартал после нескольких демонстраций явно антисемитского толка. Жгучее, но запоздалое сожаление.
20 часов: в ресторане. Что-то изменилось, некоторые уже уехали. Какая-то принужденность, или скорее грусть, или просто накопившаяся усталость омрачают прекрасный версальский ужин в классической французской обстановке. Зал великоват, и в нем довольно холодно. D. F. говорит прощальную речь, к 22 часам я поднимаюсь в свой номер, окно которого выходит на море. Я его не вижу, но прибрежный туман поднимается досюда. Несмотря на почти полное истощение сил, мне вовсе не хочется спать. Я думаю, что Китай, вдоль которого мы ехали на поезде последние несколько дней, находится совсем рядом с другой стороны границы, а Япония — прямо напротив, всего в нескольких сотнях километров. Но мне очень грустно, и эти географические мечтания совсем меня не утешают. Я призываю на помощь Мандельштама, и я тоже «изучила науку расставания»! В конце концов, у меня времени ровно столько, чтобы сфотографировать из окна название моей гостиницы, горящее красными буквами в густом тумане, — «Владивосток» — и рухнуть на кровать. Глаза опять наполняются слезами, я чувствую себя брошенной, лишенной всего, отрезанной от большой мечты.
Вторник, 15 июня: Владивосток — Москва
Ранним утром все та же постоянная усталость, внезапные провалы в памяти. Уже заранее я была готова, и в последний раз разглядываю большую карту России, которую засунула в свои бумаги. Другая осталась приклеенной в коридоре поезда. Весь массив страны кажется мне длинным, толстым и безобразным, похожим на какого-то зверя с коротким хвостом, поднимающимся над Карелией, и задними лапами, увязшими в Каспийском море. Его толстый живот жвачного животного опускается вниз аж до монгольской границы, и, подогнув под себя передние лапы, он высунул из морды короткий хобот прямо в Охотское море. Сахалин, как колокольчик, болтается на его шее. Я чувствую себя находящейся на самом кончике черного копыта, толчок которого может легко забросить меня отсюда на остров Хоккайдо. Все мое ускользающее внимание сумасшедшего сосредотачивается на спине этого могучего чудовища, которая перепрыгивает с одного моря на другое, с одного конца вселенной на другой, как Зевс в обличье быка, везущий на спине похищенную неосторожную девицу Европу! Я ничего больше не хочу, меня просто валит в сон. После завтрака я выхожу немного пройтись, и свежий воздух меня бодрит. Розоватый утренний туман, запахи, металлические звуки… Навстречу мне идут V. и А., которые возвращаются после утреннего купания с полотенцами через плечо, счастливыми лицами и бренчащей бутылкой водки. Мы забираем вещи, грузимся в автобус и покидаем Владивосток, который я едва видела и куда, по всей вероятности, больше никогда не вернусь.10 часов: аэропорт. Несколько мгновений в лифте, и мы выходим на залитую солнцем вытянутую площадку. Нам повезло: еще одно свидетельство доброжелательности русских по отношению к нам — мы переведены в высший класс. …Прекрасно видна земля, снег, замерзшие реки в районе Воркуты в 12 часов 45 минут. Сибирь! Сибирь! Обледенелое пространство, разрезанное сверкающими реками. Последний раз ГУЛАГ. Затем мы пролетаем над Уралом, и хотя это только символ, это все равно что за нами и нашим путешествием закрыли дверь. Я пытаюсь погрузиться в Мишеля Строгова, записываю несколько его сочных фраз: «Земля, которую человек дорогой ценой оспаривает у долгоножек, слепней, комаров и мошек и миллиардов микроскопических насекомых». Крестьяне, чтобы от них защититься, закрывают лицо масками, сделанными из мочевого пузыря, пропитанного смолой. Чехов рассказывает о том, что надевал такую на трапе корабля, везшего его на Сахалин. Его лицо тотчас запылало огнем, и было от чего, пишет он, «умереть или сойти с ума». Изысканный обед на борту и короткий сон. В 14 часов 45 минут (12 часов 45 минут по французскому времени), прибыв в Москву, мы вернули себе назад целых семь часов, даже того не заметив. По дороге из аэропорта в центр мы на два часа застряли в пробке. Перед въездом в Москву зажатые между шоссе и маленьким лесочком, как последнее напоминание об ушедшем времени, поблекшие совхозные ворота, грустно обозначенные облезлым серпом и молотом. А прямо напротив них супермаркет Auchan. Меня и D. F. высаживают у посольства, где мы остановимся на ночь. Какой путь мы преодолели, начиная с первого вечера конца мая! Дом Игумнова (я не знаю, почему Эрве Альфан, который в 1936 году был здесь атташе по финансовым вопросам, нашел в нем сходство с вольером слона в зоопарке) принимает сегодня полностью изможденных исследователей, которые даже с трудом могут общаться, что немало удивляет хозяев. Во время ужина я узнаю, что дом Игумнова со своими толстыми стенами, крышей, как у терема и оперным первым этажом, после 1917 года стал медицинским центром по исследованию мозга. Тут был собран и изучался мозг великих людей: Ленина, Горького, Павлова, Маяковского, Станиславского — в надежде найти секрет их гениальности и, следовательно, создать сверхчеловека. В последующие часы и даже на протяжении последующих двух-трех дней мои воспоминания не слишком четкие. И в самом деле, мы не спали больше двадцати четырех часов. Качка в поезде и перепады давления в самолете, остолбенение от того, что я оказалась втянутой в такое невероятное приключение, отразились на моем лице постоянной и тихой улыбкой.
Среда, 16 июня: Москва — Париж
Утром 16 июня в день нашего отъезда мне не хочется никуда выходить. Я разглядываю широкую улицу под моими окнами и делаю несколько фотографий предметов и картин в залах посольства. Остается всего несколько часов, и это уже время ехать в аэропорт. По дороге я узнаю из машины Манежную площадь, библиотеку имени Ленина, в которую А. V. впервые привел меня в 1977 году. Именно здесь в начале 1960-х годов секретарь Арагона изучал материал для «Истории СССР», которую тот опубликовал одновременно с «Историей США» Андре Моруа. Это кружит голову: видеть события, не участвуя в них, не ступая ни на мгновение ногой на эти улицы, — как в фильме или мечте. Чуть дальше большие роскошные магазины, а еще дальше, но видимая отовсюду из-за своего размера, ужасная статуя Петра Великого, созданная Церетели. Монумент высотой 25 метров в честь царя, который ненавидел Москву! Изначально он должен был быть посвящен Христофору Колумбу и подарен Майами, но там от него отказались, посчитав чудовищным. В 2008 году на сайте «Виртуальный турист» этот памятник был включен в десятку самых ужасных строений мира. Его даже пытались подорвать, но безуспешно. Зато теперь, в том числе из-за него, подорвался сам Лужков.В самолете меня охватывает меланхолия. У меня нет желания возвращаться, я чувствую себя вновь погруженной в большую мечту… Я немного дремлю из-за разницы во времени, и меня обволакивают сновидения. Самолет берет курс на Северную Европу. Что лучше? Бежать за заходящим солнцем, чтобы выиграть время? Или идти впереди солнца, которое встает, чтобы торопить будущее? И то и другое — символ искушения и даже политического проекта: открыть новый свет, преследуя солнце (как в XVI веке), или выдумать новый мир, опережая его. Но пока я не хочу ни того, ни другого. Меня ждет другое путешествие, неподвижное: рассказ, который я буду писать. Оно будет длиться намного дольше, но тоже закончится, как и это здесь и сейчас, только на другом конце Европы, которую Транссибирская магистраль убедила меня увеличить на тринадцать миллионов квадратных километров и девять часовых поясов.
Экипаж Транссибирского экспресса
Писатели: Patrick Deville, Jean Echenoz, Mathias Enard, Dominique Fernandez, Sylvie Germain, Guy Goffette, Maylis de Kerangal, Kris, Mihn Tran Huy, Jean-Noel Pancrazi, Olivier Rolin, Danièlle Sallenave, Eugène Savitskaya, Wilfried N‘Sondé.А также: Cédric Aussire Claire и Levasseur из France Culture, David Caviglioli, Isabelle Lefort, Hugo Natowicz, журналисты, Elisabeth Kapnist, кинорежиссер, Ferrante Ferranti, Taddeus Kubla, фотографы, Julie Pouillon, Сергей Владимиров, артисты, Василий Елисеев, Роман Краус, Наташа Ливандовская, Андрей Звездников, переводчики, сопровождающие, и Нина Литвинец, вице-президент Русского союза книги.

Последние комментарии
15 часов 39 минут назад
22 часов 2 минут назад
22 часов 10 минут назад
22 часов 38 минут назад
22 часов 42 минут назад
22 часов 42 минут назад