Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов
ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
1
Когда вспоминают о средних веках, то обычно представляют себе закованного в латы рыцаря, тяжелым мечом поражающего врага, каменные громады феодального замка, изнурительный труд крепостного крестьянина, унылый колокольный звон, раздающийся за монастырской стеной, и монаха, отрекшегося от мирских соблазнов. Железо. Камень. Молитвы и кровь.
Да, все это, конечно, так и было. Немало в средние века нагромождалось тяжелого, темного, бесчеловечного. Но люди всегда оставались людьми. Они не могли, как этого требовали от них хмурые благочестивцы, думать только о смерти и загробном царстве. Земля их кормила и поила. С землей прежде всего были связаны их горести, радости, надежды и разочарования. Они любили, трудились, воевали, веселились и оплакивали умерших. Разумеется, они также молились, но ведь и в молитвах просили они бога даровать им хлеб насущный и избавить от лукавого в этой земной юдоли.
Впрочем, страшила их не только нечистая сила, но и внезапные набеги врагов, самоуправство власть имущих, моровая язва, а также, как многим казалось, близость светопреставления. Однако, вопреки мрачным пророчествам неистовых прорицателей, конец мира не наступал и река средневековой жизни продолжала катить свои медленные и широкие волны. Земля оставалась землей. И люди, как и в другие исторические эпохи, тянулись к свету и красоте. При этом им хотелось, чтобы красота обитала не только в тесных храмах, но и на просторах их повседневной жизни. И чтобы выражалась она не только в холодном неподвижном камне, но и в теплом человеческом слове, гибком и музыкальном. Именно в средние века поэзия стала королевой европейской словесности. Время прозы еще не пришло. Даже летописи облекались в стихотворную форму. Священное писание обретало стихотворные ритмы. Понятно, что при отсутствии книгопечатания стиху суждено было играть особую подсобную роль, ведь стихотворные тексты лучше запоминались. Но дело, конечно, не сводилось к удобству запоминания. Звучные стихотворные формы придавали поэтичность даже самому сухому дидактическому тексту, как бы приобщая его к царству красоты. А люди, жившие в суровую и в чем-то даже мрачную эпоху, нуждались в красоте, как нуждались они в солнечном свете.
Поэтическое слово звучало в то время повсюду — и в храме, и в рыцарском замке, и на городском торжище, и в кругу хлебопашцев. Искусные певцы вспоминали о славных богатырях, совершавших удивительные подвиги. Люди разного звания и положения, женщины и мужчины пели о любви, о весне, о веселых и грустных событиях в человеческой жизни. Так, видимо, обстояло дело уже в начале средних веков. Недаром церковные власти и каролингские короли не уставали клеймить «бесстыдные любовные песни», «дьявольские постыдные песни, распеваемые в деревнях женщинами», «нечестивые женские хоровые песни», имевшие, можно предполагать, широкое распространение в народной среде. Но все эти песни, противоречащие постной церковной морали, до нас не дошли. Никому не приходило в голову их записывать, тратить на них драгоценный пергамент. Грамотеями в то время являлись обычно клирики, а для них произведения, вызывавшие нарекания церкви, не могли представлять интерес. К тому же народная лирика вряд ли вообще тогда воспринималась как что-то ценное, и не только потому, что она была «простонародной»: ведь человек в те «эпические» столетия неизменно выступал как представитель рода, племени или сословия. От него ожидали подвига, способности сокрушить супостата. В героизме видели его главное достоинство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Карл Великий, твердой рукой насаждавший христианство, живо интересовался древнейшими «варварскими» песнями, посвященными деяниям былых королей. Что же касается лирических песен, не укладывавшихся в эпическую концепцию мира, то их в лучшем случае просто не замечали либо решительно отвергали, занося в рубрику греховных. Этим и объясняется то прискорбное обстоятельство, что народная лирика раннего средневековья бесследно исчезла.
Но вот подошел XII век, и любовная лирика, правда не народная, но рыцарская, как-то сразу заняла одно из самых видных мест в литературе средних веков. Этот расцвет светской лирической поэзии, начавшийся на юге Франции, в Провансе, а затем охвативший ряд европейских стран, знаменовал наступление нового этапа в культурной истории средневековой Европы. В XII и XIII веках в западноевропейской жизни многое изменилось. Правда, феодальные порядки еще продолжали оставаться незыблемыми и католическая церковь сохраняла власть над умами верующих. Но уже быстро начали расти города, стремившиеся освободиться от власти феодальных сеньоров и зачастую превращавшиеся в очаги религиозной и социальной крамолы. Там в начале XII века возникли первые частные школы, не связанные непосредственно с церковными организациями и поэтому более свободные в своих начинаниях. Именно в стенах этих школ протекала деятельность одного из наиболее выдающихся философов-вольнодумцев средних веков — Пьера (Петра) Абеляра (1079–1142), воззрения которого дважды осуждались господствующей церковью как еретические. Ставя человеческий разум выше предания и мертвой догмы, французский мыслитель с огромным уважением отзывался об античных философах, которые для него олицетворяли истинную мудрость и по своему нравственному благородству превосходили представителей современного католического клира. Стирая грани между античностью и средними веками, он даже осмеливался утверждать, что христианское учение о троице было предвосхищено «величайшим из философов» — Платоном и его учениками. О том, насколько к этому времени возросло самосознание личности, свидетельствует «История моих бедствий», принадлежащая перу того же Абеляра. Автор уверен, что его жизнь представляет несомненный интерес для любознательного читателя. И он обстоятельно рассказывает о том, как он достиг громкой славы ученого, как его преследовали облаченные в сутану завистники и как горячая любовь соединила его с умной и красивой Элоизой. Он даже считает нужным сообщить, что сочинял любовные стихи, которые «нередко разучивались и распевались во многих областях»
[1]. Перед читателем возникает образ человека, примечательного не тем, что он имеет отношение к церкви или сеньору, но тем, что он, при всем его несомненном благочестии, выступает, так сказать, сам по себе, являя миру неповторимое богатство ума и пылких человеческих чувств. В чем-то автобиография Абеляра уже предвосхищает «Письмо к потомкам» Франческо Петрарки, первого великого итальянского гуманиста, пожелавшего рассказать людям о себе и своей жизни.
Однако не только города, но и феодальные замки были в XII и XIII веках охвачены новыми веяниями. В это время пышно расцветает придворная рыцарская культура, блестящая, изысканная и нарядная, весьма отличная от примитивной и суровой культуры господствующего сословия раннего средневековья. Рыцарь продолжает оставаться воином. Но придворный этикет требует, чтобы наряду с традиционной доблестью он обладал светскими изящными манерами, соблюдал во всем «меру», был приобщен к искусству и почитал прекрасных дам, то есть являл собой образец придворного вежества, именуемого куртуазией. Совершенные куртуазные рыцари, преданные прекрасным дамам, заполняют страницы рыцарских романов, идущих на смену тяжелоступным героическим эпопеям. Куртуазия становится знаменем социальной элиты, претендовавшей на господство в социальной, нравственной и эстетической сфере. Конечно, в романах феодальный обиход до крайности идеализирован, но из этого вовсе не следует, что куртуазный рыцарь являлся лишь поэтической фикцией. Он действительно блистал при дворах могущественных феодалов. Крестовые походы заметно расширили его кругозор. Быстрое развитие товарно-денежных отношений, разрушая былую замкнутость феодального поместья, пробуждало в нем желание не уступать городскому патрициату в блеске и великолепии. Враждуя нередко с горожанами, он в то же время готов был усваивать материальные и духовные ценности, создававшиеся в городской среде. У Абеляра были друзья и единомышленники среди дворян. Между куртуазных поэтов нередко встречались выходцы из городских кругов. Характерной тенденцией куртуазной поэзии можно считать заметно возросший интерес к миру и человеку, который способен не только молиться и воевать, но и нежно любить, восхищаться красотой природы, а также искусными изделиями человеческих рук. Хотя аскетическая доктрина продолжала громко заявлять о себе, многочисленные поэты воспевают земную чувственную любовь как великое благо. Поэт не так охотно прислушивается к звону мечей, как к биению пылкого человеческого сердца. Всеми признанной владычицей поэзии становится Любовь, а ее верной спутницей — Прекрасная Дама.
С культа прекрасной дамы, собственно, и началась куртуазная поэзия. Она возникла в конце XI века в Провансе, принадлежавшем к числу наиболее развитых стран тогдашней Европы. По словам Ф. Энгельса, «южнофранцузская — vulgo провансальская — нация не только проделала во времена средневековья «ценное развитие», но даже стояла во главе европейского развития. Она первая из всех наций нового времени выработала литературный язык. Ее поэзия служила тогда недостижимым образцом для всех романских народов, да и для немцев и англичан. В создании феодального рыцарства она соперничала с кастильцами, французами-северянами и английскими норманнами; в промышленности и торговле она нисколько не уступала итальянцам. Она не только «блестящим образом» развила «одну фазу средневековой жизни», но вызвала даже отблеск древнего эллинства среди глубочайшего средневековья»
[2].
Говоря об «отблеске древнего эллинства», Ф. Энгельс имеет в виду поэзию многочисленных старопровансальских трубадуров, бросивших вызов угрюмому аскетизму средних веков. Встречались среди них и знатные феодалы, и люди скромного происхождения, но преобладали рыцари-министериалы, то есть служилые рыцари, тесно связанные с аристократическими дворами, являвшимися признанными центрами новой куртуазной культуры. Здесь звучали песни трубадуров, здесь охотно рассуждали о любви и ее природе, здесь складывались правила любовного служения, ставшего своего рода светской религией высшего круга. При этом к поэтическому творчеству причастны были не только мужчины, но и женщины. В феодальных кругах Южной Франции женщины вообще пользовались относительно большей свободой. Согласно древним римским законам, сохранившимся в Провансе, они могли наследовать феодальные владения и выступать в роли феодальных сеньоров, окруженных толпой придворных. Понятно, что знатные дамы весьма благосклонно относились к куртуазной поэзии, которая подымала их на высокий пьедестал.
В поэзии трубадуров прекрасная дама заняла примерно такое же место, какое в религиозной поэзии средних веков отводилось мадонне. Только мадонна царила на недосягаемых небесах, в то время как прекрасная дама являлась лучшим украшением земли и царила в сердце влюбленного поэта. Трубадуры дружно воспевали ее красоту и благородство. Как ювелир, любующийся редким собранием драгоценных камней, возьмет то один самоцвет, то другой, так и поэт в стихотворении перебирает драгоценные черты своей повелительницы. У нее сверкающие золотом волосы, лучистые глаза, лоб — «белизной превосходящий лилеи», румяные щеки, красиво очерченный нос, маленький рот, пурпурные губы, руки с тонкими и длинными пальцами, изящные брови, «зубы жемчуга ясней» (Арнаут де Марейль и др.). Поэту, лицезреющему такое совершенство, даже кажется, что он пребывает в раю (Понс де Капдюэль). Правда, это рай особого рода, это рай куртуазный, весьма далекий от призрачной обители бесплотных духов, о которой тосковали средневековые анахореты. Куртуазному раю соответствует куртуазная теология, не раз смущавшая суровых ревнителей церкви. Сам бог создает прекрасную даму. И создает ее из собственной своей красоты (Гильем де Кабестань). Прославленному трубадуру Пейре Видалю даже кажется, что, глядя на даму, он видит бога. Улыбка четырехсот ангелов не может сравниться с улыбкой любимой (Рамбаут д'Ауренга). А один из поэтов, имя которого до нас не дошло, так пленен несравненной женской красотой, что не находит в сердце своем места для бога. Зато крылатый бог любви, прославленный еще во времена классической древности, легко проникает в сердце поэта. Именно он побуждал каноника Дауде де Прадас (кансона «Сама Любовь приказ дает...») и других стихотворцев петь о любви и ее великой власти. Любовь собирает под своими священными знаменами старопровансальских поэтов. Она одушевляет их и умножает их творческие силы. Недаром один из самых талантливых трубадуров — Бернарт де Вентадорн — заявлял:
Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша,
А сердце песни не споет,
Любви не зная совершенной.
Мои кансоны вдохновенны —
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд.
Но что же представляла собой эта «совершенная», или куртуазная, любовь (fin amor) трубадуров, вызывавшая и продолжающая вызывать споры среди историков европейской средневековой культуры?
[3] Немецкий ученый Э. Векслер в начале XX века даже утверждал, что любовь в лирике трубадуров — это чистейшая фикция и что любовные песни старопровансальских поэтов на самом деле имели только одну практическую цель: «прославление госпожи в расчете на награду», которую сеньор дарует своему вассалу. Векслеру весьма основательно возражал выдающийся русский исследователь В. Ф. Шишмарев («Несколько замечаний к вопросу о средневековой лирике», 1912). Не отрицая в поэзии трубадуров приемов идеализации и известной условности стиля и отдельных ситуаций, он выражал уверенность, что «любовная лирика провансальцев в ее целом» — это «поэтическое изображение вполне реальных переживаний» и что «любовная поэзия провансальцев реальна не менее всякой другой», а «психологические корни» ее надо, между прочим, искать «в отрицательной оценке современного брака, строившегося обыкновенно на расчете или необходимости». В культе дамы, по словам В. Ф. Шишмарева, «впервые был поставлен вопрос о самоценности чувства и найдена поэтическая формула любви»
[4].
Дело в том, что прекрасная дама, воспеваемая трубадурами, — как правило, замужняя женщина, обычно супруга феодала. На это в свое время обратил внимание Ф. Энгельс, заметивший, что «рыцарская любовь средних веков отнюдь не была супружеской любовью. Наоборот. В своем классическом виде, у провансальцев, рыцарская любовь устремляется на всех парусах к нарушению супружеской верности, и ее поэты воспевают это»
[5].
Можно в связи с этим сказать, что любовь трубадуров явилась своего рода бунтом человеческих чувств, потребовавших своей доли в безличном сословном мире. Ведь в средние века брак заключался по соображениям чисто деловым. Сословие поглощало человека. Голос чувства не мог звучать там, где звучал голос холодного расчета, основанного на кастовых прерогативах. В любовной лирике провансальцев человеческое чувство стремится обрести свои права. И в этом ее первостепенное историческое значение. И хотя вся атмосфера куртуазного служения связана с феодальными дворами, собственно кастовый элемент подчас отступает здесь под натиском освобожденного чувства.
Любовь расшатывала сословные преграды. Ведь в царство куртуазной поэзии доступ открыт не только для знатных, но и для незнатных. Сыном замкового пекаря был Бернарт де Вентадорн, из семьи скорняка происходил Пейре Видаль, резчиком был Эльяс Кайрель, нотариусом — Арнаут де Марейль и т. д. В поэзии трубадуров любовь даже выступает в роли великой уравнительницы. Перед ней, как перед богом, теряют свое значение сословные преимущества. Совершенной любви достоин не тот, кто знатен и богат, а тот, у кого благородное сердце, будь он при этом беден и незнатен (Дальфин). Поэты охотно твердят о том, что любовь несовместима с корыстью и тщеславием, что совершенная любовь облагораживает человека. По словам Монтаньяголя, «любовь не грех, а добродетель, в силу которой дурные люди становятся хорошими, а хорошие — совершенными». Ведь всякий, кто хочет обладать внутренней ценностью, «должен обратить свое сердце и свои надежды к любви, ибо любовь научает благородным и приятным поступкам; она внушает человеку, как жить надлежащим образом, она приносит радость и устраняет скорбь» (он же).
Но у куртуазной любви свои особенности. Прежде всего это «тайная» любовь. Поэт избегает называть свою даму по имени. Такая откровенность могла бы ей повредить. В произведениях трубадуров то и дело упоминаются злоязычные соглядатаи и ревнивые мужья, которые доходят до того, что бьют своих законных жен. Поэтому влюбленный поэт в стихах называет прекрасную даму условным прозвищем (так называемый сеньяль). Хранить тайну любви — его первейшая обязанность. «Я так преданно и верно люблю вас, что ни одному другу не доверю тайну моей любви к вам», — заявляет Пейре Видаль.
Затем куртуазная любовь — это любовь «тонкая», изысканная, в отличие от грубо-чувственной, примитивной, «глупой» любви (fol amor), свойственной неотесанным вилланам. Это вовсе не означает, что куртуазная любовь несовместима с чувственным влечением. Нередко поэты прямо признаются в том, что охвачены неодолимым желанием, что умрут, если не удостоятся «высшей награды», что страстно жаждут «обладать» прекрасной (Пейре Раймон). Но при этом куртуазная любовь чуждается дерзости, шумного озорного напора. Она выступает преимущественно как трепетное обожание. Ей сопутствует робость, подчас лишающая поэта дара речи. Только вздохи намекают на чувства влюбленного. Но вот льется песня поэта, прославляющего прекрасную даму, достойную преклонения, преданности и высокой любви. Любовь эта не ходит быстрым, резвым шагом. Она движется медленно, почти торжественно. Иногда она даже как будто становится совсем призрачной. Поэты заявляют, что, не ища взаимности, в самом обожании обретают они драгоценную награду, что страдания любви сладостны, а трубадур Арнаут де Марейль даже утверждал: «Я не думаю, что любовь может быть разделенной, ибо, если она будет разделена, должно быть изменено ее имя».
Конечно, куртуазная любовь не была лишена известной условности. Она не только подчинялась придворному этикету, но и подчас сливалась с великосветской модой. Вероятно, многие стихотворения были прямо продиктованы этой модой. Прославляя красоту и добродетели жены своего сюзерена, рыцари-министериалы оставались почтительными царедворцами.
Их звонкие песни, льстя самолюбию дамы, одновременно окружали сиянием исключительности феодальный двор, среди которого она царила. Однако не следует думать, что куртуазная любовь — всего лишь изысканная великосветская игра. Ведь самый факт, что любовь могла стать модой и даже, пожалуй, наиболее ярким проявлением куртуазии, свидетельствует о том, что в сознании средневекового человека произошли глубокие сдвиги. Поэтому «высокий» тон провансальских любовных песен не может быть всецело сведен к придворному этикету.
Любовной лирике трубадуров действительно присуща ясно выраженная идеализирующая тенденция. Но доктрина куртуазной любви не только поднимала на высокий пьедестал прекрасную даму, но и от влюбленного требовала непрерывного совершенствования. В связи с этим апофеоз прекрасной дамы превращался в апофеоз земной любви, которая вырастала в могучую нравственную силу, призванную преобразить человека, приобщенного к ней. Для прославления этой «совершенной» любви поэт, естественно, использовал те понятия и речения, которые предлагали ему средние века. Религиозная и феодальная фразеология была вполне уместна там, где возникала атмосфера любовного служения. Поэт охотно признавал себя вассалом дамы. Своей «госпоже» он клялся в нерушимой «верности» либо, подчиняясь приказу амура, становился ее «пленником». Люди на земле и ангелы на небесах ликуют при виде совершенств прекрасной дамы. Как и мадонну, поэты называют ее путеводной звездой, майской розой, утешительницей скорбящих и т. п. Само собой понятно, что после смерти прекрасная дама возносится в горние сферы рая. Так, приближая прекрасную даму к сонму ангелов, провансальские поэты освящали куртуазную любовь, ставили ее по ту сторону греха и утверждали в качестве великого блага.
Впрочем, независимо от куртуазной концепции, средние века в сиянии земной красоты готовы были видеть отблеск великой красоты небесной. Недаром надпись на фасаде церкви в Сен-Дени, сделанная по распоряжению ученого аббата Сугерия (начало XII в.), гласила: «Чувственною красотою душа возвышается к истинной красоте и от земли возносится к небесам». Подобное утверждение, обращенное в данном случае к искусству церковному, в то же время далеко выходило за пределы монашеского ригоризма, поскольку земную красоту рассматривало как прочное звено в цепи мудрого божественного миропорядка. Поэтому нет ничего удивительного в том, что поэты, воспевавшие чувственную красоту куртуазной дамы, вспоминают об ангелах и небесах. На языке средневековой поэзии это означало, что достоинства куртуазной дамы, и прежде всего ее красота, поистине безмерны. Такая красота вполне достойна «высокой» любви, а высокая любовь достойна апофеоза.
И любовь прочно утвердилась в творениях трубадуров. Она преобразила суровую средневековую поэзию, заставив поэтов по-новому взглянуть на окружающий мир. Она обостряла чувство прекрасного. Никогда еще средневековые поэты не восторгались столь самозабвенно земной красотой.
И пленяла их не только красота молодой куртуазной дамы, но и красота вечно живой природы, в которой они улавливали соответствие своему душевному состоянию. Мир цвел и благоухал в песнях трубадуров. Особенно охотно вспоминали они о весне, когда луга начинали пестреть цветами, нежной листвой одевались сады и пернатый хор немолчно славил пробуждающуюся любовь. С подобным «весенним запевом», восходящим к традициям народной, а также поздней античной поэзии, нередко встречаемся мы в песнях Бернарта де Вентадорна (около 1140–1195), Гираута де Борнейля (расцвет творчества — 1175–1220 гг.), Джауфре Рюделя (около 1140–1170) и других трубадуров. Весна — прекрасный символ любви в поэзии провансальцев. Она радует глаза и сердце, возвышает душу. Песни соловьев и жаворонков звучат в ее честь. Повсюду разлита светлая радость. И поэта побуждает она слагать звонкие, вдохновенные песни.
В то же время к «весеннему запеву» поэт подчас обращается лишь затем, чтобы оттенить грусть, овладевшую его сердцем. Ликует весенняя природа, а прекрасная дама холодна к влюбленному поэту. Томление по цели, едва достижимой, составляет один из характерных мотивов любовной лирики трубадуров. На разные лады у разных поэтов звучал этот мотив. Как часто жалуются поэты на суровость донны, на то, что она холодна как лед, что им не дана радость разделенной любви, что тоска щемит их сердце, что жизнь отринутого донной превращается в тяжкий сон, что благой бог любви склонен к жестокости и т. п.
Правда, порой поэт утешает себя мыслью, что совершенная любовь может быть только «высокой» любовью, а «высокая» любовь не ищет «бренной награды», что любить следует не ради чувственных услад, а самозабвенно. Так утверждал замечательный певец «высокой» любви Бернарт де Вентадорн («Коль не от сердца песнь идет...»). По мнению Аймерика де Пегильяна, любовь сама по себе является великой наградой, мучения, приносимые ею, сладки, а тоска, порожденная ею, светла и чиста («Зря — воевать против власти любви...»). В свой черед Джауфре Рюдель, прославленный певец «любви издалека», именно в этой призрачной любви находил высшую меру радости («Мне в пору долгих майских дней...»). Чувственную любовь от любви куртуазной решительно отделял жизнелюбивый каноник Дауде де Прадас. По его мнению, тот нарушает закон любви, кто стремится овладеть прекрасной дамой и тем самым свести ее с куртуазных высот. Самое большее, на что следует надеяться поклоннику, — это поцелуй, а такие ее скромные подарки, как перстень или шнур, стоят величайших сокровищ. Другое дело — девица, с ней уже можно вести себя более свободно, а с разбитной простолюдинкой и вообще дозволено играть в любые любовные игры («Сама Любовь приказ дает...»).
Но не следует все-таки преувеличивать платонизм куртуазной любви. В лучших песнях трубадуров горячее человеческое чувство одерживает верх над жесткой схемой. Тот же Бернарт де Вентадорн привлекает удивительной искренностью и силой переживаний. Его любовным излияниям веришь. Нет в них ничего мишурного, показного. Этот простолюдин, склоненный перед знатной дамой, обладал пылким сердцем. Не будучи, видимо, взыскан особыми милостями донны, он в то же время упрямо мечтал о взаимности. В мечтах он уже видел ее обнаженной на ложе сна, в мечтах покрывал ее тело жадными поцелуями. Надежда сопутствовала у него любовной тоске.
Следует заметить, что мечты, грезы, сны, видения играют немалую роль в поэзии трубадуров. Они как бы образуют второй мир, существующий наряду с миром повседневным, наполненным жалобами влюбленных. В этом «поэтическом» мире умолкают жалобы и пени и осуществляются самые заветные чаяния. Здесь даже Джауфре Рюдель, расставшись с «любовью издалека», ясно слышит нежный призыв прекрасной донны, близкой и ласковой. Характерно, что грезы и сны трубадуров обычно лишены серафических устремлений. В отличие от средневековых «Видений», герои которых блуждали по загробным царствам, видения и сны трубадуров не покидали земных пределов. В них «высокая» любовь обретала свои земные права. Так, знойной страстью напоен сон Арнаута де Марейля. Словами: «Длись без конца, мой сон, — исправь // Неутоленной страсти явь!» — заканчивает он свое любовное «Послание».
Но не только в сновидениях и в грезах возникала у трубадуров тема разделенной любви. Ликованием и радостью наполнена, например, кансона «Полна я любви молодой...» талантливой поэтессы Беатрисы де Диа. Когда же любимый рыцарь покинул Беатрису, она, не страшась злой молвы, с удивительной откровенностью в песне напоминает ему о былых любовных восторгах («Я горестной тоски полна...»). Земной, разделенной любви всецело посвящен жанр альбы, широко распространенной в старопровансальской поэзии. Влюбленные расстаются на заре, после тайного свидания. О приближении дня их предупреждает друг или слуга рыцаря, стоящий на страже. Влюбленный обычно сетует на то, что так быстро прошла ночь и приблизилось расставание. В известной альбе Гираут де Борнейль, предвосхищая Петрарку, даже мечтает о том, чтобы ночь любви продолжалась вечно.
Любовь нередко служила в провансальской поэзии предметом споров и рассуждений. Трубадурам вообще присуща склонность к размышлениям, дебатам, обмену мнений, поискам дефиниций. Мастера средневековой схоластической культуры могли им в этом подавать, а подчас, видимо, и подавали надежный пример. Понятно, что в кругу дебатируемых вопросов любви отводилось одно из первых мест. Вопрос этот рассматривался в разных аспектах. Но особенно занимала поэтов его, так сказать, «практическая сторона». Поэты, например, спорили о том, какую женщину следует предпочесть — доступную, но неверную или же верную, но суровую (Фолькет де Марселья: «Надежный друг, вот вы знаток...»). Можно ли считать счастливым в любви того, кто не делил ложа с дамой сердца? (Пейре Гильем и Сордель: «— Сеньор Сордель! Так вы опять...»). Или обсуждался весьма щекотливый вопрос о поведении кавалера на ложе любви (Аймерик де Пегильян и Эльяс д'Юссель: «— Эльяс, ну как себя держать...»). Участники диалогов охотно давали «полезные» советы, — например, совет не быть чрезмерно робким в любви, не упускать благоприятного момента и т. д.
В идеальный мир куртуазии проникали таким образом бытовые, прозаические интонации. Иногда они как бы завуалированы шаловливой наивностью (Арнаут Каталан: «Я в Ломбардии, бывало...»), а иногда лишены всяких прикрас. Случалось даже так, что галантный поклонник утрачивал необходимую любезность, становился груб с прекрасной донной. По мнению Рамбаута д'Ауренга, поклонник, отвергнутый донной, вправе ей угрожать, злословить, вообще не слишком церемониться с ней («В советах мудрых изощрен...»). А кое-кто из поэтов начинал подсмеиваться над самим куртуазным каноном. Так, ученик Маркабрю, считавшего любовное служение делом безнравственным и греховным, Пейре Карденаль в одном из своих произведений радовался тому, что расстался наконец с любовным рабством, освященным канонами куртуазного служения. Приветствуя обретенную свободу, он с облегчением заявляет, что не должен больше среди слащавых стонов и вздохов нагромождать лживые слова и твердить, что свет не производил таких красавиц и что цепи рабства легки и желанны. Подобные тирады не могли не расшатывать куртуазных устоев, тем более что и самый мир куртуазного идеала опирался на довольно зыбкую почву. В начале XIII века Гираут де Борнейль уже мог с глубокой грустью констатировать: «Многие крупные феодалы отвернулись от поэзии и от радостей жизни, поддавшись своим грубым инстинктам. Они проводят свое время в войнах и грабежах. Настоящая куртуазность уже не существует».
Конечно, любовная лирика трубадуров не была такой одноцветной, как это может показаться с первого взгляда. В ней много оттенков, нюансов, переливов красок. Огромная историческая заслуга ее в том, что она открыла для европейской поэзии трепетный мир человеческих чувств. Учениками трубадуров в той или иной мере были Данте, Петрарка и другие поэты эпохи Возрождения. Вместе с тем кругозор провансальских певцов любви весьма узок. Они видят только Любовь и слышат только ее голос. Сравнительно редко реальный, внешний мир проникает в эту зачарованную обитель, где воображение поэта способно творить чудеса, преображая снежную равнину в цветущий луг (Бернарт де Вентадорн). Такая поэзия, на протяжении многих десятилетий торжественно прославлявшая любовь, стала своего рода ритуалом, в котором личный элемент зачастую исчезал в устойчивых формулах и общих местах.
В этих условиях очень большое значение приобрела поэтическая форма, дававшая поэту возможность проявить свою творческую силу и оригинальность. Трубадуры высоко ценили литературное мастерство. Они соревновались друг с другом в создании новых стихотворных форм. Они хотели быть виртуозами в поэзии. Само слово «трубадур» происходило от провансальского «trobar», что означает «сочинять, находить, изобретать».
«Совершенная» любовь требовала совершенной формы, и поэты стремились к филигранной отделке поэтических произведений, они их тщательно шлифовали, заботились об их красоте и мелодичности. Ведь творения трубадуров были предназначены для пения, и автор текста нередко являлся автором мелодии, а также исполнителем песни (впрочем, иногда в роли исполнителя выступал жонглер). Эта забота о звуковом строе поэзии проявлялась отчасти в обращении к рифме. Именно трубадуры ввели ее в широкий литературный обиход. Об этом хорошо сказал А. С. Пушкин: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков... Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы...» («О поэзии классической и романтической», 1825). Действительно, если вначале провансальская поэзия была сравнительно простой, то со временем она приобретала характер все более изысканный и сложный. Особенно эта тяга к сложности проявлялась у сторонников так называемого темного, или «замкнутого», стиля (trobar clus), обращавшихся к узкому кругу знатоков, в то время как их противники — мастера «светлого» стиля (trobar clar) — стремились быть понятными многим. В приводимой на странице 88 тенсоне Гираута де Борнейля и Линьяуре (Рамбаута д'Ауренга) обе стороны излагают свои взгляды по данному вопросу.
Но, стремясь всемерно расширять метрические и строфические возможности поэзии, трубадуры вместе с тем тяготели к «твердым» каноническим формам, в которые, как в рыцарские доспехи, плотно облекались их творения. Наиболее распространенными формами были: кансона («песня»), состоящая из ряда строф и посвященная чаще всего любовной теме; уже упоминавшаяся альба (буквально: утренняя заря, рассвет, денница), каждая строфа которой заканчивалась словом «альба»; тенсона («спор», или жокпартит — «разделенная игра», или партимен — «раздел») — стихотворный диспут, в котором обычно принимают участие два поэта; пасторела — стихотворение, изображающее встречу рыцаря и пастушки; баллада — плясовая песня; сирвентес — строфическая песня, посвященная политическим, общественным темам, нередко содержащая выпады против врагов поэта; плач — песня, приближающаяся к сирвентесу, в которой поэт оплакивает смерть сеньора или близкого ему человека.
Наличие в провансальской поэзии таких форм, как сирвентес, плач и тенсона, свидетельствует о том, что, хотя любовная тема и занимала в ней господствующее положение, она вовсе не являлась единственной. Трубадуры при случае охотно откликались на злобу дня, касались вопросов политических и социальных. Даже в любовную поэзию изредка проникали вопросы, имевшие социальную подоплеку, — например, вопрос: кто больше достоин любви — учтивый простолюдин или бесславный барон (тенсона Дальфина и Пердигона, около 1200 г.)? Следует помнить, что социальный состав трубадуров был довольно пестрым, что наряду с крупными феодалами и рыцарями заявляли о себе люди незнатные, лишенные сословных привилегий. В связи с этим в провансальской поэзии заметны разнородные социальные тенденции. Выходец из народа Маркабрю (около 1140–1185) неприязненно относился к рыцарству и его элитарной культуре, в то время как выдающийся поэт, представитель феодально-рыцарских кругов Бертран де Борн (около 1140–1215), принимавший деятельное участие в феодальных распрях, пел о стычках и битвах, прославляя войну и рыцарскую отвагу. С ненавистью говорил он о горожанах и крестьянах, полагая, что в интересах господствующего сословия их следует держать в черном теле. В то же время Бертрана де Борна тревожило, что феодалы перестают заботиться о славе дедовских гербов, что феодальная щедрость вытесняется жалким скопидомством, что пустым звуком становится рыцарская честь, а обнаглевшие богатеи лезут в дворянство и уже щеголяют приобретенными замками.
Вопрос о рыцарских добродетелях тревожил умы многих трубадуров. Придерживаясь подчас разных взглядов, они сходились на том, что без щедрости не может быть настоящего рыцаря. «Никоим образом не говорю я худо о доблести и уме, — заявлял Гираут Рикьер, — но щедрость все превосходит». По словам же одной анонимной песни, «щедрость — это главная добродетель», в то время как «скупость — смертный грех». При этом, толкуя о щедрости, поэты, подобно Бертрану де Борну, прежде всего имели в виду владетельных сеньоров, от которых зависело благосостояние мелких рыцарей-министериалов, составлявших основную массу стихотворцев.
С годами в провансальской поэзии усиливались нападки на власть имущих, заметно расширился ее публицистический диапазон. Этому в значительной мере содействовали трагические события, обрушившиеся в начале XIII века на Прованс. По призыву папы северофранцузские феодалы начали «крестовый поход» против южнофранцузских областей, в которых широко распространилась так называемая альбигойская ересь, отрицавшая многие кардинальные догматы католической церкви. В течение двадцати лет с перерывами (1209–1229 гг.) продолжались «альбигойские войны», приведшие к страшному опустошению Прованса. Богатая, цветущая страна лежала в развалинах. Инквизиция свирепствовала там, где еще совсем недавно поэты прославляли светлую земную радость. Впрочем, еще Маркабрю, сетуя на возрастающую испорченность мира, грозил ему великими испытаниями. А темпераментный Пейре Карденаль (около 1210 — конец XIII в.), юность которого совпала с потрясениями альбигойских войн, в своих сатирических сирвентесах не щадил ни феодалов, ни городских толстосумов, ни католического клира. Обличая разбой больших господ, он с сочувствием относился к беднякам, на долю которых выпало так много страданий. Клириков называл он волками в овечьей шкуре и исчадиями ада. И даже самого господа бога обвинял в несправедливости и жестокости. Разве справедливо ввергать в ад несчастных, которые уже на земле испытали столько мук? Гневными упреками осыпал римскую курию современник Карденаля Гильем Фигейра. Папский Рим ненавистен ему и как вместилище самых низких пороков, и как злая сила, раздувшая на юге Франции пламя опустошительной войны. В этой войне погибли культурные центры Прованса, многим трубадурам и жонглерам пришлось бежать из разоренной страны в Италию и Испанию. В новых трагических условиях заметно оживилась религиозная поэзия.
Но каким образом сложилась поэзия трубадуров, сыгравшая такую выдающуюся роль в культурной истории Европы? У нас есть основания полагать, что она многим обязана поэзии народной. Ведь не раз к этому животворному источнику обращалась литература разных народов и разных эпох. К фольклорной традиции восходит, видимо, «весенний запев», встречающийся в провансальских кансонах. Со свадебными, хороводными песнями и обрядами связан жанр альбы. К жанрам народного происхождения можно отнести пасторелу и балладу, в которой нередко встречается рефрен, распространенный в народной хоровой лирике. Только, конечно, в изысканных творениях трубадуров фольклорные элементы подчинялись требованиям куртуазной эстетики. Не могли пройти трубадуры мимо латинской средневековой поэзии, как светской, так и духовной. Иногда в их песнях слышится лукавая интонация вагантов (монах из Монтаудона, Дауде де Прадас, Карбонель).
Вероятно, и древнеримская поэзия привлекала их внимание. Ведь античная литература никогда полностью не исчезала из культурного обихода средневековой Европы, а в XII–XIII веках интерес к ней заметно возрос. В Провансе в то время следы античной цивилизации встречались на каждом шагу. Еще и сейчас там можно увидеть античные мосты, акведуки, триумфальные арки, амфитеатры и храмы. Фасады ряда церквей, воздвигавшихся в XI–XII веках, напоминают сооружения классической древности. Например, римскую триумфальную арку напоминает фасад монастырской церкви Сен-Жиль. Зодчие охотно украшали стены церквей колоннами с коринфскими капителями, античными орнаментами. Встречаются классические черты и в поэзии Прованса, вобравшей в себя разнородные элементы, но достигшей в то же время замечательной художественной цельности.
Цельность эта, однако, не стала единообразием. И, хотя обилие общих мест и поэтических формул несомненно умаляло роль личного начала, поэзия трубадуров все-таки не была безличной. Как всегда, здесь многое зависело от таланта и творческой смелости. Наряду с поэтами достаточно бесцветными, появлялись яркие, запоминающиеся фигуры, наделенные им одним присущими чертами. Как различны, например, суровый Маркабрю и трепетный Бернарт де Вентадорн или воинственный Бертран де Борн и мечтательный Джауфре Рюдель! «Лица не общим выраженьем» наделены были и пылкий Пейре Видаль, и «обличитель монархов» Сордель, обративший на себя внимание Данте («Чистилище», VI и VII). Ведь и современники видели в знаменитых трубадурах не только искусных поэтов, но и людей с примечательными судьбами. В середине XIII века даже появились прозаические биографии наиболее известных трубадуров, малодостоверные с фактической стороны, но интересные тем, что именно поэты, а не только государи, отцы церкви или святые стали героями средневековых жизнеописаний.
2
Трубадуры были первыми куртуазными лириками Европы. За ними последовали поэты других европейских стран. Среди них видное место заняли немецкие миннезингеры («певцы любви»), выступившие в последней трети XII века. К этому времени в феодальной Германии сложились условия, благоприятствовавшие развитию придворной рыцарской культуры. К началу XIII века немецкая куртуазная поэзия, как лирическая, так и эпическая (рыцарский роман), уже достигла замечательного расцвета.
Понятно, что миннезингеры широко использовали опыт провансальских трубадуров, впервые разработавших концепцию куртуазного служения, и их северофранцузских последователей — труверов. У миннезингеров, в частности, встречаем мы поэтическую форму, восходящую к романским образцам. Например, распространенная у миннезингеров «песня рассвета» (тагелид) совпадает с провансальской альбой, а строфическая любовная «песня» приближается к кансоне. Вместе с тем миннезанг (так начиная с XVIII в. называют немецкую средневековую рыцарскую лирику) обладает рядом своеобразных черт. В нем меньшую роль, чем в поэзии романской, играет чувственный элемент. Немецкие поэты более склонны к рефлексии, морализации, к перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций. Их гедонизм носит обычно более сдержанный характер. Нередко их произведения окрашены в религиозные тона. Однако, как и поэзия трубадуров, поэзия миннезингеров была в основном светской. Наряду с провансальской поэзией, она явилась заметной вехой на пути «обмирщения» европейской литературы средних веков. Встречаются среди миннезингеров поэты талантливые, тонкие, искусные версификаторы и в то же время, несмотря на известную схоластическую скованность, задушевные и простые, способные радостно воспеть природу и любовь или ополчиться на всемогущую кривду. Еще и сейчас охотно прислушиваешься к их звонким голосам и вполне понимаешь Рихарда Вагнера, воздвигшего им величественный памятник в своей опере «Тангейзер».
Следует заметить, что не сразу миннезанг подчинился требованиям куртуазии. Поначалу, наряду с направлением собственно куртуазным, связанным с традициями трубадуров, заметную роль играло другое направление, обращенное к традициям отечественной старины, близкое к народным любовным песням и даже к героическому эпосу. Поэты этого направления, возникшего на юго-востоке Германской империи, не стремились к сложным, изысканным формам, их строфика проста, стихи обычно связаны парными рифмами. На связь с героическим эпосом указывает «нибелунгова» строфа, встречающаяся у поэта Кюренберга, творившего между 1150 и 1170 годами. Сам
поэт называет ее «строфой Кюренберга», что дало повод некоторым ученым считать его автором одной из ранних редакций «Песни о Нибелунгах». Охотно обращаются старшие миннезингеры, и в их числе Кюренберг, к «женским песням», восходящим к древней фольклорной традиции. В этих песнях женщина обычно сетует на одиночество, на то, что ее покинул возлюбленный. В песни Кюренберга «Этот сокол ясный был мною приручен...» женщина сравнивает возлюбленного с соколом, взлетевшим под облака. Вообще концепция любви у поэтов-архаистов подчас заметно отходит от куртуазных представлений. У них в роли лирического героя нередко выступает женщина, а то и девушка. Именно ей суждено вздыхать и молить о любви, в то время как надменный и суровый мужчина с легкостью ее оставляет.
Однако уже у поэтов этого направления проступали куртуазные черты. Они стали определяющими в куртуазной лирике, зародившейся на Рейне, в непосредственной близости от рыцарской Франции, и в дальнейшем распространившейся по всей стране. Одним из ее создателей был автор первого немецкого (на нижнефранконском наречии) куртуазного романа «Энеида» — Генрих фон Фельдеке (род. в середине XII в. — умер до 1210 г.). Впрочем, в его лирических песнях, писавшихся по образцу куртуазных песен трубадуров, еще слышатся отзвуки поэзии немецких шпильманов с ее лукавыми народными интонациями.
В меланхолические тона окрашены любовные песни Фридриха фон Хаузена (около 1150–1190), участника крестового похода, поэта, сыгравшего видную роль в развитии куртуазного миннезанга. Сравнивая себя с Энеем, много испытавшим на своем веку, поэт уверен, что прекрасная дама, которой он отдал свое сердце, никогда не согласится стать его Дидоной («О, как она была горда...»). К тому же душевный разлад снедает поэта. Одержимый любовью, он бежит от нее, отправляясь в крестовый поход. В служении богу надеется найти он избавление от мирских треволнений («С моим упрямым сердцем в ссоре тело...»).
Тем временем приближался расцвет миннезанга. За Генрихом фон Фельдеке и Фридрихом фон Хаузеном потянулся длинный ряд поэтов, весьма изысканно воспевавших «высокую любовь». Попав в любовный плен, они почти не замечают окружающего мира, все существо их соткано из любовного томления, из тончайших переливов чувства. Особенно характерно это для поэзии Рейнмара фон Хагенау, названного Старым (около 1160 — около 1205), виднейшего предшественника Вальтера фон дер Фогельвейде. Поэт как бы бродит по заколдованному кругу наедине со своей любовной тоской. Песни его — обычно скорбные монологи, наполненные жалобами и пенями. Рейнмар не устает сетовать на жестокосердие прекрасной дамы, которая хотя и принимает его служение, но лишает его даже самых незначительных своих милостей. Мелькают годы, а единственное приобретение верного миннезингера — это печальная седина («Ею жил я столько лет...»). Как и всякий влюбленный, поэт втайне мечтает о близости, о том, что счастье ему когда-нибудь улыбнется. Но он подавлен тем, что госпожа не пожелала оценить его преданности, верности и пылкого сердца. А ведь в мире вряд ли найдется любовь, которая была бы сильнее его любви («Госпожу я заклинаю столько лет!..»). И напрасно клеветники подвергают сомнению искренность его любовных излияний. В любви — его жизнь, но также и его горе. Горе исторгает из сердца влюбленного поэта скорбные песни. Иногда поэту даже начинает казаться, что любовная тоска превратила жар его сердца в леденящий холод. Даже весна не может совладать с его тоской. Для него перестали цвести цветы, умолкли певчие птицы. Вечная зима воцарилась в его сердце («От этих бед печаль жива...»).
При всем том поэт не отрекается ни от жизни, ни от любви. Даже истерзанный отчаянием, не смеет он клясть и порочить прекрасных дам («Что влюбленному страдальцу мой совет...»). Разве награда заключена не в самой любви? Разве не должен он радоваться тому, что госпожа не отвергает его песен? Да и следует ли вообще посягать на безупречную чистоту прекрасной дамы? Пусть уж лучше, не снисходя к земной суете, озаряет она мир своим дивным небесным сиянием («Поют не от хорошей жизни...»).
Встречаются у Рейнмара «женские песни» и стихотворные диалоги с участием женщин. В них порой раскрывается важная тайна. Оказывается, внешняя холодность дамы далеко не всегда означает ее бессердечие. Подчас это лишь маска, под которой таится трепетное сердце. Охотно внимая нежным песням рыцаря, испытывая к нему глубокое влечение и вместе с тем страшась падения, благородная дама в суровости находит выход из затруднительного положения («Все печали достаются мне одной...»).
Впрочем, не всегда поэты-рыцари блуждали в густом тумане любовной меланхолии. К ярким краскам питал, например, склонность выдающийся миннезингер Генрих фон Морунген (около 1150–1222). Его изящным, искусно скомпонованным песням присуща пластическая выразительность и общий светлый, жизнелюбивый тон. Даже в песнях о неразделенной любви земной мир не утрачивал для поэта своей привлекательности и многоцветности. Венцом земной красоты была, разумеется, прекрасная дама, пленившая миннезингера. На ее лице он видел «белые лилии и алые розы». Магия любви превращает красавицу в солнце, дарующее тепло и жизнь очарованному поэту. Малейшая благосклонность прекрасной дамы наполняет его беспредельной радостью и ликованием, и вся природа радуется и ликует вместе с ним («Сердце в небо воспарило...»). Та же природа подсказывает поэту сравнения и поэтические образы. Подобно молниям, зажигающим деревья, глаза красавицы воспламеняют его сердце. Ласточка не ждет так солнечных лучей, как поэт ждет нежных ласк своей избранницы («Очень многих этот мучает недуг...»). Себя поэт охотно сравнивает с певчей птицей, услаждающей слух госпожи. Есть основания полагать, что Генрих фон Морунген был знаком с латинской поэзией — средневековой и античной. Так, сравнение с Нарциссом поэта, заглядевшегося на возлюбленную («Чаянья, мечты, предположенья!..»), заимствовано из «Метаморфоз» Овидия.
Младшими современниками Генриха фон Морунгена были Гартман фон Ауэ (около 1170–около 1210) и Вольфрам фон Эшенбах (около 1170–около 1220). Они прежде всего эпики, авторы замечательных рыцарских романов, но и куртуазная лирика их привлекала. Правда, лирическое наследие Гартмана не очень значительно. Среди многочисленных песен «высокой» любви, наводнявших в то время Германию (Генрих фон Ругге, Альбрехт фон Йохансдорф, Рудольф фон Фенис, император Генрих VI и др.), песни Гартмана не выделялись особенно заметно. Несравненно ярче его песня «Я теперь не слишком рад...», в которой поэт отрекался от служения знатным дамам и прямо заявлял, что «низкую» любовь предпочитает бесплодной и оскорбительной для мужчины куртуазной любви. Следует в связи с этим напомнить, что в романе «Бедный Генрих» Гартман с явным сочувствием повествовал о том, как самоотверженная крестьянская девушка стала законной супругой высокородного рыцаря, осмелившегося бросить вызов сословным предрассудкам средних веков.
Печатью сильного и самобытного таланта отмечены «песни рассвета» Вольфрама фон Эшенбаха, столь восхитившие Ф. Энгельса
[6]. В одной из них автор «Парцифаля» смело сравнивает рассвет, разлучающий влюбленных, со страшным чудовищем, неуклонно взбирающимся на небосвод и раздирающим тучи своими огненными когтями («Вот сквозь облака сверкнули на востоке...»).
Но, конечно, самую высокую вершину немецкой средневековой лирики образует многообразное творчество Вальтера фон дер Фогельвейде (около 1170–около 1230). Начав как ученик Рейнмара, он вскоре широко раздвинул границы миннезанга, обогатив его новыми темами и формами и той глубиной чувства, той задушевностью, которых не найти у других немецких поэтов средних веков. Бедный рыцарь, ведший беспокойную жизнь шпильмана и лишь на склоне лет получивший от императора Фридриха II небольшую усадьбу, избавлявшую его от нужды, Вальтер ближе стоял к окружающему миру, чем его знатные сотоварищи по искусству. Он много странствовал, многое видел, близко к сердцу принимал судьбы отчизны. Ему не было свойственно сословное высокомерие, обуревавшее, например, Бертрана де Борна. Напротив того, Вальтер в пору своего творческого расцвета демократизировал поэзию миннезанга, черпая из народных поэтических источников и прославляя наряду с «высокой» любовью любовь «низкую», бесконечно далекую от чопорного аристократического этикета. В чем-то он иногда перекликается с жизнерадостной поэзией вагантов. Для Вальтера подлинная, а следовательно, радостная любовь — это всегда «блаженство двух сердец», ибо одно сердце не может ее вместить («Любовь — что значит это слово?»). При этом простое, теплое слово «женщина» (wip) поэт предпочитает заносчивому, холодному слову «госпожа» (frouwe) и даже позволяет себе подшучивать над госпожами, лишенными женской привлекательности («Прямо скажу вам, что обществу только во вред...»). И героиней его песен подчас выступает не знатная, надменная дама, заставляющая страдать влюбленного, но простая девушка, сердечно отвечающая на чувства поэта. За ее стеклянное колечко поэт готов отдать «все золото придворных дам» («Любимая, пусть бог...»). Широко известна чудесная песенка Вальтера «В роще под липкой...» с веселым припевом «тандарадай», написанная в духе народной «женской» песни, такая милая и наивная, поднимающая «низкую» любовь на огромную высоту подлинного человеческого чувства.
При всем том Вальтер был и оставался поэтом куртуазным. Только для него куртуазия являлась не модой, не развлечением высшего света, но выражением нравственного и эстетического совершенства. Он был требователен к людям, ему ненавистна пошлость, лицемерие, своекорыстие, непостоянство. Он хочет, чтобы не по внешности судили о человеке, а по его душевным, нравственным свойствам («За красоту хвалите женщин...»). Тем острее воспринимал Вальтер начавшийся упадок куртуазной культуры, связанный с деградацией рыцарства, все более утрачивавшего свое историческое значение. Ему представлялось, что мир сбился с пути, без крова остались Верность и Правда, забыты Честь и Щедрость («Плох ты, мир!..»). Обычаи и нравы доброй старины ныне многим кажутся глупыми и смешными («День за днем страдать...»). Скудеют рыцари, перестают служить прекрасным дамам. При дворе грубостью вытесняется вежество. Благородному духу соответствовала благородная, благозвучная, высокая поэзия. Ныне хриплое кваканье жаб заглушает при дворе пенье соловьев («Горе песням благородным...»).
Для своих медитаций, наставлений и обличений Вальтер широко использовал жанр дидактического шпруха, распространенного к тому времени в немецкой поэзии демократического склада. Еще в 60–70-х годах XII века под именем поэта Сперфогеля увидело свет собрание однострофных шпрухов, связанных парными рифмами и содержащих моральные поучения и назидательные басни. Гибкая форма шпруха как нельзя лучше подходила для целей, которые ставил перед собой Вальтер. Ведь был он не только певцом любви, но и поэтом-публицистом, откликавшимся на события, волновавшие страну. В то время в Германии шла борьба за императорский престол и папа римский стремился извлечь наибольшую выгоду из немецкой неурядицы. Осуждая феодальные междоусобицы, раздиравшие империю после смерти в 1197 году Генриха VI, единственного сына Фридриха Барбароссы, Вальтер в императорской короне видел символ единой и могущественной Германии («В ручье среди лужайки...», «Я подсмотрел секреты...» и др.). В ряде язвительных шпрухов бичевал он преступную алчность папы и католического клира, беззастенчиво обиравших немцев и сеявших смуту в государстве. Антиклерикальные шпрухи Вальтера имели огромный успех в самых широких кругах. Вызывая ярость сторонников папской партии, они свидетельствовали о росте антиклерикальных настроений в стране, со временем пришедшей к Реформации.
К концу жизни Вальтер утратил былую жизнерадостность. Им овладели религиозные настроения. Он твердит, что мир наряден и привлекателен только снаружи, внутри же он черен и страшен, как смерть. Да и вообще все меняется к худшему, куда ни посмотришь. Настали тяжелые времена («Увы, промчались годы, сгорели все дотла...»).
Когда Вальтер с негодованием писал о мерзких жабах, заглушавших при дворе стройное пение соловьев, — он имел в виду прежде всего «деревенский миннезанг», шедший на смену «высокой» куртуазной поэзии (Нейдхарт фон Рейенталь, около 1180–1237, и др.). В рыцарскую поэзию вторгались бытовые сценки из крестьянской жизни, с перебранками, потасовками и прочими натуралистическими деталями. Подошла пора бюргерской поэзии, тяготевшей к изображению «низкой» прозы повседневной жизни. Угасал лирический порыв, уступавший место сухому дидактизму, столь ценимому в бюргерских кругах. Пожалуй, порыв этот еще продолжал сохраняться в религиозной поэзии, окрашенной в мистические тона (сестра Мехтхильд из Магдебурга (умерла около 1280 г.), анонимные песни), но то была поэзия отречения, расставшаяся с землей и обращенная к миру потустороннему. Впрочем, миннезанг угас не сразу, он еще довольно долго заявлял о себе, приобретя, однако, эпигонский характер. Но и среди эпигонов попадались поэты несомненно одаренные. К числу таких поэтов принадлежали, например, последний выдающийся куртуазный эпик Германии горожанин Конрад Вюрцбургский (около 1220–1287), не пренебрегавший лирической поэзией, и несомненно интересный поэт Марнер (годы творчества приблизительно — 1230–1270), последователь Вальтера фон дер Фогельвейде, написавший немало шпрухов, весьма разнообразных по своему содержанию.
Среди поэтов, связанных с традицией Нейдхарта, обращает на себя внимание Тангейзер (время творчества — около 1228–1265), ставший со временем героем популярной легенды. Тяготея к мотивам «низкой» любви, к формам народной плясовой песни, он подсмеивался над несообразностями куртуазного служения. Из автобиографических признаний поэта мы узнаем, что, подобно вагантам, он не сидел долго на одном месте, подвергался опасностям на суше и на море, в драной одежде, с пустым карманом, растратив все, что у него было, на женщин и вино. В легенде, впервые засвидетельствованной в народной песне 1515 года, Тангейзер становится возлюбленным г-жи Венеры и живет вместе с ней в сказочной «Венериной горе». Папа Урбан проклинает раскаявшегося грешника, заявляя, что как не может зазеленеть посох в его руке, так не может Тангейзер обрести прощение на земле. Удрученный Тангейзер возвращается в Венерину гору, а посох папы тем временем покрывается молодой зеленью, обличая недостойное жестокосердие верховного первосвященника.
Все чаще в XIII–XIV веках появляются поэты бюргерского происхождения, то перепевавшие мотивы высокого, или «деревенского», миннезанга (Иоганнес Хадлауб, Фрауенлоб), то с несомненным успехом трудившиеся на ниве дидактической поэзии. Подъем городов укреплял их силы, питал их вольнодумство и обличительный пафос (Фрейданк). Но с литературной арены не сошли еще и рыцари, стремившиеся поддержать угасавший авторитет куртуазной поэзии. Одним из таких ревнителей куртуазии являлся Ульрих фон Лихтенштейн (1200–1275), проявлявший себя в различных экстравагантных выходках, которые вместо того, чтобы прославлять любовное служение, превращали его в нелепый фарс.
В XIV и XV веках наступил закат миннезанга. Все реже рыцари обращаются к поэзии. К тому же в новых исторических условиях само куртуазное служение становится явным анахронизмом. Иные веяния проникают в придворную поэзию. Собственно куртуазный элемент отходит на второй план, уступая место бытовым зарисовкам и размышлениям о состоянии современного общества. Графу Гуго фон Монтфорту (1357–1423) любовное служение даже начинает казаться греховным. Он твердит о быстротечности всего земного и предостерегает сильных мира сего от несправедливых поступков. Его удручает трагическое неустройство окружающей жизни. По его словам, «мир сбился с пути», превратился в «дурацкий балаган». О торжествующей кривде и деградации рыцарства с тревогой и негодованием писал последний талантливый миннезингер — Освальд фон Волькенштейн (1377–1445), проживший бурную, наполненную приключениями жизнь. Подобно Тангейзеру, он склонен рассказывать о пережитом. Призрачному миру куртуазного идеала предпочитает он конкретные проявления жизненной правды. Даже весна наделена у него местным, тирольским колоритом. Наряду с пылкими любовными песнями, создавал он песни кабацкие, наполненные хмельным разгулом.
На этом заканчивался миннезанг, уступавший место бюргерскому мейстерзангу.
3
Наше представление о лирической поэзии средних веков было бы, конечно, весьма неполным, если бы мы прошли мимо латинской поэзии вагантов (vagantes — «бродячие люди»), озорных школяров, неунывающих клириков, поклонников Бахуса и Венеры. В средние века латинский язык был не только языком католической церкви, но также языком науки и образованности. В университетах, монастырских и городских школах занятия велись на латинском языке. Это давало возможность школярам, склонным к перемене мест, перебираться из одного университета в другой, из одной страны в другую, повсюду встречая привычную обстановку латинского велеречия. Встречались среди вагантов также клирики без определенных занятий, появлявшиеся то здесь, то там, представители низшего духовенства, не взысканные щедротами фортуны, разбитные клерки, — пестрая и шумная толпа латиноязычных поэтов из разных стран. Поднимая вагантов над массой «профанов», латинский язык приобщал их к духовной элите средних веков, вместе с тем на иерархической лестнице того времени они занимали достаточно скромное место. Большие господа посматривали на них свысока. Ваганты знали, что такое бедность и что такое унижение. Это сближало их с демократическими слоями, да, вероятно, многие из них вышли из этих слоев.
Во всяком случае, в поэзии вагантов проступали демократические черты. Ученые почитатели Овидия и Горация, искусные версификаторы, при случае блиставшие школьной эрудицией, охотно обращались к фольклору, используя мотивы и формы народных песен. По-латыни зазвучали и женские песни, и песни рассвета, и «весенние запевы» и т. п. Ваганты не стремились приукрашивать жизнь. Им совершенно чужда куртуазная манерность. В их жилах буйно колобродила молодая кровь. Они всегда готовы прославить щедрые дары природы, без всякого жеманства воспеть плотскую любовь, радости винопития и азартные игры. Один из самых талантливых вагантов, называвший себя Архипиитом, то есть «поэтом поэтов» (середина XII в.), даже признавался, что кабацкий разгул укрепляет его вдохновение («Исповедь»). С уважением относясь к науке, гордясь тем, что со временем и они станут ее оплотом, ваганты в то же время шумно ликуют, когда приходит «день освобождения от цепей учения», песнями, плясками, любовными забавами отмечают они этот знаменательный день.
Радость и свобода — вот к чему устремлена душа вагантов. Устремлена в то время, когда вся жизнь средневекового человека была всецело подчинена строгой сословной и корпоративной регламентации. Этому чопорному миру ваганты противопоставляли свое вольное братство, в которое доступ открыт всем добрым и веселым людям, всем, кто готов поделиться последним грошом с нуждающимся, кто лишен высокомерия и ханжества, — без различия пола и возраста, общественного и имущественного положения, национальной принадлежности и вероисповедания. Зато лицемерным святошам, наглым щеголям и хищным стяжателям в вольное братство доступ заказан («Орден вагантов»). Манифест вагантов уже намечал путь, со временем приведший к «Телемскому аббатству» великого гуманиста эпохи Возрождения Франсуа Рабле.
Однако, мечтая о свободе и человеческой доброте, ваганты по собственному опыту знали, что мир, окружавший каждого из них, был скорее злым, чем добрым. Бедность следовала за ними по пятам, прерывала их учение, заставляла их мерзнуть и голодать. И хотя молодые весельчаки готовы были подчас и себе и другим внушать утешительную мысль, что бедность даже добродетель, им все же было трудно продираться сквозь жизнь с пустым карманом в дырявом рубище. Не раз и не два в песнях вагантов звучали жалобы на унизительную бедность, которая делала их игралищем бездушной фортуны. Об этом писал Архипиит Кельнский, сравнивавший себя с листом, гонимым по полю неутомимым ветром. Об этом писал и другой замечательный вагант — Гугон, по прозвищу Примас Орлеанский (около 1093–около 1160), немало испытавший на своем веку. Он, как и Архипиит, бойко выставлял на всеобщее обозрение свои неудачи и гораздо реже — удачи. Впрочем, ведь и куртуазные лирики в духе времени позволяли окружающим заглядывать в свою интимную жизнь, но то была жизнь, граничившая с легендой, подчиненная изысканной куртуазной моде. Ваганты не отрывались от грешной земли. Они гораздо конкретнее, откровеннее, хотя, вероятно, и им свойственно стремление подчинять поэтический мир определенной схеме, в которой уже не «высокая» любовь, а кабацкий разгул занимал одно из главных мест. В этом разгуле ваганты обретали желанную свободу, в то же время из-за него они часто превращались в голодранцев, тщетно взывавших о помощи к сильным мира сего.
Жестокосердие, обличаемое в песнях вагантов, чаще всего сопряжено с алчностью, с сребролюбием, стяжательством. Особенно широко эта тема развита в поэзии Вальтера Шатильонского (около 1135–1200), одного из самых образованных латинских поэтов XII века, автора обширной эпической поэмы «Александреида», посвященной деяниям Александра Македонского. Вальтер и ваганты, его последователи, гневно сетуют на то, что мошна стала подлинной владычицей мира. Ей служат надменные графы и дворяне, гоняющиеся за роскошью, и что особенно худо — ей служит духовенство, возглавляемое папской курией. Обличая клир и прежде всего разросшуюся симонию, поэты не стесняются в выборе крепких словечек. Церковников они называют волками в овечьей шкуре, церковь сравнивают с продажной блудницей, а папский Рим — с грязным рынком, преисполненным скверны. Эти резкие выпады против князей церкви и их подручных, если и не делали вагантов воинствующими еретиками, наподобие Арнольда Брешианского, казненного папой в 1155 году, все же свидетельствовали о их вольномыслии. Ваганты не были раболепными чадами церкви. Они не желали кривить душой и прославлять то, что считали дурным и вредным. Дух вольномыслия царил в их лирической поэзии, от которой, говоря словами Рабле, «скорее пахнет вином, чем елеем». Архипиит Кельнский мог, например, вполне благочестивую стихотворную «проповедь» неожиданно закончить обращением к богу, которого он убедительно просит снабжать его деньгами. А в своей знаменитой «Исповеди», пронизанной горьким юмором, прославить беспутную жизнь ваганта, предпочитающего умереть не на ложе, а в кабаке. Серьезные жанры духовной словесности тем самым приобретали пародийное звучание. Обращаясь к распространенному в средние века жанру «прений» (диспутов), ваганты заставляют заурядное пиво спорить с виноградным вином («Спор между Вакхом и пивом») или же, касаясь традиционного вопроса: кому в делах любовных следует вручить пальму первенства, ставят молодого школяра-клирика выше высокородного рыцаря («Флора и Филида»).
Достигнув в XIII веке большого расцвета, поэзия вагантов имела свою предысторию. Еще в пору раннего средневековья встречались латинские стихотворения, близкие по своему духу к вагантам. Они обращают на себя внимание уже в Каролингский период («Каролингские ритмы», VIII–IX вв.). Светские стихотворения о весне, любви и забавных происшествиях встречаются в сборнике XI века «Кембриджские песни», названном по месту нахождения рукописи (в Кембридже). Что же касается до вагантов, то с ними мы знакомимся прежде всего по обширному сборнику «Carmina Burana» («Буранские песни»), составленному в XIII веке в Баварии и найденному в начале XIX века в Бенедиктбейренском монастыре. На немецкое происхождение этого сборника указывает то, что в нем наряду с латинскими текстами иногда встречаются тексты на немецком языке.
Творчество трубадуров, миннезингеров и вагантов, хотя и не исчерпывает всего богатства европейской лирики средних веков, все же дает ясное представление о том расцвете, который наступил в лирической поэзии Европы в XII–XIII веках. Если оставить в стороне классическую древность, это был первый великий расцвет европейской лирики, за которым в свое время последовал еще более могучий расцвет, порожденный эпохой Возрождения. Но ведь ренессансная поэзия множеством нитей была связана с прогрессивными литературными исканиями предшествующих столетий. Об этом не следует забывать.
Б. Пуришев
ПОЭЗИЯ ТРУБАДУРОВ
БЕЗЫМЯННЫЕ ПЕСНИ
* * *
Все цветет! Вокруг весна!
[7]— Эйя! —
Королева влюблена,
— Эйя! —
И, лишив ревнивца сна,
— Эйя! —
К нам пришла сюда она,
Как сам апрель, сияя.
А ревнивцам даем мы приказ:
Прочь от нас, прочь от нас!
Мы резвый затеяли пляс.
Ею грамота дана,
— Эйя! —
Чтобы, в круг вовлечена,
— Эйя! —
Заплясала вся страна
— Эйя! —
До границы, где волна
О берег бьет морская.
А ревнивцам даем мы приказ:
Прочь от нас, прочь от нас!
Мы резвый затеяли пляс.
Сам король тут, вот те на!
— Эйя! —
Поступь старца неверна,
— Эйя! —
Грудь тревогою полна,
— Эйя! —
Что другому суждена
Красавица такая.
А ревнивцам даем мы приказ:
Прочь от нас, прочь от нас!
Мы резвый затеяли пляс.
Старца ревность ей смешна,
— Эйя! —
Ей любовь его скучна,
— Эйя! —
В этом юноши вина,
— Эйя! —
У красавца так стройна
Осанка молодая.
А ревнивцам даем мы приказ:
Прочь от нас, прочь от нас!
Мы резвый затеяли пляс.
В общий пляс вовлечена,
— Эйя! —
Королева нам видна,
— Эйя! —
Хороша, стройна, видна, —
— Эйя! —
Ни одна ей не равна
Красавица другая.
А ревнивцам даем мы приказ:
Прочь от нас, прочь от нас!
Мы резвый затеяли пляс.
* * *
Я хороша, а жизнь моя уныла:
[8]Мне муж не мил, его любовь постыла.
Не слишком ли судьба ко мне сурова?
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Свою мечту я вам открыть готова.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Хочу любить я друга молодого!
Я так бы с ним резвилась и шутила!
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Наскучил муж! Ну, как любить такого?
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Сколь мерзок он, не передаст и слово.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
И от него не надо мне иного,
Как только бы взяла его могила.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Довольно ждать! Давно решиться надо.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
В любви дружка — одна моя отрада.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Без милого мне горькая досада.
Зачем страдать, коль счастье поманило?
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
И про дружка я всем поведать рада.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Мне верен друг, и ждет его награда.
Я хороша, а жизнь моя уныла.
Мне муж не мил, его любовь постыла.
В любви к дружку с собой не знаю слада,
Так сердце мне она заполонила!
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Неплох напев, и хороша баллада.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
За песню мне нужна теперь награда.
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
Пускай везде, не нарушая лада,
Поют о том, кого я полюбила!
Я хороша, а жизнь моя уныла:
Мне муж не мил, его любовь постыла.
* * *
Отогнал он сон ленивый,
[9]Забытье любви счастливой,
Стал он сетовать тоскливо:
— Дорогая, в небесах
Рдеет свет на облаках.
Ах!
Страж кричит нетерпеливо:
«Живо!
Уходите! Настает
Час рассвета!»
Дорогая! Вот бы диво,
Если день бы суетливый
Не грозил любви пугливой
И она, царя в сердцах,
Позабыла вечный страх!
Ах!
Страж кричит нетерпеливо:
«Живо!
Уходите! Настает
Час рассвета!»
Дорогая! Сколь правдиво
То, что счастье прихотливо!
Вот и мы — тоски пожива!
Ночь промчалась в легких снах
День мы встретили в слезах!
Ах!
Страж кричит нетерпеливо:
«Живо!
Уходите! Настает
Час рассвета!»
Дорогая! Сиротливо
Я уйду, храня ревниво
В сердце образ горделивый,
Вкус лобзаний на устах, —
С вами вечно я в мечтах!
Ах!
Страж кричит нетерпеливо:
«Живо!
Уходите! Настает
Час рассвета!»
Дорогая! Сердце живо —
В муке страстного порыва —
Тем, что свет любви нелживой
Вижу я у вас в очах.
А без вас я — жалкий прах!
Ах!
Страж кричит нетерпеливо:
«Живо!
Уходите! Настает
Час рассвета!»
* * *
Боярышник листвой в саду поник,
Где донна с другом ловят каждый миг:
Вот-вот рожка раздастся первый клик!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...
— Ах, если б ночь господь навеки дал,
И милый мой меня не покидал,
И страж забыл свой утренний сигнал.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...
Под пенье птиц сойдем на этот луг.
Целуй меня покрепче, милый друг, —
Не страшен мне ревнивый мой супруг!
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...
Продолжим здесь свою игру, дружок,
Покуда с башни не запел рожок:
Ведь расставаться наступает срок.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил...
Как сладко с дуновеньем ветерка,
Струящимся сюда издалека,
Впивать дыханье милого дружка.
Увы, рассвет, ты слишком поспешил! —
Красавица прелестна и мила
И нежною любовью расцвела,
Но, бедная, она невесела, —
Увы, рассвет, ты слишком поспешил!
* * *
Глядя на зелень лугов
[10]И на цветенье граната,
Грустью раздумий и снов,
Мукой любви я объята.
Скорбь за мечту мою плата,
Удел мой таков...
Сердце любовью разъято
Без острых клинков!
Ах!..
Плачу всю ночь напролет.
Чуть позабудусь дремою,
Сон как рукою сметет:
Мнится, мой милый со мною.
Что ж он порою ночною
И въявь не придет?
Боже, пред ночью одною
Все муки не в счет!
Ах!..
Встретить любовь и не жди,
Если ты к ней не готова
И безразлично почти
Любишь того иль другого.
Верность — не праздное слово!
Нигде не найти
Верного сердца такого,
Как в этой груди.
Ах!..
Если доныне дружка
Донна еще не любила,
То не страдала пока.
Все ж и на муки есть сила.
Их бы любовь приносила,
Но помощь легка:
Их бы любовь исцелила.
О ней — и тоска!
Ах!..
Будь же ты сметлив и скор —
Утром, гонец голосистый,
К другу во весь ты опор
Мчись по дороге росистой.
Спой о любви моей чистой,
Ему не в укор:
Верю в его неречистый
Со мной уговор.
Ах!..
Кто под мой полог душистый
Крался, как вор,
Тот моей нежности истой
Пленник с тех пор!
Ах!..
ГИЛЬЕМ IX{1}
* * *
Желаньем петь я вдохновен
О том, как горем я согбен:
Не к милым доннам в Лимузен
[11] —
В изгнанье мне пора уйти!
Уйду, а сыну суждена
[12] —
Как знать! — с соседями война.
Рука уже занесена,
Неотвратимая почти...
Феод свой вновь не обрету,
Но родичем тебя я чту,
А с ним и сына защити!
Коли Фолькон не защитит
Или король не охранит, —
Анжу с Гасконью налетит,
У этих верность не в чести!
Тогда от сына самого —
Ума и доблести его —
Зависеть будет, кто — кого!
Мужай, дитя мое, расти!
А я в содеянных грехах
Пред всеми каюсь. Жалкий прах,
В молитвах и в простых словах
Взываю ко Христу: прости!
Я ради наслаждений жил,
Но бог предел мне положил,
А груз грехов, что я свершил,
Мне тяжек стал к концу пути.
Забыв и рыцарство и власть —
Все, что вкушал я прежде всласть,
Готов к стопам творца припасть:
Лица, господь, не отврати!
Прошу я каждого из тех,
Кто помнит мой веселый смех,
Роскошества моих утех:
Когда умру, мой прах почти!
Отныне мне не даст утех
[15]Ни беличий, ни куний мех.
Мой графский горностай, прости!
СЕРКАМОН{2}
* * *
Ненастью наступил черед,
[16]Нагих садов печален вид,
И редко птица запоет,
И стих мой жалобно звенит.
Да, в плен любовь меня взяла,
Но счастье не дала познать.
Любви напрасно сердце ждет,
И грудь мою тоска щемит!
Что более всего влечет,
То менее всего сулит, —
А мы за ним, не помня зла,
Опять стремимся и опять.
Затмила мне весь женский род
Та, что в душе моей царит.
При ней и слово с уст нейдет,
Меня смущенье цепенит,
А без нее на сердце мгла.
Безумец я, ни дать ни взять!
Всей прелестью своих красот
Меня другая не пленит, —
И если тьма на мир падет,
Его мне Донна осветит.
Дай бог дожить, чтоб снизошла
Она моей утехой стать!
Ни жив ни мертв я. Не грызет
Меня болезнь, а грудь болит.
Любовь — единый мой оплот,
Но от меня мой жребий скрыт, —
Лишь Донна бы сказать могла,
В нем гибель или благодать.
Наступит ночь, иль день придет,
Дрожу я, все во мне горит.
Страшусь открыться ей: вот-вот
Отказом буду я убит.
Чтоб все не разорить дотла,
Одно мне остается — ждать.
Мне б лучше сгинуть наперед,
Пока я не был с толку сбит.
Как улыбался нежный рот!
Как был заманчив Донны вид!
Затем ли стала мне мила,
Чтоб смертью за любовь воздать?
Томленье и мечты полет
Меня, безумца, веселит,
А Донна пусть меня клянет,
В глаза и за глаза бранит, —
За мукой радость бы пришла,
Лишь стоит Донне пожелать.
Я счастлив и среди невзгод,
Разлука ль, встреча ль предстоит.
Всё от нее: велит — и вот
Уже я прост иль сановит,
Речь холодна или тепла,
Готов я ждать иль прочь бежать.
Увы! А ведь она могла
Меня давно своим назвать!
Да, Серкамон, хоть доля зла,
Но долг твой — Донну прославлять.
МАРКАБРЮ{3}
Встретил пастушку вчера я,
[17]Здесь, у ограды блуждая.
Бойкая, хоть и простая,
Мне повстречалась девица.
Шубка на ней меховая
И кацавейка цветная,
Чепчик — от ветра прикрыться.
К ней обратился тогда я:
— Милочка! Буря какая
Нынче взметается злая!
— Дон! — отвечала девица. —
Право, здорова всегда я.
Сроду простуды не зная, —
Буря пускай себе злится!
— Милочка! Лишь за цветами
Шел я, но вдруг, будто в раме,
Вижу вас между кустами.
Как хороши вы, девица!
Скучно одной тут часами,
Да и не справитесь сами —
Стадо у вас разбежится!
— Дон! Не одними словами,
Надо служить и делами
Донне, восславленной вами.
Право, — сказала девица, —
Столько забот со стадами!
С вами пустыми речами
Тешиться мне не годится.
— Милочка, честное слово,
Не от виллана простого,
А от сеньора младого
Мать родила вас, девица!
Сердце любить вас готово,
Око все снова и снова
Смотрит — и не наглядится.
— Дон! Нет селенья такого,
Где б не трудились сурово
Ради куска трудового.
Право, — сказала девица, —
Всякий день, кроме седьмого —
Дня воскресенья святого,
Должен и рыцарь трудиться.
— Милочка, феи успели
Вас одарить с колыбели, —
Но непонятно ужели
Вам, дорогая девица,
Как бы вы похорошели,
Если б с собою велели
Рядышком мне приютиться!
— Дон! Те хвалы, что вы пели,
Слушала я еле-еле, —
Так они мне надоели!
Право, — сказала девица, —
Что бы вы там ни хотели,
Видно, судьба пустомеле
В замок ни с чем воротиться!
— Милочка, самой пугливой,
Даже и самой строптивой
Можно привыкнуть на диво
К ласкам любовным, девица;
Судя по речи игривой,
Мы бы любовью счастливой
С вами могли насладиться.
— Дон! Говорите вы льстиво,
Как я мила и красива,
Что же, я буду правдива:
Право, — сказала девица, —
Честь берегу я стыдливо,
Чтоб из-за радости лживой
Вечным стыдом не покрыться.
— Милочка! Божье творенье
Ищет везде наслажденья,
И рождены, без сомненья,
Мы друг для друга, девица!
Вас призываю под сень я, —
Дайте же без промедленья
Сладкому делу свершиться!
— Дон! Лишь дурак от рожденья
Легкой любви развлеченья
Ищет у всех в нетерпенье.
Ровню пусть любит девица.
Исстари общее мненье:
Если душа в запустенье,
В ней лишь безумство плодится.
— Милочка! Вы загляденье!
Полно же без сожаленья
Так над любовью глумиться.
— Дон! Нам велит Провиденье:
Глупым — ловить наслажденье,
Мудрым — к блаженству стремиться!
* * *
В саду, у самого ручья,
[18]Где плещет на траву струя,
Там, средь густых дерев снуя,
Сбирал я белые цветы.
Звенела песенка моя.
И вдруг — девица, вижу я,
Идет тропинкою одна.
Стройна, бела, то дочь была
Владельца замка и села.
И я подумал, что мила
Ей песня птиц, что в ней мечты
Рождает утренняя мгла,
Где песенка моя текла, —
Но тут заплакала она.
Глаза девицы слез полны,
И вздохи тяжкие слышны:
— Христос! К тебе нестись должны
Мои рыданья, — это ты
Послал мне горе с вышины.
Где мира лучшие сыны?
Не за тебя ль идет война?
Туда ушел и милый мой,
Красавец с доблестной душой.
О нем вздыхаю я с тоской,
И дни безрадостно-пусты, —
Проклятье проповеди той,
Что вел Людовик, сам не свой!
Во всем, во всем его вина!
И вдоль по берегу тотчас
Я поспешил на грустный глас
И молвил: — Слезы скорбных глаз —
Враги цветущей красоты.
Поверьте, бог утешит вас!
Он шлет весну в урочный час —
И к вам придет души весна!
— Сеньор, — она тогда в ответ, —
Господь прольет, сомненья нет,
На грешных милосердный свет
Небесной, вечной чистоты, —
Но сердцу дорог здешний свет,
А он любовью не согрет,
И с другом я разлучена.
ДЖАУФРЕ РЮДЕЛЬ{4}
* * *
В час, когда разлив потока
[19]Серебром струи блестит,
И цветет шиповник скромный,
И раскаты соловья
Вдаль плывут волной широкой
По безлюдью рощи темной,
Пусть мои звучат напевы!
От тоски по вас, далекой,
Сердце бедное болит.
Утешения никчемны,
Коль не увлечет меня
В сад, во мрак его глубокий,
Или же в покой укромный
Нежный ваш призыв, — но где вы?!
Взор заманчивый и томный
Сарацинки помню я,
Взор еврейки черноокой, —
Всё Далекая затмит!
В муке счастье найдено мной:
Есть для страсти одинокой
Манны
[20] сладостной посевы.
Хоть мечтою неуемной
Страсть томит, тоску струя,
И без отдыха и срока
Боль жестокую дарит,
Шип вонзая вероломный, —
Но приемлю дар жестокий
Я без жалобы и гнева.
В песне этой незаемной —
Дар Гугону.
[21] Речь моя —
Стих романский
[22] без порока —
По стране пускай звучит.
В путь, Фильоль, сынок приемный!
С запада и до востока —
С песней странствуйте везде вы.
* * *
Мне в пору долгих майских дней
[23]Мил щебет птиц издалека,
Зато и мучает сильней
Моя любовь издалека.
И вот уже отрады нет,
И дикой розы белый цвет,
Как стужа зимняя, не мил.
Мне счастье, верю, царь царей
[24]Пошлет в любви издалека,
Но тем моей душе больней
В мечтах о ней —издалека!
Ах, пилигримам бы вослед,
Чтоб посох страннических лет
Прекрасною замечен был!
Что счастья этого полней —
Помчаться к ней издалека,
Усесться рядом, потесней,
Чтоб тут же, не издалека,
Я в сладкой близости бесед —
И друг далекий, и сосед —
Прекрасной голос жадно пил!
Надежду в горести моей
Дарит любовь издалека,
Но грезу, сердце, не лелей —
К ней поспешить издалека.
Длинна дорога — целый свет,
Не предсказать удач иль бед,
Но будь как бог определил!
Всей жизни счастье — только с ней,
С любимою издалека.
Прекраснее найти сумей
Вблизи или издалека!
Я бы, огнем любви согрет,
В отрепья нищего одет,
[25]По царству сарацин бродил.
Молю, о тот, по воле чьей
Живет любовь издалека,
Пошли мне утолить скорей
Мою любовь издалека!
О, как мне мил мой сладкий бред:
Светлицы, сада больше нет —
Всё замок Донны заменил!
Слывет сильнейшей из страстей
Моя любовь издалека,
Да, наслаждений нет хмельней,
Чем от любви издалека!
Одно молчанье — мне в ответ,
Святой мой строг, он дал завет,
Чтоб безответно я любил.
Одно молчанье — мне в ответ.
Будь проклят он за свой завет,
Чтоб безответно я любил!
* * *
Наставников немало тут
[26]Для наставления певцов:
Поля, луга, сады цветут
Под щебет птиц и крик птенцов.
Хоть радует меня весна,
Но эта радость не полна,
Коль испытать мне не дано
Любви возвышенной услад.
Забавы вешние влекут
Детишек или пастухов, —
Ко мне же радости нейдут:
Напрасно жду любви даров,
Хоть Донна и огорчена,
Что так судьба моя мрачна,
Что мне стяжать не суждено
То, без чего я жить не рад.
Далёко замок, где живут
Они с супругом. Тот суров.
Пускай друзья мне подадут
Благой совет без лишних слов:
Как передать ей, что одна
Спасти меня она вольна,
Будь сердце мне оживлено
Хоть самой малой из наград?
Всех, что оттуда род ведут,
[27]Где был ее родимый кров,
Пускай мужланами их чтут,
Я звать сеньорами готов.
Повадка их груба, смешна,
Но их страна — ее страна!
И Донна поняла давно,
О чем те чувства говорят.
К ней, только к ней мечты зовут,
Я вырван из родных краев,
Обратно корни не врастут.
Усну ль, усталый от трудов, —
Душа лишь к ней устремлена.
В груди надежда зажжена:
А вдруг мне будет воздано
За все наградой из наград?
Спешу к ней. Вот ее приют,
А мне в ответ на страстный зов
Увидеть Донну не дают
Ни свет дневной, ни тьмы покров.
Но, наконец, идет она —
Сказать лишь: «Я удручена!
Сама хочу я счастья, но
Желанья так меня гнетут,
Что рассказать — не хватит слов.
И слезы горькие текут,
И день лишь новой мукой нов.
Пускай скупа, пускай скромна,
Мне только ласка и нужна:
От слез лекарство лишь одно, —
Меня врачи не исцелят!
БЕРНАРТ ДЕ ВЕНТАДОРН{5}
* * *
Коль не от сердца песнь идет,
Она не стоит ни гроша,
А сердце песни не споет,
Любви не зная совершенной.
Мои кансоны вдохновенны —
Любовью у меня горят
И сердце, и уста, и взгляд.
Готов ручаться наперед:
Не буду, пыл свой заглуша,
Забыв, куда мечта зовет,
Стремиться лишь к награде бренной!
Любви взыскую неизменной,
Любовь страданья укрепят,
Я им, как наслажденью, рад.
Иной такое наплетет,
Во всем любовь винить спеша!
Знать, никогда ее высот
Не достигал глупец презренный.
Коль любят не самозабвенно,
А ради ласки иль наград,
То сами лжелюбви хотят.
Сказать ли правду вам? Так вот:
Искательница барыша,
Что наслажденья продает, —
Уж та обманет непременно.
Увы, вздыхаю откровенно,
Мой суд пускай и грубоват,
Во лжи меня не обвинят.
Любовь преграды все сметет,
Коль у двоих — одна душа.
Взаимностью любовь живет,
Не может тут служить заменой
Подарок самый драгоценный!
Ведь глупо же искать услад
У той, кому они претят!
С надеждой я гляжу вперед,
Любовью нежной к той дыша,
Кто чистою красой цветет,
К той, благородной, ненадменной,
Кем взят из участи смиренной,
Чье совершенство, говорят,
И короли повсюду чтят.
Ничто сильнее не влечет
Меня, певца и голыша,
Как ожиданье, что пошлет
Она мне взгляд проникновенный.
Жду этой радости священной,
Но промедленья так томят,
Как будто дни длинней стократ.
Лишь у того стихи отменны,
Кто, тонким мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.
Бернарт и мастерством богат,
Взыскует и любви отрад.
* * *
Люблю на жаворонка взлет
В лучах полуденных глядеть:
Все ввысь и ввысь — и вдруг падет,
Не в силах свой восторг стерпеть.
Ах, как завидую ему,
Когда гляжу под облака!
Как тесно сердцу моему,
Как эта грудь ему узка!
Любовь меня к себе зовет,
Но за мечтами не поспеть.
Я не познал любви щедрот,
Познать и не придется впредь.
У Донны навсегда в дому
Весь мир, все думы чудака, —
Ему ж остались самому
Лишь боль желаний да тоска.
Я сам виновен, сумасброд,
Что мне скорбей не одолеть, —
В глаза ей заглянул, и вот
Не мог я не оторопеть;
Таит в себе и свет и тьму
И тянет вглубь игра зрачка!
Нарцисса
[30] гибель я пойму:
Манит зеркальная река.
Прекрасных донн неверный род
С тех пор не буду больше петь:
Я чтил их, но, наоборот,
Теперь всех донн готов презреть.
И я открою, почему:
Их воспевал я, лишь пока
Обманут не был той, к кому
Моя любовь так велика.
Коварных не хочу тенёт,
Довольно Донну лицезреть,
Терпеть томленья тяжкий гнет,
Безжалостных запретов плеть.
Ужели — в толк я не возьму —
Разлука будет ей легка?
А каково теперь тому,
Кто был отвергнут свысока!
Надежда больше не блеснет, —
Да, впрочем, и о чем жалеть!
Ведь Донна холодна, как лед, —
Не может сердце мне согреть.
Зачем узнал ее? К чему?
Одно скажу наверняка:
Теперь легко и смерть приму,
Коль так судьба моя тяжка!
Для Донны, знаю, все не в счет,
Сколь к ней любовью ни гореть.
Что ж, значит, время настает
В груди мне чувства запереть!
Холодность Донны перейму —
Лишь поклонюсь я ей слегка.
Пожитки уложу в суму —
И в путь! Дорога далека.
Понять
Тристану[31] одному,
Сколь та дорога далека.
Конец любви, мечте — всему!
Прощай, певучая строка!
* * *
Нет, не вернусь я, милые друзья,
[32]В наш Вентадорн: она ко мне сурова.
Там ждал любви — и ждал напрасно я,
Мне не дождаться жребия иного!
Люблю ее — то вся вина моя,
И вот я изгнан в дальние края,
Лишенный прежних милостей и крова.
Как рыбку мчит игривая струя
К приманке злой — на смерть — со дна морского,
Так устремила и любовь меня
Туда, где гибель мне была готова.
Не уберег я сердце от огня,
И пламя жжет сильней день ото дня,
И не вернуть беспечного былого.
Но я любви не удивлюсь моей, —
Кто Донну знал, все для того понятно:
На целом свете не сыскать милей
Красавицы приветливой и статной.
Она добра, и нет ее нежней, —
Со мной одним она строга, пред ней
Робею, что-то бормоча невнятно.
Слуга и друг,
[33] в покорности своей
Я лишь гневил ее неоднократно
Своей любовью, — но любви цепей,
Покуда жив, я не отдам обратно!
Легко сказать: с другою преуспей, —
Но я чуждаюсь этаких затей,
Хоть можно все изобразить превратно.
Да, я любезен с каждою иной —
Готов отдать ей все, что пожелала,
И лишь любовь я посвятил одной, —
Все прочее так бесконечно мало.
Зачем же Донна так строга со мной?
Зачем меня услала с глаз долой?
Ах, ждать любви душа моя устала!
Я шлю в Прованс
[34] привет далекий мой,
В него вложил я и любви немало.
Считайте чудом щедрым дар такой:
Меня любовью жизнь не наделяла,
Лишь обольщала хитрою игрой, —
Овернец,
[35] правда, ласков был порой,
Очей Отрада[36] тоже обласкала.
Очей Отрада! Случай мой чудной,
Все чудеса — затмили вы собой,
Вы, чья краса столь чудно воссияла!
* * *
Чтоб стих вдохновенно звучал,
Запомните, песен творцы:
В любви им ищите начал,
Любовью скрепляйте концы.
Если конца я не знаю,
Песни я не начинаю:
К радостям прежде мечтанье зовет,
Только потом пониманье придет.
Любовь я и радость познал,
Но, словно добычу скупцы,
От глаз любопытных скрывал,
[37] —
Охочи болтать наглецы.
Я ж без конца и без краю
Донну свою почитаю,
И, повредить ей страшась наперед,
Прежде раскрыть опасался я рот.
Но стал я хитер и удал,
Молвы не страшны мне гонцы:
Сам разум спасенье мне дал —
Меня произвел во лжецы.
Я пересказчиков стаю
Сказочками угощаю.
Мне эта ложь не в укор, не в зачет,
Если от Донны позор отвлечет.
Гнусней не найдется нахал,
Чем наши злословы-глупцы:
О чем я тихонько вздыхал,
Звонят они, как бубенцы.
Я от досады сникаю, —
Им-то отрада какая?
Тайну другого пусть каждый блюдет,
В душу чужую свой нос не сует.
Я Донну б к отваге призвал,
[38]И струсят тогда наглецы,
И пыльный злословия шквал
Не бросит в нее ни пыльцы.
Робость у донн презираю,
Смелой я сердце вверяю.
Злобных моих ненавистников сброд
Скоро ль от зависти весь перемрет?
Копье смертоносно метал
Пелей,
[39] говорят мудрецы,
Но тот же металл исцелял,
Тогда оживали бойцы.
Я ваши губы лобзаю —
Сердце себе я терзаю.
Ранено сердце — тоской изойдет,
Только от вас исцеления ждет.
Я Донны милей не знавал,
Признаюсь вам без хитрецы.
Лица так прекрасен овал
Что смолкли без дела льстецы.
В очи взгляну — утопаю,
Речи — в восторге впиваю.
Все в ней прелестно, все в плен нас берет, —
Равных ей нет! Не слепой же я крот.
Донна! Я вас величаю —
Навеличаться не чаю.
Кто же Отрадой Очей не сочтет
Ту, чьих достоинств никто не сочтет!
* * *
Все зеленеет по весне,
Все ждет цветения садов.
Ночами в свежей гущине
Не молкнет пенье соловьев.
Но хоть мила краса апрельских дней,
А Донна, та — самой весны милей.
Повсюду радость вешняя светла,
Но свет любви затмить бы не могла.
И все ж, с собой наедине,
Я в забытьи несвязных снов:
[40]Я не очнулся бы вполне,
Сам став добычею воров!
Увы, Любовь, ведь ты меня сильней,
Нет у меня защиты, пожалей!
Пока моя погибель не пришла,
Ты б Донну покорить мне помогла!
Пред нею не хватает мне
Ни сил, ни смелости, ни слов.
А между тем я весь в огне:
Взгляну ль на блеск ее зрачков —
И в восхищенье кинулся бы к ней,
Да страх берет: та, что красой своей
Лишь для любви назначена была,
В любви и холодна и несмела.
Держусь покорно в стороне
И молчаливо ждать готов,
А в сердце, в самой глубине,
Не замолкает страстный зов.
Ей и без слов он ясного ясней.
Как быть со мною — ей самой видней:
Порой она так ласкова, мила,
Порой строга: молва людская зла!
Нет злости в детской болтовне,
Эх, знать бы чары колдунов,
В младенца бы по всей стране
Был каждый превращен злослов!
Тогда бы Донна стала веселей,
Живей — глаза, уста — еще алей.
Да что уста! Вся стала бы ала
От жадных поцелуев без числа.
Вот бы застать ее во сне
(Иль сне притворном) и покров
С нее откинуть в тишине,
Свой стыд и робость поборов!
Нам с вами, Донна, нужно стать ловчей,
Чтобы не упускать таких ночей,
Чтоб наконец любовь свое взяла, —
Ведь юность не навеки расцвела.
С трусихой Донна наравне,
Коль после ласковых кивков
Твердит уныло о возне
И происках своих врагов.
Чушь! Ты глаза им отвести умей
Лишь на другого из своих гостей.
В такой уловке я не вижу зла:
Ведь ласки мне бы Донна припасла!
Гонец мой! Мне грозит ее хула,
Но все сказать не смею без посла!
* * *
Дням пасхи каждый рад.
Листвой оделся сад,
А луг цветы пестрят,
Расправив свой наряд,
И в честь любви услад
Все песенки звенят, —
Лишь у меня звучат
Они на грустный лад.
Сеньоры, бросьте взгляд:
Мне за любовь дарят
Награду из наград —
Коварства горький яд!
А Донну я стократ
Нежней люблю, чем брат,
И к ней мечты летят, —
Мечтами я богат!
Немало я скорбел
И много бед терпел, —
Но в том лишь преуспел,
Что их стерпеть умел.
Хоть есть любви предел,
Его я одолел,
Пред Донной чист и бел.
Лукавить — донн удел!
Я с детства пламенел
К той, без кого б коснел
Среди житейских дел.
За годом год летел,
А я не охладел.
Пускай я с ней несмел,
В любви не преуспел, —
Я б старость ей согрел.
Увы, зачем нужна
Мне жизнь, когда она —
Без той, чья белизна,
Как первый снег, нежна?
Мне радость не дана
Быть с ней на ложе сна
Иль в роще, где весна
Господствует одна.
Для Донны грош цена
Любви, что столь сильна:
Мол, в том моя вина,
Что страсть моя видна.
Вот так награждена
Всей страсти глубина.
Пусть Донна и скромна,
Но скромность тут грешна!
Гадать нет больше сил,
Вам мил я иль немил,
И срок уж наступил,
Чтоб тот, кто вам служил
И вас одну любил, —
Ваш поцелуй испил.
Хоть дар сей вам претил,
Но щедрость бы явил.
Взор Донны нежен был.
Он ласку всем струил,
И вдруг мой страстный пыл
Его оледенил!
Зачем же он манил?
Зачем же отстранил,
Едва лишь покорил?
Теперь мечта — без крыл!
Очей Отраду чтил,
Ей песни посвятил, —
Я только этим жил —
А то б мне мир постыл.
* * *
У любви есть дар высокий
[41] —
Колдовская сила,
Что зимой, в мороз жестокий,
Мне цветы взрастила.
Ветра вой, дождя потоки —
Все мне стало мило.
Вот и новой песни строки
Вьются легкокрыло.
И столь любовь нежна,
И столь любовь ясна,
Что и льдины, как весна,
К жизни пробудила.
Сердце страсть воспламенила
Так, что даже тело
И в снегах бы не застыло,
Где кругом все бело.
Лишь учтивость воспретила
Снять одежды смело, —
Ей сама любовь внушила
Крепнуть без предела.
Любви мила страна,
Что Донною славна,
Не пизанская казна —
Не в богатстве дело!
Донна пусть и охладела,
Но живу мечтая.
Ненароком поглядела —
Вот и рад тогда я!
Лечит сердце мне умело
Греза молодая,
Коль оно осталось цело,
От любви страдая.
Моей любви волна
В любые времена
Через Францию вольна
Плыть, как песня мая.
Счастье мреет, обещая
Все, что мне желанно.
Так кораблик, чуть мелькая,
Где грозит скала седая
Бездной океана.
На душе тоска такая!
Счастье столь обманно...
Моя любовь грустна,
И я не знаю сна.
Мне судьбина суждена
Боже, взвиться бы нежданно
Ласточкой летучей!
Вот лечу к ней утром рано,
Обгоняя тучи,
А она лежит, румяна,
Всех на свете лучше.
— Сжальтесь, Донна! В сердце рана —
Словно пламень жгучий!
Ах, как любовь страшна!
Коль Донна холодна,
То любовь напоена
Скорбью неминучей.
Но упрямы и живучи
Страстные желанья,
Их стремит порыв могучий
Через расстоянья.
Если ж выпадает случай,
Что мои стенанья
Вдруг сменяет смех певучий, —
Отдал сердцу дань я:
Ведь так любовь чудна,
Что радостью пьяна,
Хоть и в радости слышна
Горечь расставанья.
Спеши, гонец, — она
Тебе внимать должна!
Пусть польются письмена
Песнею страданья.
* * *
Нет зеленых сеней,
Оголены сады,
Но гляжу без пеней
На осени следы.
Что в любви весенней?
Одних обид чреды!
Донна все надменней —
Красавицы горды!
Прочь бы от мучений,
Но все мы не чужды
Тщетных обольщений, —
И горше нет беды.
Знать, судьбина склонна
Смеяться надо мной:
Привечала Донна,
Но стала вдруг иной —
Смотрит отчужденно,
И голос ледяной.
Где же оборона
Мне от печали злой?
Бог не слышит стона
Больной души людской.
Видно, смерти лоно
Одно мне даст покой…
Лживого мечтанья
Рассеялся туман.
Ждать ли состраданья?
Ужель любовь — тиран?
Грезе отдал дань я —
И только впал в обман.
Пил я упованья
Губительный дурман!
Но глушит рыданья,
Всю боль сердечных ран
Струн моих бряцанье —
Ведь я не плакать зван!
Был я не умнее
Последнего глупца,
Любоваться смея
Красой ее лица.
Той, кто всех милее,
Не надо и льстеца —
Зеркало сильнее
Льстит Донне без конца.
Тем смешней затея
Безумного певца.
Нож бы в лиходея,
Зеркальных дел творца!
Если Донна милым
Меня не хочет звать,
Пусть не с прежним пылом
Должна хоть приласкать, —
И моя по жилам
Взыграет кровь опять.
Болтунам постылым
Про нас не разузнать.
Больше не по силам
Мне счастья ожидать.
Я дневным светилом
Клянусь ей жизнь отдать!
Все же справедливо
Покаялся бы я:
Чересчур строптива
Была любовь моя!
Слишком торопливо
Я кинул те края,
Сам искал разрыва,
Хоть слез ручьи лия.
А теперь, не диво.
Признаюсь, не тая,
Что вдвойне тосклива
Мне жизни колея.
Донна! Вы далёко!
Я лишь одним живу:
Во мгновенье ока
К вам думой поплыву.
Жду я только срока
Свиданья наяву.
Я грущу жестоко —
Не слушайте молву!
Петь вас — мне без прока,
Но не прерву хвалу.
Сердце без упрека —
Залогом назову!
Сердце без упрека —
Залогом назову:
Жду лишь, Донна, срока
Свиданья наяву!
 Миниатюра из рукописного «Псалтыря». XII век
Миниатюра из рукописного «Псалтыря». XII век
ПЕЙРЕ И БЕРНАРТ ДЕ ВЕНТАДОРН
* * *
— Мой славный Бернарт, неужель
[44]Расстались вы с песней своей?
А в роще меж тем соловей
Выводит победную трель,
Страстно и самозабвенно
Ликуя в полуночный час.
В любви превосходит он вас!
— Мне, Пейре, покой и постель
Рулад соловьиных милей.
Душе опостыли моей
Несчастной любви канитель,
Цепи любовного плена.
Уж я отбезумствовал раз,
Постигнув любовь без прикрас.
— Бернарт, перестаньте, мой друг,
Бесстыдно любовь порицать.
Она заставляет страдать,
Но в мире нет сладостней мук,
Ранит любовь и врачует.
В ней — счастье великое нам,
Пускай и с тоской пополам.
— Эх, Пейре, вот стали бы вдруг
Любви у нас донны искать,
Чтоб нам их владыками стать
Из прежних безропотных слуг!
Где уж! Три года минует,
Как мог убедиться я сам:
Не сбыться сим дерзким мечтам!
— Бернарт! Что валять дурака!
Любовь — вот исток наших сил!
Ужели бы жатвы решил
Я ждать от сухого песка!
В мире такой уж порядок:
Положено донну любить,
А донне — к любви снисходить.
— Мне, Пейре, и память горька
О том, как я нежно любил, —
Так донной обижен я был,
Такая на сердце тоска!
Донны коварных повадок
Вовек не могу я простить.
Ловка она за нос водить.
— Полно, Бернарт мой! Нападок
Умерьте безумную прыть.
Любовь нам положено чтить.
— Пейре, мой жребий несладок,
Коварную мне не забыть —
Так как же безумным не быть!
ПЕЙРЕ Д'АЛЬВЕРНЬЯ{6}
* * *
— Соловей, прошу тебя я
[45]К Донне с весточкой слетать.
В путь обратный улетая,
Попроси ответ прислать.
Пусть поймет:
Кто в полет
Вести посылает,
Кто их ждет, —
Верно, тот
В ней души не чает.
Пусть не медлит, отвечая,
Ты ж не вздумай зря порхать:
Буду я, часы считая,
Твоего прилета ждать. —
В путь! И вот
В небосвод
Соловей взлетает,
Все вперед
И вперед
Крылья устремляет.
Прилетает, не плутая,
К той, что рождена пленять.
Вот и песнь его лесная
Стала воздух оглашать.
Он поет,
Но забот
Все ж не отгоняет:
Страх берет —
Как сойдет
То, на что дерзает?
Все же, смелость обретая,
Донне стал он напевать:
— Друг ваш, тайну соблюдая,
К вам решил меня послать:
Путь, мол, тот
К ней найдет,
Кто напевы знает, —
Все поймет,
Все смекнет
И не зря слетает.
Ждет вас радость, и большая.
Нужно другу отвечать.
Не видал, везде летая,
Никого ему под стать.
Но ведет
Время счет —
Друг часы считает,
И зовет,
И клянет:
Где ж посол летает?
Все ж, отлет свой замедляя,
Не могу я умолчать:
Срок придет, и прядь седая
В русую вплетется прядь!
Кто не рвет
Свежий плод —
Счастье упускает.
Жизнь не ждет:
Друг уйдет,
Время все меняет. —
Так ей птичка напевала,
Был посол неглуп, хоть мал!
Донна сразу отвечала,
Голос нежностью звучал:
— Поживей,
Соловей,
Отнеси признанье:
Мол, для ней
Нет милей
Вашего вниманья!
Как тоска меня снедала!
Друг далёко пребывал.
Я прекрасней не видала,
Он мне всех желанней стал.
Тем грустней,
Тем трудней
Было расставанье.
Сколько дней
Без вестей
С милым ждать свиданья!
С ним мечта моя витала,
Сон и тот не разлучал,
И во сне-то мне, бывало,
Милый смех его звучал.
Чем скромней
От людей
Я таю желанья,
Тем сильней,
Тем жадней
Счастья ожиданье!
Он меня спервоначала
Словно бы заколдовал:
Мне жара не докучала,
И мороз меня не брал.
Всех славней,
Всех знатней
И богаче стань я,
Мне князей,
Королей
Он затмит блистанье!
Если злато зря лежало,
Кто-то им пренебрегал,
У прекрасного металла
Цвет поблек, огонь пропал, —
Чем нежней,
Чем добрей
Будет к нам вниманье,
Тем сильней,
Тем полней
В нас любви сиянье.
Вот, соловушка, немало
От меня ты услыхал.
Завтра — в путь, чуть зорька встала,
Чтобы друг не заскучал. —
День светлей,
Все быстрей
Крылышек сверканье.
Нет затей
Веселей,
Чем носить посланья!
РАМБАУТ Д'АУРЕНГА{7}
* * *
В советах мудрых изощрен,
[46]Я всем влюбленным их давал,
Но сам, хоть нынче и влюблен,
Таких советов я лишен —
И вот успеха не искал
Дарами, лестью, клеветой:
Любовь по-новому мне зрима —
Чиста, добра, неугасима.
Тому же, кто иным прельщен,
Я в помощи не отказал.
Пусть мой совет усвоит он
И будет удовлетворен —
Получит то, чего желал,
К тому же с общей похвалой
(А ею брезгать нетерпимо,
Молва всегда неумолима).
Итак, кто был одной из донн,
Чьей дружбой он бы щеголял,
С пренебреженьем отстранен,
Тот донне угрожать волён;
А резче отповедь слыхал —
Дай донне по носу рукой:
Со злючкой злость необходима,
Иначе цель недостижима.
Коль больше встретит он препон,
И тут бы пусть не унывал, —
У недотроги свой канон:
Кем не один стишок сложен,
Такой, чтоб донну задевал
Злословьем или похвальбой,
Кто девки не пропустит мимо,
Чей дом не келья нелюдима, —
Тот донной не пренебрежен:
На любопытстве он сыграл!
Но путь такой мне не сужден,
Моим же сердцем воспрещен.
Когда б успеха и не знал,
Я все же с донной, как с сестрой,
Что нежно, преданно любима,
Хранил бы скромность нерушимо.
Но должен быть предупрежден
Любой, кто мне бы подражал:
Тоской он будет изможден,
Да и глупцом провозглашен.
Уж лучше б скромность нарушал
И с тою донной и с другой
(Хотя притом недопустимо
И бушевать неукротимо).
А я, сознаться принужден,
Любви услад не испытал
(Хоть этим, право же, смущен).
И лишь недавно награжден
Мне милым перстнем, что блистал
На ручке... но молве людской
Грех то предать, что столь ценимо.
Нет! Тайна бережно хранима.
Лишь вы,
Жонглер Прекрасный[47] мой,
Вы знаете неоспоримо,
Какая Донна мною чтима.
Пусть там пребудет невредимо!
ГРАФИНЯ ДЕ ДИА{8}
* * *
Мне любовь дарит отраду,
Чтобы звонче пела я.
Я заботу и досаду
Прочь гоню, мои друзья.
И от всех наветов злых
Ненавистников моих
Становлюсь еще смелее —
Вдесятеро веселее!
Строит мне во всем преграду
Их лукавая семья, —
Добиваться с ними ладу
Не позволит честь моя!
Я сравню людей таких
С пеленою туч густых,
От которых день темнее, —
Я лукавить не умею.
Злобный ропот ваш не стих,
Но глушить мой смелый стих —
Лишь напрасная затея:
О своей пою весне я!
* * *
Полна я любви молодой,
Радостна и молода я,
И счастлив мой друг дорогой,
Сердцу его дорога я —
Я, никакая другая!
Мне тоже не нужен другой,
И мне этой страсти живой
Хватит, покуда жива я.
Да что пред ним рыцарь любой?
Лучшему в мире люба я.
Кто свел нас, тем, господи мой,
Даруй все радости мая!
Речь ли чернит меня злая,
Друг, верьте лишь доброй, не злой,
Изведав любви моей зной,
Сердце правдивое зная.
Чтоб донне о чести радеть,
Нужно о друге раденье.
Не к трусу попала я в сеть —
Выбрала славную сень я!
Друг мой превыше презренья,
Так кто ж меня смеет презреть?
Всем любо на нас поглядеть,
Я не боюсь погляденья.
Привык он отвагой гореть,
И его сердца горенье
В других заставляет истлеть
Все, что достойно истленья.
Будет про нрав мой шипенье, —
Мой друг, не давайте шипеть:
Моих вам измен не терпеть,
С вами нужней бы терпенье!
Доблести вашей горенье
Зовет меня страстью гореть.
С вами душой ночь и день я, —
Куда же еще себя деть!
* * *
Повеселей бы песню я запела,
Да не могу — на сердце накипело!
Я ничего для друга не жалела,
Но что ему душа моя и тело,
И жалость, и любви закон святой!
Покинутая, я осиротела,
И он меня обходит стороной.
Мой друг, всегда лишь тем была горда я,
Что вас не огорчала никогда я,
Что нежностью Сегвина превзошла я,
[50]В отваге вам, быть может, уступая,
Но не в любви, и верной и простой.
Так что же, всех приветом награждая,
Суровы и надменны вы со мной?
Я не пойму, как можно столь жестоко
Меня предать печали одинокой.
А может быть, я стала вам далекой
Из-за другой? Но вам не шлю упрека,
Лишь о любви напомню молодой.
Да охранит меня господне око:
Не мне, мой друг, разрыва быть виной.
Вам все дано — удача, слава, сила,
И ваше обхождение так мило!
Вам не одна бы сердце подарила
И знатный род свой тем не посрамила, —
Но позабыть вы не должны о той,
Что вас, мой друг, нежнее всех любила,
О клятвах и о радости былой!
Моя краса, мое происхожденье,
Но больше — сердца верного влеченье
Дают мне право все свои сомненья
Вам выразить в печальных звуках пенья.
Я знать хочу, о друг мой дорогой,
Откуда это гордое забвенье:
Что это — гнев? Или любовь к другой?
Прибавь, гонец мой, завершая пенье,
Что нет добра в надменности такой!
* * *
Я горестной тоски полна
О рыцаре, что был моим,
И весть о том, как он любим,
Пусть сохраняют времена.
Мол, холодны мои объятья —
Неверный друг мне шлет укор,
Забыв безумств моих задор
На ложе и в парадном платье.
Напомнить бы ему сполна
Прикосновением нагим,
Как ласково играла с ним
Груди пуховая волна!
О нем нежней могу мечтать я,
Чем встарь о Бланкафлоре Флор,
[51] —
Ведь помнят сердце, тело, взор
О нем все время, без изъятья.
Вернитесь, мой прекрасный друг!
Мне тяжко ночь за ночью ждать,
Чтобы в лобзанье передать
Вам всю тоску любовных мук,
Чтоб истинным, любимым мужем
На ложе вы взошли со мной, —
Пошлет нам радость мрак ночной,
Коль мы свои желанья сдружим!
* * *
— Друг мой! Я еле жива, —
Все из-за вас эта мука.
Вам же дурная молва
Не любопытна нимало,
Вы — как ни в чем не бывало!
Любовь вам приносит покой,
Меня ж награждает тоской.
— Донна! Любовь такова,
Словно двойная порука
Разные два существа
Общей судьбою связала:
Что бы нас ни разлучало,
Но вы неотлучно со мной, —
Мы мучимся мукой одной.
— Друг мой, но сердца-то — два!
А без ответного стука
Нет и любви торжества.
Если б тоски моей жало
Вас хоть чуть-чуть уязвляло,
Удел мой, и добрый и злой,
Вам не был бы долей чужой!
— Донна! Увы, не нова
Злых пересудов наука!
Кругом пошла голова,
Слишком злоречье пугало!
Встречам оно помешало, —
Зато улюлюканья вой
Затихнет такою ценой.
— Друг мой, цена дешева,
Если не станет разлука
Мучить хотя бы едва.
Я ведь ее не желала, —
Что же вдали вас держало?
Предлог поищите другой,
Мой рыцарь-монах дорогой.
— Донна! В любви вы — глава,
Не возражаю ни звука.
Мне же в защите права
Большие дать надлежало,
Большее мне угрожало:
Я слиток терял золотой,
А вы — лишь песчаник простой.
— Друг мой! В делах плутовства
Речь ваша — тонкая штука,
Ловко плетет кружева!
Рыцарю все ж не пристало
Лгать и хитрить, как меняла.
Ведь правду увидит любой:
Любовь вы дарите другой.
— Донна! Внемлите сперва:
Пусть у заветного лука
Ввек не гудит тетива,
Коль не о вас тосковало
Сердце мое, как бывало!
Пусть сокол послушливый мой
Не взмоет под свод голубой!
— Мой друг, после клятвы такой
Я вновь обретаю покой!
— Да, Донна, храните покой:
Одна вы даны мне судьбой.
АЗАЛАИДА ДЕ ПОРКАЙРАРГЕС{9}
* * *
Вот и зимняя пора —
Грязь, и снег, и ветер злющий.
Птичья песенка с утра
Не звенит над сонной пущей.
Ветки хрупки — знай ломай!
Где ты, наш зеленый май?
Смолк под кущей благовонной
Соловей неугомонный...
Но сознать давно пора —
Мне безделицею сущей
Стали снежные ветра,
Да и сам наш май цветущий.
Нет, Ауренги дальний край,
Слов теченья не сбивай
И покой, мной обретенный,
Не смущай мечтой бессонной!
Донны — всех безумней донн,
Если сердце им избрало
Тех, кто властью облечен
Выше скромного вассала.
Власть и нежность — не чета.
Я смеюсь над чванной донной,
Только титулом плененной.
Друг мой — прост, таких имен
Слава звонкая бежала,
Но зато мне предан он,
Ревность мне не кажет жала.
И чисты его уста,
Все в нем — честь и прямота.
Свет любви, во мне зажженный,
Замутит ли лжец прожженный?
Милый друг! Любовь свою
Вам навек по доброй воле
Вместе с сердцем отдаю —
Только с сердцем, но не боле!
Разве клятва не свята,
Коль у вас, мой друг, взята?
В час, свиданьем озаренный,
Честь мне ваша — обороной!
Вам же, Бельвезерский двор,
И Ауренги град счастливый,
И Прованс, и сам сеньор,
И друзья, что ныне живы, —
Всем — «прости»! И вам, места,
Где зажглась моя мечта
Пред душою изумленной —
И навеки опаленной...
Мой жонглер! Теперь туда,
Где, мудра, мила, проста,
Правит Донна всей Нарбонной.
[53]К ней спеши с моей кансоной!
ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЙЛЬ{10}
* * *
— Молю тебя, всесильный, светлый бог,
[54]Чтоб друг живым уйти отсюда мог!
Да бодрствует над ним твоя десница!
С зари вечерней здесь свиданье длится,
И близок час рассвета.
Мой милый друг, взгляните на восток!
Уже господь и ту звезду зажег,
Что нам вещает, как близка денница.
Не медлите! Давно пора проститься,
И близок час рассвета.
Мой милый друг, опасный это час:
Вот пенье птиц, как звонкий утра глас,
Сюда летит через леса и нивы.
Боюсь, проснется сам барон ревнивый, —
Ведь близок час рассвета!
Мой милый друг, я заклинаю вас
На свод небес взглянуть хотя бы раз —
Тогда б понять, наверное, могли вы,
Что вам не лжет товарищ ваш пугливый
И близок час рассвета.
Мой милый друг! Я с вечера не спал,
Всю ночь я на коленях простоял:
Творца молил я жаркими словами
О том, чтоб снова свидеться мне с вами.
А близок час рассвета.
Мой милый друг, да кто же заклинал,
Чтоб я и глаз на страже не смыкал!
Я вас готов оберегать часами, —
Зачем же мной пренебрегли вы сами!
А близок час рассвета.
— Мой добрый друг! Ах, если бы навек
Продлилась ночь любви и сладких нег!
Моя подруга так сейчас прекрасна,
Что, верьте мне, пугать меня напрасно
Ревнивцем в час рассвета.
* * *
Любви восторг недаром я узнал, —
О сладостных не позабуду днях:
Пернатый хор так радостно звучал,
Была весна, весь сад весной пропах.
А в том саду, средь зелени аллей
Явилась мне лилея из лилей,
Пленила взор и сердцем завладела.
С тех самых пор весь мир я позабыл,
Лишь помню ту, кого я полюбил.
И ей одной я песни посвящал,
По ней одной томился я в слезах.
Тот сад, что мне блаженством просиял,
Все вновь и вновь являлся мне в мечтах.
Люблю ее с тех самых, вешних дней,
Ведь нет нигде ни краше, ни милей,
Затмила всех красой лица и тела.
За славный род, за благородства пыл
Ее везде почет бы окружил.
Еще б я громче славу ей воздал,
На целый свет воспел, кабы не страх:
Наветчики — вам скажет стар и мал —
Повергнуть могут эту славу в прах.
Доносчиков не сыщется подлей:
Чем чище ты, тем их наветы злей.
Зато целуюсь нежно то и дело
С ее родней — ведь сердцу каждый мил,
Кто б чем-нибудь причастен милой был.
А вас-то ждет, наветчики, провал!
Судить-рядить начнете впопыхах:
«Да кто она? Да что он ей сказал?
И встретились когда, в каких местах?»
Чтоб злобных сих не соблазнять судей,
Я сторонюсь и лучших из людей:
Иной сболтнет — вот и готово дело!
(Чужой сынок, бывает, начудил,
А ты в отцы чудиле угодил!)
Среди друзей насмешки я стяжал:
«Как пыжится юнец, ну просто страх.
Нас знать не хочет! Больно нос задрал!»
Пускай меня честят они в сердцах,
Но как же быть, когда вослед за ней
Мой слух и взор стремятся все сильней,
Хотя б вокруг и ярмарка галдела:
Единственной себя я посвятил —
Навек душой в беседу с ней вступил.
* * *
— Увы мне! — Что с тобою, друг?
[55]— Умру от мук!
— А чья вина?
— Она со мною холодна,
Забыла первый свой привет.
— В том вся причина? Да иль нет?
— Да, да!
— Ты любишь? В чем же тут беда?
— Люблю, да как!
— И сильно мучишься, чудак?
— Всех мук моих не описать.
— Так надобно смелее стать.
— Пугаюсь! Робость — мой недуг.
— К чему испуг?
— А вдруг она
Не любит? — Грусть твоя смешна:
Сначала получи ответ.
— Но мне со страхом сладу нет.
— Всегда?
— Лишь перед нею. — Ну, тогда
Ты сам свой враг.
Ужель любви страшишься так?
— Нет, но боюсь о ней сказать.
— Тогда надежды все утрать!
— Подать совет ты мог бы мне?
— Могу вполне.
— Ну, и какой?
— На глупый страх махнуть рукой
И объясниться напрямик.
— Боюсь, она прогонит вмиг!
— И что ж?
— Да как такой позор снесешь?
— Стерпи его:
В терпенье — страсти торжество.
— Но у нее ревнивый муж.
— А хитрость женская к чему ж?
— Найду ль сообщницу в жене?
— Наедине
Она с тобой
Обсудит все. — То сон пустой!
— Он сбудется. — О, сладкий миг!
— Ты смелостью всего б достиг.
— Хорош
Твой план, не то ведь пропадешь.
— Он для того,
Кто выше страха своего.
— В надежде — сила нежных душ.
— Смотри же, плана не нарушь!
— Да я бы действовать готов...
Не хватит слов!
— Пора найти.
— Тут нужно тонкость соблюсти.
— Но что же ты, совсем немой?
— Немой лишь перед ней самой.
— Смущен?
— Уверенности я лишен.
—Любви венец
Так потеряешь ты вконец!
— Нет, план мой тверд. — Так исполняй,
Блажь на себя не нагоняй.
Уныл конец
Для унывающих сердец.
Тебе б хороший нагоняй!
Теперь хоть время нагоняй.
— Я наконец
Закон любви постиг, простец:
Мелькнет удача — нагоняй,
Упустишь — на себя пеняй!
* * *
Когда порою зуб болит,
Я издаю за стоном стон.
Когда вокруг весна царит,
Во мне родится песни звон,
Я радость обретаю.
Цветами роща убрана
И щебетом оглашена, —
Тоску я забываю.
В полях, в лугах — везде весна,
И с ней душа моя дружна.
Любовь меня к себе манит
И песня — я для них рожден.
А память радостно хранит
Мой давешний пасхальный сон:
Схватила сокола она,
Но птица так разъярена,
Что в страхе замираю,
И вдруг она уже смирна,
Цепочка вмиг укреплена.
Друг ничего не утаит,
Коль помнит дружества закон.
Про сон молчать душе претит,
Пусть подивится мой барон!
И он сказал, — большая
Удача мне, мол, суждена:
Дождусь, настанут времена,
И я любовь стяжаю
Той, что прекрасна и знатна,
И выше всех вознесена.
И я теперь то страх, то стыд
Испытывать приговорен.
Меня сомнение томит:
Быть может, сон тот — только сон,
А я, глупец, мечтаю!
Коль так надежда нескромна,
То на позор обречена.
Но вот я вспоминаю
О встрече с вами, и ясна
Мне явь: в ней исполненье сна!
И мой певец к вам зачастит —
Дом пеньем будет оглашен.
Тоскою больше не убит,
Я петь хочу, я вдохновлен
И нынче же дерзаю
Послать вам песню. Не сполна
Закончена еще она:
Ведь песня — я-то знаю —
Тогда вполне завершена,
Когда опора ей дана!
Строитель башню завершит,
Коль укрепил основу он —
Тогда и башня устоит.
Таков строителей закон.
Основу укрепляю
И я: коль песня вам нужна,
Коль вами не возбранена,
К ней музыку слагаю, —
Пусть усладится тишина
Для той, кем песня внушена!
А петь другому мне не льстит,
Король иль император он.
Но если кто меня сманит
И буду я вознагражден,
В награду избираю
Изгнанье — новая страна
Да будет столь отдалена
От милого мне края,
Чтоб не узнал я, как гневна
Та, кем душа восхищена.
Теперь вы знаете сполна,
Язык мой понимая,
О чем вещали письмена,
Где речь была еще темна.
Моей любви к вам глубина
Теперь открыта вам до дна.
ГИРАУТ ДЕ БОРНЕЙЛЬ И ЛИНЬЯУРЕ[57]
* * *
— Сеньор Гираут, да как же так?
Вы утверждали, слух идет,
Что песням темный слог нейдет, —
Тогда я вам
Вопрос задам:
Ужель, избрав понятный слог,
Себя я показать бы мог?
— Сеньор Линьяуре, я не враг
Затей словесных, — пусть поет
Любой, как петь его влечет, —
Но все же сам
Хвалу воздам
Лишь простоте певучих строк:
Что всем понятно — в том и прок!
— Гираут, зачем тогда, чудак,
Трудиться, зная наперед,
Что труд усердный попадет
Не к знатокам,
А к простакам,
И вдохновенных слов поток
В них только вызовет зевок!
— Линьяуре! Я из работяг,
Мой стих не скороспелый плод,
Лишенный смысла и красот.
Вот и не дам
Своим трудам
Лишь тешить узенький мирок.
Нет, песни путь всегда широк!
— Гираут! А для меня — пустяк,
Широко ль песня потечет.
В стихе блестящем — мне почет.
Мой труд упрям,
И — буду прям —
Я всем свой золотой песок
Не сыплю, словно соль в мешок!
— Линьяуре! Верьте, много благ
Спор с добрым другом принесет,
Коль бог от ссоры упасет.
Что здесь и там
По временам
Я допускал на вас намек, —
Поставлю сам себе в упрек!
— Гираут! И мне понятен смак
Задорных шуток и острот.
Нет! Вам их не поставлю в счет,
Вес не придам
Таким словам.
В другом — тревог моих исток:
Люблю я, сердцем изнемог!
— Линьяуре! Хоть отказа знак
Красавица нам подает,
Но смысл его совсем не тот,
И по глазам
Дано сердцам
Узнать, что это все — предлог
Раздуть любовный огонек!
— Гираут! Сочельник недалек,
Зачем спешите за порог?
— Линьяуре! Вдаль я не ездок,
Но сам король на пир увлек.
АРНАУТ ДЕ МАРЕЙЛЬ{11}
* * *
Нежным ветерка дыханьем
Мне милы апрель и май!
Соловьиным щекотаньям
Хоть всю ночь тогда внимай!
А едва заря пожаром
Встанет из ночных теней,
Час наступит птичьим парам
Миловаться меж ветвей.
Люб весной земным созданьям
Их зазеленевший край.
Люб и мне — напоминаньем,
Что любовь для сердца — рай.
И тревожит нас недаром
Дуновенье теплых дней:
Я, подвластный вешним чарам,
Рвусь к избраннице моей.
С Донною кудрей сияньем
Донны голосок мечтаньем
Полнит сердце через край!
А блеснут нежданным даром
Зубки, жемчуга ясней,
Вижу — бог в сем мире старом
Не хотел соперниц ей.
Где предел моим страданьям,
Май цветущий, отвечай!
Иль она, воздавши дань им,
Поцелует невзначай?..
Так, томим любовным жаром,
Я брожу в мечтах о ней,
С утренним впивая паром
Вешний аромат полей.
* * *
Вас, Донна, встретил я — и вмиг
Огонь любви мне в грудь проник.
С тех пор не проходило дня,
Чтоб тот огонь не жег меня.
Ему угаснуть не дано —
Хоть воду лей, хоть пей вино!
Все ярче, жарче пышет он,
Все яростней во мне взметен.
Меня разлука не спасет,
В разлуке чувство лишь растет.
Когда же встречу, Донна, вас,
Уже не отвести мне глаз,
Стою без памяти, без сил.
Какой мудрец провозгласил,
Что с глаз долой — из сердца вон?
Он, значит, не бывал влюблен!
Мне ж не преодолеть тоски,
Когда от глаз вы далеки.
Хоть мы не видимся давно,
Но и в разлуке, все равно,
Придет ли день, падет ли мрак, —
Мне не забыть про вас никак!
Куда ни поведут пути,
От вас мне, Донна, не уйти,
И сердце вам служить готово
Без промедления, без зова.
Я только к вам одной стремлюсь,
А если чем и отвлекусь,
Мое же сердце мне о вас
Напомнить поспешит тотчас
И примется изображать
Мне светло-золотую прядь,
И стан во всей красе своей,
И переливный блеск очей,
Лилейно-чистое чело,
Где ни морщинки не легло,
И ваш прямой, изящный нос,
И щеки, что свежее роз,
И рот, что ослепить готов
В улыбке блеском жемчугов,
Упругой груди белоснежность
И обнаженной шеи нежность,
И кожу гладкую руки,
И длинных пальцев ноготки,
Очарование речей,
Веселых, чистых, как ручей,
Ответов ваших прямоту
И легких шуток остроту,
И вашу ласковость ко мне
В тот первый день, наедине...
И все для сердца моего
Таит такое волшебство,
Что я бледнею и в бреду
Неведомо куда бреду.
И чувствую — последних сил
Порыв любви меня лишил.
Ночь не приносит облегченья,
Еще сильней мои мученья.
Когда смолкает шум людской
И все уходят на покой,
Тогда в постель и я ложусь,
Но с бока на бок лишь верчусь.
От горьких дум покоя нет,
И я вздыхаю им в ответ.
То одеяло подоткну,
А то совсем с себя стяну.
То вскинусь, то лежу опять,
А то примусь подушку мять,
Ту ль, эту ль руку подложу, —
Покоя я не нахожу.
И, изнурен в бессонной муке,
Вот я совсем раскинул руки,
Глаза уставя в темноту,
Чтобы страну увидеть ту,
Где издалёка ищет вас
Моей любви печальный глас:
«Ах, Донна милая, когда ж
Найдет поклонник верный ваш
Приют иль просто уголок,
Где б свидеться он с вами мог,
Чтоб этот нежный стан обнять,
Чтоб вас ласкать и миловать,
Вам целовать глаза и рот,
Теряя поцелуям счет,
Сливая все в одно лобзанье
И радуясь до бессознанья.
Быть может, речь моя длинна,
Но в ней ведь объединена
Вся тысяча моих речей —
Бессонных дум в тоске ночей...»
Всего я не договорил —
Порыв любви меня сморил.
Смежились веки, я вздохнул
И, обессиленный, заснул.
Но и во сне вы предо мной
Желанной грезою ночной.
Хоть день и ночь моя мечта
Одною вами занята,
Но сон всего дороже мне:
Над вами властен я во сне.
Я милое сжимаю тело,
И нет желаниям предела.
Ту власть, что мне приносит сон,
Не променял бы я на трон.
Длись без конца, мой сон, — исправь
Неутоленной страсти явь!
 Миниатюра из рукописной хроники. XIII век
Миниатюра из рукописной хроники. XIII век
БЕРТРАН ДЕ БОРН{12}
* * *
Мила мне радость вешних дней,
[59]И свежих листьев, и цветов,
И в зелени густых ветвей
Звучанье чистых голосов, —
Там птиц ютится стая.
Милей — глазами по лугам
Считать шатры и здесь и там
И, схватки ожидая,
Скользить по рыцарским рядам
И по оседланным коням.
Мила разведка мне — и с ней
Смятенье мирных очагов,
И тяжкий топот лошадей,
И рать несметная врагов.
И весело всегда я
Спешу на приступ к высотам
И к крепким замковым стенам,
Верхом переплывая
Глубокий ров, — как, горд и прям,
Вознесся замок к облакам!
Лишь тот мне мил среди князей,
Кто в битву ринуться готов,
Чтоб пылкой доблестью своей
Бодрить сердца своих бойцов,
Доспехами бряцая.
Я ничего за тех не дам.
Чей меч в бездействии упрям,
Кто, в схватку попадая,
Так ран боится, что и сам
Не бьет по вражеским бойцам.
Вот, под немолчный стук мечей
О сталь щитов и шишаков,
Бег обезумевших коней
По трупам павших седоков!
А стычка удалая
Вассалов! Любо их мечам
Гулять по грудям, по плечам,
Удары раздавая!
Здесь гибель ходит по пятам,
Но лучше смерть, чем стыд и срам.
Мне пыл сражения милей
Вина и всех земных плодов.
Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!»
И ржание, и стук подков.
Вот, кровью истекая,
Зовут своих: «На помощь! К нам!»
Боец и вождь в провалы ям
Летят, траву хватая,
С шипеньем кровь по головням
Бежит, подобная ручьям...
На бой, бароны края!
Скарб, замки — всё в заклад, а там
Недолго праздновать врагам!
* * *
Наш век исполнен горя и тоски,
[60]Не сосчитать утрат и грозных бед.
Но все они ничтожны и легки
Перед бедой, которой горше нет, —
То гибель Молодого Короля.
Скорбит душа у всех, кто юн и смел,
И ясный день как будто потемнел,
И мрачен мир, исполненный печали.
Не одолеть бойцам своей тоски,
Грустит о нем задумчивый поэт,
Жонглер забыл веселые прыжки, —
Узнала смерть победу из побед,
Похитив Молодого Короля.
Как щедр он был! Как обласкать умел!
Нет, никогда столь тяжко не скорбел
Наш бедный век, исполненный печали.
Так радуйся, виновница тоски,
Ты, смерть несытая! Еще не видел свет
Столь славной жертвы злой твоей руки, —
Все доблести людские с юных лет
Венчали Молодого Короля.
И жил бы он, когда б господь велел, —
Живут же те, кто жалок и несмел,
Кто предал храбрых гневу и печали.
Нам не избыть унынья и тоски,
Ушла любовь — и радость ей вослед,
И люди стали лживы и мелки,
И каждый день наносит новый вред.
И нет уж Молодого Короля...
Неслыханной отвагой он горел,
Но нет его — и мир осиротел,
Вместилище страданья и печали
Кто ради нашей скорби и тоски
Сошел с небес и, благостью одет,
Сам смерть приял, чтоб, смерти вопреки,
Нам вечной жизни положить завет, —
Да снимет с Молодого Короля
Грехи и вольных и невольных дел,
Чтоб он с друзьями там покой обрел,
Где нет ни воздыханья, ни печали!
* * *
Люблю, чтобы под старость отдавали
[61]И власть свою, и дом свой молодым:
В большой семье достойных нет едва ли,
Чтобы отцам наследовать своим.
Вот признаки, что больше говорят,
Чем птиц прилет или цветущий сад:
Красавицу, сеньора ли сменить
Не значит ли и жизнь омолодить?
Но наши донны юность потеряли,
Коль рыцаря у них уж больше нет,
Иль сразу двух они себе стяжали,
Иль любят тех, кого любить не след,
И честью замка мало дорожат,
Иль о делах любовных ворожат.
Что им жонглер? Ведь сами говорить
Охочи так, что не остановить!
И чтобы донну молодой считали,
Достойных чтить ей подаю совет
И отстранять все подлое подале —
Не наносить своей же чести вред;
Заботиться, чтоб тело и наряд
Неряшеством не оскорбляли взгляд,
И юношей молчаньем не томить, —
Не то легко притворщицей прослыть.
А рыцарю стареть бы не давали
Отважный риск и вкус к делам большим,
Пиры в его гостеприимном зале
И щедрость, чей порыв неудержим:
Пусть на турнир иль боевой отряд
Свое добро он тратит все подряд,
В пылу игры умеет все спустить
И знает, как красавицу прельстить.
Не молод тот, кто о вине и сале
Велит забыть нахлебникам своим
И, чтоб быстрей запасы вырастали,
Постится сам, корыстью одержим;
Кого досуг или игра страшат —
Вдруг денежек они его лишат, —
Кто впроголодь коня готов кормить,
Носить тряпье, чтоб платье сохранить.
Жонглер Арнаут! И старь и новь пестрят
Мой сирвентес, — пусть Ричарду внушат
Старинного богатства не щадить,
Чтоб новое — а с ним и честь! — добыть.
* * *
Я сирвентес сложить готов
Для тех, кто слушать бы желал.
Честь умерла. Ее врагов
Я бы нещадно истреблял,
В морях топил без дальних слов, —
Но выйдут те из берегов.
Огонь бы трупов не сожрал,
Уж разве б Страшный суд настал.
Я не ворчун и не злослов,
А наглецам бы не прощал.
Господь, помимо всех даров,
Рассудок человеку дал,
Чтоб скромным быть. Но не таков
Любой из золотых мешков:
Из грязи в графы прет нахал, —
Уже и замок отмахал!
Короны есть, но нет голов,
Чтоб под короной ум блистал.
О славе дедовских гербов
Маркиз иль князь радеть не стал.
А у баронов при дворах
Я бы от голода зачах:
Хоть богатеет феодал,
Пустеет пиршественный зал.
Пускай я много ездоков
На дорогих конях встречал,
Но кто бы этих мозгляков
К Ожье, к Берару
[62] приравнял?
Мне жалок щеголь-вертопрах:
Хоть разодет он в пух и прах
И зубки отполировал,
А для любви он пуст и вял.
Где слава рыцарских дворов?
Цвет рыцарства куда пропал?
А замки! Там радушный зов
Всех на недели собирал,
Там друг, солдат или жонглер
Был милым гостем с давних пор.
В тех замках нынче лишь развал, —
Я сам во всех перебывал.
Король французов не суров,
Уж он-то щедрость показал!
Жизор
[63] свой славный — вот каков! —
В удел он Ричарду отдал:
Филиппа испугал раздор.
Ну что ж, спасибо за Жизор!
Но я б того к чертям послал,
Кто ратный потерял запал!
В путь, Папиоль!
[64] Будь нынче скор:
Льва — Ричарда почтить не вздор!
Король Филипп
[65] ягненком стал —
Утратит все, чем обладал.
* * *
Донна! Право, без вины
[66]Покарали вы меня,
Столь сурово отстраня, —
Где ж моя опора?
Мне не знать
Счастья прежнего опять!
Сердце я лишь той отдам,
Что красой подобна вам.
Если ж не найду такую,
То совсем я затоскую.
Но красавиц, что равны
Были б вам, весь мир пленя
Блеском жизни и огня,
Нет как нет! Коль скоро
Вам под стать
Ни единой не сыскать,
Я возьму и здесь и там
Все у каждой по частям.
И красавицу иную
Обрету я — составную.
Дать румянец ярче дня,
Очи, что горят, маня
Страстной негой взора
(Больше взять
Мог бы — и не прогадать!).
А красавицы устам
Чтоб, беспечно с ней толкуя,
Разогнал свою тоску я.
Плечи будут ей даны
Из Шале, — и на коня
Сяду вновь, его гоня,
Чтобы к ряду, споро
Всё собрать,
В Рокакорт не опоздать.
Пусть Изольдиным кудрям
[69]Предпочтенье дал Тристрам,
Но, Изольдины минуя,
У Агнесы
[70] их возьму я.
Вы ко мне, но, сохраня
Свойство миловать, казня,
Хоть красу убора
Дайте взять
И девиз: «Не изменять!»
Лучше Всех![72] Похищу сам
Шейку, милую очам, —
Я так нежно расцелую
Красоту ее нагую!
Зубки чудной белизны,
Всех улыбкой осеня,
Даст Файдида. Болтовня
С ней мила, но скоро
В путь опять!
Донна Зеркальце[73] мне дать
Стан должна, столь милый нам,
Смех свой, сладостный ушам, —
Помню я пору былую,
Шутки с ней напропалую.
Вы же, Донна, вы вольны.
Всех собою заслоня,
Но восторгов не ценя,
Дать приказ — без спора
Перестать
Вас любить, о вас мечтать.
Нет! Хоть предан я скорбям,
Сердце я лишь вам отдам!
Как своей наименую
Эту донну составную?
АРНАУТ ДАНИЕЛЬ{13}
* * *
На легкий, приятный напев
Слова подобрав и сложив,
Буду я их шлифовать,
Чтоб они правдой сияли.
В этом любовь мне поможет —
В Донне чудесный исток
Доблестей я обретаю.
Смотрю на нее, онемев
И сердце к ней так устремив,
Что и в груди не сдержать,
Если б на нем не лежали
Думы о той, что умножит
Власть надо мною в свой срок, —
Только о том и мечтаю!
Готов я, любви восхотев,
Жечь свечи и масло олив,
Тысячи месс отстоять,
Лишь бы мне счастие дали.
Пусть мне Люцерну
[74] предложат, —
Светлой головки кивок
Я на нее не сменяю.
На папском престоле воссев
Иль царственный Рим покорив,
Все соглашусь потерять,
Только б надеяться дале,
Что поцелует, быть может, —
Иначе — ведает бог! —
Нет ей и доступа к раю.
[75]
Хоть множество мук претерпев,
Я свой не смиряю порыв!
Стал и друзей избегать,
Чтоб рифмовать не мешали.
Тот, кто мотыгой корежит
Поле, не так изнемог!
Словно Монкли,
[76] я страдаю.
Так Даниель подытожит:
Зайцев мне травит бычок,
[77]Ветер я впрок собираю.
МОНАХ ИЗ МОНТАУДОНА{14}
* * *
Давеча я в рай ходил,
Перед господом предстал —
И душой возликовал:
Милость он ко мне явил!
Расспросил нецеремонно:
— С чем прибрел? Да где бродил?
Я давненько не слыхал
Новостей из Монтаудона!
— Я, господь, свой прежний пыл
Два-три года унимал,
Песен больше не слагал,
Лишь молитвы возносил
Вам коленопреклоненно.
Всем друзьям я опостыл —
Отвернулся стар и мал,
До последнего барона!
— Ты, монах, поклоны бил
И мирского избегал
(Впрочем, тяжбы затевал!) —
Мне устав такой не мил.
Лучше б песней сладкозвонно
Ближним дух увеселил,
На обитель насбирал,
Чем молиться исступленно!
— Я б, господь, как прежде жил,
Всюду с песнями сновал,
У испанцев побывал,
Людям слух бы усладил, —
Божий страх всему препона:
Ложь грешна, я грех свершил
Тем, что песни сочинял,
Ведь безбожно лжет кансона!
— Ты, монах, не тем грешил —
Он тебя все звал да звал, —
Знать, с досады прекратил
Слать гонцов из Олерона.
[79]А ведь он тебя любил,
Стерлингами
[80] забросал,
Спас от нищеты исконной.
— Я б, господь, его почтил,
Но по морю мавр гулял,
После в плен король попал...
[81]Тот — глупец, кто в бой вступил,
Веря в ваш покров хваленый.
Вам и ярый турок мил, —
Как бы Акру
[82] не забрал
Мореходец беззаконный!
* * *
Я к господу как-то попал.
[83]Вижу — его обступили.
Статуи в гневе вопили,
Чтоб он наших донн обуздал:
На краски вскочила цена, —
Все больше идет их для донн,
А статуям храмов — урон,
Их лики бледней полотна!
Мне бог, обернувшись, сказал:
— Жены, монах, нагрешили,
Статуи красок лишили, —
Их облик святой облинял.
Смотри, как вот эта бледна!
Почаще всходи на амвон,
Громи их, повапленных жен!
Для кары пришли времена.
— Господь, — я ему отвечал, —
Сами вы донн сотворили,
Сами красой одарили
Еще при начале начал.
А если краса им дана,
Для донн красоваться — закон.
Урон-то святым нанесен,
Но краска и доннам нужна!
— Монах, ты в нечестие впал!
Речи твои не грешны ли,
Чтобы творения были
Прекрасней, чем я замышлял?
Недолго цветет их весна, —
Ведь смертный стареть обречен, —
Но краской обман совершен:
Глядишь — а старуха юна!
— Господь, вам совет бы я дал:
Вы в своей славе и силе
Крашеных донн невзлюбили, —
Так кто ж вам продолжить мешал
Их юность до вечного сна?
А лучше бы, — я убежден, —
Земля до скончанья времен
Всей краски была лишена!
— Монах, я и слушать устал!
Разум утратил ты или
Жены тебя совратили,
Что ты их оправдывать стал?
Нет! Женам да будет сполна
Природный их вид возвращен.
Хоть красками лик испещрен,
Сотрет их прекрасно слюна.
— Господь, я бы с ними пропал:
Так уж носы набелили,
Столько румян наложили,
Что я бы слюней не набрал!
Хоть дело мое — сторона,
Но кто красотой обделен,
Прикрасу искать принужден, —
Какая ж на доннах вина?
— Монах, но прикраса грешна:
Ведь каждый, кто ей обольщен,
В распутство уже вовлечен,
И тешится тем Сатана.
— Господь, но Монфора жена
[84]Элида — как розы бутон,
Слюнявить ее не резон:
Живая в ней прелесть видна!
ФОЛЬКЕТ ДЕ МАРСЕЛЬЯ{15}
* * *
—
Надежный Друг, вот вы знаток,
[85] —
Скажите, кто из донн милей?
Одна хоть любит и верней,
Но не пускает на порог,
Моленья ваши отвергая.
Вторая хоть не столь верна
(Резвушки изменять ловки),
Зато нежнее к вам она.
Уж слишком муки велики,
Которые сулит другая!
— Фолькет! Подумать дайте срок,
Не знаю случая сложней —
Одно лишь ясного ясней:
Не оберетесь вы тревог,
Хоть ту, хоть эту выбирая.
С резвушкою судьба одна —
С ней ревность вас возьмет в тиски.
Уж лучше вам лишиться сна
И умирать от злой тоски,
Достойной сердце отдавая.
— Надежный Друг, да в чем тут прок?
Как пред достойной ты ни млей,
А ведь с резвушкой веселей!
Любить обидно недотрог,
Малейшей ласки не стяжая.
Любить без ласки! Вот те на!
Нет, донна! Что за пустяки!
Пусть ты для трона рождена,
С себя надменность совлеки,
Ко мне вниманье умножая!
— Фолькет! Ужель вам мил порок?
Что может быть коварства злей!
Что ласк изменницы подлей?
Их получить любой бы мог,
Вас, бедный, нагло унижая.
А той, что с виду холодна,
Пренебрегут лишь простаки.
Ей не затем любовь дана,
Чтоб тешить злые языки,
Нескромно чувства обнажая.
— Надежный Друг! То лишь предлог
Даря любовь, томить людей.
Дар без привета, без речей
Всегда обиден и жесток,
Пренебреженье выражая.
Душа резвушкой пленена,
Всем опасеньям вопреки.
Да, верить ей нельзя сполна,
Но и у вашей есть грешки, —
Видать, судьба у всех такая.
— Фолькет! Прервите слов поток!
С подругой нежною своей
Я знал немало светлых дней.
Иначе жил бы одинок,
С другим делиться не желая.
А вашим песням — грош цена,
И нет в них правды ни строки.
Зачем вам надо, старина,
Кропать столь бодрые стишки,
Душой от ревности сгорая?
— Надежный Друг! Их плел, играя,
Для вас я — бодрость вам нужна:
Ведь есть преловкие дружки,
К ним ваша донна так нежна,
Что вы к отчаянью близки, —
Моя ж, поверьте мне, иная.
— Фолькет! То похвальба пустая.
Гаусельма
[86] нас судить должна.
Вопросы эти ей легки.
Сдаюсь, коль скажет, смущена,
Что донну у меня дружки
Крадут, в измены вовлекая!
ГАУСЕЛЬМ ФАЙДИТ{16}
* * *
Нет! Хватит волн морских,
[87]Докучных берегов,
Подводных скал крутых,
Неверных маяков!
Я насмотрелся их
За все свои блужданья.
Судьбы превратности познав
И в милый Лимузен попав,
Там честь и радости стяжав, —
Воздам молитвой дань я
За то благодеянье,
Что я вернулся, жив и здрав.
Владыку дней моих
Восславить я готов,
Вновь, после бед лихих,
Свой обретая кров
И сад, что, свеж и тих,
Струит благоуханье
Своих простых цветов и трав,
Красою скромною поправ
Кичливый блеск чужих держав.
А Донны обаянье!
Ее очей сиянье,
Ее дары и кроткий нрав!
Пускай звучит мой стих,
Нежданным счастьем нов,
Среди бесед живых
При лучшем из дворов,
Где для сердец людских
Священны предписанья
Любви — источника всех прав.
Под звон ручья среди дубрав
Брожу, забвению предав
И барки колыханье,
И шторм, и злодеянья
Морских разбойничьих орав.
Кто ради дел святых
Искал чужих краев, —
За гробом ждет таких
Прощение грехов.
Но кто, в разбое лих
И жаждая стяжанья,
Решится, совесть потеряв,
Пиратский соблюдать устав, —
Тот, в битвах, в бурях доконав
Себя и достоянье,
Умрет без покаянья —
Вот вся цена таких забав!
УК ДЕ ЛА БАКАЛАРИА{17}
* * *
Вместо нежного привета
[88]Ей, царице всех услад,
Чтоб забыться, песнь рассвета
Я сложу на новый лад.
Лунный свет забрезжил где-то,
В птичьих трелях дремлет сад, —
Так мне тяжко бденье это,
Что заре я был бы рад.
О, боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!
Хоть Евангельем осмелюсь
Ни Тристан или Амелис
[91]Даме не были верней.
Строки «Pater noster»
[92] пелись
Наново душой моей:
«Господи, qui es in coelis
[93],
Дай увидеться мне с ней!»
О, боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!
Среди гор, в морской стихии
Не умрет любовь моя,
И, наветчики лихие,
Верить вам не буду я!
Провожу уныло дни я,
Без еды и без питья.
К ней от стен Антиохии
[94]В смертный час помчался б я!
О, боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!
Брал я с бою замок грозный,
Мне не страшен был медведь,
Леопард неосторожный
Попадал мне часто в сеть, —
Пред любовью же ничтожна
Мощь моя досель и впредь:
Трепет сердца невозможно
Ни унять, ни одолеть!
О, боже, как
Наскучил мрак!
Как я жду рассвета!
КАСТЕЛЛОЗА{18}
* * *
Зачем пою? Встает за песней вслед
Любовный бред,
Томит бесплодный зной
Мечты больной,
Лишь муки умножая.
Удел и так мой зол,
Судьбины произвол
Меня и так извел...
Нет! Извелась сама я.
А вы, мой друг, плохой вы сердцевед,
Любви примет,
Сдружившейся со мной
Тоски немой
Во мне не замечая.
Всеобщий же глагол
Вас бессердечным счел:
Хоть бы приветил, мол,
Несчастной сострадая.
Но я верна вам до скончанья лет
И чту обет
(Хоть данный мной одной!),
Свой долг святой
Безропотно свершая.
Вас древний род возвел
На знатности престол,
Мою ж любовь отмел, —
Для вас не столь знатна я.
Вы для меня затмили целый свет, —
Отказа нет
Для вас ни в чем от той,
Кто день-деньской
Все ждет, изнемогая,
Чтоб ожил тихий дол
И вестник ваш прибрел
Иль пыль клубами взмел
Скакун ваш, подлетая.
Украв перчатку, милый мне предмет,
У вас, мой свет,
Но потеряв покой,
Своей рукой
Ее вам отдала я, —
Хоть грех мой не тяжел,
Но он бы вас подвел,
Коль ревности укол
Не стерпит... та, другая...
Гласят заметы стольких зим и лет:
Совсем не след,
Чтоб к донне сам герой
Ходил с мольбой.
Коль, время выжидая,
Сперва бы сети сплел,
С ума бы донну свел,
То в плен не он бы шел —
Спесивица младая!
Ты б к
Самой Лучшей[95] шел
И песню спел, посол,
Как некто предпочел
Мне ту, с кем не чета я.
Друг Славы![96] Мир не гол
Для тех, кто зло из зол —
В вас холодность обрел,
Но страстью расцветая!
ПЕЙРЕ ВИДАЛЬ{19}
* * *
Жадно издали впивая
Провансальский ветер милый,
Чувствую, как полнит силой
Грудь мою страна родная.
Без конца я слушать рад,
Чуть о ней заговорят,
Слух лаская похвалою.
Весь простор родного края
Рона с Венсой оградила,
С гор — Дюранса
[97] путь закрыла,
С юга — глубь и зыбь морская.
Но для мысли нет преград,
И в Прованс — сей дивный сад! —
Вмиг переношусь душою.
Сердце, Донну вспоминая,
О печалях позабыло, —
Без нее же все уныло.
Песнь моя — не лесть пустая:
Что хвалить всех донн подряд! —
Славословья воспарят
К лучшей, созданной землею.
В ней одной искал всегда я
Правды верное мерило.
Жизнь она мне озарила,
Даром песен награждая.
[98]Славных дел свершу я ряд
За единый только взгляд
Той, что стала мне судьбою.
* * *
Жаворонок с соловьем
Всех пернатых мне милей
Тем, что радость вешних дней
Славят первые они.
Я, должно быть, им сродни:
Трубадуры все молчат,
Песни о любви звучат
У меня лишь — для Виерны.
[99]
Мне дозволено притом
Ту из донн, что всех славней,
Донной называть своей,
Как ведется искони!
Я достоинства одни
За награду из наград
Восславлять отныне рад —
Прелесть и красу Виерны.
Но стрелой или ножом
Поразить нельзя больней,
Чем любовью: ты о ней
Сколь, глупец, ни раззвони,
Ожиданья тяжки дни.
Я не знатен, не богат,
Да зато верней навряд
Друг найдется для Виерны.
А теперь я перстеньком
Награжден — он чудодей:
С ним знатней я всех людей,
Сам король — и то в тени!
И куда ни загляни —
В замок или шумный град, —
Я богаче всех стократ!
Так он дорог, дар Виерны.
* * *
Сеньор мой Драгоман,
[100] да мне б коня —
Враги в испуге прыснут от меня.
Так, ястреба завидев в небе, утка
Спешит, бедняжка, скрыться в зеленя.
Враги-то знают: что мне их броня!
При имени моем и то им жутко.
Двойной мой панцирь блещет ярче дня,
Мой меч — Гвидона
[101] дар, ведь мы родня.
Мне путь не уступить — плохая шутка!
Все прочь бегут, доспехами звеня.
От поступи моей дрожит земля,
Так и гудит — ее страшна погудка!
В боях — Роланда с Оливье
[102] сменя,
В любви — Берара
[103] вежество храня,
Я милых донн совсем лишил рассудка:
Шлют перстни, ленты, письма — беготня
Гонцов любви растет день ото дня,
Бегут ко мне почти без промежутка!
Я бью врагов играючи, дразня,
Своей отвагой кровь им леденя:
Вы, рыцари, со мной сразитесь, ну-тка!
Я всех милей (скажу вам без вранья),
Пред доннами колени преклоня,
Коль меж боев мне выпадет минутка.
Вот был бы взыскан щедрым даром я —
Конем могучим, — я б для короля
[104]Под Балагьером
[105] нес дозоры чутко.
В Провансе, в Кро и в Монпелье — резня.
А рыцари — как стая воронья,
Бесстыднее разбойника-ублюдка.
Придет король, изменников казня, —
Ему претит тулузская грызня.
Шли лучников, Тулуза-баламутка, —
Тебе верну их, пред собой гоня.
Помчится граф
[106] искать, невзвидев дня,
Найдется ль для него хотя б закутка.
Для каждого, кто льстит, в душе кляня,
Кому и долг и верность — болтовня,
Кто честь не ставит выше предрассудка, —
Меча не пожалею и огня:
Будь ты стальной — сгоришь, как головня,
Останется одна лишь пепла грудка.
Реньер
[107] с Виерной, счастьем осеня,
Здесь, в Монпелье, приветили меня, —
И рыцаря скромнее пусть найдут-ка!
* * *
Мила мне лета славная пора,
[108]Мила земля под ясными лучами,
Мил птичий свист меж пышными ветвями,
И мил узор цветочного ковра;
Милы мне встречи дружеских кружков,
Милы беседы и уютный кров, —
Милей всего, что скоро буду там,
Где милой Донне снова честь воздам.
Любовь со мной на радости щедра,
Любовь дарит бесценными дарами.
В мечтах любви тепло мне вечерами,
Любви отвагой полон я с утра.
Пришла любовь — и мир как будто нов.
Любви всю жизнь я посвятить готов.
Любовь приносит юный пыл сердцам, —
Через любовь я побратим юнцам.
Рад все заботы гнать я со двора,
Рад похвалам, летящим вслед за вами,
Рад, ваш вассал, восславить вас делами,
Рад, Донна, вам — источнику добра!
Рад красоты внимать всевластный зов,
Рад не снимать с себя любви оков,
Рад предаваться сладостным мечтам,
Рад следовать за вами по пятам.
Будь божья длань над Донною бодра!
Грянь божья кара над ее врагами!
Весь божий день молю в житейском гаме
Тебя, о боже, нынче, как вчера:
Божественный тому простри покров,
Кто, боже, любит без обиняков,
Будь, боже правый, грозен ко льстецам,
Лжецам безбожным — клеветы гонцам.
Ах, Донна, сколь судьба моя пестра!
Пред Донной я — бедняк меж бедняками,
Пред Донной я — король меж королями,
Коль Донна то сурова, то добра.
У Донны нет смиреннее рабов,
Чтоб волю Донны угадать без слов.
Но, Донна, раб ваш уповать упрям:
Чтя Донну, ждет он милосердья сам!
В своем веселье сколь любовь мудра!
Сколь весело в вас, Донна, жизни пламя!
Веселье, излучаемое вами,
Мир веселит, как ветерка игра.
Весельем я исполнен до краев —
Мне весело от лучезарных снов,
И весело звучать моим устам
Хвалой веселью, и любви, и вам.
МАРИЯ ДЕ ВЕНТАДОРН И ГИ Д'ЮССЕЛЬ{20}
* * *
— Ужель, Ги д'Юссель, вы сполна
Стихи отказались слагать?
Вольны вы молчать, но вольна
И я к вам в тенсоне воззвать!
В мире любви вы немалый знаток —
Этот знаток мне ответить бы мог:
Есть ли для любящих общий закон,
Донну и друга равняет ли он?
— Хоть, донна Мария, должна
Виола
[109] моя отзвучать,
Но, раз вам тенсона нужна,
Возьмусь я за пенье опять:
Как бы у донны был род ни высок,
Он для господства в любви — не предлог!
С донной, — отвечу вам, — друг уравнен,
Если и в низкой он доле рожден.
— Ги, вовсе не тем, что знатна,
Должна она славу стяжать,
А тем лишь, что донна она,
Что может любовь даровать.
Тот, кто по донне тоской изнемог,
Должен прийти к ней с мольбой на порог,
Чтобы любовью он был одарен
Не потому, что он знатный барон.
— Но, донна, одна сторона
Не ниже другой ни на пядь:
И донна, коли влюблена,
Должна о любви умолять.
В чем же тут другу от равенства прок:
Он ее славит, она же — молчок!
Нет уж! Коль был ты в любви предпочтен,
Значит, тобой и почет заслужён!
— Ги, в чем тогда клятве цена?
Зачем же колени склонять
И славить на все времена
Владычицы разум и стать,
После ж не помнить, чуть выдержав срок,
Как он пред донной валялся у ног!
Тот же и взял свою донну в полон,
Кто, как вассал, к ней ходил на поклон...
— Нет, донна! Коль та не склонна
Его своим ровней считать,
Зачем же любовь призвана
Сердца воедино сливать?
Вот и тенсоны стал ясен итог.
Донна — не донна, коль ей невдомек:
Равенство любящих — высший закон,
Только любовью и держится он.
* * *
Я велел с недавних пор
[110]Сердцу своему молчать,
Но Любовь со мною спор
Не замедлила начать:
— Друг Пейроль, решили, знать,
Распрощаться вы со мной,
Да и с песнею былой?
Что ж, бесславный ждет удел
Тех, кто сердцем охладел!
— Ах, Любовь, на ваш укор
Мне не трудно отвечать:
Долго Донны светлый взор
Я готов был воспевать,
Но в награду мог стяжать
Только боль обиды злой, —
Дайте ж наконец покой!
Я роптать на вас не смел,
Но уж песни-то отпел!
— Друг Пейроль! Со мной в раздор
Не годится вам вступать:
Ведь, поверьте мне, не вздор —
В жизни донну повстречать,
Чтоб умела привечать
Вас улыбкой молодой,
И веселой, и простой.
Кто ж ей раньше славу пел?
Видно, дар ваш оскудел!
— Все ж, Любовь, я назапор
Должен сердце закрывать:
На Востоке стал позор
Крестоносцам угрожать.
Бога буду умолять:
Пусть пред общею бедой
[111]Пренебречь своей враждой
Королям бы он велел —
И маркиз
[112] бы преуспел!
— Друг Пейроль, к чему задор?
Турок и арабов рать,
Верьте мне, любой напор
Будет долго отражать.
Стен Давидовых
[113] не взять!
Да и не утихнет бой
Королей между собой.
А бароны! Кто и смел,
Тоже в распрях закоснел.
— Пусть дерутся меж собой,
Но Дальфин — совсем другой:
Он, Любовь, для славных дел
Вас бы позабыть умел.
— Нет, без Донны дорогой
Можно изойти тоской!
Саладин осточертел —
Людям мил родной предел!
* * *
— Мой сеньор, сейчас вопрос
О двух доннах я задам,
Что, допустим, милы вам
И свежее майских роз, —
Ту ль, кто без забот
Сердце отдает,
Вы б предпочитали?
Ту ль, кто норовит
Строгой быть на вид
Чтоб болтать не стали?
— Мой Пейроль! Без мук, без слез
Жить привольно, знаю сам.
Неразумно все же нам
Трусить толков и угроз.
С милой мук не знать
Хорошо, но глядь —
Оба заскучали!
А какая сласть —
Наконец украсть
То, о чем мечтали.
— Мой сеньор, хвалу вознес
Я бы смелым сим словам,
Если бы по временам
В рощах не трещал мороз,
Не было вокруг
Ни дождей, ни вьюг
Там, где встречи ждали.
Если ты продрог,
Зря прождать свой срок —
Сладостно едва ли!
— Мой Пейроль, ни стуж, ни гроз
Не страшится, кто упрям,
И наперекор ветрам
Мужу он натянет нос.
Слаще нет побед:
После тяжких бед,
Что любви мешали,
Ты всего достиг —
И земных владык
Так не ублажали!
— Эх, сеньор, ей-ей,
Лучше без скорбей!
Не люблю печали!
— Эх, Пейроль, ей-ей,
Хуже всех скорбей
Счастье без печали!
ГИЛЬЕМ ДЕ БЕРГЕДАН{22}
* * *
— Ласточка, ты же мне спать не даешь —
Хлопаешь крыльями, громко поешь!
Донну свою, за Жирондой-рекою,
Зря прозывал я Надеждой Живою, —
Не до тебя мне! Что песенка эта
Бедному сердцу, чья песенка спета!
— Добрый сеньор! Вы послушайте все ж
То, что давно мне сказать невтерпеж:
К вам я ведь послана Донной самою:
Будь, мол, я тоже касаткой ручною,
Я бы слетала к нему на край света.
Верен ли мне? Ведь ни слова привета!
— Ласточка! Сколь же я был нехорош!
Встретил ворчаньем, а ты мне несешь
Радость нежданную с песней лесною.
Все же прости, хоть прощенья не стою.
Милостью божьей да будешь согрета,
Милая вестница счастья и света!
— Добрый сеньор! Где же силы найдешь
Донны ослушаться: всюду, мол, сплошь
Ты побывай и, любою ценою,
Другу напомни про данное мною —
Перстень заветный, застежку колета
И поцелуй в подкрепленье обета.
— Ласточка! Донне известно давно ж:
Мне ненавистны измена и ложь!
Но короля не оставлю — весною
С ним на Тулузу идем мы войною.
Я у Гаронны, в лугах ее где-то,
Насмерть сражаться готов без завета.
— Добрый сеньор! Храбреца не запрешь
Даже у Донны в светелке. Ну что ж!
С богом, воюйте! Но не успокою
Донну я вестью досадной такою!
Гневаться будет, — а перышки мне-то
После отращивать целое лето...
ГИЛЬЕМ ДЕ КАБЕСТАНЬ{23}
* * *
Когда впервые вас я увидал,
То, благосклонным взглядом награжден,
Я больше ничего не возжелал,
Как вам служить — прекраснейшей из донн.
Вы, Донна, мне одна желанной стали.
Ваш милый смех и глаз лучистый свет
Меня забыть заставили весь свет.
И, голосом, звенящим, как кристалл,
И прелестью бесед обворожен,
С тех самых пор я ваш навеки стал,
И ваша воля — для меня закон.
Чтоб вам почет повсюду воздавали,
Лишь вы одна — похвал моих предмет.
Моей любви верней и глубже нет.
Я к вам такой любовью воспылал,
Что навсегда возможности лишен
Любить других. Я их порой искал,
Чтоб заглушить своей печали стон,
Едва, однако, в памяти вы встали,
И я, в разгар веселья и бесед,
Смолкаю, думой нежною согрет.
Не позабуду, как я отдавал
Перед разлукой низкий вам поклон, —
Одно словцо от вас я услыхал —
И в горе был надеждой окрылен.
И вот, когда доймут меня печали,
Порою радость им идет вослед.
Ужели ей положите запрет?
Снося обиду, я не унывал,
А веровал, любовью умудрен:
Чем больше я страдал и тосковал,
Тем больше буду вами награжден.
Да, есть отрада и в самой печали...
Когда, бывает, долго счастья нет,
Уменье ждать — вот весь его секрет.
Ах, если б другом вы меня назвали!
Так затрепещет сердце вам в ответ,
Что вмиг исчезнет всех страданий след.
* * *
Я сердцем таю,
Забыв весь мир порой,
Воображаю
Вас, Донна, пред собой.
Стихи слагаю
Я только вам одной,
Изнемогаю,
Томим своей мечтой.
Как от любви бежать?
Где б ни укрылся, глядь,
Любовь уже опять
Мной овладеть готова.
Отверженный сурово,
Вновь стану воспевать
Ваш нрав, красу и стать.
Я почитаю
Любви завет святой,
Не уступаю
Я прихоти пустой,
О вас мечтаю,
Не нужно мне другой.
И счастье знаю,
И одержим тоской.
О Донна, вам под стать
На свете не сыскать!
Так мог ли вам давать
Я клятвы суеслова!
Нет, не забыть былого,
И невозможно снять
С себя любви печать.
Зачем другого
Искать в чужих краях?
Блеск жемчуговый
В смеющихся устах,
Груди шелковой
Мерцанье при свечах —
Все это снова
Предстанет в светлых снах.
(Коль так я б верен был
Царю небесных сил,
Меня б он в рай пустил...)
Всех донн других объятья
За ваш поклон отдать я
Немедля бы решил —
Так ласков он и мил.
Дня прожитого
Не помню, чтоб во прах
Не падал снова
Пред вами я в мечтах.
Одно бы слово,
Чтоб я по вас не чах!
Огня б живого,
Любви у вас в очах!
Ужель за весь свой пыл
Ее не заслужил?
А иначе бы жил —
Немало, как собратья,
Даров бы мог собрать я.
О них я не тужил:
Ваш дар меня манил.
Чтобы страдать я
Не стал еще сильней,
Чтоб мог стяжать я
Награду стольких дней,
К вам шлю заклятье —
Мольбу любви моей.
Пусть без изъятья
Вы всех вокруг щедрей,
Но, Донна, буду рад
Одной лишь из наград
Она мне во сто крат
Других даров дороже.
А коль желанья тоже
И вас ко мне стремят,
Блаженству нет преград!
Могу ль не знать я,
Кто в мире всех милей!
Могу воздать я
И славу только ей.
Лицеприятья
Нет в похвале моей.
Нет вероятья,
Чтоб стал я холодней.
Я все верну подряд —
Пусть только подарят
Мне дар, ни с чем не схожий:
Пусть, этой нежной кожи
Впивая аромат,
Уста мои горят!
Касаясь нежной кожи
И поцелуи множа,
О милая, чего же
Уста не посулят —
И правду возвестят!
Раймон!
[115] Ну до чего же
Я духом стал богат,
Вкусив любви услад!
ГИЛЬЕМ ФИГЕЙРА{24}
* * *
Про римские порядки,
Все, как есть, скажу,
Лишь на напев в оглядке, —
Знаю, заслужу
Жестокие нападки:
Ведь стихом своим
Мечу в папский Рим!
Бесом одержим,
Растления зачатки
Он несет другим.
Так чего ж хотим
От паствы подопечной,
Коль неукротим
Сам Рим, не первый встречный!
Честь, добро, как дым,
Раздор развеял вечный.
Рим, ты корень зла.
Ласкова, мила,
Лесть твоя подла
И Англии беспечной
Паства стричь дала
Ужель себя навеки?
Вот кабы ушла
Овца от злой опеки
И покров нашла
В нем, в богочеловеке!
Вняв моим мольбам,
Дал бы по зубам
Он святым отцам, —
А нам-то с вами, греки,
[118]Их позор — бальзам.
Рим! И беднякам
Глодаешь плоть не ты ли?
Горе им, слепцам!
Ты их ведешь к могиле.
Риму стыд и срам:
Торговлю там открыли:
[119]«Коль грехи томят,
Раскошелься, брат, —
Будешь чист и свят».
Но сроки наступили,
Карой день чреват!
Рим! Ты виноват
Нам бедой грозят
Всегда твои советы.
Алчный пустосвят,
Лишь помнишь о себе ты.
Да низвергнет бог
Пышный твой чертог!
Низость и порок —
Вот, Рим, твои приметы.
Глуп ты и жесток.
Ты цвет французов лучший,
Шли не на Восток —
На братьев темной тучей,
Во грехе полег
Пришельцев строй могучий.
Ты людей мутишь,
Людовика ты ж
Ты свой призыв трескучий
Слал к нему в Париж.
Рим! Ты все хитришь,
В коварстве ты повинен:
Сарацин щадишь,
А греков и латинян
Скоро истребишь, —
Так список павших длинен.
Будет соблюден
Божеский закон:
Ад тебе сужден
За то, что звал, бесчинен,
Рим! Последний стон
Те вскоре издавали,
Кто за светлый сон
Считал войну вначале:
Тот же небосклон,
А не чужие дали.
Но не божий, нет,
Шли творить завет:
Возжелав побед,
Безумцы поспешали
Дьяволу вослед.
Рим! Держи ответ,
Не жди себе прощенья.
Каждый твой совет —
Лишь беса наущенье,
Для тебя всех бед
Желаю ночь и день я.
Братьев христиан
Двух соседних стран
Нудит твой обман
Сражаться в исступленье,
Теша басурман.
Рим! Твой новый план
Вершить пошли французы,
Их военный стан
У самых стен Тулузы.
Бесом обуян,
Ты чести снял обузы,
К счастью, жив и здрав,
И других держав
Еще вольны союзы
Обуздать твой нрав.
Рим! Ногой поправ
Все заповеди бога
И святых устав,
Ты сатане подмога,
Глуп ты, хоть лукав.
От дел твоих тревога
И напасти ждут
Наш крещеный люд.
Козни все растут,
Раймону-графу много
Злых обид несут.
Рим! А все же суд
Господний есть над нами,
И французы мрут,
Устлав поля телами.
Графа ратный труд
Несет им смерть и пламя.
Граф на бой не звал,
Ссор не затевал,
Но торжествовал,
Свое воздвигнув знамя
На сраженных вал.
Рим! Конец настал
Твоим мечтам исконным, —
Мир давно желал,
Чтобы вождем законным
Народам истомленным,
Чтобы, мудр, и смел,
И в боях умел,
Распрям он умел,
Тобою учиненным,
Положить предел.
Рим! Ты закоснел
Во лжи и преступленьях, —
Мастер гнусных дел,
Ты множишь каждый день их,
Я б не преуспел
В одних перечисленьях.
Всюду сея страх,
Все ввергая в прах,
Чтоб держать в цепях,
Ты лишь о новых звеньях
Помышлял в мечтах.
Рим! Ты вор в ворах
И, что себе ни сцапай
Ты в чужих краях,
Все держишь цепкой лапой.
Воровством пропах
Давно ты, вкупе с папой.
[126]Ты, с чумою схож,
Миру смерть несешь,
И не скроет ложь
Ту смерть под яркой вапой.
Что ж, господь, ты ждешь!
Рим! Мне невтерпеж
Все дожидаться срока,
Скоро ли падешь
Ты, чудище порока,
Скоро ль в ад пойдешь,
Покаранный жестоко!
Господи, вонми!
Сжалься над людьми,
Грозно устреми
На Рим святое око,
Власть его сомни!
Рим! Легло костьми
Из-за тебя немало
Тех, кого детьми
Ты называл, бывало.
Я б хлестал плетьми
Любого кардинала.
Правя смертный пир,
Жаждет римский клир
Покорить весь мир
Во что бы то ни стало.
Власть — вот твой кумир!
Рим! Твоих проныр
Змеится вереница,
В мире лад и мир
Сгубить она стремится.
Ты их командир,
Так нечему дивиться!
Гнев мой справедлив,
Если, стыд забыв,
Корыстолюбив,
Ты слышишь, как блудница,
Лишь греха призыв.
Рим! Чуть возомнив,
Что император славный
Слаб иль нерадив,
И на венец державный
Посягнуть решив,
В свой замысел злонравный
Рад вовлечь ты всех.
Гнусен твой успех:
Снять измены грех —
Он тайный или явный —
Папе нет помех.
Рим! И тех и сех
Ты совратил обманом,
Но смени свой смех
Рыданьем покаянным:
Там, на небесех,
Бог оком недреманным
Над землею бдит!
Твой кошель набит,
Ты же все не сыт
Тем златом окаянным.
Ад тебе грозит.
Рим! Елей струит
Толпе твой голос скромный.
Как елей смердит
Враждою неуемной,
Как он ядовит,
Не распознать ей, темной:
В жилах яд течет
И к войне влечет,
Жизнь — уже не в счет!
А пастырь вероломный
Множит свой доход.
Рим! Слушок идет,
Что, мол, тонзура часто
Вред попам несет:
Зазябнет мозг подчас-то,
Вот и не растет,
Глуп, а пасть — зубаста!
На Безье, в разбой
Скорбным головой.
Пуста башка — так баста!
Снять ее долой!
Рим! Любой ценой —
Насилья иль подвоха —
Жрешь ты кус чужой,
Когда лежит он плохо.
Агнца вид святой
Состроил ты, пройдоха,
Лют, как волк иль змей.
Много, лиходей,
У тебя сетей, —
Да, уж такого жоха
Бесу нет милей!
ПЕЙРЕ КАРДЕНАЛЬ{25}
* * *
Хоть клирик ядовит
И злобою смердит,
А в пастыри глядит, —
Он за одежды чтим.
Смекнул же Изенгрим:
[128]Овечью шкуру надо —
И псам сторожевым
Не уберечь их стада.
В овцу преображен,
В овечий влез загон
И всласть наелся он, —
Вот тем и поп силен!
Наш император мнит,
Что всюду он царит,
Король свой трон хранит,
А граф владычит с ним
И с рыцарством своим, —
Поп правит без парада,
Но поп неодолим,
Нет с этим вором слада.
Поповский трон — амвон,
И под церковный звон
Даятель обольщен,
А поп обогащен.
Тем выше он сидит,
Чем меньше башковит,
Тем больше лжет и мстит,
Тем меньше укротим,
Тем больше риска с ним.
Попы — не церкви чада:
Враги один с другим,
Они — исчадье ада.
Попами осквернен
Всевышнего закон, —
Так не был испокон
Господь наш оскорблен.
Поп за столом сопит, —
Уже настолько сыт! —
А сам на стол косит,
В жратве неудержим,
Тревогой одержим,
Что жирная услада
Сжуется ртом чужим.
Да для какого ляда,
Не зван, не приглашен,
За стол к нам лезет он!
Для нищих есть канон,
Вот, получай — и вон!
Арабов защитит
Их мусульманства щит,
Арабам не грозит,
Что поп вотрется к ним,
Смирен, как пилигрим.
А где у нас ограда,
Коль так попов мы чтим
Лишь из-за их наряда?
Но нынче посрамлен
Их черный легион:
Был Фридрих принужден
Поставить им заслон.
Кто ими охмурен,
Да будет упрежден:
Мерзавцев всех времен
Сей сброд затмить рожден!
* * *
Ну вот! Свободу я обрел,
[129]Способен снова есть и спать,
Совсем забыв, что может, мол,
И в жар, и в дрожь любовь бросать.
И по ночам хожденье
Меня теперь уже не ждет:
Хоть писем мне никто не шлет,
Не чувствую томленья.
С игрою в кости кончен счет!
Не всё продул — и то везет!
Я новой радостью расцвел:
Не стал изменниц обличать
И вспоминать обид укол,
На гнев мужей негодовать,
Метаться в исступленье,
Скорбеть, что годы напролет
Любовь мне счастья не несет,
Что стал с тоски как тень я.
Нет! Искренность душа блюдет.
И в том — свобода из свобод.
Я ворох слов пустых отмел,
Что лучшей донны не сыскать,
Что свет еще не произвел
Других красавиц, ей под стать.
Не плачу ночь и день я,
Твердя, что рабство не гнетет
И мне всего наперечет
Милей сей цепи звенья.
Пусть донны знают наперед,
Что это все — наоборот.
Да тем, кто в плен к любви пошел,
Ужель наград пристало ждать?
Народный присудил глагол
Лишь победителей венчать.
Кто знал страстей волненье,
Желаний буйный хоровод,
Но их смирил, — уж верно, тот
Достойней восхищенья,
Чем лучший между воевод,
Что замки сотнями берет.
Противно свой позорить пол —
Метаться, млеть, молить, мечтать:
Кто все к слащавым стонам свел,
Тех надобно гадливо гнать!
Я не меняю мненья:
Честь тем, кто честь за чушь не чтет!
Стрела любви стремит свой лет
Лишь в сердце, чье стремленье
К восторгу высшему ведет.
К достойным должный дар дойдет.
Не вздор, не вожделенье
Меня к возлюбленной влечет,
А величавой воли взлет.
* * *
Искусницы скрывать свои грешки,
Уж верно, похитрей, чем Изенгрим:
В той знатный род, мол, чтят ее дружки,
Той — в бедности дружок необходим,
Та — любит старца, словно дочь родная,
Та — лишь как мать нежна с юнцом своим,
Тем нужен плащ, — пугает стужа злая...
Путь женских шашней неисповедим!
Бои с врагом-соседом нелегки,
Но в доме враг и впрямь неодолим!
Да, жалости достойны муженьки,
Коль женам опостыли молодым.
Мой скромный друг, в Толедо
[130] отбывая,
Женой, свояченицей нелюбим,
Напрасно ждет, чтобы душа живая
Сказала: «Возвращайся невредим!»
А в грабежах — бароны мастаки!
[131]У этаких под рождество, глядим,
Чужие забиваются быки:
Своих им жаль, а пир необходим.
Омрачена разбоем ночь святая —
Бедняк сидит перед котлом пустым,
Но вор-то горд, чужое уплетая:
«Мы нынче славно господа почтим!»
Коль простыню своруют бедняки,
То делом не бахвалятся таким,
Но богачу ограбить — пустяки,
Он нос дерет, стыдом не уязвим.
За кражу ленты к смерти присуждая,
Судья крадет коней — и не судим!
Воришек мелких — так видал всегда я —
Казнить даны права ворам большим.
Играть на флейте, петь — прошли деньки!
Лишь для себя петь буду, нелюдим,
Другим не пропою ни полстроки:
Сам соловей такими не ценим.
Не фриза, не фламандца речь чужая —
Родной язык и тот невнятен им,
В моих стихах позор их обличая.
Так злоба — злого делает глухим.
Скажу невежде, душу облегчая:
«Стихи, свинья, не по зубам твоим!»
* * *
Всем суждено предстать на Страшный суд,
[132]И сирвентес тому хочу сложить,
Кем был я сотворен и пущен жить, —
Пускай мои стихи меня спасут
И от кромешного избавят ада!
Я господу скажу: «Ужели надо,
Перетерпев при жизни столько бед,
В мучениях держать за все ответ?»
Блаженных сонмы дерзостью сочтут
О воле всемогущего судить,
Но я, речей не обрывая нить,
Все выскажу, уста мне не замкнут!
Какая вседержителю отрада
Прочь от себя гнать собственное стадо?
Пускай и грешник по скончанье лет
Увидит божьей благодати свет.
Пусть от усопших рай не стерегут —
Ворота настежь надо бы открыть,
Пришельцев же улыбкою дарить.
Апостол Петр
[133] хоть свят, да слишком крут!
К чему красоты царственного града,
Коль кара ждет одних, других — награда?
Хоть царь царей и славою одет,
На ропот мой молчать ему не след.
Ад сатанинский несказанно лют,
Его давно бы надо упразднить,
И ты, владыка, властен так решить —
Освободи ж туда попавший люд!
Тогда чертей бессильная досада
Заставит нас смеяться до упада.
Пусть сатана не ведает побед
И дел его исчезнет самый след.
Вот я стою, земной окончив труд.
На господа привык я уповать:
Пускай земные муки мне дадут
Хоть адских мук за гробом не узнать!
А коль не так, зачем же вся надсада
Работнику земного вертограда?
Нет, поверни мне вспять теченье лет,
Чтоб вовсе не рождался я на свет.
В ад низвергать — ни смысла в том, ни лада,
То грех, господь, то дьявола привада.
На грозный приговор скажу в ответ:
Знать, и в суде господнем правды нет!
Ты, приснодева,
[134] нам во всем ограда,
И сына умолить ты будешь рада:
Да обретают рай и внук и дед, —
Сам Иоанн
[135] да будет им сосед!
* * *
Морские волны! Море вас несет
Туда-сюда, назад или вперед, —
Быть может, с вами весточка придет
С тех берегов, где милый мой живет?
Увы, любовь, твой бог
Хоть благ порой, но как порой жесток!
Ты, ветерок, бываешь в той стране,
Где в этот час мой друг лежит во сне,
Так принеси его дыханье мне
И дай испить — уста мои в огне!
Увы, любовь, твой бог
Хоть благ порой, но как порой жесток!
Горька любовь к вассалам стран чужих.
Звенел мой смех — и вот уже затих,
И льются слезы. Не утрет мне их
Тот, кто забыл всю нежность ласк моих.
Увы, любовь, твой бог
Хоть благ порой, но как порой жесток!
* * *
Стереги,
Приятель молодой, —
Береги
Ты с башни наш покой,
Нам враги
Лучи рассвета!
К нам беги,
О мрак ночной,
И сокрой
Нас от рассвета, ох, рассвета!
Громче, брат,
Ты с башни покричи, —
Я богат,
И счастлив я в ночи.
Но, стократ
Сильней рассвета,
Днем нудят
Меня лучи.
Нет, молчи,
Вестник рассвета, ох, рассвета
Не зевать!
Неси, дружок, дозор.
Вдруг, как тать,
Прокрадется сеньор —
Нас поймать
В часы рассвета,
Нас предать
С ней на позор.
Как ты скор,
Приход рассвета, ох, рассвета!
Донна, нам
Расстаться близок срок, —
Знаю сам:
Супруг ревнивый строг.
Все отдам,
Лишь бы с рассвета
Снова к вам
Прильнуть я мог.
Но жесток
Приказ рассвета, ох, рассвета…
АЙМЕРИК ДЕ ПЕГИЛЬЯН{26}
* * *
В моей любви — поэзии исток,
Чтоб песни петь, любовь важнее знанья, —
Через любовь я все постигнуть мог,
Но дорогой ценой — ценой страданья.
Предательски улыбкой растревожа,
Влекла меня любовь, лишь муки множа.
Сулили мне уста свое тепло,
Что на сердце мне холодом легло.
Хоть жалость и не ставится в упрек,
Но не могу сдержать свое роптанье:
Ведь не любя жалеть — какой тут прок?
Чем медленней, тем горше расставанье.
Нет, в жалости искать утех негоже,
Когда любовь готовит смерти ложе.
Так убивай, любовь, куда ни шло,
Но не тяни — уж это слишком зло!
Смерть жестока, но более жесток
Удел того, кто жив без упованья.
Как грустно брать воздержности урок
Из милых уст, расцветших для лобзанья!
За счастья миг я все бы отдал, боже, —
Чтоб жизнь опять на жизнь была похожа
(Лишь сердце бы сомнение не жгло,
Что пошутить ей в голову пришло).
Меня в беду не Донны нрав вовлек, —
Сам виноват! Я сам храню молчанье,
Как будто бы, дав гордости зарок,
О днях былых прогнал воспоминанье.
Меж тем любовь одна мне в сердце вхожа,
В нем помыслы другие уничтожа.
Безумен я — немею, как назло,
Когда молчать до боли тяжело!
Она добра, и дух ее высок,
Я не видал прекраснее созданья,
И прочих донн блистательный кружок
С ней выдержать не в силах состязанья.
Она умна не меньше, чем пригожа,
Но не поймет меня по вздохам все же, —
Так что ж тогда узнать бы помогло,
Как властно к ней мне душу повлекло?
Но я судьбой еще наказан строже,
С той разлучен, что мне всего дороже.
Ах, и в тоске мне стало бы светло,
Лишь бы взглянуть на светлое чело!
И в Арагон шлю эту песню тоже.
[136]Король, вы мне опора и надежа,
Да ваших дел столь выросло число,
Что в песню бы вместиться не могло.
* * *
Зря — воевать против власти Любви!
Если в войне и победа видна,
Все же сперва нас измучит война.
Лучше на бой ты Любовь не зови.
Войны несут — их жестоки повадки —
Мало добра, а страданья — в достатке.
Мучит тоскою Любви маета,
Но и тоска так светла и чиста!
Счастлив, кто знал даже скорби Любви, —
Скорби глубоки, но счастье без дна!
Радость утех над тоской взнесена,
Стоны глушит ликованье в крови.
Что же скрывать? Не играю я в прятки:
Мучит Любовь, но мученья нам сладки.
Вот почему, хоть мечта и пуста,
Нам дорога и такая мечта.
Не сосчитать всех даяний Любви!
Речь дурака стала смысла полна,
А в подлеце снова честь рождена,
Злой подобрел — хоть святым объяви,
Скаредный — щедр, и мерзавцы не гадки,
Скромен гордец, робкий — смел без оглядки.
Жизнь не собой лишь одной занята,
С жизнью другой воедино слита.
Верно, не зря послужил я Любви
(Впрочем, теперь поскупее она!):
Чести закон я усвоил сполна, —
Ну-ка, и честь без Любви наживи!
Были во мне и дурные задатки, —
Но позабыл я былые ухватки.
Стала близка мне и слов красота,
Песню Любовь мне вложила в уста.
Донна! И вам, и высокой Любви
В песне хвала неспроста воздана.
Что я без вас? Вами песня сильна —
Значит, певец, благодарность яви!
Мысли, слова в благозвучном порядке
Ваши хранят на себе отпечатки
(Ваша ко мне возрастет доброта —
Будет хвала выше звезд поднята).
Песня, плыви, восхваленьем Любви,
Прямо к тому, кем германцев страна
Прежде всех стран и горда и славна, —
К Фридриху ты, моя песня, плыви!
[137]Щедр он, могуч, смел в атаке и схватке,
Да и в любви — благородной он складки.
Пусть суетой занята мелкота,
Подвиги славные не суета.
Донна! Тут хитрой не нужно догадки!
Ночью и днем я горю в лихорадке.
В вашей красе — всех красот полнота.
Здесь я навек! И разгадка проста...
АЙМЕРИК ДЕ ПЕГИЛЬЯН И ЭЛЬЯС Д'ЮССЕЛЬ[138]
* * *
— Эльяс, ну как себя держать
С той, без кого мне счастья нет?
Она взяла с меня обет —
Когда с ней буду возлежать,
Желанья пылкие сдержать,
А лишь прижаться потесней
Да тихо целоваться с ней, —
И вот позволила прийти!
Могу ль обет не соблюсти?
— Что ж, Аймерик, тут рассуждать!
Вам случай упускать не след.
Ведь вы, мой друг, не старый дед —
Как можно с донной лечь в кровать
И наслажденья не урвать!
Нет, не такой я дуралей:
Любовь обетов всех сильней.
А клятва станет на пути —
Нарушу, господи прости!
— Эльяс, ведь я не плут, не тать.
Даете вы дурной совет, —
Повергнет он в пучину бед!
Тем, кто готов ему внимать,
Любви вовеки не понять.
А клятве изменив своей,
Ни в Донне, ни в царе царей
Мне милосердья не найти.
Нет, против клятвы не пойти!
— Но, Аймерик, зачем опять
Нести бессмыслицу и бред!
Какой же в этом будет вред —
Свою красавицу ласкать
И невзначай добычу взять?
Потом, изволь, хоть слезы лей,
Плыви за тридевять морей, —
Святую землю посети
И отпущенье обрети.
ПИСТОЛЕТА{27}
* * *
Мне б тыщу марок звонким серебром,
[139]Да и червонцев столько — не беда,
Амбары бы с пшеницей и овсом,
Коров, баранов и быков стада,
В день — по сту ливров, чтобы жить широко,
Да замок бы, воздвигнутый высоко,
Да порт — такой, как любят моряки,
В заливе, при впадении реки.
Но мудрость Соломонову притом
И здравый смысл мне б сохранять всегда,
А давши слово, вспоминать о нем,
Когда придет для дела череда;
Вовек не ведать скупости порока,
Чтоб рыцари не слали мне упрека,
Не пели бы жонглеры-шутники,
Что не видать щедрот моей руки.
Вот стать бы мне красавицы дружком, —
Да чтоб была мила и не горда!
Мне б сотню рыцарей, они б верхом
За мною вскачь неслись туда-сюда,
Блестя бронею и с мечом у бока —
В вооруженье я, признаться, дока!
Да и купцы б везли ко мне тюки —
Тюки бы скоро делались легки!
Кто пропитанья ищет день за днем,
Униженно, сгорая со стыда,
Тех бы созвать к себе в богатый дом
Пусть не гнетет их горькая нужда, —
Кормить их сытно до любого срока,
А платы с них не требовать жестоко.
Одна помеха — грезам вопреки,
Доходишки мои невелики!
Зато уж вам, любовию влеком,
Я, Донна, отдал сердце навсегда,
А будь я всемогущим королем,
Весь мир принадлежал бы вам тогда.
Но я и так прославлю вас далёко,
При всех дворах, до самого Востока.
Вам посвящу все песни, до строки,
О мой источник счастья и тоски!
* * *
Не мудрено, что бедные мужья
Меня клянут. Признать я принужден:
Не получал еще отказов я
От самых добродетельных из донн.
Ревнивца склонен пожалеть я вчуже:
Женой с другим делиться каково!
Но стоит мне раздеть жену его —
И сто обид я наношу ему же.
Муж разъярен. Да что поделать, друже!
По нраву мне такое баловство —
Не упущу я с донной своего,
А та позор пусть выместит на муже!
ПЕЙРЕ ГИЛЬЕМ И СОРДЕЛЬ
* * *
— Сеньор Сордель! Так вы опять
[140]Графиню стали осаждать?
С Блакацем вместе вам страдать!
[141]Ведь он, я слышал, ей одной,
Прием встречая ледяной,
Обязан ранней сединой.
— Пейре Гильем! Всевышний, знать,
Чтоб горестям меня предать,
Задумал ей красу придать
Превыше всей красы земной!
Коль умысел таю дурной —
Болтаться мне в петле тугой!
— Сеньор Сордель, как странны вы!
Досель не слышал я, увы,
Чтоб были чувства таковы.
Молва гласит: кто полюбил,
Тот счастья с донной не вкусил,
Коль с нею ложе не делил.
— Пейре Гильем, что суд молвы!
Нет, без мечты сердца мертвы.
Я счастлив выше головы,
Что в ней доверье пробудил,
А взгляд ее мне все б затмил,
Когда бы лаской подарил.
— Сеньор Сордель, в ваш скромный нрав,
Быть может, и поверит граф,
Но, осторожность потеряв,
Как бы не каялся затем!
У вас, простите, кое с кем
Уже так вышло между тем!
— Пейре Гильем, как был я прав,
Врага любви в вас угадав!
Ведь, помня вежества устав,
Граф должен быть и глух и нем
И мирно спать. Да и зачем
То, что сокрыто, видеть всем!
— Насчет супруга буду нем,
Но все ж готовьте щит и шлем!
— Любовь чревата тем да сем,
Но я не отступлю, Гильем!
СОРДЕЛЬ
* * *
Передаст эта песня под струн перезвон
[142]Смертный плач по Блакацу — души моей стон.
Мне не только сеньором, мне другом был он.
Был закон его сердца — отваги закон,
Так для сердца его — никаких похорон!
Его сердца вкусить должен каждый барон.
Чтоб к отваге Блакаца он был приобщен,
Если сам он в отважных делах не силен.
Прежде всех его сердца вкусить надлежит
Императору римскому:
[143] он норовит
Взять Милан, да, увы, с немчурою разбит.
Враг меж тем всю страну его растеребит.
И французский король пусть отваги вкусит:
Проворонил Кастилью
[144] — отбить не вредит!
Он бы рад, но мамаша ему не велит,
[145] —
Из мамашиных рук до сих пор он глядит.
Да вкусил бы отваги король англичан.
[146]Робкий нрав был ему от рождения дан, —
Вот французский король и пошел на обман,
Захватил его земли, негадан, неждан.
А Кастилец двойною короной венчан,
[147] —
Значит, дважды вкусить и отваги он зван,
Но тайком, — ведь иначе владыка двух стран
От клюки материнской потерпит изъян.
Пусть король арагонский,
[148] отважнее став,
Королевских своих добивается прав:
Тот позор, что узнал он, Марсель потеряв,
Можно смыть, лишь обратно Марсель отобрав.
А наваррский
[149] стал трусом, забвенью предав,
Сколь он смелым был раньше — тогда еще граф
Так карает господь, даже властью взыскав!
Плох король, если он только властью и прав.
И тулузскому графу,
[150] уж верно, не грех
Запасаться отвагой, да более всех.
Он владенья свои отдает без помех,
А потом не заштопаешь этих прорех!
Провансальский же граф,
[151] он — и горе и смех! —
С перепугу творит за огрехом огрех:
Без отваги воитель — презреннее всех,
Ни себе, ни другим не приносит утех.
Ненавидят меня у властителей тех.
Это значит — стяжал обличитель успех!
РИГАУТ ДЕ БАРБЕЗЬЕУ{29}
* * *
На землю упавший слон
[152]Поднимается опять,
Если крик вокруг поднять, —
Я, как слон, свалившись с ног,
Без подмоги встать не мог.
Такой проступок мною совершен
И так мне душу угнетает он,
Что двор Пюи
[153] осталось мне молить,
Где есть сердца, способные дружить:
Пусть к милосердью громко воззовут
И снова встать мне силы придадут.
Коль не буду я прощен,
Счастья мне уже не знать!
С песнями пора кончать, —
Спрячусь, грустен, одинок,
В самый дальний уголок.
Кто Донною сурово отстранен,
Тому вся жизнь — лишь труд, лишь тяжкий сон,
А радость может только огорчить:
Я не ручной медведь, чтоб все сносить,
Терпеть, когда тебя жестоко бьют,
Да и жиреть — коль есть тебе дают!
Может, мой услышав стон,
И простят меня, как знать?
Симон-маг
[154] Христу под стать
Вознестись хотел, но бог
Грозный дал ему урок:
Господней дланью тяжко поражен,
Был Симон-маг за дерзость посрамлен.
И я был тоже дерзок, может быть,
Но только тем, что я посмел любить.
Не по грехам бывает грозен суд,
Так пусть со мной не столь он будет крут!
Впредь я скромности закон
Не осмелюсь нарушать.
Фениксом
[155] бы запылать,
Чтоб сгореть со мною мог
И болтливости порок!
Сгорю, самим собою осужден
За то, что чести наносил урон,
Восстану вновь — прощения молить
И Донны совершенство восхвалить,
Когда в ней милосердье обретут
Те слезы, что из глаз моих бегут.
В путь посол мой снаряжен —
Эта песня! Ей звучать
Там, где я не смел предстать,
Каяться у милых ног —
И в очах читать упрек.
Два года я от Донны отлучен,
В слезах спешу к Вам, Лучшая из Донн, —
Вот так олень во всю несется прыть
Туда, где меч готов его сразить.
Ужель меня одни лишь муки ждут?
Ужель чужим я стал навеки тут?
* * *
Жил в старину Персеваль,
[156] —
Изведал вполне я
Сам Персеваля удел:
Тот с изумленьем глядел,
Робко немея,
На оружия сталь,
На священный Грааль, —
Так, при Донне смущеньем объят,
Только взгляд
Устремляю вослед
Лучшей из Донн, — ей соперницы нет.
Врезано в сердца скрижаль
Свидание с нею:
Взор меня лаской согрел,
Я оробел, онемел, —
Этим себе я
Заслужил лишь печаль
И сомненье, едва ль
Я других удостоюсь наград.
Но стократ
Муки прожитых лет
Сладостней радостей легких побед.
Ласкова речь ваша, — жаль,
Душа холоднее!
Иначе я бы посмел
Верить — не зря пламенел
Молча, робея:
И без слов не пора ль
Знать, как тягостна даль
Для того, кто, любовью богат,
Вспомнить рад
Хоть ваш первый привет,
Хоть упованья обманчивый бред.
В небе найдется звезда ль,
Что солнца яснее?
Вот я и Донну воспел
Как совершенства предел!
Краше, милее
Мы видали когда ль?
Очи, словно хрусталь,
Лучезарной игрою манят
И струят
Мне забвение бед,
Тяжких обид и печальных замет.
Жизнь не зовет меня вдаль,
Всего мне нужнее
Сердцу любезный предел.
Все бы дары я презрел, —
Знать бы скорее:
Милость будет дана ль,
Гибель мне суждена ль?
Если буду могилою взят
Пусть винят —
Вот мой горький завет! —
Вас, моя Донна, очей моих свет!
Старость умом не славна ль?
Вы старцев мудрее.
Юный и весел и смел,
Все бы резвился и пел, —
Вы веселее!
Юность в вас не мудра ль?
Мудрость в вас не юна ль?
Блеск и славу они вам дарят,
Говорят,
Покоряя весь свет,
Как совершенен ваш юный расцвет.
Донна! Муки мне сердце томят,
Но сулят,
Что исчезнет их след:
Милость приходит на верность в ответ.
ДАЛЬФИН И ПЕРДИГОН{30}
* * *
— Пердигон! Порой бесславно
[157]Жизнь ведет свою барон,
Он и груб и неумен,
А иной виллан бесправный
Щедр, учтив, и добр, и смел,
И в науках преуспел.
Что донне можете сказать:
Кого из этих двух избрать,
Когда к любви ее влечет?
— Мой сеньор! Уже издавна
Был обычай заведен
(И вполне разумен он!):
Если донна благонравна,
С ровней связывать удел
Тот обычай повелел.
Как мужику любовь отдать?
Ведь это значит потерять
И уваженье и почет.
— Пердигон! Зачем злонравный
Благородным наречен!
Нет! Лишь в сердце заключен
Благородства признак главный,
И наследственный удел
Не заменит славных дел.
class="stanza">
Иной барон — зверям под стать.
Ужель медведя миловать?
Тут имя знатное не в счет!
— Мой сеньор! Мне так забавна
Ваша речь. Я поражен:
Ведь виллан же не рожден,
Чтобы донн ласкать, как равный!
Сколь бы он ни обнаглел,
И для наглых есть предел!
Как донну — донной величать,
Коль та с мужицкою смешать
Посмела кровь, что в ней течет?
Пердигон! Забыли явно
Вы про вежества закон, —
Вот так мудрый Пердигон!
Сердце с сердцем равноправно.
Я б на имя не глядел
И призвать бы донн посмел
Любовь достойным отдавать,
А званьями пренебрегать:
Мы все — один Адамов род!
— Мой сеньор! Вопрос исправно
Разберем со всех сторон.
Рыцарь верен испокон
Власти вежества державной,
А мужик в бароны сел,
Да глядишь — и охамел:
Кота-мурлыку сколь ни гладь,
[158]Но стоит мыши зашуршать —
И зверем стал домашний кот!
— Пердигон! Кто ж одолел
В нашем споре? Срок приспел:
Чью правоту теперь признать,
Один Файдит
[159] волён решать.
Пускай сужденье изречет!
— Мой сеньор! Я б не хотел,
Чтоб его сей спор задел —
Он сам виллан! Но должен знать:
Любви достойна только знать,
Вилланов же — мотыга ждет!
 Миниатюра из рукописного «Псалтыря». XII век
Миниатюра из рукописного «Псалтыря». XII век
 Миниатюра из рукописной хроники. XIII век
Миниатюра из рукописной хроники. XIII век
 Кюренберг. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи. XIII век
Кюренберг. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи. XIII век
 Дитмар фон Айст. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
Дитмар фон Айст. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
 Фридрих фон Хаузен. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
Фридрих фон Хаузен. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
 Генрих фон Фельдеке. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
Генрих фон Фельдеке. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи

 Рейнмар. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
Рейнмар. Миниатюра из Большой Гейдельбергской рукописи
 Буквица из «Градуалий» аббатства Сен-Мишель. XI век
Буквица из «Градуалий» аббатства Сен-Мишель. XI век
 Буквица из «Апокалипсиса», Альби. Вторая половина XI века
Буквица из «Апокалипсиса», Альби. Вторая половина XI века
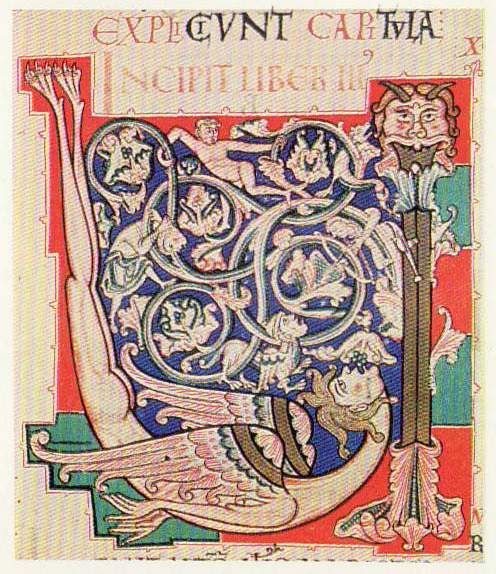 Буквица из «Толкований» Захария из Безансона. Вторая половина XII века
Буквица из «Толкований» Захария из Безансона. Вторая половина XII века
 Хозяин и слуга. Миниатюра из сборника проповедей Реймсского собора. XI век
Хозяин и слуга. Миниатюра из сборника проповедей Реймсского собора. XI век
 Учитель и школяры. Миниатюра из «Комментариев ко 2-й книге Декреталий» Антония де Бутрио. XV век
Учитель и школяры. Миниатюра из «Комментариев ко 2-й книге Декреталий» Антония де Бутрио. XV век

Последние комментарии
4 часов 31 минут назад
8 часов 47 минут назад
8 часов 57 минут назад
9 часов 2 минут назад
9 часов 22 минут назад
9 часов 31 минут назад