Настуся [Инна Митрофановна Христенко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Инна Христенко НАСТУСЯ
ПОВЕСТЬ
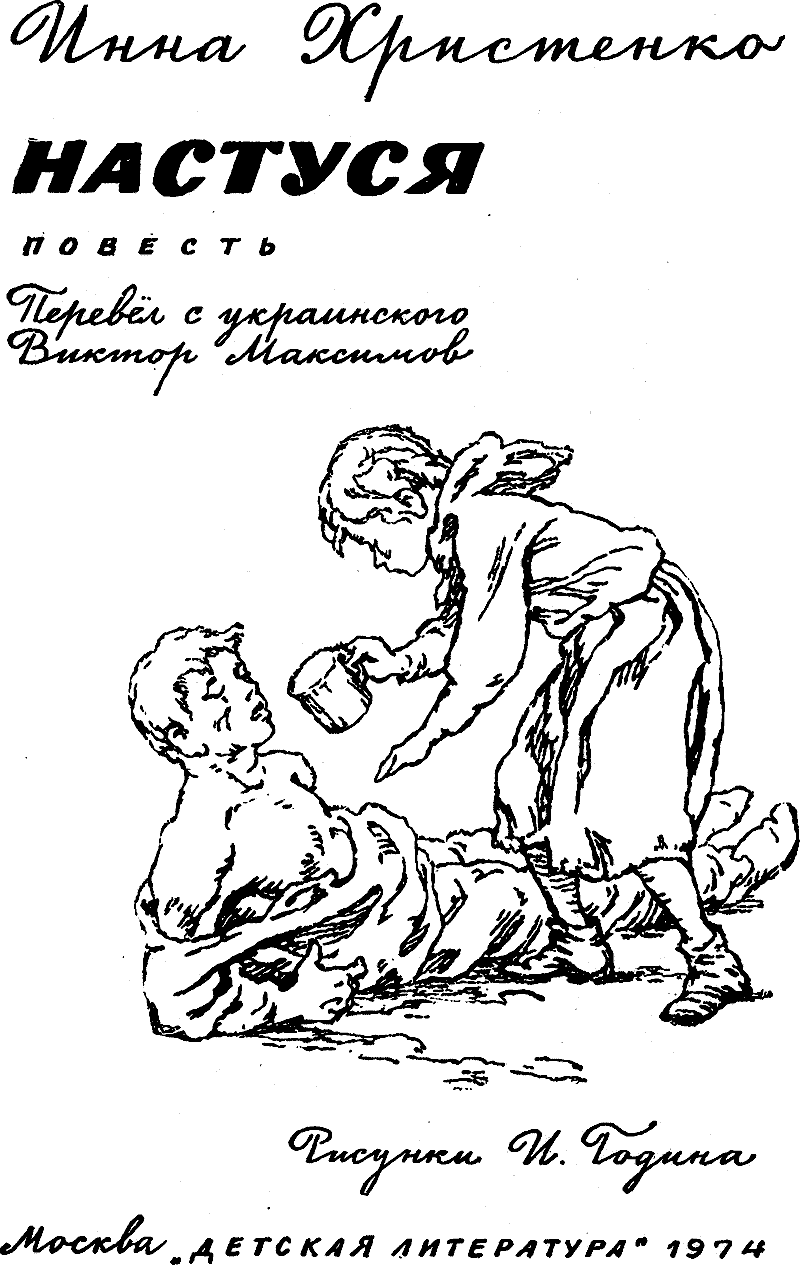
Много бед перенесла в своей жизни маленькая Настуся. Умерла мать, а вокруг война, голод, разруха. Но девочка не осталась в одиночестве, нашла в революционной борьбе и своё место. Она помогает рабочим-красногвардейцам, со своим дядей, красным командиром, путешествует по дорогам гражданской войны, вместе с подпольщиками принимает участие в борьбе против германских оккупантов и гетманцев. Прочитайте, ребята, эту книгу и напишите, понравилась ли она вам. Пишите по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.
Памяти дорогой мамы посвящаюАвтор
Часть первая

НАСТУСИН ДЕНЬ
Где-то под самым окном захлопал крыльями молоденький соседский петушок. Хрипловатым голосом он оповестил, что горячий летний день начался. Настуся проснулась и, сидя на постели, протирала кулачками глаза. Солнце, как всегда, встало раньше её. Его весёлые лучи давно уже пробрались в хату, проложили дорожку через лавку, через стол и упали прямо на мамины плечи, склонившиеся над работой. Словно желая приветствовать маму, они игриво скользнули по гладко причёсанной голове, по низке кораллового мониста на белой шее и зацепились за никелированное колесо швейной машинки. Настуся спрыгнула с постели на земляной пол и, как была, в одной сорочке, выбежала во двор. Как же хорошо! Земля под босой ногой тёплая, словно протопленная с вечера печка, воздух чистый и прозрачный, и видно вокруг далеко-далеко! Вон Монастырская гора, покрытая лесом, а вон среди ослепительных песчаных берегов извивается Ворскла, заросшая густым лозняком. А там, за Ворсклой, возвышаются строения, дымят паровозы. Это — станция Полтава-южная, а за нею депо, где работал мамин брат, дядя Осип. Высокий, весёлый, весь пропахший мазутом, появлялся он, бывало, каждый вечер в хате. Не снимая замасленного до блеска картуза, из-под которого выбивается колечко тёмно-русого чуба, дядя Осип присаживается на кончик лавки. Настуся мигом оказывается рядом, потому что знает: сейчас дядя достанет из кармана большую полосатую конфету с кучерявыми концами. От конфеты тоже попахивает мазутом, а на вкус она сладкая. Девочка вздохнула. Давно уже не приносит дядя Осип конфет. Ещё зимой забрали его жандармы. И все книжки забрали, которые он прятал у себя под матрацем. Теперь дядя сидит в тюрьме, и неизвестно, когда его выпустят. Каждый раз, как только заговорят об этом, мама печально качает головой, а тётка Марина, с которой дядя Осип даже поссорился из-за тех книжек, прямо краснеет от гнева. — Так ему и надо! Не слушал, когда его уму-разуму учили… Против власти пошёл… Теперь пускай на себя пеняет! Тётка Марина тоже иногда даёт Настусе конфеты. Они не пахнут мазутом, потому что тётка сама с дядей Кузьмой делает их для продажи. У неё даже свой ларёк на базаре, полный-полнёхонький всяких сластей. Когда мама с Настусей подходят, тётка каждый раз выбирает пряник, самый маленький и самый чёрствый, сдувает с него пыль и протягивает Настусе. — Ешь, моя сиротка! — жалобно говорит она и вытирает сухие глаза кончиком фартука. При воспоминании об этом сморщился чистый детский лобик. Почему она называет Настусю сироткой? Правда, отец Настуси убит на войне, но у неё же есть мама! Вон из хаты доносится тихое журчание её швейной машинки. Это мама быстро-быстро застрачивает узенькие складочки на полосатой ситцевой, со многими оборочками кофте. Настуся зашлёпала босыми ступнями по земле и с разгона бросилась на постеленную посреди двора рогожку. Лёжа на спине, загляделась в синее небо. Маленькими паучками ползли по щеке солнечные лучи, щекотали ноздри. Что там, в этой бездонной небесной синеве? Где бог? Ведь его всегда рисуют на облаках, а облаков нет. Ничего нет, кроме солнышка, которое всё выше и выше поднимается над землёй. Вишь, как кусается! Девочка накрыла голову краем рогожки… Ага, спряталась! Потом отбросила рогожку, на минутку уставилась глазами в нестерпимо сияющий солнечный диск и снова закрылась. Перед глазами запрыгали жёлтые пятна, потом перешли в зелёные, фиолетовые и вмиг растаяли без следа. Забавно! А ну ещё! Раз! — и открыла рогожку; раз! — и закрылась. И снова! И снова! — Ты что это, глупая, делаешь? — крикнула соседка через тын. — Ослепнешь! И скажет же такое! И почему бы она ослепла? Но Настуся всё же притихла и задумалась. Как это, быть слепой? Неужели слепые совсем ничего не видят? Как же это так?.. Неожиданно почувствовала, что хочет есть. Вспорхнула, словно испуганная пичужка, и побежала в хату. После великолепного ясного дня хата показалась хмурой клетушкой. Пузатая печь сердито ощерилась на девочку тёмным зевом. Из угла, где чернели иконы, повеяло сыростью. Настуся подошла к матери, постояла немного, глядя, как из-под машинной лапки, совсем как живая, выползает простроченная материя. — Мама, есть хочу! — проговорила наконец, дёргая мать за рукав. — Вот какая ранняя! — не приостанавливая работы, ответила та. — Ещё и не заработала! Возьми-ка да вдень нитки в иголки, ведь ты знаешь, что я не вижу… — Сейчас, мама! Настуся примостилась на лавке возле матери и взялась за знакомую работу. Вскоре добрый десяток иголок с длинными белыми хвостами уже торчал в подушечке на стене. А Настуся ещё раз, уже смелее, напомнила: — Ну, мама, так чего поесть? Но мама отмахнулась: — А ну не приставай! Видишь, некогда мне. Девочка притихла. А машинка всё стучала и стучала, и в такт ей мелко дрожали мамины склонённые плечи. Не знала Настуся, что всю ночь напролёт просидела мама над складочками и оборочками, лишь бы только своевременно сдать работу. Но вот и последний стежок сделан. Мама встала, разогнула наболевшую спину. Подойдя к полке с мисками, достала хлеб, отрезала ломоть, побрызгала пёрышком, лежавшим в мисочке с постным маслом, и посолила серой солью. — Держи-ка, — протянула Настусе. — Сбегаешь сейчас в лавку, купишь лимонной кислоты, а в мясной купишь шкварки. Она одела Настусю в чистенькое, собственноручно сшитое ситцевое платьице, расчесала светлые кудряшки гребешком и положила в ладонь несколько медных монет. Подпрыгивая, Настуся побежала со двора. Не было ничего приятнее, как исполнять мамины поручения. Это ж надо пройти через всю Колонию[1], в самый город, а по дороге столько интересного! Вот как выйдешь на Фабрикантскую улицу, так сразу увидишь зелёный забор. Это усадьба немца Лангера. В заборе есть дырочка, и если заглянуть в неё, то виден большой, красивый сад. А посреди сада стоит… чтоб вы думали? Настоящий игрушечный домик! Весь из досточек сбитый — жёлтых, зелёных, красных, — с настоящей дверью и окнами. Вот бы в нём поиграть! Семилетняя Настуся ещё отродясь не имела игрушек, кроме самодельной тряпичной куклы, завёрнутой в разноцветные ситцевые лоскутки… Ну и как же тут оторвать восхищённые завистливые глаза от чудесного домика! Вздохнув, Настуся неохотно двигалась дальше и, купив всё, что велела мама, не спеша возвращалась домой. По дороге с наслаждением сосала кусочек лимонной кислоты. Набила оскомину и казалось, что во рту барбариска. А дома Настусю ждала уже горячая картошка с постным маслом. Это было, как всегда, неожиданно вкусно. Не успела ещё мама и к столу присесть, как не стало картошки в глиняной миске. Мама подложила ещё, но Настусю как ветром сдуло. Торопливо, облизав обсыпанные солью пальцы, она выбежала на улицу. Там слышался визг соседской Варьки, звенел чей-то неудержимый смех и предвиделось столько развлечений! Можно поиграть в чурки, можно лепить хатки в песке. А то вдруг кто-то крикнет: «Побежали на Крутую гору!» И стаи детишек как не бывало. С криком и свистом помчались по улице вниз, пронеслись через луга и очутились возле маленькой речушки Тарапуньки. Ой, сколько тут лопухов, высоких, как лес, и широких, словно зонтики! В лопуховых зарослях, будто в дебрях невиданного дремучего леса, разбрелись дети. И вот уже закипела жаркая работа. Нарвали целые ворохи травы, намостили ложе, столы, застелили их самыми большими лопухами. Ну и хоромы получились, прямо царские! Не заметили, как и солнце село за Крутой горой. Пора домой. Вылезла детвора из лопухов и пошла дорогой мимо густого шелковистого проса. — Айда в просе купаться! — встрепенулась Варька. — Купаться, купаться!.. Дети стремглав шмыгнули в просо — и ну прыгать среди мягкого зелёного моря, нырять в шелковистые волны. Но вдруг с дороги, словно гром, прогремело: — Ах вы сорванцы! Просо толочь?! Да я вам!.. Как воробьи от ястреба, бросились врассыпную от этого неожиданного голоса. Бежали, спотыкаясь в темноте, падали, сбивали колени. Шустрая, быстроногая Настуся одной из первых очутилась на своей улице. Сзади что-то топало, но она, не оглядываясь, проскользнула прямо во двор и, запыхавшаяся, потная, вскочила в хату. При тусклом свете керосиновой лампы не сразу рассмотрела маму, сидевшую на лавке. Однако уже с порога детским сердцем почувствовала: что-то неладно. Виновато склонив голову, девочка медленно приблизилась. Была готова принять на себя все укоры, лишь бы только в склонённой фигуре матери не чувствовалось столько печали. Но мама и не укоряла. Это было хуже всего. Настуся постояла немного и заглянула к ней через плечо. Что это у мамы в руках? И сразу узнала: это была снятая со стены фотография в чёрной рамке. Не отводя глаз, смотрела мама на усатого солдата в мундире с погонами и двуглавым царским орлом на пряжке широкого пояса. Настуся знала: это её отец. Она была совсем маленькой, когда его взяли в солдаты. Прошлый год они с мамой ждали отца домой, но тут началась война. Царь послал его на войну, и теперь папа не вернётся домой никогда. Никогда! Перед девочкой неожиданно раскрылась вся глубина молчаливого маминого горя. Забыв о своей вине, в порыве горячего сочувствия Настуся крепко прижалась к матери. Мама тихо всхлипнула, обняла дочку, своё единственное утешение, и посадила на колени. Потом стала потихоньку, печально качать: вперёд-назад, вперёд-назад… Припав к маминому плечу, Настуся закрыла глаза и вскоре крепко уснула…НЕОЖИДАННОЕ ГОРЕ
Настусе шёл девятый год, когда внезапно заболела мама. Рано утром девочка проснулась от шума, наполнявшего хату. Откуда тут столько людей? Вот бабка Шевчиха, у которой они снимают квартиру, а вон тётка Дунька, которая живёт напротив. И почему это все окружили лавку? Настуся переводила с одной соседки на другую круглые испуганные глаза и ничего не понимала. Вдруг от лавки донёсся чей-то болезненный стон. Потом ещё… — Мама! — вскрикнула Настуся, вся похолодевшая от ужаса, и сорвалась с постели. — Чего ты, глупая? — сказала тётка Дунька. — Она тут. — И подвела Настусю к лавке. Мама лежала боком, неловко подвернув под себя руку и откинув голову. Глаза были закрыты, на белой шее слегка шевелилась низка красного мониста. Настуся сразу будто приросла к земляному полу. Стояла, не помня себя от страха, не в силах оторвать неподвижного взгляда от мониста на маминой шее. Но вот послышался топот, возгласы, застучала дверь в сенях. Маму вынесли из хаты, положили на подводу и повезли через весь город в больницу. С того времени Настуся осталась одна. Никому нет до неё дела, разве только соседка принесёт иногда немножко кулеша в чёрном от сажи, глиняном горшке. С самого утра Настуся бегает на заросших бурьяном пустырях, грызёт молочай и щавель, лазит по деревьям за маслинами. Однако чем ближе к полудню, голод всё сильнее даёт себя знать. Один за другим разбегаются по домам все товарищи. Настуся с грустью смотрит им вслед. Наконец и сама снимается с места и отправляется в больницу — проведать маму. До больницы не близко. Надо сначала крутыми переулками подняться на Колонийскую улицу, мимо бурсы и семинарии пройти на Архиерейскую. Это уже настоящая городская улица, мощёная, с узкими деревянными тротуарами. По обе стороны её, как и везде в Полтаве, растут стройные тополя и тянутся заросшие травой канавы. Свернув на Остроградскую, можно выйти к круглому, как блюдце, Корпусному саду, окружённому каменным кольцом высоких домов с колоннами. Тут проходит Александровская, широкая, многолюдная улица с богатыми магазинами. Сколько всяких вкусных вещей там продаётся! Пирожки, печенье, пряники, конфеты! Особенно привлекает Настусю пекарня, пол-окна которой занимает румяный крендель. Ну и здоровенный! За неделю не съешь! Вот так, любуясь кренделем, почувствовала однажды на себе Настуся внимательный взгляд. Оглянулась — перед нею незнакомый дедушка в белой шляпе, с густой широкой бородой. Вынул из кармана серебряную монетку и говорит: — Возьми, девочка. Отшатнулась Настуся. — Я не нищая! — сказала гордо, вся покраснев со стыда. — Ничего, возьми, — повторил дедушка. — Бубличков себе купишь. Лицо у него серьёзное, без улыбки, а взгляд такой понимающий, такой ласковый! Осмелилась Настуся, взяла монетку, зажала в кулачок и опрометью бросилась бежать… Долго бродит по Полтаве Настуся. Равнодушно обходят люди маленькую девочку в грязных лохмотьях, с блестящими, голодными глазами на бледном, прозрачном личике, с давно не чёсанными белокурыми кудрями. Вот высокая, тонкая барыня в длинной юбке, в громадной шляпе, украшенной целым букетом искусственных цветов, мелко-мелко стучит каблучками по тротуару. На руках у неё до самых локтей чёрные прозрачные перчатки без пальцев. Прижимая к груди маленькую лохматую собачку, барыня проходит мимо Настуси, брезгливо подобрав длинный подол. «У, буржуйка! — с ненавистью думает Настуся. — Ну подожди! Дядя Осип говорил, что недолго буржуям пановать!» Хороший дядя Осип! Если бы он был здесь, то всё было бы иначе. Но он где-то на каторге, в Сибири, и не знает, что Настуся уже третью неделю живёт одна, а тётка Марина и думать о ней забыла. Настуся незаметно сворачивает на Гоголевскую. Она любит эту тихую улицу с вымощенным каменными плитками тротуаром. Так интересно прыгать с плитки на плитку, не касаясь чёрточек, что пролегли между ними… Настуся сосредоточенно, равномерно переступает босыми ногами, стараясь попасть в самую середину каменного квадрата. Увлечённая игрой, девочка на некоторое время забывает обо всём: и о больной матери, и о том, что страшно хочется есть. Тем временем над городом постепенно разливается густая июньская жара. Неохотно двигаются люди и кони, даже мухи лениво кружатся над ящиком с гнилыми фруктами, выставленным из магазина прямо на улицу. В том ящике — Настуся это хорошо знает — есть чем поживиться не только мухам. И она, наклонившись, начинает быстро выбирать из него полугнилые, перезревшие вишни. Одну за другой девчонка жадно хватает губами ягоды, едва успевая выплёвывать косточки на землю. Подбородок и руки покраснели от вишнёвого сока. Вытершись подолом юбчонки, Настуся идёт дальше. Вот и больница. На весь квартал тянется невысокий, побелённый мелом забор. За ним среди старых, ветвистых тополей виднеются потемневшие от времени каменные корпуса. Миновав полуоткрытые железные ворота, девочка пересекает двор, уверенно поворачивает вправо, влево и оказывается перед хорошо знакомой дверью. Который раз поднимается она по этой лестнице. И санитарки и сёстры уже знают Настусю и свободно пропускают в палату. Настуся проходит между рядами кроватей в самый уголок, к окну. Мама лежит на высоко взбитых подушках, такая непохожая на себя, с глубоко запавшими глазами, с бессильно вытянутыми поверх грубого одеяла худыми руками. Увидев Настусю, она с большим усилием поднимается на постели и, опершись на локоть, вытаскивает из-под подушки завёрнутую в тряпочку котлету. Каждый раз мама оставляет для Настуси часть убогого казённого обеда. И каждый раз, кормя Настусю, рукавом казённой сорочки вытирает слёзы. — Что с тобой будет, доченька моя, когда я умру? — тоскливо шепчет она дрожащими белыми губами. Иногда этот шёпот долетает до Настуси, и тогда что-то словно рукой сжимает ей горло. Насилу проглотив последний недожёванный кусочек, она порывисто прижимается к маме. — Не умирайте, мама, не умирайте! — в отчаянии выкрикивает она, припадая мокрым от слёз лицом к грубому одеялу. — Ну-ка, не плачь, — слышит Настуся над собой тихий голос старой палатной няни. — Даст бог, выздоровеет мама… Господь милосердный: смилуется над тобой. Сказанные мимоходом ласковые слова глубоко западают Настусе в душу. А правда! Она не раз слышала, что бог добрый и всё может… Разве ему трудно спасти маму?.. Всю дорогу домой Настуся неотступно, пылко думает про бога и впервые в жизни молится ему искренними детскими словами: «Боже, сделай так, чтобы мама не умерла! Ты же всё видишь! Ты же знаешь, как мне плохо без мамы! Сделай, чтобы мама выздоровела!..» Но бог почему-то не торопился исполнять просьбу Настуси. Маме становилось всё хуже. Наступил день, когда она уже не смогла подняться навстречу Настусе. С большим трудом приподняв тяжёлые, непослушные веки, она едва слышно попросила: — Льда, дай… льда… Настуся присела на краешек стула возле тарелки со льдом и стала послушно подавать матери прозрачные, острые льдинки. Кусочек за кусочком, кусочек за кусочком, пока на тарелке не осталось ничего… А на следующий день палата встретила девочку необычной тишиной. Мама лежала неподвижная, прямая, накрытая с головой белой простынёй. «Наверное, спит», — подумала Настуся, пытаясь заглушить в себе неясную тревогу. Подошла и нерешительно остановилась возле постели. Женщины на соседних кроватях поднялись и сочувственно закачали головами. — А ты открой, посмотри! — послышался чей-то голос. Настуся постояла немного, потом всё-таки отважилась. Боязливо приоткрыла простыню, заглянула маме в лицо… Какое оно холодное, чужое, странно равнодушное. Нестерпимой болью сжалось сердце Настуси. Не смогла она перенести этого равнодушия в родных, таких знакомых маминых чертах! Нет, нет! Мама должна сейчас же, немедленно открыть глаза, заговорить, улыбнуться своей Настусе!.. — Мама, мамочка! — растерянно крикнула девочка, изо всей силы дёргая её за плечи. Но мама молчала. Только голова её склонилась набок. И тогда, наконец, Настуся поняла всё. Случилось страшное, безвозвратное, непоправимое… Мама умерла. Не спас бог, не смиловался над маленькой Настусей. Как же это?.. Ведь он милостивый, всемогущий! Зачем же он так покарал Настусю?.. Что же это за бог такой, что невиновных карает?.. Засуетились, забились мысли, как пойманные в густые сети беспомощные маленькие рыбки. Ничего не смогла придумать Настуся, не нашла выхода и в безмолвном отчаянии прильнула к неподвижному маминому телу…БЕЗ МАТЕРИ
После смерти мамы осталась Настуся, как сорванный с дерева листочек. Какие-то люди отнесли маму на кладбище, забили гроб большими гвоздями и опустили на полотенцах в глубокую могилу. Потом засыпали яму свежевыкопанной жёлтой глиной и разошлись. Наплакавшись вдоволь и набродившись по кладбищу меж поросших выгоревшей травой старых могильных холмиков, прибрела Настуся домой. За стеной, на хозяйской половине, слышались весёлые голоса, пьяное пение. Это поминали Настусину маму, «новопреставленную рабу божию Анну». Про Настусю все забыли, и она так и просидела, притаившись, словно мышка, в своей пустой, печальной хате до самого вечера. А вечером пришла тётка Марина, забрала мамины вещи и, сердито бормоча что-то про «напасть на свою голову», повела Настусю к себе. Тётка жила на Колонийской, в небольшом, побелённом мелом домике из двух комнат. В одной жили тётка с дядей, другая называлась мастерской. Это было просторное помещение с широкой, низкой печью и длинным столом вдоль стены. На том столе, покрытом мраморной доской, дядя Кузьма катал горячую прозрачную стеклянную массу растопленного сахара, из которой делали карамель. Тут же, в мастерской, и спала Настенька на каких-то мешках. Очень рано, ещё до света, девочку сгоняли с мешков, и в мастерской начиналась работа. Настусе она была не под силу, и тётка Марина, проходя мимо с засученными по локти рукавами, сердито кричала: — А ну прочь отсюда, не путайся под ногами! Настуся торопливо отступала с дороги, так как видела, что тётка злым духом на неё дышит. Кусок хлеба за обедом не даёт, а тычет в руки и сироткой, как когда-то, не называет. — Вот лентяйка! Вот ещё голь перекатная! — только и слышит Настуся. Разве лишь дядя Кузьма, всегда пьяненький и добрый, погладит иногда Настусю по голове. — Не печалься, доченька! — скажет. — Бог даст, и тебе доля улыбнётся. Но Настуся больше не надеется на бога. Он не захотел спасти маму, не помог Настусе, и она теперь никогда не будет ему молиться. Вечером тётка поставит её на колени перед образами, Настуся только голову наклонит и молчит. Тётка сначала ругалась, за уши дёргала, а потом и рукой махнула. — Не ребёнок, а выродок какой-то! — жаловалась она соседям. — В Осипа, в каторжника того, наверное, пошла. Он, бывало, и лба никогда не перекрестит! Зато уж тётка была богомольной. Весь угол в её хате так и сиял образами, и перед ними день и ночь горела лампада. Тётка носила на шее чудотворную иконку и знала на память уйму молитв. А впрочем, в церковь ходила редко: некогда было за работой. Кто же за неё торговать будет, пока она там в церкви будет стоять? Каждый базарный день тётка складывала собственноручно пересчитанный товар в большие кошёлки. Потом запирала хату и, величественно шурша широкой, пышной юбкой, шла с дядей Кузьмой на базар. Настусю она не брала с собой, чтобы та не съела одну-другую конфетку, ведь это же всё деньги. Девочка оставалась одна возле хаты, а потом незаметно оказывалась за воротами. Идёт Настуся, и всё ей кажется: вот за этим углом встретит маму. И знает, что это невозможно, а как увидит женщину в синей юбке в белый горошек, так и бросается к ней, заглядывает в лицо. Может, мама? Но нет, перед ней чужие, незнакомые, морщинистые щёки. Сердце обрывается у Настуси в груди. Отходит, пригорюнившись, а через минутку снова шарит глазами между людьми — не виднеется ли синяя в горошек юбка?.. Город стал уже не таким, как раньше. По тротуарам не гуляли разодетые баре. Магазины светили почему-то пустыми витринами. Зато возле дверей пекарен толпились люди, мелькали белые платки и юбки — синие, коричневые, черные. У Настуси, наконец, глаза разбегались, и она, опустив голову, брела назад, на Колонию. Направлялась на свою улицу — к бывшим товарищам, к Варьке. Тут, среди знакомых лиц, девочка не чувствовала себя одинокой. Настуся смотрела, как детвора кувыркается в кучах опавших листьев, и её бледное, безбровое личико понемногу оживало, а тонкие, плотно сжатые губы раскрывались в улыбке. Тем временем Варька, которая, как всегда, верховодила во всех затеях, кричала: — Люба! Настя! Давайте костёр разжигать! И вот уже трещит, извивается сухой лист в жёлтых колечках пламени, а в горячем пепле печётся вкусная тарань. А когда на город наползали тучи и серая осенняя мгла оседала мелкими каплями на холодной траве, девочки забирались к Варьке на чердак. Там, прижавшись к тёплой трубе, они играли в камушки, до тех пор пока Варькина мать не позовёт из сеней, чтоб шли обедать. Тогда дети клубочком скатывались с чердака. Настуся старалась прошмыгнуть через сени во двор, но Варька силой затягивала её в хату. Настуся упиралась, ухватившись за дверь. Запах горячей пищи манил её к себе, но скромность и стыд удерживали на месте. — Спасибо, тётя, я не хочу, — с достоинством отвечала на приглашение Варькиной матери. — Садись и ешь, а благодарить потом будешь, — говорила Варькина мать. — Сама без матери выросла… В конце концов Настуся оказывалась рядом с Варькой, и они наперегонки вытаскивали из миски большие серые галушки. Домой, к тётке, Настуся возвращалась неохотно. Согласна была бы до вечера мокнуть где-нибудь под дождём, лишь бы только не показываться ей на глаза. Ведь заранее знала, что тётка сразу будто мокрым рядном накроет: — И где тебя носило до такой поры? Всё б тебе гонять, чёртова дочка! Пора бы уже и за работу браться!.. И тётка нашла-таки Настусе работу — заворачивать конфеты. Теперь, уходя на базар, она запирала девочку в мастерской, возле кучи взвешенных карамелек и целой горы бумажек для обёртки. Не разгибаясь сидела Настуся за столом и шуршала, без конца шуршала цветными бумажками. И казалось, мамин ласковый голос, шутки дяди Осипа, весёлые игры с Варькой — всего этого не было, а лишь приснилось Настусе. Однако Варька, видимо, существовала всё-таки и на самом деле. Как-то в конце зимы Настуся, оглянувшись на стук в окно, узнала её приплюснутый к стеклу курносый нос и круглые веснушчатые щёки. — Почему это ты не приходишь? — донеслось со двора. — Тётка не пускает, — прижалась и сама к стеклу Настуся. — Заставляет конфеты завёртывать. — Да брось их, пойдём лучше со мной! — Как же я пойду, если меня заперли? — А ты в окно вылезь. — Ну да, тётка бить будет… — Да она и знать не будет, — затарахтела Варька. — Мы недолго! Пока тётка с базара придёт, ты уже дома будешь! Вылезай, не бойся! Да, Варьке хорошо говорить! Вот если бы она не у матери жила, а у тётки, так и она побоялась бы… А впрочем, Варька такая боевая, что, может, и не побоялась бы. Ну и правда, что тут такого? Прогуляется Настуся, да и назад. И она наконец отважилась. Натянула на плечи мамину ватную кофту, покрылась платком и вылезла во двор. — Быстрей! — подгоняла Варька, нетерпеливо топоча ногами в стоптанных ботинках. Обе побежали к воротам. — Ты куда? — спросила Настуся. — К Ульяне, ребёнка нянчить, — на ходу отозвалась Варька. — Я теперь у сестры и днюю и ночую… Айда со мной на Сенную! Там такое! Людей полно, и все с красными ленточками, и все радуются, радуются… Ей-богу, правда! Ведь царя скинули! — Что ты врёшь! — выкрикнула Настуся, трусцой догоняя подругу. — Вот крест, если не веришь! — загорячилась та. — Нет уже царя — свобода! Отец говорил: теперь всем буржуям конец! — Я знаю! — подхватила Настуся. — Дядя Осип тоже так говорил! Он об этом в книжках вычитал! Всё, бывало, за книжкой сидит. И меня читать учил… — И ты умеешь? — заинтересовалась Варька. — А ну, что там на вывеске написано? Разберёшь? — «Бака-лей-ная тор-гов-ля Ровин-ска-го», — по складам прочитала Настуся. — Вот! — Молодец! — подхватила Варька. — Я тоже скоро научусь. Меня, отец сказал, в школу отдадут. На Сенной площади и вправду столько народу собралось, что негде и яблоку упасть. Особенно много было солдат. Они не маршировали, не кричали «ура», а, окружив сплошной серой массой невысокого человека в фетровой шляпе, внимательно его слушали. Девочки прошмыгнули между домами и взобрались на чьё-то крыльцо. Отсюда хорошо было видно всю фигуру оратора с густой широкой бородой. «О, да это же тот самый барин, которого я летом встречала! — подумала Настуся. — Он ещё мне монетку дал». И она толкнула подружку локтем: — Варька, я этого пана знаю! — Его все знают, — отозвалась сбоку старушка в чёрной одежде. — Ведь это же писатель Короленко! Настуся искоса взглянула на старушку и ничего не сказала. Она не знала, что такое «писатель». Но, наверное, это какой-то очень хороший человек, если он так ласково отнёсся к ней, маленькой босоногой девочке. И если он тут теперь вот обращается к солдатам, а те его слушают, то, видимо, правду говорит Варька, что скинули царя. Царь бы не разрешил солдатам слушать писателя Короленко, он погнал бы их на войну, чтобы их там убили, как и Настусиного папу. А писателя Короленко он посадил бы в тюрьму, как дядю Осипа… Ну как же всё-таки здорово, что скинули наконец того злого царя! Настуся по дороге домой даже подпрыгивала от радости, совсем забыв о том, что тётка уже, наверное, дома и ужас как злится на неё. Стремглав вскочила Настуся в хату поделиться новостью, но тётка грозно двинулась ей навстречу. — Ты где была? — заорала она. — Ты как посмела в окно вылазить?.. — Тётенька, я на Сенную ходила!.. Царя скинули! — одним духом выпалила Настуся. Но лицо тётки нисколько не подобрело от этой новости. — «Скинули, скинули»! — ещё больше обозлилась тётка. — Не твоего ума дело! Без тебя умных хватает! Весь мир перевернули! Иди и кончай мне работу! И с этими словами мир, который и вправду перевернулся сегодня для Настуси, снова встал на своё место. Молча вошла она в мастерскую и тихо прикрыла за собой дверь.ДЯДЯ ОСИП
Лето подкралось незаметно. Кажется, совсем недавно только первые почки на сирени показались, а вон уже и белая акация цветёт. Её лёгкий, приятный, ароматный запах так и витает над Колонией. Настуся поднимает голову. Нарвать бы полные руки душистых белых гроздей, а потом сесть где-нибудь на травке вдвоём с Варькой и высасывать из них сладкий сок… Интересно, дома ли Варька? Они давно не виделись, потому что Варька и до сих пор ребёнка нянчит у сестры. Но сегодня воскресенье, она, наверное, придёт домой. Настуся потихонечку пошла к калитке. Ради праздника она приоделась, заплела непослушные кудри в две тоненькие косички и надела старые ботинки. Они, правда, уже каши просят, но ничего. Всё-таки не то, что совсем босиком. За воротами на лавочке сидела тётка Марина, грея на солнце больную поясницу, и грызла семечки. Девочка только хотела открыть рот, чтоб отпроситься к Варьке, как, откуда ни возьмись, бабка Шевчиха, у которой когда-то жила Настуся с мамой. — Здравствуйте, с воскресеньем будьте здоровы, — сказала она, останавливаясь возле тётки Марины. — Дай вам бог счастья и здоровья! — Спасибо, и вам тоже, — ответила тётка. — Садитесь! — Сяду, а то уморилась, из церкви иду. А это кто ж, не Анны покойной дочка? — кивнула Шевчиха на Настусю. — Она, — ответила тётка. — Так это она у вас и живёт? — А куда же её денешь? — вздохнула тётка. Бабка Шевчиха сочувственно покачала головой. — Теперь такое время, что не всякий будет кормить лишний рот, — заговорила она. — На базаре всё дорого, цены такие, что где тех денег набрать!.. — И не говорите! — подхватила тётка. — Едва концы с концами сводим. Вся выручка на сахар уходит… А жить чем? Не торговля, а одни убытки!.. — Наказал нас господь за грехи наши… — тоже вздохнула бабка Шевчиха. — Видно, скоро уже конец света. Такое делается, что ничего не разберёшь. Ни тебе покоя, ни порядка… Каждый сам себе власть. Уж на что мой сосед, Мовчан, и тот помешался на старости лет: с ружьём ходит! «Ага, — подумала Настуся, — значит, Варька не соврала, её отец-таки и вправду в рабочей милиции». — А чтоб им добра не было, баламутам проклятым! — даже сплюнула тётка. — Царя скинули, и ещё им мало! — Да и ваш же Осип с Мовчаном заодно, — продолжала своё бабка Шевчиха. — Какой Осип? — удивилась тётка. — Да братик же ваш. Неужели не слышали? Третий день, как объявился. У Мовчана и живёт… Разве не знаете? Настуся вся подалась вперёд. Дядя Осип?! — Свят, свят, господь с вами… — сказала тётка. — Откуда бы ему взяться? Да его в Сибирь загнали! — Вернулся. Теперь всех, кого за царя взяли, отпустили… Так он и не зашёл к сестре родной? — Да бог с ним, бог с ним! — замахала руками тётка Марина. — Я его, непутёвого, и видеть не хочу… Настуся вскинула глаза на тётку. Вот она какая, не хочет дядю Осипа видеть… А Настуся на крыльях полетела бы! И она, не выдержав, сорвалась с места: — Я к Варьке, тётя! Я недолго!.. Вбежав в мовчановский двор, Настуся заметила Варькину маму. — Здравствуйте! — подскочила к ней. — Варька дома? — Нету. Она вечером придёт. — А… дядя Осип у вас? — У нас… — усмехнулась Варькина мать. — Заходи в хату, он там… Настуся прошмыгнула в сени, приоткрыла дверь и тихонько встала на пороге. Она сразу увидела за столом Варькиного отца, а рядом с ним — немолодого, хмурого железнодорожника со шрамом через всю щёку. А где же дядя Осип? Вместо худощавого паренька с весёлыми карими глазами на лавочке сидел солидный, широкоплечий человек в пиджаке. Девочка растерянно водила глазами по хате, а хмурый железнодорожник тем временем говорил: — …Сделано пока что очень мало. Полтавский Совет слабоват: в него всякие чиновники влезли, о рабочих он мало беспокоится… — Плохо, плохо… — укоряюще молвил широкоплечий человек. — Что же это такое? В Полтаве десять тысяч рабочих, а их голоса не слышно в Совете? — Не забывай, Осип, что у нас нет больших заводов, — вмешался отец Варьки. — На мелких предприятиях темнота, забитость. Что с такими можно сделать? — Ну, а вы, железнодорожники? Ведь вы — сила! — возразил тот, кого назвали Осипом, и, поднявшись с лавки, прошёлся по хате. Его взгляд упал на дверь и остановился на маленькой девочке с острыми худыми плечами, светлыми кудрями, заплетёнными в тонкие косички. — Настуся! — воскликнул он, и девочка, сама не помня как, оказалась в объятиях дяди. — Ах ты ж моя голубка! — говорил дядя Осип, садясь на лавку. Он поставил перед собой Настусю: — Гляди, выросла какая, и не узнать! — И я вас, дядя, не узнала, — отозвалась Настуся. — Вы совсем не таким стали… — Не таким? — засмеялся дядя Осип. — А каким же? Старый очень или что? — Да нет, — смутилась Настуся, — только немного седой… И на лбу морщины… И Настуся несмело прикоснулась пальцами ко лбу дяди. — Ну, как тебе живётся у тётки? — расспрашивал дядя Осип. Настенька потупилась, водя по полу носком рваного ботинка. Дядя Осип взглянул на неё и насупил брови. — Тётка всё попрекает, что я даром хлеб ем, — вымолвила наконец Настуся. — А я всё делаю, что она велит… Ещё и конфеты оборачиваю… — Так-так… — задумчиво сказал дядя Осип. — Ну ничего, Настуся!.. Мы что-нибудь придумаем… — И, обняв Настусю одной рукой за плечи, повернулся к товарищам: — А за Полтавский Совет нам надо бороться! Надо стать в нём хозяином. Это же наша власть, рабочая! Вот, — он вытащил из кармана газету и расправил на колене, — читали? — Давайте я прочитаю, дяденька! — подхватилась Настуся. Наклонилась и, водя по заголовку пальцем, медленно разобрала: — «Долой ми-ни-стров ка-пи-та-ли-стов! Вся власть Советам!» — Ну вот! Настуся сразу увидела главное! — засмеялся дядя Осип. — Это и есть наш лозунг в борьбе против Керенского. Посадив Настусю на колени, дядя Осип продолжал дальше, а она слушала, не пропуская ни единого слова, хотя и не всё понимала. Что Керенский теперь вместо скинутого царя, об этом она уже знала. Но выходит, Керенский тоже за буржуев? Как же так? Ну, если дядя Осип говорит, то, значит, так и есть. Ведь он знает! Настуся смотрела на дядю очарованными глазами. Настуся готова была слушать его всю ночь. Но надо идти домой. — Ну, ты ж гляди, прибегай, — сказал на прощанье дядя Осип. — Я тут пока ещё побуду, если не выгонят! — И он улыбнулся Варькиной матери. Если бы не тётка, так Настуся хоть каждый день прибегала бы. Но тётке про дядю Осипа лучше и не напоминай. Ни за что не пустит! Лучше уж как-нибудь дотерпеть до воскресенья. А в воскресенье обязательно придёт Варька и позовёт Настусю на улицу. И Варька не подвела. Позвала Настусю, и обе побежали к ним, Дядю Осипа девочки застали во дворе. Он сидел на колоде возле сарая и чистил винтовку. Услышав топот босых детских ног, он поднял голову и вытер ладони паклей. — А ну, босоногая команда, давай обуваться! — И с этими словами дядя Осип достал из-за спины прехорошие, жёлтые, почти новые ботинки. — Это… кому? — боязливо спросила Настуся. — А кому подойдут! — весело подмигнул дядя Осип. — Ну-ка примерь, налезут ли? Настуся мигом всунула ноги в ботинки. В самый раз! Потопала ими, повернулась туда-сюда и, взглянув на дядю, порозовела от радости. — Ну вот, — сказал он, — и носи на здоровье! Весь день Настуся ходила, сияя от счастья. Она украдкой всё посматривала на свои ноги, любовалась ботинками. А они и вправду были хорошенькими. На что уж тётка Марина, и та подобрела, как их увидела. — Так бы и давно! — сказала она. — Не всё ж мне из шкуры лезть, пора и дядьке позаботиться о племяннице. Теперь тётка уже не запрещала Настусе бегать к Мовчанам, а даже приговаривала: — Ты скажи дядьке, пускай тебе какую-нибудь одёжку справит. Зима не за горами, а у меня какие достатки! Вот ещё! И чего бы это Настуся морочила дяде голову! У него и так хлопот хватает. Всё он на заседаниях да на собраниях, а как домой придёт, то и тут его люди ждут. И что ни скажет — слушают. Как-то вечером, после сильного ливня, Настуся с Варькой, вдоволь набродившись по лужам, вошли в хату. Там было, как обычно, накурено, шумно. Говорили о каком-то Штёпе, который не явился на заседание комитета, так как выкачивал воду из затопленных дождём бедняцких подвалов. — Позор! — донёсся из табачной тучи чей-то молодой сердитый голос. — Вместо того чтобы партийными делами заниматься, он подушки из подвалов вытаскивает. Выговор ему объявить, и всё! И тут поднялся дядя Осип, который сидел сбоку на лавке. — Глупости! — резко проговорил он, и все сразу замолчали. — Глупости ты мелешь, парень! По-твоему, выходит, что партия — сама по себе, а народ — сам по себе?.. Что же это за партиец такой, который на заседании будет сидеть, когда людей заливает водой?! — И, пройдясь, по своему обыкновению, по хате, добавил уже спокойно: — Сейчас, как никогда, нам надо быть с народом. Надвигаются серьёзные события… Что за события, Настуся так и не узнала. Ей всё не везло: не могла застать дядю Осипа одного. А вскоре он и совсем перестал бывать у Мовчанов. Да и Варькин отец теперь редко ночевал дома. — Ну, что ты себе думаешь? — корила его Варькина мать, когда он с винтовкой за плечами забегал домой отдохнуть после дежурства и захватить продуктов. — Ведь дома есть нечего, скоро с голода опухнем! — Не печалься, жена, вот деньги! — говорил Мовчан, доставая из кармана пачку «керенок». — Оставь их себе! — сердилась Варькина мать, но деньги брала и прятала в ящик стола, бормоча: — Навыпускали этих бумажек, как мусора, а что на них купишь?.. Невесело стало в Варькиной хате. Но и дома было не лучше. Тётка Марина каждый день жаловалась на дороговизну и, подавая Настусе миску с борщом, упрекала: — И до каких пор ты будешь сидеть на моей шее? Иди служить! Не раз уже слышала Настуся это колючее, жестокое, неумолимое слово, и всегда оно пугало девочку каким-то таинственным, суровым смыслом. Что это значит — служить? И сумеет ли Настуся? И вот настал день, когда она должна была это узнать.В НАЙМАХ
Тётка Марина уже давно поглядывала на племянницу недобрыми глазами. Какая от девочки польза? Конфет теперь изготовляли мало, а в хате — что за работа?.. Только даром хлеб ест, а его негде взять. Приходится тётке от своего рта отрывать. Ещё пока Осип жил у Мовчана, то она не отваживалась так просто сбыть Настусю с рук, а когда он перестал появляться на Колонии, тётка окончательно решила отдать девочку внаймы. И вот однажды утром тётка Марина надела новую, обшитую плисом[2] юбку, покрылась чёрным кружевным шарфом, а Настусе велела заплести косу и надеть жёлтые ботинки. Потом взяла девочку за руку и повела в город, на Александровскую. Там было людно. Все прохожие группами и поодиночке двигались в сторону Корпусного сада. Некоторые были в замасленной рабочей одежде, кое-кто в синих косоворотках, много было женщин в газовых шарфах, панов. — Куда это они идут? — спросила Настуся тётку. — А бог их знает, — ответила та. — Пойдём быстрее, нечего ворон ловить! И тётка свернула к кадетскому корпусу[3] — огромному дому, который занимал целый квартал и выходил к Корпусному саду. С Александровской улицы был вход в квартиры, где жили преподаватели и начальство. Настуся уже знала, что её нанимают к генералу Павленко. Это громкое имя невольно пронимало её страхом. Робко поднялась она за тёткой чёрным ходом на второй этаж. И вот уже Настуся понуро стоит в просторной барской кухне, а перед ней генеральша — высокая, белая, пухлая, вся в тонких кружевах. На голове пышно взбиты рыжеватые волосы, заколотые большим гребнем. Протягивает генеральша Настусе руку, а та не понимает — для чего? — Целуй, — толкает Настусю тётка, и девочка с разгона больно ткнулась носом в твёрдые, блестящие кольца на выхоленных генеральшиных пальцах. Какое-то мгновение генеральша молча рассматривала Настусю. Боже, какая маленькая, худая, руки тоненькие, так и светятся! Прямо скелет! Только и живого, что быстрые глаза на бледном, безбровом личике. — Кого же это ты мне привела? — раздражённо повернулась генеральша к тётке. — Девочке, наверное, ещё и восьми лет нет… — Да она сроду такая мелкая, — ответила, кланяясь, тётка. — Ей уже скоро десять, барыня, ей-богу! Вот чтобы мне с этого места не сойти! — Ну, это я уж не знаю, — поморщилась генеральша, — а только вижу, что толку от неё мало. — Да возьмите её хоть за одни харчи, — ещё ниже поклонилась тётка, — она девочка послушная, будет делать всё, что прикажете… Генеральша помолчала, немного раздумывая. — Будешь нянчить барышню, — сказала наконец, строго глядя на Настусю, и вдруг добавила: — А она, случайно, не вороватая? — Что вы, барыня, Христос с вами! — всплеснула руками тётка. — Я же вам не кого-нибудь привела, а свою племянницу! Сироту бедную… Будьте ей вместо матери родной!.. — Ну хорошо, хорошо… — перебила генеральша. — Даша! — позвала она кого-то, нетерпеливо хмуря брови. Настуся исподлобья смотрела на барыню. Ох и сердитая! Да чтоб такая была вместо матери… Ну и скажет тётка! — Так ты оставайся и слушайся барыню, — обратилась к ней тётка. — А я пойду. Прощайте, барыня! — Прощай, — рассеянно ответила генеральша и снова позвала: — Даша, Лиза! В дверях появилась быстроногая, проворная девушка в белом фартуке и с белой наколкой на голове. — Что это значит, Даша?! — раздражённо повернулась к ней генеральша. — Где ты была? И где Лиза? Полчаса зову и не могу дозваться своих прислуг! Отведи девочку в детскую, но сначала пускай руки вымоет как следует! — Слушаю, барыня, — живо ответила Даша. — Я отведу, а только мы с Лизой сегодня вам прислуживать не будем. — Это ещё что такое?! — возмутилась генеральша. — Почему? — Потому что мы идём на митинг. — Что ты мелешь, какой митинг? — А в Корпусном саду. Вот поглядите в окно, сколько народа собралось. — И не выдумывайте! Никаких митингов! Не смейте из дому выходить! Распустились совсем!.. — Вы, барыня, не кричите, — спокойно отозвалась Даша. — Это вам не при старом режиме. И дома сидеть вы нас не заставите. Пошли, девочка! — повернулась она к Настусе. — Что-о?! — завизжала генеральша. — Так ты ещё грубиянить? А ну вернись сейчас же!.. Но Даша, крепко держа за руку перепуганную Настусю, уже прикрыла за собой дверь. — Куда ж там, какая страшная… — говорила она, ведя Настусю в детскую. — А ты, девочка, перед ней не очень-то гнись. А то она такая, что и на голову сядет. А теперь таких прав нет, теперь революция! Хорошо было Даше так говорить — она взрослая! На её месте Настуся ни за что не жила бы у этой злой генеральши. Прежде всего она пошла бы на станцию и разыскала бы дядю Осипа. Варька говорила, что он там с рабочими революцию делает. Вот и Настуся тоже делала бы революцию!.. Но Настуся ещё мала. Кому она нужна? Некуда деться — надо служить. А служить было нелегко. С той минуты, как Настуся попала в генеральский дом, она уже себе не принадлежала. Всегда надо было выполнять чьи-то приказания, кого-то обслуживать, куда-то бежать. Весь день Настуся нянчилась с ребёнком, одевала его, кормила, забавляла, по первому зову генеральши бросалась к ней. Принеси то, подай это, позови того! — только и раздавалось в комнатах. На второй же день генеральша велела переодеть девочку в свою одежду. Настусе купили на толкучке старую юбку, а кофту барыня дала со своего плеча. Юбка у Настуси была длинная, а кофта широкая, так и болталась на ней, как на гвозде. Короткие пряди волос во время работы выбивались из кос и лезли прямо в глаза. А генеральша ещё и дёргает Настусю: — Тут у тебя висит и тут висит! Подбери свои лохмотья да причешись как следует. Неряха! Настуся только зубы стиснет, стоит молча. «Буржуйка ты проклятая! — думает. — Сама меня неряхой сделала и ещё издеваешься!» Чем дальше, тем больше становилось обязанностей у Настуси. Генеральские горничные Даша и Лиза часто уходили куда-то из дому, отказывались работать, и генеральша заставляла Настусю прибирать в комнатах. Рассядется в кресле посреди гостиной и следит, как Настуся, ползая на коленях, протирает паркет кусочком сукна. — Вон там вытри! — кричит. — И тут! Ослепла, что ли? Да как схватит, как ткнёт головой в пол!
Только тогда и вздохнёт Настуся свободнее, когда генеральши нет дома. Сидит себе тихонько с маленькой Зоей в детской. Это была уютная комната с большим ковром на полу и двумя белоснежными кроватями. На одной спала трёхлетняя Зоя, а на другой — её брат Виктор, гимназист первого класса. Тут же, прямо на полу, ложилась и Настуся, внося на ночь старую дерюжку вместо постели. Барышня Зоя была маленьким капризным созданием с длинными золотистыми кудрями. Она надоедала Настусе, но хоть не командовала ею, так как была ещё слишком мала. Строя с нею на ковре хатку из кубиков, одевая и раздевая кукол, Настуся забывала о своей подневольной жизни. Особенно увлекали Настусю книжки. В жизни никогда не видела она таких чудесных цветных рисунков! Вот коза стоит на двух ножках, в красном платочке, в зелёной юбке и машет передним копытом на козлят, которые выглядывают из хаты. — Читай! — тычет Зоя пухленьким пальчиком в козу, и Настуся по складам разбирает:
В. Г. Короленко СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТРазвернула и сразу же увидела портрет: знакомая густая борода, ласковые, вдумчивые глаза. Он! Тот самый барин, что дал ей монету, — писатель Короленко! Интересно, о чём же он тут пишет? Что это за музыкант? И почему он слепой? Полистав книжку, вздохнула Настуся. Мелкие густые строчки были девочке не под силу. Да и некогда над книжкой сидеть. А так хочется знать, о чём написал писатель Короленко! Так хочется прочитать все эти чудесные книжки! С завистью смотрит девочка сквозь открытую дверь на Виктора, который учит уроки в столовой. Счастливый, он учится в гимназии! Сколько у него учебников, тетрадей, какой красивый пенал! А Настуся никогда и ручки не держала в руке. А разве же она не смогла бы учиться так, как Виктор? Даже лучше! Вот он уже два дня стих зубрит и до сих пор не знает. А Настуся, слушая бормотание Виктора, уже давно выучила. Но куда уж там думать Настусе о школе! Ей только работать не покладая рук, угождать генеральше. Ведь она в наймах…
ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ
Быстро проходила тёплая пора. Из окон генеральских покоев было видно, как напротив, в губернаторском саду, качались под ветром золотистые верхушки деревьев. По утрам было холодно, и Настуся, выбегая во двор, вся дрожала в своей лёгонькой кофточке. Как-то незаметно небо затянулось тучами, и начались обложные дожди. В комнатах сделалось неуютно, сыро, и генеральша велела понемногу протапливать печи. Это была работа дворника, но он уже неделю как куда-то исчез. И вот каждое утро, пока Зоя ещё спала, Настусе приходилось носить со двора тяжёлые охапки берёзовых дров и самой топить четыре голландских печки. Ходить надо было на цыпочках, чтобы не побеспокоить сладкого утреннего сна генерала и генеральши. Настуся видела хозяина дома только в обеденную пору. Небольшой, толстенький, в мундире с погонами, похаживал он по столовой, поблёскивая красными лампасами на брюках и напевая:НАСТУСЯ ТОЖЕ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ
Декабрь начался лёгким, сухим, мелким снежком. Казалось, город вот-вот укроется белым пушистым покрывалом. Но снежинки, чуть коснувшись земли, равнодушно катились по ней, цепляясь за мёрзлые комья и собираясь в ямках под забором. А полуголая земля по-прежнему беспомощно темнела серыми заплатами. На улицах было неспокойно. Группами проходили вооружённые люди, где-то от Сенной площади доносился стук пулемёта. Редкие прохожие держались ближе к домам и ускоряли шаг. Настуся, одетая в длинную, до пят, холодайку[6] и укутанная большим платком, выбежала из ворот корпуса и подалась на Куракинскую в аптеку. У Зои болел животик, и Настусю послали за лекарством. Едва девочка перебежала Сенную площадь, как, откуда ни возьмись, выскочили всадники в молодцевато заломленных смушковых шапках и с нагайками в руках. Настусе показалось, что они летят прямо на неё. Она уже слышала храп коней, видела занесённую над головой нагайку… Не помня себя от страха, Настуся кинулась в ближайший двор, чуть не наскочив на невысокого, плотного человека, стоявшего во дворе возле калитки. — Что, испугалась? — спросил он ласково и, выглянув на улицу, добавил: — Уже снова черти их тут носят, проклятых гайдамаков! Детей пугают! — Он сердито громыхнул калиткой и повернулся к Настусе: — А ты куда это разогналась? — В аптеку, — отозвалась Настуся. Она подняла глаза на его строгое, морщинистое лицо с длинным шрамом через левую щёку и вдруг сказала: — А я вас знаю, вы дядя Павло! Вы к Мовчану с дядей Осипом приходили! — С дядей Осипом? А ты кто такая? — удивился тот. — Я Настуся, племянница дяди Осипа… — Постой-постой! Как же ты сюда попала? — А я служу. В корпусе, у генерала Павленко… — И добавила тихо: — Меня тётка отдала… — Вон как, — проговорил дядя Павло. — А Осип об этом и не знает. — А вы его видели? — встрепенулась Настуся. — Да я его каждый день вижу. Он, брат, у нас теперь командует! — Я знаю, — быстро сказала Настуся. — Он как-то шёл мимо Корпусного, с наганом, а за ним рабочие с винтовками! Вот бы мне к дяде! Не хочу я больше служить! Барыня противная такая… — И Настуся неожиданно для себя заплакала. — Ну что ты, Настуся, хватит, не плачь… — растерянно заговорил дядя Павло, неумело гладя девочку по голове. — Потерпи ещё немного… Куда тебя дядя сейчас возьмёт? Он и сам ночует где придётся… Ну да ладно! Скоро наша власть будет! Вот только расправимся с теми молодчиками, которые недавно здесь гарцевали. — А кто они такие, дяденька? — Гайдамаки, сволочь всякая… Кулацкие сынки! Им наша власть, как кость в горле! — Дяденька, скажите: а бывают буржуйские Рады? Я слышала, как генерал говорил, что в Киеве есть Центральная Рада, так она против рабочих, за буржуев! — Это он правду сказал, сукин сын! Есть такая Рада, только скоро ей придёт конец! И везде будут наши Рады, наши Советы, рабочие, и солдатские, и крестьянские… Так что ты, Настуся, не вешай нос. А если что, прибегай сюда. Вот в это окно постучи, трижды и ещё один раз… — Дядя Павло показал на подвальное оконце возле ворот. — Поняла? — Поняла, дядя. Спасибо вам. Теперь я пойду. А вы дяде Осипу скажите обо мне. Хорошо? — Скажу, доченька, скажу. Вот радость-то какая! Несколько дней Настуся только и думала об этой встрече. Наконец дяде Осипу расскажут про неё! Тихонько напевая, девочка вытирала в гостиной пыль, а сама мечтала о том, как дядя Осип заберёт её, наконец, из этого постылого генеральского дома. Перетирая одну за другой безделушки на столиках, Настуся подошла к двери генеральского кабинета и неожиданно услышала тихий разговор. Незнакомый мужской голос бубнил что-то надоедливо, а генерал время от времени вставлял бодрым баском: «Так, так… Понимаю…» «Казачьи полки… Военные части…» — доносилось до Настуси сквозь неплотно прикрытую дверь. «О чём они там говорят?» — подумала она и вдруг ясно услышала: — Кстати, генерал, есть важные сведения. Из Киева прибывает полковник Ревуцкий. Ему поручено покончить с большевиками в Полтаве. Центральная Рада надеется на вашу помощь… Сначала разоружим военные части, сочувствующие большевикам, а потом ударим по железнодорожникам. Руководителей их перестреляем, как собак! У Насту си так всё и похолодело внутри. Что же будет? Что, если дядя Осип ничего не знает? Надо предупредить… Но как незаметно выйти из дома?.. Вдруг в соседней комнате послышались шаги генеральши. — Ты до сих пор не убрала? — прикрикнула она на девочку, появляясь в двери. — Ребёнка пора кормить, а ты здесь торчишь! Сейчас же иди на кухню, неси завтрак! Настуся побежала в кухню, потом в детскую. Накормив Зою, посадила её на ковре, разложила игрушки, а у самой из головы не выходили только что услышанные слова. «Побегу! Ей-богу, побегу!» — решилась наконец девочка и, в чём была, набросив только платок на голову, выскочила через чёрный ход. Не бежала, а летела вниз, перепрыгивая через две-три ступеньки, и одним духом проскочила двор, выбежала на улицу. Только бы не увидели, только бы не вернули! Холодный воздух со всех сторон, словно клещами, стиснул Настусино тело. Сразу же мелко задрожали руки, плечи, но Настуся не обращала на это внимания. Пулей помчалась по улице, по площади и выбежала на Куракинскую улицу. Вот тот дом, забор, деревянная калитка… Настуся вскочила во двор и подбежала к оконцу в подвале, плотно завешенному белой занавеской. Осторожно постучала: раз, два, три, потом ещё раз. Занавеска шевельнулась, отодвинулась немного, потом снова задвинулась. Через минуту открылась дверь, и выглянула пожилая женщина в синей в горошек юбке — точь-в-точь как у Настусиной мамы! — и в большом тёмном платке на плечах. — Я к дяде Павлу… — начала Настуся, но женщина перебила: — Да ты совсем раздета! Заходи быстрее, а то простудишься! Девочка прошла за женщиной в сени, а потом в небольшую комнату с низким потолком. В комнате стояли три кровати под серыми одеялами, тёмный шкаф в углу и стол посредине. На одной кровати полулежал чернявый, плечистый парень, возле него сидел второй, в пиджаке нараспашку, и бренчал на балалайке. Настуся остановилась у порога и растерянно взглянула на женщину: — А дяди Павла нет дома? — Нет. А ты кто такая? — Я дяди Осипа племянница… — Так ты Настуся? — обрадовалась женщина. — Что же ты до сих пор не приходила? Дядя Осип спрашивал про тебя. Садись сюда, к печке… — Мне к дяде Павлу нужно, — упрямо повторила Настуся, не двигаясь с места. — У меня важное дело… — Вот завела: к дяде Павлу да к дяде Павлу! — засмеялась женщина. — Максим! Иди-ка сюда! Здесь Настуся пришла к отцу, говорит — важное дело. — А ну-ка, что там за дело? — подхватился Максим с кровати и, подойдя к девочке, похлопал её по плечу: — Рассказывай, Настуся, не бойся, дядя Павло — мой отец, а я — его родной сын. Поняла? А тот, что с балалайкой сидит, тоже свой парень. Между прочим, мой брат. Так что можешь не беспокоиться! — Да я разве что… — смутилась Настуся. — Надо только дяде Осипу поскорее передать… И Настуся слово в слово передала разговор, который она услышала час назад из генеральского кабинета. — Вот оно что, — промолвил Максим, нахмурившись. — Это действительно важные новости… Молодец, Настуся, что прибежала! Ты у нас, оказывается, тоже за революцию! Василь! Сейчас же беги на станцию, в депо. А я — в комитет. Максим надел кожух, нахлобучил шапку на голову и пошёл к двери. Настуся тоже шагнула за ним. — Куда ж это ты? — остановила её мать Максима. — Посиди, согрейся, выпей стакан чаю! — Ой нет, тётенька, побегу, а то я удрала, и никто не знает… Попадёт мне за это! Прогневайте! И Настуся, ящерицей прошмыгнув мимо Максима, выскочила из хаты. Ну вот и управилась! А теперь пускай генеральша ругает её сколько захочет!СОБЫТИЯ НАДВИГАЮТСЯ
Прошёл один напряжённый день, за ним второй. Каждую ночь слышались выстрелы то далеко, то близко, и невозможно было понять, что делается в городе. А утром над притихшей Полтавой низко клубились тучи, и галки тревожно кружились меж голыми вершинами тополей. Время было обеденное. С тех пор как в генеральском доме не стало горничных, Настусе приходилось самой накрывать на стол. Девочка раскладывала на белой скатерти ножи и вилки, а у самой не выходил из головы дядя Осип. Что с ним? Дошла ли до него весть? Задумавшись, Настуся не услышала, как скрипнула дверь. — Хорошо тебе говорить, моя милая… — послышался с порога недовольный генеральский бас. Барин прошёл по комнате, тяжело опустился на стул и начал нервно тарабанить пальцами по столу. — Ведь ты не знаешь, что делается вокруг! На мне лежит ответственность за спокойствие в городе… А тут живёшь, как на пороховой бочке! Рабочие вооружаются. Военные части на стороне большевиков… — Но ты же сам говорил, что их разоружат, как только прибудет полковник Ревуцкий! — Ну, говорил… Но попытка не удалась… Солдаты арестовали Ревуцкого! Настуся, которая как раз выходила из столовой, чуть не подпрыгнула от радости. Ага, наконец-то! Значит, всё в порядке! — Там-там-тара-рира! — тихонько запела она, очутившись в детской, схватила большую куклу и начала танцевать с ней гопак. Зоя так и залилась смехом, и вместе с нею, впервые за долгое время, искренне, от всего сердца смеялась Настуся. Но радость Настусина была недолгой. На другой день кухарка Маруся, придя с базара, рассказала, что из Киева прибыли новые эшелоны «вольного казачества». Они дебоширят, грабят магазины, а часть их уже разместилась в гостинице «Европейская» и там пьянствует. Настуся хотела расспросить подробнее, но тут генеральша позвонила, чтобы несли кофе. Девочка взяла поднос и только зашла в столовую, как вдруг на улице, под самым окном, прогремел выстрел. — Ах боже мой! Что это? — испугалась генеральша. Настуся бросилась к окну и увидела двух гайдамаков в казачьих шапках с малиновыми верхами, гнавшихся за каким-то рабочим. Второй, невысокий, в коротком кожушке и сапогах, лежал неподвижно на мостовой, раскинув руки. «Да что же это делается! Они в людей стреляют!..» Бледная от возмущения, Настуся оглянулась и увидела усмехающееся лицо генерала, который тоже подошёл к окну. — Это мои хлопцы наводят порядок, — сказал он довольно. — Я отдал приказ задерживать всех подозрительных, особенно в рабочей одежде. Мы этим «товарищам» покажем, где раки зимуют!.. Настуся стояла, устремив яростный взгляд в сытую, самодовольную генеральскую физиономию. Ещё миг, и девчонка вцепилась бы в неё ногтями, как разозлённый котёнок. Так вот он какой, этот «мужик», этот «украинец»!.. Под стать своей генеральше! Едва сдерживая слёзы, вышла Настуся из столовой. А генерал, ничего не заметив, сел за стол и начал завтракать. Но позавтракать как следует ему так и не удалось. Не успел он выпить вторую чашку горячего сладкого кофе, как в передней раздался звонок. Настуся, вытирая рукавом заплаканные глаза, побежала открывать дверь. На пороге стояли те самые гайдамаки, которых она только что видела в окно, и держали за руки пойманного ими рабочего. Он был без шапки, с подбитым глазом, к окровавленному виску прилипла прядь тёмных волос. Настенька взглянула и похолодела: это был старший сын дяди Павла, Максим.
— Скажи генералу, что мы привели арестованного, — сказал гайдамак. — Ну, чего вытаращила глаза? Иди! — заорал второй. Но тут в передней появился сам генерал. — Что тут такое? — сердито спросил он. — Покорнейше прошу прощения, господин генерал, — отозвался снова первый гайдамак. — Мы поймали одного железнодорожника. Не желаете ли допросить? Генерал подошёл к Максиму ближе. — Как звать? — спросил он. Максим молчал. — Отвечай, собака! — свирепо крикнул генерал и ударил Максима по лицу. У того от удара качнулась голова, но губы сжались ещё крепче. — Ну ладно, ты ещё заговоришь! — сказал угрожающе генерал. — Отведите и закройте его в подвале. Да стерегите хорошо! У Настуси и слёзы высохли на глазах. Стиснув зубы, смотрела она, как выволокли Максима во двор, а сама думала: «Быстрее на Куракинскую! Ведь там ничего не знают!» Из дома вырваться удалось только в полдень, когда уснула Зоя. Выйдя на Сенную площадь, Настуся неожиданно встретила Варьку, которая шла от Ульяны. — О! Откуда это ты взялась? — удивилась Варька. — Послушай, Варька, случилась беда. Ты знаешь дядю Павла, того, который со шрамом? Они на Куракинской живут. — Ну, знаю. Только они уже там не живут. Их гайдамаки ищут, так они уехали оттуда. — Что ты говоришь? А ихнего Максима схватили!.. — Когда? — Сегодня утром. Притащили в корпус и заперли в подвале. Беги быстрей к отцу, надо дяде Павлу сообщить… — Отца дома нет. — Тогда беги на станцию, только быстрее!.. С тяжёлым сердцем вернулась Настуся в генеральский дом. Перед глазами у неё стоял Максим, избитый, окровавленный, заточённый в глубоком, тёмном подвале. Настуся знала этот подвал, потому что там размещался генеральский погреб. Даже в самую жару в погребе было холодно и сыро так, что сразу пронимало до костей. А сколько там крыс!.. У Настуси при одном воспоминании об этом мурашки забегали по спине. О том, что генеральша заметила её отсутствие и будет ругать, девочка даже не думала. Да, к счастью, генеральше было не до Настуси: у неё болела голова — и она только сказала: — Чего слоняешься без дела, иди убери в комнатах! Настуся молча взяла тряпку и пошла в гостиную. Привычными движениями вытирала мебель, вазы, картины, а мысли в это время были далеко. И тут случилось несчастье. Ползая на коленях по паркету, девочка нечаянно зацепила высокую лампу с японским абажуром, которая стояла в углу на полу. Лампа закачалась, и, прежде чем Настуся сообразила, что произошло, абажур упал на пол и разбился на мелкие кусочки. Откуда ни возьмись, на ту беду — генеральша: — Что случилось? Что ты разбила? Ах боже ж мой! Лампу! Да ты сама, вместе с потрохами, не стоишь этой лампы! Да я тебе не знаю что сделаю!.. Вне себя бросилась генеральша к Настусе и схватила её за волосы. — Ах ты негодяйка! Ах ты лентяйка! Ах ты ничтожество! — кричала она и с каждым словом била Настусю по щекам. Потом поволокла девочку за волосы через всю комнату. И лишь за порогом почувствовала, как странно отяжелело тело Настуси. Опомнившись, генеральша выпустила из рук Настусины косы, и голова девочки бессильно склонилась на пол… …Пришла в себя Настуся оттого, что была вся мокрой. Открыла глаза и увидела над собой испуганное лицо генеральши, которая лила ей на голову воду из белого фаянсового кувшина. Сначала Настуся никак не могла понять, что случилось. Потом вспомнила: лампа! Молча поднялась с пола и потихоньку побрела в кухню. Оделась, покрылась платком и, не говоря ни слова, медленно пошла к выходу. Генеральша её не останавливала. Она уже и сама видела, что немного перехватила, и подумала, что Настусе действительно надо пройтись по свежему воздуху. А девочка навсегда оставляла генеральский дом. Так она решила окончательно. Быстрее, как можно быстрее отсюда, чтобы не видеть больше ни постылой генеральши, ни того ненавистного генерала! Но куда же идти? На Куракинской никого нет. К тётке? Настуся знала, что тётка не очень-то будет ей рада. И девочка, пройдя квартал, в нерешительности остановилась. Уже смеркалось, вокруг было пустынно и страшно. И вдруг из тёмной подворотни выскользнула тень. Настуся так и обомлела от страха. Но тень подала голос: — Добрый вечер, Настуся. Не бойсь, это я, Василь, брат Максима. У Настуси отлегло от сердца. — Как хорошо, что я тебя встретил, — продолжал дальше Василь. — Я тут уже давно хожу, а ближе подступиться никак не могу. Варька передала мне про Максима… Где он? — Тут, — ответила Настуся. — В малом дворе, где квартиры начальства. Генерал велел посадить его в подвал. Завтра допрашивать будут. Василь немного помолчал. — Послушай, Настуся, — после паузы сказал он, — на тебя вся надежда. Постарайся завтра разузнать про Максима, про допрос. Как только разузнаешь, прибегай на Сенную, к Ульяне. Настуся хотела было сказать, что навсегда уходит отсюда, что ни за что не вернётся в этот проклятый дом. Но что же будет с Максимом? Надо узнать о его судьбе. А может, посчастливится его увидеть? И тут девочка поняла, что никуда уже сегодня не уйдёт. Она вернётся назад, к генеральше, и постарается сделать всё, что сможет. — Хорошо, — сказала она. — Я всё разведаю. А теперь мне надо идти. Василь кивнул, и Настуся быстренько подалась к корпусу.
СРЕДИ СВОИХ ЛЮДЕЙ
Еле-еле дождалась Настуся утра. Думала, никогда конца не будет этой длиннющей ночи. Только задремлет — и вот уже чудится девочке, что за ней гонятся гайдамаки, стреляют, и она падает окровавленная… А потом оказывается, что она — это не она, а Максим, который сидит в сыром подвале, а к нему со всех сторон подкрадываются огромные хвостатые крысы. Настуся вскрикивает и подхватывается со своей дерюжки посреди тихой, уютной детской. Настуся встала очень рано и на цыпочках вышла на кухню. Кухарка Маруся ещё лежала на своём широком сундуке. — Что это ты сегодня подхватилась ни свет ни заря? — спросила она, подняв с подушки голову. — Да так, почему-то не спится, тётенька, — ответила Настуся. А на самом деле её тревожила мысль: а что, если Максима уже нет в корпусе? Может, его вывезли куда-нибудь ночью? Накинув холодайку, она метнулась из кухни. — Куда это ты? — дивилась Маруся. — В сарай побегу, по дрова. Перед рассветом слегка подморозило, земля ссохлась и покрылась тоненькой ледяной коркой. Во дворе было пусто и мертво. Только в углу, возле подвала, на миг вспыхнул огонёк: это часовой, отвернувшись от ветра, прикуривал цигарку. Настуся вздохнула с облегчением. Если часовой возле подвала, значит, Максим ещё там. Но жив ли он? Дали ему хотя бы попить?.. Нося из сарая в кухню охапки дров, Настуся каждый раз искоса поглядывала на часового, но спросить об арестованном не решалась. Тем временем и Маруся тоже встала, растопила плиту и начала готовить господам завтрак. Проснулась Зоя, Настуся одела её, умыла и накормила манной кашей. Жизнь шла своим чередом, словно ничего и не случилось, словно и не был где-то глубоко в подвале заточён голодный, раненый человек. Вот и генеральша позвонила из покоев, велела подавать завтрак. Маруся сразу засуетилась. Работящая, покорная, она с детства привыкла угождать господам и всё боялась разгневать генеральшу. — Ой, горечко!.. — запричитала она. — Сливок же нет к кофе! Придётся в погреб бежать! Настуся так и подскочила. В погреб? Ведь это в том подвале, где сидит Максим! Надо спускаться по тем же ступенькам, только дверь напротив. Можно бы окликнуть Максима, узнать, живой ли… — Я сбегаю, тётенька! — быстро сказала она. Схватив свечу и спички, девочка выбежала во двор с кувшином в руках и приблизилась к часовому. Это был безусый парень в солдатской шинели и смушковой шапке. Он стоял возле подвала, опершись на винтовку, и мурлыкал песенку. — Мне в погреб надо, — не глядя на него, сказала Настуся. — Откройте! Часовой молча отомкнул огромный висячий замок и приоткрыл тяжёлую, окованную железом дверь. Сразу за ней начинались крутые кирпичные ступеньки, ведущие куда-то в темноту. Настуся хотела было зажечь свечку, но раздумала и стала спускаться на ощупь. Очутившись на ровном месте, она бросилась влево и нащупала дверь, закрытую тяжёлым железным засовом. Замка на засове не было. Девочка прильнула к тоненькой щёлочке и осторожно позвала: — Максим! За дверью послышался шорох. «Живой!» — обрадовалась Настенька и только хотела позвать снова, как наверху что-то стукнуло. Девочка стремглав кинулась к двери напротив. Отодвинула засов, вошла в подвал и, засветив свечку, поставила её на выступе стены. В желтоватом дрожащем свете виднелись замшелые кирпичные стены, а вдоль них кадки с огурцами, капустой, ящики и бочки. Вверху, под самым потолком, серело небольшое окошко без стекла, с полусломанной рамой. Окошко выходило в глухой переулок, по которому редко проходили люди. «А что, если б?..» Настуся смерила глазами расстояние. Конечно, к окошку можно добраться, если влезть на бочки и положить сверху два-три ящика. А на двери, за которой сидит Максим, замка нет! Надо скорее привести сюда Максима, он вылезет в окошко и спасётся. Настуся торопливо налила в кувшин сливок и выскользнула на ступеньки. Постояла минутку, прислушалась… Тихо. Тогда, поставив кувшин на пол, подошла к двери напротив, налегла на засов и отодвинула его до конца. — Максим! — вновь позвала она. — Я здесь! — услышала она возле самого уха. Она схватила Максима за руку и потянула за собой. — Сюда! — шепнула, вбежав в генеральский погреб. — Тут есть оконце… Бегите быстрее!.. Максим осмотрелся вокруг, поднял свечку, на миг осветив бочки и ящики в углу подвала, и сейчас же погасил её. В серой полутьме Настуся почувствовала крепкое пожатие Максимовых рук и выскочила на ступеньки. Задвинув засовы на обеих дверях, она не спеша поднялась наверх. Сердце у неё замирало. А что, если часовой обо всём догадался? Что, если он сейчас схватит её тут на пороге? Настуся крепко прижала к груди кувшин со сливками, чтобы часовой не заметил, как у неё дрожат руки. Но тот равнодушно скользнул глазами по девочке и снова повесил на дверь огромный замок. А Настуся, не оглядываясь, метнулась вдоль стены на кухню. — Что с тобой? — даже руками всплеснула кухарка, когда девочка поставила перед ней кувшин со сливками. — Да у тебя лицо, как стенка, белое! — Голова болит, — пробормотала Настуся. — Ну посиди, я сама панам завтрак отнесу. Настуся зашла в детскую, бессильно опустилась на пол возле Зои и начала перебирать игрушки, не видя ничего перед собой. Что с Максимом? Выбрался ли он из подвала? Не заметил ли его кто-нибудь? Замирая, она ждала, что вот-вот послышатся выстрелы на улице и крики. Но везде было тихо. Генерал спокойно завтракал в столовой. Сейчас генерал закончит завтрак и прикажет привести Максима на допрос. А Максима не найдут, поднимется шум… И тут сразу выяснится, кто его выпустил… Надо бежать, пока всё не раскрылось!.. Девочка выбежала на кухню и начала с лихорадочной поспешностью натягивать на себя одежду. — Я во двор выйду, тётя… Голова кружится… — прерывисто проговорила она. — Иди, дочка, иди, может, тебе полегчает, — отозвалась кухарка. В одно мгновенье Настуся оказалась на улице. Добежав до поворота в переулок, куда выходило оконце из подвала, она остановилась. Что-то словно магнитом тянуло её туда. Хотя бы одним глазом взглянуть на оконце. Настуся тихонько пробралась переулком под стеной корпуса. Оконце было ниже поверхности земли, в глубокой яме. Девочка оглянулась — не идёт ли кто-нибудь сзади? — и наклонилась над окном. Из чёрного отверстия не доносилось ни единого звука. Только в окне торчал свежий обломок прогнившей рамы. «Убежал! Убежал!» — затрепетала радостная мысль. Теперь и Настусе нечего больше мешкать. На Сенную она уже больше не пойдёт. Она побежит прямо на станцию, в депо, и разыщет дядю Осипа. Рысцой подалась Настуся через весь город, мимо Петровского парка, спустилась по Покровской вниз и перешла по мосту через Ворсклу. Было уже не рано, когда она, усталая, голодная, приплелась на станцию. Минуя вокзал, прошла дальше, туда, где железнодорожные пути, словно десятки блестящих ужей, расползлись во все стороны. По путям, в том же направлении, что и Настуся, двигались несколько рабочих. — Где здесь депо? — спросила Настуся одного. — Айда с нами! А тебе зачем? Может, тоже на собрание? — засмеялся рабочий, и его белые зубы блеснули на тёмном от копоти лице. — Я к дяде Осипу иду. Он тут командиром отряда. Не знаете ли вы его? — Реминного Осипа? Знаю. А ты кто ему? — Я его племянница… — Племянница? Это сразу видно! Вишь, какая бедовая! Только замёрзла очень. Ну, заходи сюда! Девочка вошла в огромное — больше, чем церковь! — помещение с широкими воротами вместо двери. И здесь, неожиданно для себя, попала в самую гущу людей. От их одежды знакомо пахло мазутом. Они стояли и сидели, примостившись кто как мог. Некоторые на ходу ели хлеб, другие жевали тарань, и все глядели вперёд, туда, где на возвышении стояли несколько рабочих в сапогах и тёплых пиджаках и среди них одна женщина. Настуся боязливо остановилась, растерянно обводя глазами сотни суровых, решительных, покрытых копотью лиц. Но никто на неё не обратил внимания. Все слушали женщину, которая призывала железнодорожников решительным ударом покончить с гайдамаками. — В Харькове создано Советское правительство, — звонким голосом говорила она, — и оно поддержит нас. На помощь к нам из Харькова уже прибывают красногвардейские отряды! Это сообщение в депо было встречено рукоплесканиями, — казалось, будто взлетели под высокий потолок тысячи голубей. Приземистый безусый паренёк рядом с Настусей изо всех сил хлопал в широкие мозолистые ладони. — Гайдамакам теперь не до шуток, — сказал он, широко улыбаясь, и подмигнул Настусе. Настуся хотела было спросить его про дядю Осипа, но паренёк вдруг притих и повернул голову к трибуне. На ней уже стоял другой оратор, высокий, широкоплечий, с пулемётной лентой через плечо и с наганом на поясе. У Настуси забилось сердце. Дядя Осип! Наконец-то! Быстрей к нему! И девочка, расталкивая всех, наступая кому-то на ноги, бросилась вперёд. Но тут чья-то рука легла ей на плечо. — Настуся! Она оглянулась. Это был дядя Павло. — Прибежала! Вот молодец! А мы за тебя боялись… Нам Максим как рассказал… — Так он уже здесь? — вырвалось у Настуси. — Здесь! И Осип здесь. Идём! И через минуту Настуся очутилась в тесном кольце людей, знакомых и незнакомых, но одинаково близких Настусе, Вот Варькин отец с трубкой в зубах, а вот и Максим. Размахивая руками, он рассказывал о своём побеге, а со всех сторон слышалось: — Вот тебе и девчонка! Такое отколоть! — Счастье её, что улизнула! Генерал бы ей этого не простил… — Да ему теперь не до того! Гайдамаки уже на Киевском вокзале вагоны готовят — драпать! Суровые, закопчённые лица ласково наклонялись к Настусе, тяжёлые рабочие руки похлопывали её по плечам. А девочка молча стояла рядом со своим дядей Осипом, прижавшись щекой к пулемётной ленте на его груди. Её бледные губы слабо улыбались, а большие тёмные глаза были полны слёз. Неужели она и вправду среди своих, родных людей и больше не вернётся к генеральше? И, словно угадав её мысли, дядя Осип сказал: — Ну вот и конец наймам, Настуся! Наступили новые времена.
Часть вторая

ОТРЯД ВЫСТУПАЕТ В ПУТЬ
Станция Южная бушевала, словно Ворскла в весенний паводок. С горы через мостик и из близлежащих посёлков к вокзалу двигались люди. Перрон был переполнен. Давно уже не видела тихая Полтава такого многолюдья, разве только год назад, когда скинули царя. Но тогда в пёстрой толпе на улицах и площадях мелькали и офицерские фуражки, и модные дамские шляпки. А теперь тут, на станционном перроне, пестрели закопчённые картузы и вылинявшие женские платки. Над ними возвышались, покачиваясь, плакаты с надписями: «Да здравствует Украинская рабоче-крестьянская республика!», «Привет Полтавскому боевому техническому отряду!» На первом пути, как раз напротив вокзала, окружённый плотным кольцом толпы, стоял поезд. Старенький паровоз «ОВ» неторопливо и важно пыхтел белым паром. Тёмно-зелёные классные вагоны выглядели буднично и мирно, и только товарная платформа, прицепленная сразу за паровозом, вся обложенная шпалами и мешками с песком, грозно ощетинилась стволами пулемётов. Настуся потихоньку протиснулась между людьми ближе к вагонам, туда, где трепетали красные полотнища и выступали ораторы. Ей в затылок горячо дышала подруга Варька. Немного дальше стояла Варькина мать, а возле неё — тётя Галя, жена дяди Павла. Платок сполз у Настуси с головы и упал на плечи, но она не обращала внимания. Поднявшись на цыпочки, девочка не сводила глаз с оратора. От волнения она не разбирала слов, которые выкрикивал в толпу бородатый человек в солдатской шинели, но глубокий смысл того, что совершалось, был ей и так понятен. Революция в опасности! Об этом Настуся слышала каждый день в хате дяди Павла, где они с дядей Осипом жили на квартире. С тех пор как немцы заняли Украину, дома только и разговора, что о боевом техническом отряде. Его организовали полтавчане, рабочие паровозоремонтных мастерских в помощь Красной Армии. И вот сегодня отряд отправляется в путь. Он будет ремонтировать железнодорожное полотно, мосты, прокладывать дорогу красным поездам. А надо будет, то и сам пойдёт в бой с врагом. Двести человек записались в отряд. И Мовчан, Варькин отец, и тёти-Галин Максим. А командиром у них Осип Реминный, дядя Настуси. Вот он вышел вперёд, взволнованный и решительный, в коротком кожушке, туго подпоясанным ремнём. В руках у него красное знамя. Ветер полощет мягкие складки материи, то пряча, то снова открывая надпись: «За победу диктатуры пролетариата!». А дядя Осип, сжимая гладко обструганное древко, громко говорит: — Принимая сегодня это знамя от Полтавского Совета рабочих и солдатских депутатов, я от имени своих товарищей клянусь, что боевой технический красногвардейский отряд до последней капли крови будет бороться с врагами революции! Гром аплодисментов раздаётся на перроне, катятся торжественные звуки «Марсельезы», и сердце Настуси млеет от гордости. Да, она знает: дядя Осип не бросает слов на ветер. Он всех буржуев ненавидит и будет драться с ними до конца. Настуся тоже ненавидит буржуев. Ох, как же она их ненавидит! Никогда не забудет, как генеральша таскала её за волосы, била головой об пол… А генерал! Называл себя «мужиком», «украинцем», а сам приказывал стрелять в рабочих. Эх, если бы и она была в отряде! Вот как эта девушка в белой косынке с красным крестом, которая стоит на площадке вагона. Разве Настуся не смогла бы перевязывать раненых? Ведь у генеральши работала. А теперь что, не сумела бы?.. И почему они все называют её маленькой? Ростом она, правда, невелика, зато сил у неё ого сколько!.. Задумавшись, Настуся не сразу заметила, что вокруг началось движение. Митинг кончился, и всё сразу перепуталось, гражданские смешались с военными. Жёны бросились к своим мужьям. Варькина мать, обнимая мужа, голосила: — И на кого ты нас покидаешь?.. И что ты себе думаешь?.. Разве нет моложе тебя?.. — Довольно, жена, хватит, — бормотал Мовчан, гладя её по плечу. — Сама знаешь — надо… Настуся оглянулась, ища взглядом дядю Осипа. Видимо, не придётся и проститься… А у Настуси ведь никого нет на свете, кроме него. Тётка Марина — та лишь тумаками кормит и всё посылает служить. «Я и сама в наймах выросла», — говорит, бывало. Нет у неё даже капельки жалости к Настусе… — Ну что же, Настуся, прощай, — неожиданно послышалось возле неё, и дядя Осип, который будто из-под земли вырос, обнял племянницу за плечи. — Оставайся здорова, не грусти… Обещаешь? Настуся молча кивнула. Конечно, она обещает… И тут, как назло, из глаз закапали слёзы. Ну вот ещё! Закусив губы, девочка торопливо отвернулась. Однако дядя Осип, кажется, ничего не заметил. Он таким бодрым-бодрым голосом сказал: — Ну вот и чудесно! А я скоро вернусь! И всё будет хорошо! Вот увидишь… Да, чуть не забыл! Тётка Марина передавала, чтобы ты, если хочешь, к ней перешла жить. Ну, да, я думаю, тебе и у дяди Павла неплохо будет. Ведь правда? Настуся снова кивнула, изо всех сил стараясь сдержать слёзы. Ведь дяде тоже нелегко, а она ещё и плачет. Нет, она не будет плакать, не будет! — Я знаю, Настуся, ты у меня молодчина!.. Ну, мне пора… Дядя Осип в последний раз прижал к себе Настусю и быстрым шагом пошёл к паровозу. Через минуту раздалась команда. Толпа отступила. Боевой технический отряд выстроился вдоль вагонов. Настуся вновь протиснулась сквозь толпу и увидела дядю Осипа. Он с красным знаменем в руках стоял впереди колонны. Вдруг стволы винтовок поднялись вверх. Прогремел салют. Ещё одна команда — и отряд, повернувшись кругом, быстро разместился в вагонах. Над перроном поплыли звуки «Марсельезы». Вот и дядя Осип встал на ступеньку вагона, того самого, где белела косынка сестры милосердия. Нетерпеливым гудком отозвался паровоз. Ещё миг — и закрутятся колёса, поезд покатится по блестящим рельсам и унесёт с собой дядю Осипа. У девочки перехватило дыхание. Только теперь она поняла — настала разлука. Как же это? Нет, так нельзя. Как же она останется?.. Словно вихрь сорвал с места Настусю. Она метнулась вперёд и в то самое мгновение, когда поезд тронулся, прыгнула на подножку вагона к дяде Осипу. — Дяденька, голубчик, возьмите меня с собой! — не помня себя, закричала она. Дядя Осип ловко подхватил её на руки. — Ну что ты, Настуся, опомнись, — ласково сказал он. — Разве ж можно!.. Он сошёл на нижнюю ступеньку, чтоб передать девочку кому-нибудь из людей, которые шли рядом с вагоном. Но Настуся изо всех сил уцепилась в его кожух. — Нет, нет, не хочу! — рыдала она. — Я с вами поеду! Дядя Осип хотел уже оторвать Настусю от себя, но тут на площадке, над его головой, мелькнула белая косынка и послышался звонкий девичий голос: — Не надо, Осип! Давай её сюда! Ещё раз бросив взгляд на перрон, который медленно удалялся, дядя Осип повернулся к девушке с красным крестом на косынке и не спеша передал ей Настусю. Мимо пронеслись последние строения вокзала. Поезд, постукивая колёсами, набирал скорость.МЕДСЕСТРА ОКСАНА
Всё совершилось неимоверно быстро. Крепкие руки подхватили её, втянули в тесный коридорчик, и Настуся очутилась в вагоне. Когда пришла в себя, то увидела, что сидит на широкой гладенькой скамейке, которая слегка покачивается под ней, словно люлька, и откуда-то слышится равномерный стук: та-та, та-та, та-та… Настуся боязливо подняла глаза, увидела деревянные стены, окно, а за ним чёрную, согретую солнцем землю, которая быстро двигалась куда-то назад. Впервые в своей жизни девочка ехала в поезде. Настуся посмотрела на дядю Осипа, который стоял рядом, тихо разговаривая с медсестрой, и в грудь её горячо плеснула радость. Она едет, она едет с дядей! Пускай он даже не смотрит в её сторону, пускай не говорит с ней, Настуся на всё согласна. Конечно, дядя сердится. Может, сейчас отругает. Ну и что ж! Она всё равно счастлива! Однако дядя Осип ругать не стал. Только бросил, на ходу обернувшись к племяннице: — Что ж… Оставайся в лазарете. Слушай фельдшера и сестру. Я потом загляну. И, прежде чем Настуся сказала слово, дядя Осип исчез за дверью. Медсестра опустилась на скамью, расстегнула свой чёрный бархатный жакет с меховым воротником — его прохладную мягкость Настуся ещё до сих пор чувствовала на щеке, — и вокруг запахло снова так необычно и приятно, как в тот момент, когда девушка приняла Настусю в свои объятия. — Меня зовут Оксана, — просто сказала она, поймав Настусин взгляд. — А это наш фельдшер, Савва Григорьевич, — показала она в противоположный угол, где Настуся ещё раньше заметила сердитого, нахмуренного дядьку с седой щёточкой усов. Он в это время разложил на маленьком столике возле окна какие-то бумаги и, достав из кармана очки, оседлал ими хрящеватый нос. Поняв, что речь идёт о нём, фельдшер ещё больше нахмурился и так посмотрел на девочку, что она невольно отшатнулась. — Ну, ну! — погрозила ему пальцем Оксана. — Будете ещё мне тут девочку пугать! — А как же! Надо бы и попугать! Чтобы не была такая храбрая и не прыгала на ходу в поезд. Больше нам нечего делать, как с ней здесь панькаться… Настусе кровь так и бросилась в лицо. И чего этому дядьке надо? От обиды она даже перестала его бояться и ответила: — А со мной не надо панькаться! Я буду помогать… Я всё умею делать, всё! — Вон как! — Савва Григорьевич сдвинул очки на лоб. — Да ты, я вижу, бедовая… на словах. А на деле? — И на деле! — не унималась Настуся, чувствуя уже свою победу над сердитым дядькой. — Что надо делать? Давайте! — Ладно, ладно… Сейчас увидим. А ну-ка тащи вон те ящики из-под лавки. Настуся белкой метнулась вниз. Оксана хотела помочь, но девочка замахала руками: — Нет, нет! Я сама! Ящики и вправду были нетяжёлыми. У генеральши она разве такие вёдра с водой таскала! А дальше и совсем пошла не работа, а игра: Настуся вынимала из ящиков всякие флакончики, коробочки, пакеты с ватой, Оксана читала странные, непонятные надписи на них, а фельдшер записывал в свои тетради эти хитромудрые названия. Так началась у Настуси походная жизнь. Девочка быстро привыкла и к стуку колёс, и к покачиванию пола под ногами. Она, как мышка, шныряла между взрослыми, помогала разносить пайки и нисколько уже не боялась нахмуренных бровей Саввы Григорьевича. Как ни странно, задорная малышка очень быстро подружилась со строгим, неразговорчивым фельдшером. Для Настуси это был свой человек, такой же, как и дядя Павло, как Мовчан, как и все те простые рабочие люди, среди которых она выросла. А вот медсестра Оксана — другое дело. Такая тоненькая, деликатная, и пахнет от неё, как от барышни. А руки! Мягкие, белые, нежные, ну совсем как у генеральши, только что без перстней. Настусе всякий раз становилось не по себе, когда эта холеная рука гладила её по голове, хотя и чувствовала, что Оксана относится к ней хорошо. Заботится, словно о родной, да и вообще: если бы не она, разве дядя Осип взял бы Настусю с собой?.. И всё же не могла девочка привыкнуть к Оксане, всякий раз опасливо поглядывала в её сторону. Что ей тут надо, хрупкой, нежной барышне, среди грубых, простых людей? Ей бы сидеть с господами в тёплой, уютной комнате и играть на пианино, а она отирается в грязных, прокуренных махоркой вагонах, таскает торбы с пайками, а на стоянках спорит о чём-то с начальником станции. Настусе страх как хотелось расспросить про Оксану дядю Осипа, но всё как-то не получалось. Когда он забегал к ним в вагон, то здесь непременно была и Оксана и он больше разговаривал не с Настусей, а с нею — ведь они были оба членами комитета и всегда у них находились важные дела. А Настуся что! Дядя Осип и так видел, что с ней всё в порядке. Девочка и правда чувствовала себя в поезде как дома. Она уже не боялась во время движения переходить из одного вагона в другой, а на остановках ловко спрыгивала с высоких ступенек, чтобы хоть немного побегать по тёплой земле. От пьянящего весеннего воздуха было радостно, легко, и не верилось, что есть на свете война, выстрелы, смерть. А война была тут, вокруг, и всякий раз напоминала о себе тревожными перестрелками, далёкими взрывами снарядов. Всё чаще приходилось останавливать поезд для ремонта пути. И часто мирный стук молотков и громыханье рельсов смешивались с татаканьем пулемётов. Вооружённые рабочие прыгали из вагонов и бежали на выстрелы. Некоторые возвращались раненными, и Савва Григорьевич с Оксаной быстро делали им перевязки. Во время тревоги Оксана выбегала вместе со всеми и всегда старалась быть рядом с дядей Осипом. Команды его она выполняла, как обыкновенный рядовой боец. Лишь один раз пошла наперекор, но дядя Осип почему-то не рассердился на неё. День тогда выдался напряжённым, неспокойным. Надо было отремонтировать мостик, чтобы пропустить красный бронепоезд. Немцы всё время обстреливали железнодорожные пути, и работа шла медленно. Поздно вечером голодные, усталые железнодорожники вернулись в свои вагоны. Оксана с Настусей быстренько разнесли пайки и только сели с Саввой Григорьевичем ужинать, как зашёл дядя Осип. Настуся хлопотала у маленького столика, резала колбасу и хлеб. — Берите, дяденька, — пригласила она. Дядя Осип взял было кусочек колбасы, но тут же положил обратно. Вдалеке послышались частые, беспорядочные выстрелы, отозвался пулемёт. И в тот же миг кто-то затопал на площадке вагона, громыхнула дверь. В купе вскочил молодой запыхавшийся железнодорожник. — Товарищ Реминный, у мостика бой! — выкрикнул он. — Немцы окружили бронепоезд! Дядя Осип привычным движением сгрёб шапку. — Иду. Передай по вагонам — немедленно выходить с оружием! Железнодорожник исчез, Савва Григорьевич двинулся за ним. Оксана, схватив санитарную сумку, тоже встала с лавки, но дядя Осип сказал: — Оксана, ты пока оставайся. Без тебя обойдётся. Девушка обиженно выпрямилась. — Ты что, ребёнком меня считаешь? — И горячо добавила: — Я иду с тобой. Эти слова прозвучали остро и твёрдо, как приказ. Словно не дядя Осип, а она, Оксана, была в этот момент командиром. Словно она имела над ним какую-то таинственную власть. И дядя Осип подчинился этой власти. Он только странно как-то посмотрел на Оксану и кивнул головой Настусе: — Сиди, Настуся, и ничего не бойся. Мы скоро вернёмся. «Я не боюсь», — хотела ответить Настуся, но не успела. Дверь щёлкнула, и она осталась одна в полутёмном вагоне. Страха не было, лишь неприятный, нудный холодок в груди. Забыв об ужине, девочка притихла на лавке. За станцией беспрерывно трещали выстрелы. Настуся пыталась представить себе, что делается там, у мостика. Перед её глазами стояла Оксана, тоненькая, решительная, с сердитым румянцем на худеньких щеках. Хорошая она всё-таки. Не жалеет себя, хоть и барышня. Оказывается, бывают и такие паны, которые идут против своих… Перестрелка постепенно слабела и наконец совсем стихла. Девочку сморила усталость, веки сами по себе смежались. Уже сквозь сон услышала она возле себя шорох, шарканье ног, приглушённые голоса. Кто-то чиркнул спичкой, зажёг свечу. Настуся открыла глаза и в дрожащем свете увидела перед собой большие, блестящие глаза Оксаны. — Всё хорошо, Настуся, спи, — слегка шевельнулись губы на бледном лице, и маленькая заботливая рука, скользнув по шее Настуси, прикрыла ей плечи какой-то одёжкой. Стало уютно, тепло. Девочка повернулась на бок и нырнула в сладкое забытьё.ЛОВУШКА
День занялся прозрачный, безветренный, по-летнему тёплый. Эшелон стоял на глухом разъезде. В окно была видна широкая безлюдная степь, над которой поднималось ослепительное солнце. Девочка уже привыкла к этим однообразным пейзажам. Далеко позади остался Екатеринослав и Александровск[7], а ещё дальше — родная зелёная Полтава. Боевой технический отряд миновал Мелитополь, неуклонно направляясь на юг. Оттуда, с бескрайних просторов Таврии, надвигалась на Республику Советов грозная опасность: с румынского фронта на Дон катились дивизии белых во главе с генералом Дроздовым. Белые восстанавливали в сёлах старые порядки и совершали расправы над крестьянами. В Мелитополе никто точно не знал, где находились дроздовцы. Полтавцам советовали подождать, пока всё выяснится. Но у них был строгий приказ: идти на Джанкой, на помощь частям Красной Армии. И боевой технический отряд спешно выступил со станции Мелитополь. Однако на разъезде пришлось остановиться. Следующая станция не принимала. В чём дело? Оксана пошла в штабной вагон узнать обстановку. — Ну, что там? — спросил Савва Григорьевич, когда она вернулась. — Дежурный со станции Якимовка передал, что путь размыт, — хмуро ответила Оксана. — Надо ждать, пока исправят. — А зачем же ждать? — удивился Савва Григорьевич. — Что, у нас своей ремонтной бригады нет? Наши хлопцы мигом справятся, а то те будут там возиться целый день. — То же самое и Осип говорит… А те своё: отправки не дадим. Савва Григорьевич пожал плечами и затянулся цигаркой. Оксана молча постукивала пальцами по столу. Настуся растерянно посматривала на взрослых. Чувство тревоги, которое владело ими, передалось и ей. Собственно, ничего особенного вроде бы не случилось. Остановки в пути случались и раньше. Тревожило только то, что попусту тратится драгоценное время. И поэтому, когда поезд дёрнулся и пошёл, у всех словно гора с плеч скатилась. Савва Григорьевич потянулся за табаком для новой цигарки, а Настуся мигом прилипла к окну и даже не заметила, как Оксана опять вышла из вагона. Паровоз озабоченно пыхал белым паром. Деловито простукивали колёса каждую щёлочку на стыках рельсов. Солнце широко улыбалось с высокого весеннего неба. Привычным покоем несло от разомлевших полей, от дальней рощи и двух молоденьких берёзок над овражком. И поэтому всё, что случилось потом, показалось Настусе какой-то нестрашной, весёлой игрой. Из-за холма выскочили чёрные движущиеся точки. Они быстро росли, приближались, и Настуся вскоре рассмотрела, что это люди на конях. Всадники мчались прямо на поезд, словно торопились его приветствовать. Но вот они вскинули винтовки, и что-то словно горохом сыпануло по крыше вагона. Над головой у Настуси звякнуло разбитое стекло, и в тот же момент, схваченная крепкой рукой фельдшера, девочка очутилась на полу. — Вот банда чёртова! — пробормотал Савва Григорьевич. — Ну да ничего, им за нами не угнаться… И правда, поезд, набирая скорость, уже оставил всадников далеко позади. Савва Григорьевич выглянул в окно: — Слава богу, проскочили. Вот уже и стан… Но договорить не успел. Сзади грохнул взрыв. Задрожали вагоны, вздрогнули рельсы и земля под ними. — Вот гады! Путь подорвали… — вырвалось у фельдшера. — Но для чего? Страшный ответ на этот вопрос не задержался. Станция Якимовка встретила поезд, что стремглав ворвался, спасаясь от бандитского налёта, дулами пулемётов. Состав рывком затормозил — стрелка была заранее переведена в тупик. Выстрелы, разрывы снарядов, крик — всё слилось в один беспрерывный грохот, и адский шум этот оглушил Настусю. Вагоны огрызались пулемётными очередями, они вздрагивали, будто живые, от топота ног, от натиска людей, торопившихся выскочить на перрон. Сквозь бешеную стрельбу прорывались слова команды, выкрики «ура»; Настусе показалось даже, что она узнала голос дяди Осипа. Все, кто имел оружие, были уже на перроне. В вагонах остались лишь «старички» из ремонтной бригады и Настуся с Саввой Григорьевичем. Девочка притаилась в продырявленном пулями вагоне, но у неё даже и в мыслях не было, что какая-то пуля может её зацепить. Там, за тонкой обшивкой вагона, идёт бой, и там дядя Осип… Но вот выстрелы стали утихать. И пулемёты замолчали. Настуся вскочила. Возле неё, на лавке, весело играл солнечный зайчик. А рядом, побледневший, сгорбленный, стоял Савва Григорьевич и смотрел в окно. За окном была станция. Обыкновенные кирпичные строения, багажная камера, водокачка. Обычные, да не совсем. Из каждого окна прямо в поезд целились пулемёты. Из широко открытых дверей вокзала на перрон бежали вооружённые люди в шинелях. — Кто это? — шёпотом спросила Настуся, повернув к Савве Григорьевичу белое как мел личико. — Дроздовцы, — так же тихо ответил тот. — Что же теперь будет, дяденька? Савва Григорьевич не ответил. В это время за окном раздалась властная команда: — Из вагонов выхо-о-ди! Настуся схватила Савву Григорьевича за рукав… Оба замерли. В соседнем вагоне щёлкнула дверь и послышались неровные шаги. — Что же, Настуся… Придётся идти. Фельдшер взял сумку с красным крестом и подал руку Настусе. Через минуту они очутились среди ремонтников и случайных пассажиров, окружённых дроздовцами. Вдоль эшелона быстро прошёл высокий офицер в длинной, словно поповская ряса, шинели. — Прочесать вагоны! — приказал он, и несколько солдат с винтовками наготове сразу же полезли на ступеньки. Офицер тем временем повернулся к толпе пленных и скомандовал: — Во двор путевого мастера! Хмурая, молчаливая толпа потопала по перрону. Двор путевого мастера был совсем рядом. Под забором, прямо на земле, лежали раненые. Были здесь и железнодорожники, и солдаты-дроздовцы; везде темнела запёкшаяся кровь, слышались стоны. — Фельдшер? — ткнул пальцем в Савву Григорьевича офицер, заметив санитарную сумку на его плече. Савва Григорьевич молча кивнул. — А ну выходи сюда! Будешь перевязывать раненых. Савва Григорьевич вышел вперёд, не выпуская руки Настуси. — А это что ещё за оборвыш? — нахмурился офицер. — Сиротка… ехала с нами… — Гм… Ну, пускай убирается, пока цела… А ты берись за работу. Да смотри мне, наших перевязывай, а не своих! И офицер, путаясь в длинных полах шинели, пошёл со двора. Савва Григорьевич, на ходу расстёгивая сумку, направился к раненым. Настуся, как тень, последовала за ним. А что, если среди раненых дядя Осип?.. Девочка пристально всматривалась в лица, но напрасно. Навстречу ей поднимались чужие страдальческие глаза, и пересохшие губы шептали: — Воды… Воды… Ну конечно же, воды! Настуся оглянулась. В глубине двора, возле небольшого каменного дома, виднелся колодец с журавлём, и в это время из него брала воду небольшая, полная женщина. Девочка мигом оказалась рядом с нею: — Тётенька, дайте воды! Раненые просят… У женщины было на удивление круглое, добродушное и вместе с тем испуганное лицо. Заметив перед собой Настусю, она даже не удивилась, а только сказала: — Сейчас, сейчас… Торопливо вытащив ведро, она набрала полную кружку и протянула Настусе. Но кружка сразу опустела, и пришлось попросить у хозяйки ведро. Раненые лежали вповалку, обессилев от потери крови. Савва Григорьевич, несмотря на предупреждение офицера, оказывал первую помощь всем подряд. Но где там ему было справиться одному! Настуся то бросалась ему помогать, то снова бежала к колодцу за водой. Когда у Саввы Григорьевича кончились бинты, хозяйка всё с тем же испуганным лицом вынесла несколько простыней и порвала их на куски. Она оставила свои домашние дела и вместе с фельдшером и Настусей суетилась возле раненых. Несмотря на свою полноту, двигалась женщина быстро: — Ой горечко!.. Такое несчастье!.. О господи!.. Во двор заползали всё новые раненые. Среди них Настуся вдруг узнала Варькиного отца. Упираясь обеими руками в землю, Мовчан волок простреленную ногу. Девочка метнулась к нему. Усадила его под забором в тени, напоила, стащила окровавленный сапог. — Спасибо, голубка, спасибо, — проговорил Мовчан и посмотрел на девочку с такой невыразимой скорбью, что она впервые за этот страшный день не выдержала и залилась слезами. — Дяденька… Вы не видели дядю Осипа?.. Мовчан покачал головой. — Видишь, милая… Осип… Он первым выскочил из вагона. Сразу и ранили его, но он всё стрелял и стрелял. А потом я упал и не знаю, что с ним было дальше. Если живым остался, то, может, и дроздовцы схватили. Вон там они наших погнали в село… — В село? Где? Куда? Девочка бросилась к хозяйке. Разложив огонь прямо на земле, та варила кулеш, чтобы накормить раненых. — Тётенька, как пройти в село? Туда наших погнали… Я побегу. Может, там мой дядя… Хозяйка уже знала кое-что про Настусю от Саввы Григорьевича. — Вот беда, да и только! Ну куда ты пойдёшь?.. Да поешь же хоть немного, вот кулеш уже закипел! Однако девочка вне себя повторяла: — Я пойду, тётенька, я пойду… Охая и вздыхая, хозяйка сунула Настусе ломоть хлеба за пазуху и вывела за станцию, на дорогу. Не оглядываясь, девочка помчалась в село.«МЫ ПОЩАДЫ НЕ ПРОСИМ!»
Словно половодье после проливного дождя, затопили дроздовцы Якимовку. Просторная базарная площадь гудела от солдатского гомона и топота конских копыт. На доме волостного правления, стоявшего в центре села, развевался трёхцветный царский флаг. Здесь разместился дроздовский штаб. По ступенькам непрерывно носились вестовые, у коновязи ржали кони. А рядом, под усиленным конвоем, томились на солнце с полсотни окровавленных, измученных людей. Поблизости, кроме солдат, не видно было ни одной живой души. Никто из крестьян не отваживался даже выглянуть за ворота. Только одна простоволосая, запыхавшаяся девчушка жалась к забору. Это была Настуся. Она пыталась подкрасться как можно ближе к пленным, но раздалась команда: «Рав-няйсь!» На высокое крыльцо волостного правления вышли несколько офицеров, среди них и тот длинноногий, которого Настуся приметила ещё на станции. — Смирно, вы, голодранцы! — крикнул он на пленных. — С вами хочет говорить его превосходительство генерал Щербачёв! Офицер уступил место небольшому сухощавому старику в расстёгнутой шинели, из-под которой виднелись на брюках красные лампасы. Настусе сразу припомнился генерал Павленко, у которого она служила в Полтаве. Тот хоть и был моложе да толще и ругался по-украински, а не по-русски, как этот, но так же точно орал и размахивал руками, когда гайдамаки привели к нему Максима. Настуся так и не поняла, что именно кричал, захлёбываясь, куцый генерал. Слышала только выкрики: «Комитетчики… Анархисты!.. За измену отечеству — расстрелять!» Накричавшись, генерал уже спокойнее добавил, что помилован будет лишь тот, кто покается и даст согласие вступить в их войска. — Кто хочет остаться живым, три шага вперёд! — скомандовал он. Но угрюмая толпа пленных даже не шевельнулась. Прямо в глаза генералу, словно выстрелы, посыпалось: — Мы пощады не просим!.. — Стреляйте!.. — Всех не перестреляете! Нас миллионы!.. Вперёд продвинулся человек со связанными руками, в разорванной сорочке и с окровавленной повязкой на голове: — За нашу кровь вам отомстят! «Дяденька!» — хотела было крикнуть Настуся, но не смогла. Генерал махнул конвойным рукой. Солдаты теснее обступили пленных и погнали их по улице. Настуся хотела пойти следом, но дорогу ей преградила вторая партия пленных. Колонна остановилась, прижав Настусю к высокому дощатому забору, и тут она совсем близко заметила знакомую белую косынку с красным крестом. Среди пленных была медсестра Оксана. Не думая, что делает, Настуся бросилась к ней. Проскользнув между конвойными, она с отчаянием выкрикнула: — Там дядю Осипа… повели! Оксана молча прижала к себе девочку. Она всё поняла. Она знала, куда повели пленных, и ей нечем было утешить Настусю. В тот же миг один из конвойных злобно дёрнул девочку за плечо: — Ах ты щенок! Вишь, куда пробралась! Настуся с громким плачем прильнула к Оксане. — Что за беспорядки? — послышался недовольный окрик. — Спиридонов, в чем дело? Рядом с ними стоял длинноногий офицер. Конвоир, услышав свою фамилию, вздрогнул и выпустил Настусино плечо. — Так что осмелюсь доложить, вашскобродь, вот эта девчонка… Но офицер уже не слушал. Он вытаращил глаза на Оксану, и его бледное, длинное лицо с тонкими усиками из сердитого становилось всё больше удивлённым. — Ксения Валерьяновна? — наконец воскликнул он. — Вы? Как вы здесь очутились? Оксана тоже удивлённо смотрела на него. — Просто не верится… Вы — и вдруг среди этих бандитов… Спиридонов! — обернулся офицер к конвоиру. — Проведи барышню… — И движением головы показал: — На квартиру. Услышав эти слова, Оксана рванулась, но тут же прижала к себе Настусю и сникла. Что будет с этой девочкой? Имеет ли она право отказываться от шанса на спасение? И Оксана, взяв Настусю за руку, молча пошла за солдатом. Повернув в переулок, они миновали одну или две хаты и вошли в заросший травой двор. Никто не встречал их, и, лишь войдя в хату, они увидели на лавке старичка инвалида с деревяшкой вместо правой ноги. — Ты хозяин? — спросил солдат. — Да, я… — А где же денщик их благородия? — А там, в светлице. Храпит… Солдат через сени прошёл в светлицу. А Оксана в тяжёлом раздумье села на лавку. Казалось, она забыла даже о Настусе, которая растерянно пристроилась рядом. Старичок, который уже несколько раз посматривал на Оксану, желая что-то спросить, только вздыхал и качал головой. Он уже совсем было решился заговорить и даже крякнул, пригладив усы, когда в хате раздался стон. Настуся удивлённо оглянулась. На лежанке, возле печи, зашевелилась куча одежды и послышался старческий голос: — Филипп… Подай воды… Старичок похромал в угол, зачерпнул кружкой из бадейки воды и подал на лежанку. Маленькая, словно детская, головка в тёмном платке, из-под которого выбивались седые волосы, поднялась из кучи тряпья и припала к кружке. В сенях затопали. Это солдат-конвоир вышел из светлицы и подался восвояси. Снова наступила тишина, тяжёлая и гнетущая, словно осенний туман. Беззвучно дышала больная старушка, притих старичок, застыли у окна на лавке и Оксана с Настусей. И в эту тревожную тишину ворвались вдруг со двора залпы винтовок. Один… другой… третий… — Проклятые! — вскрикнула Оксана, подхватившись с лавки. — Убили Осипа… Убили! — и как подкошенная упала на пол. Настуся бросилась к ней. Вдвоём со старичком подняли они Оксану и поволокли к лавке. — Набери воды в кружку, — велел старичок, когда они кое-как примостили Оксану на лавке, подложив под голову свёрнутую одёжку. Девочка подала кружку, и старичок брызнул водой Оксане в лицо. Какое-то мгновение оба стояли, напряжённо вглядываясь в безжизненные черты. Но вот густые тёмные ресницы слегка шевельнулись, глаза открылись. Оксана глубоко вздохнула. Настуся с плачем припала к девушке. — Не трогай её! — проговорил старичок. — Пускай придёт в себя немного. Настуся, всхлипывая, отошла к окну, а старичок поковылял в сени. Вдруг девочка подняла голову. Сначала далеко, а потом всё ближе послышались разрывы снарядов, задрожали стёкла в окнах. — Откуда стреляют, дедушка? — спросила она хозяина, когда тот вернулся в хату. — А оттуда, от Мелитополя, — охотно отозвался тот. — Видно, красные наступают. А дроздовцы что-то засуетились. Уж не отступать ли думают? Словно в ответ на его слова, в переулке зацокали копыта. Послышались встревоженные голоса, стукнула дверь в сенях. Через несколько минут в хату вскочил вспотевший, расстроенный офицер. — Ксения Валерьяновна! Собирайтесь! Сейчас выступаем! — Осмотревшись и увидев на лавке Оксану, он спросил старичка: — Что с нею? Тот пожал плечами. — Заболела… — Как? — А так… Стояла посреди хаты и упала… Офицер нагнулся к Оксане: — Ксения Валерьяновна! Ксения Валерьяновна! Но она даже не открыла глаз. Офицер нерешительно постоял минутку, потом махнул рукой и выбежал из хаты. Настуся увидела в окно, как он вскочил в седло и вылетел со двора. За ним — его денщик. Орудийная стрельба не утихала. От взрывов всякий раз дребезжали стёкла. С улицы доносилось назойливое тарахтение тачанок — это убегали дроздовцы, испуганные наступлением красных частей. На другом конце села горели хаты. К вечеру, когда немного утихло, старичок втащил в хату охапку соломы и растопил печь. Настуся помыла в горшке картошку и поставила на огонь. Соседская девчонка принесла кувшин молока. Они напоили старушку и Оксане хотели дать, но Оксана и рта не открыла, когда Настуся поднесла кружку с молоком. Вдвоём со старичком они поужинали горячей картошкой, сваренной в мундирах. Старичок постелил Настусе на лавке старый кожух, а потом и сам примостился на дощатом помосте возле лежанки. Утром Настусю разбудил громкий разговор. Девочка вскочила и села, протирая глаза. Оглянувшись, заметила Оксану, неподвижно лежавшую на лавке, а дальше, у двери, старичка и ту самую соседскую девчонку с кувшином в руках, которая приходила вчера. — Так они и наших там расстреляли? — Да, дедушка! И Андрея, и дядю Петра… За то, что землю делили. А тётя Горпина с Катрей, как рассвело, побежали туда, за село, чтобы, значит, тело забрать… — А разве их вчера не закопали? — Да нет же, солдаты не дали. Кричали: кто только подойдёт, расстреляем! Настусе вдруг стало нечем дышать. «Что она говорит?» А девочка возбуждённо продолжала: — Вот стали они подходить, и тут один из расстрелянных зашевелился. Они остолбенели, а тот давай подниматься и встал на колено. Тут тётя Горпина с Катрей как закричат да как дёрнут оттуда! Чуть живые домой прибежали… — Осип! То Осип! — не своим голосом неожиданно вскрикнула вдруг Оксана и привстала, опершись на локти. — Пойдите приведите его сюда, быстрее! — И с этими словами голова Оксаны снова бессильно упала на подушку… Всю неделю проболела Оксана. Настуся не отходила от неё. Несколько раз прибегала соседка, мать той девчонки, которая рассказывала о расстреле пленных, и поила Оксану каким-то зельем. Наконец ей немного полегчало. Горячка прошла, Оксана стала подниматься и разговаривать. А ещё через день она и Настуся, обе худые, печальные и молчаливые, как тени, побрели за село, туда, где виднелась свеженасыпанная братская могила. Возле могилы они не плакали. Только стояли долго-долго, устремив глаза в обвеянные тёплым ветром сухие комья земли. И казалось Настусе, будто она снова слышит голоса расстрелянных здесь людей: «Мы пощады не просим! Стреляйте! За нашу кровь вам отомстят!» Да, отомстят. Все, кто остался в живых. На другой день Оксана и Настуся пешком двинулись в Полтаву.ВОЗВРАЩЕНИЕ
В далёкий путь собрались на рассвете. Хотя Оксана ещё не совсем поправилась, однако оставаться дольше в Якимовке было небезопасно. Дроздовцы, правда, отступили, но волостью правил поставленный ими староста, и его приспешники шарили по селу. По совету хозяина Оксана с Настусей пошли не по улице, а огородами. Никем не замеченные, они выбрались на дорогу, ведущую к станции, проскользнули мимо станционных построек и спрятались в посадке. Оксана устало опустилась на землю под кустом жёлтой акации, а Настуся побежала во двор путевого мастера, расспросить о Савве Григорьевиче. Вот и калитка. Девочка шмыгнула во двор, который теперь казался намного просторнее, так как был пустой. Только у колодца топтались трое коней, а возле них Настуся увидела двух солдат в незнакомой серо-зелёной форме. «Немцы», — догадалась Настуся да так и прилипла к калитке. Но те не обратили на неё никакого внимания. Тогда она потихоньку вдоль забора прошла к хате и вскочила в открытые сени. Хозяйка была в кухне. Стоя спиной к двери, она мыла в миске ложки. — Добрый день, тётенька, — поздоровалась Настуся. Женщина испуганно обернулась. — Боже мой! — всплеснула она руками. — Это ты, Настя! А мы уже думали… Где же ты была? — В селе… Мы домой идём. С Оксаной. — С Оксаной? Так она жива? Хозяйка схватила кувшин молока, кусок хлеба, и они быстренько подались в посадку. Пока Оксана с Настусей пили молоко, хозяйка рассказала, как они с Саввой Григорьевичем спасали раненых, как потом дроздовцы пригнали подводы, приказали положить на них раненых и куда-то увезли. Прощаясь, Савва Григорьевич всё беспокоился о Настусе. Больше хозяйка его не видала. Вздыхая, добрая женщина проводила Оксану с Настусей до семафора. — Идите и идите по путям, до самого Мелитополя, — напутствовала она. — А оттуда до Александровска вагончики ходят — подъедете немного. В Мелитополе они действительно разыскали вагоны — несколько ободранных теплушек, стоящих на запасном пути. Оксана с Настусей кое-как протиснулись в один из них и примостились прямо на полу между чужими мешками. Уже темнело, и они, измученные, сразу заснули, не обращая внимания на тяжёлый дух и тесноту. Но спали они недолго. На одной из станций вдруг появился немецкий патруль. Тяжёлые двери теплушки раздвинулись, и в вагон забрался какой-то гражданский в мундире телеграфиста, который служил у немцев, видно, переводчиком, а с ним два солдата. Осмотревшись, «телеграфист» наклонился к крайнему мужику с торбой за плечами: — Документы! Мужик неохотно зашевелился и полез в карман. Оксана с Настусей сидели ни живы ни мёртвы. Но вскоре они заметили, что документы требуют только у мужчин, и на душе у них стало немного легче. Проверка подходила к концу, как вдруг «телеграфист» подошёл к Оксане. — А эта девушка, кажется, мне знакома! — сказал он. — Уж не с того ли красного поезда, который недавно здесь проезжал? Оксана вздрогнула, но овладела собой и сделала удивлённое лицо. — Да вы что? С какого поезда? — Ещё как будто и на митинге выступала… Настуся испуганно вцепилась в Оксану. Один из немцев, что торчал в дверях, повернулся к ним. Если этот проклятый иуда скажет ему хоть слово, тогда конец! — Дяденька, это моя сестра! — воскликнула девочка. — Мы домой едем, мы были у дедушки… — Она так умоляюще посмотрела на их мучителя, что тот на миг растерялся. — Вас ист льос?[9] — сердито спросил немец. «Телеграфист» оглянулся. Немцы нетерпеливо посматривали на него: они, очевидно, торопились. Ещё раз окинув не совсем уверенным взглядом девушку и ребёнка, он выскочил из теплушки. Немцы тяжело спрыгнули за ним, и все трое направились к другому вагону. Настуся потянула Оксану за руку. — Бежим! — прошептала она, но Оксана прижала её к себе: — Сиди тихо! Поезд скоро тронется. — А если они снова придут? — Не придут. А бежать нельзя. Заметят, и будет ещё хуже. Девочка притихла и сидела сама не своя, пока не послышался паровозный гудок. Успокоилась только тогда, когда станция осталась далеко позади. Приехав в Александровск, они решили больше не придерживаться железной дороги, а идти напрямик через сёла. Ночевать просились где-нибудь на окраине села. Люди в большинстве встречали их приветливо, кормили «чем бог послал» и от платы отказывались. И каждый раз Настуся задумывалась: почему это так? Чем беднее люди, тем они добрее, тем больше сочувствуют чужому горю. А хозяева тем временем делились и своей бедой. Думали засеять панскую землю, а оно что-то снова поворачивается к старому. В Киеве, говорят, гетмана немцы поставили. Послетались помещики, словно вороньё, порядки наводят в экономиях, словно и не было революции. А ты молчи, не пискни, а то немцы шутить не любят: так угостят шомполами, что небо с овчинку покажется. Настуся, сидя возле Оксаны на лавке, хмурила брови. Что же это делается на белом свете? И откуда эти немцы взялись? От тяжёлых, недетских мыслей ещё крепче сжимались тонкие Настусины губы и худое, загоревшее на солнце личико выглядело по-взрослому строгим и хмурым. Так шли они с Оксаной от села к селу, полями и лугами. Остановится Настуся, осмотрится — а вокруг только бескрайняя степь и едва видны на горизонте унылые курганы.
Эти курганы навевали ещё большую грусть на Настусю. Сколько же это людей под ними похоронено? И когда? Оксана говорит, что очень давно. Тысячи лет назад. А разве и тогда жили люди на Украине? Живое любопытство, словно солнечный зайчик, пробегает по осунувшемуся Настусиному личику. Оксана замечает это и начинает рассказывать о давних временах. Как людоловы-татары опустошали украинские земли, забирали в плен мужчин, женщин и детей. И чтобы уберечься от внезапного набега орды, выставляли казаки на этих могилах охрану. Далеко-далеко видно в степи с высокого кургана. И как только увидит охрана на горизонте островерхие татарские шапки, сразу же зажигает костры, а на других могилах, заметив этот огонь, разжигают тоже. Так облетала весь край тревожная весть. Женщины и дети убегали в леса, в овраги, а мужчины брали оружие и шли воевать с ордынцами. — Так, значит, всегда были войны? — печально спрашивала Настуся. — И всегда нападали захватчики, и всегда лилась кровь? Оксана кивала. Да, это так! Кто только не топтал нашу землю! Татарская орда, польская шляхта, завоеватели-шведы… А теперь вот и солдаты немецкого кайзера. Но власть Советов всё равно победит. И тогда войн больше не будет… Один за другим уплывали дни. Оксана с Настусей наконец добрались до Карловки и тут узнали, что от моста, который ремонтируют полтавские железнодорожники, ходит в Полтаву рабочий поезд. Среди железнодорожников нашлись знакомые, и вместе с ними в тот же день Оксана с Настусей прибыли на станцию Полтава-южная.
У ДЯДИ ПАВЛА
Все эти дни, пока Оксана с Настусей шли и ехали, перед ними была одна цель: Полтава. Дойти до Полтавы — значит добраться домой. Но вот они уже в Полтаве, и теперь оказывается, что дома у них нет. Правда, Настуся знала, что на Константиновской, в собственном доме, живут родители Оксаны, довольно зажиточные люди, но дорога туда, в прошлую жизнь, для Оксаны-коммунистки была закрыта. А Настуся, конечно же, будет с Оксаной. Им бы только найти пристанище на первое время. Что и говорить, у дяди Павла их всегда примут. Но всё же Оксана, услышав от одного рабочего, что дядя Павло, кажется, дежурит сегодня ночью на сортировочной станции, решила сначала его разыскать. Дядя Павло был дежурным на манёврах, или «составителем» поездов. Под его наблюдением рабочие сортировали и отбирали вагоны: из «здоровых» составляли поезда, а «больных» перегоняли на ремонт в мастерские. Минуя многочисленные стрелки и чуть не заблудившись в темноте среди целого лабиринта путей, Оксана с Настусей наконец попали на «сортировку». Вокруг громыхали вагоны, раздавались свистки, и дважды мимо них с пронзительным свистом прошмыгнул маневровый паровоз. Всё время оглядываясь, Оксана с Настусей миновали длинные составы вагонов, под которыми тут и там мерцали огоньки. Это рабочие светили фонарями и постукивали по колесам: тук-тук, тук-тук… В одном месте Настуся чуть-чуть не наткнулась на чью-то согнутую фигуру, которая выбиралась из-под вагона. — Троценка не видели, Павла Денисовича? — спросила Оксана. Рабочий выпрямился и показал рукой в конец состава. Оксана с Настусей подались в указанном направлении, обежали вагоны, но там никого не оказалось. Где-то в стороне раздался свисток, и они бросились туда, но тоже напрасно. И так, видимо, ещё долго перебегали бы они с одного пути на другой, если бы дядя Павло, предупреждённый товарищами, сам не соскочил к ним прямо на ходу из вагона. — Ну вот… Прибыли, значит, — сказал он, протягивая Оксане руку. Потом наклонился к Настусе и, взяв за подбородок, поднял ей голову так, что она, несмотря на темноту, рассмотрела знакомый шрам на его щеке. — Жива? Ну и слава богу… Он вздохнул, и в этом вздохе была скорбь и боль, понятная им троим без слов. Потом, помолчав, деловито проговорил: — Вы того… Идите сейчас к нам… Отдохните с дороги. Да заодно возьмёте тут кое-что с собой… Кивнув, чтобы подождали, дядя Павло засвистел и побежал навстречу маневровому паровозу и через некоторое время снова показался из-за тёмных вагонов. В руках у него был большой свёрток, обёрнутый тёмной тряпкой. Оглянувшись вокруг, дядя Павло начал быстро разматывать тряпку, из-под которой зашуршала бумага. Настуся пододвинулась ближе. Что там такое? Книжки? Но нет, не похоже. Это были сложенные пачками листки, на которых темнели ровные печатные строчки. «Прокламации!» — догадалась Настуся. Такие листки она уже видела в хате дяди Павла. Он подал Оксане одну, потом другую пачку, пропахшую типографской краской. — Откуда это? — спросила она. — Из Киева… Там у нас есть типография… Свои ребята грузят и ставят на вагонах условные знаки. А в Полтаве, на Киевском вокзале, эти вагоны отцепляют и перегоняют сюда, на сортировочную. Ну вот… Хорошо, что вы пришли, а то здесь опасно держать. Отдадите Гале, а она уже будет знать, что и как… Оксана, кивнув головой, спрятала листовки под кофту. Настуся тоже потянулась к дяде Павлу: — А мне? Я тоже понесу. — Вот и тебе. Дядя Павло быстро и уверенно вывел их из путаницы путей на пустырь. Дальше начиналась глухая улица. Настуся шла, при каждом шаге чувствуя на груди прикосновение ровной, гладенькой поверхности бумаги. Эта нетяжёлая, согретая теплом её тела ноша наполняла девочку одновременно и гордостью и страхом, а таинственная пустота ночной улицы пугала и в то же время успокаивала. Пока нет никого, пока не слышно ничьих шагов, они в безопасности. Вот уже и знакомая околица. На углу, в подвальчике, магазин, в который не раз бегала Настуся, а чуть дальше, за поворотом, из-за кустов старой сирени выглядывает и знакомая хатка с навесом. В оконце мигает огонёк — видно, тётя Галя не спит. И действительно, на их осторожный стук сразу послышались шаги, скрипнула дверь. В сенях стояла тётя Галя, простоволосая, в наброшенной на плечи старой одёжке. Она молча впустила прибывших в хату и только тут, всплеснув руками, прижала к себе Настусю и заплакала. На какую-то минутку Настуся почувствовала себя в этих объятиях маленькой и несчастной. Но только на минутку, потому что твёрдое прикосновение листовок, спрятанных на груди, напомнило о том, что ей впервые, совсем как взрослой, доверено важное дело, придало мужества и силы. Не только у неё горе. Тёти-Галин Максим тоже остался там. Бедная тётя Галя, как она осунулась, постарела, и волосы поседели… Вот она уже засуетилась, собирая ужин — ведь люди с дороги, — но Оксана остановила. Надо было прежде всего спрятать куда-то то, что принесено с собой. Она вытащила из-под одежды листовки, и тётя Галя понесла их из хаты. Настуся тем временем присела возле печи на лежанке. Это было её любимое место ещё тогда, когда они жили тут с дядей Осипом. Прижавшись к тёплой печи, девочка лишь на миг, как ей это показалось, закрыла глаза. А когда открыла, на дворе уже был белый день и сквозь маленькие оконца в хату тугими снопами проникали солнечные лучи. Настуся рывком поднялась с постели. — А где Оксана? — тревожно вырвалось у неё. — Пошла куда-то, — послышался от стола голос тёти Гали. — Она придёт. А ты пока что отдыхай с дороги. Но Оксана не пришла. Не было её и на другой день. А только на третий, поздно вечером, она неожиданно появилась на пороге. Из-за спины её выглядывал высокий и тонкий, как жердь, немец. Настуся, вся похолодев, посмотрела на дядю Павла. «Это за ним!» Но тот почему-то нисколько не испугался. Спокойно взглянул на поздних гостей и даже шагнул им навстречу. — Товарищ Эрих Гартман, — проговорила Оксана. — Знакомьтесь. Геноссе[10] Троценко. Дядя Павло и длинный немец пожали друг другу руки. Настуся растерянно взглянула на Оксану. Та улыбнулась и, подмигнув Настусе (мол, всё в порядке, подробности потом), повернулась к немцу, который что-то залопотал по-своему. — Товарищ Гартман говорит, — перевела Оксана, — что боеприпасы они передадут нашим товарищам завтра ночью. Немец закивал и вновь заговорил что-то, повторяя слово «транспорт». — Транспорт у нас будет, — ответил дядя Павло. — Скажите ему, Оксана, чтобы не беспокоился. Пускай передаст от нас немецким товарищам большое спасибо и, кроме того, этот подарок. И дядя Павло положил на стол пачку листовок, похожих на те, которые они принесли с Оксаной. Только теперь, при свете, Настуся заметила, что напечатано там было не по-нашему. — О! — обрадовался немец. — Для германский зольдат! Зер гут! Филен данк![11] — Завтра ночью передадим ещё, — добавил дядя Павло. — Когда приедем за боеприпасами. Скажите ему, Оксана. Оксана перевела, и немец, ещё раз поблагодарив, попрощался и пошёл к двери. Оксана направилась за ним, шепнув Настусе: — Не грусти, я на этих днях забегу. Но прибежала она на следующее утро с тревожной вестью. Кажется, Василя, который поехал в Санжары, арестовал немецкий патруль. Они сделают всё, что можно, через немецких товарищей. А сейчас следует немедленно ликвидировать эту квартиру. Дядя Павло тут же решил уехать в Петровку, где жила его старая мать. — А я? — растерянно спросила Настуся. — И ты с нами, — сказал дядя Павло, но Оксана прижала девочку к себе: — Настуся останется со мной. Гармаш передал, что уже есть квартира. На Кобыщанах. Настуся готова была прыгать от радости. Она будет жить с Оксаной! Ах, если бы только не эта неприятная весть о Василе. Может, Оксане удастся что-то сделать? А то на тётю Галю просто жалко смотреть. Одного сына потеряла, а теперь и второго… Пока тётя Галя с Оксаной увязывали узлы, дядя Павло раздобыл подводу. Сложили вещи, попрощались и подались в разные стороны. Дядя Павло с тётей Галей — под Монастырской горой в Петровку, а Настуся с Оксаной — через весь город на Кобыщаны.КОНСПИРАТИВНАЯ КВАРТИРА
Новое жилище понравилось Настусе сразу. Дом был небольшой — всего две комнаты и кухня, но каменный, с обвитой диким виноградом галереей, дверь которой выходила на крыльцо с навесом. В одной комнате жила хозяйка старая одинокая бабуся, а в другой, с окнами на улицу, поселились Оксана с Настусей. Светлица была уютная, солнечная, на подоконниках краснела герань, а у стены стоял огромный фикус. Настуся сразу же подружилась с Устимовной, их хозяйкой, и её двумя любимыми котами, которые назывались чудными именами — Аврам и Кондрат. Аврам был чёрный с белою манишкой, а Кондрат — полосатый, как тигр, которого Настуся видела когда-то на рисунке. Девочка охотно играла с ними, когда к Оксане приходили люди и та отсылала Настусю на кухню. Для отвода глаз Оксана назвалась швеёй — в комнате даже стояла швейная машинка, а на ней всегда лежала неоконченная работа. Почти каждый день приходили заказчики, однако Настуся знала, что на самом деле никакие это не заказчики, а партийные товарищи, потому что у них не просто квартира, а ЯВКА. Оксана сама сказала ей ещё по дороге, что Настуся не должна ни о чём спрашивать и быть всегда готовой выполнять поручения. Конечно! Настуся согласна хоть сейчас! Вечерами девочка частенько сидела с хозяйкой в кухне. Они или играли в карты — в простого, неподкидного дурачка, или Устимовна рассказывала страшные истории про разбойников и мертвецов.ПРОВАЛ
Накрапывал мелкий, холодный, осенний дождик. Настуся поднималась по крутой тропинке, которая вела от Варькиного двора к Монастырской. Кажется, ещё так недавно они с Варькой тут беззаботно бегали, пекли в золе тарань. А теперь забыты детские шалости. Настуся потеряла маму и дядю Осипа, а Варька осталась без отца. Старый Мовчан умер в мелитопольской больнице от заражения крови. Варька с матерью ездили туда и вернулись убитые горем. К тому же давала о себе знать нужда: собираясь в Мелитополь, они продали все вещи, влезли в долги, и теперь в хате не было куска хлеба. Мовчаниха горько сетовала на покойного мужа за то, что влез в политику и записался в тот отряд. — Говорила же ему: не будет из этого добра! Так нет, не послушался… И сложил свои кости в чужой стороне! Настуся слушала Мовчаниху, а сама думала: разве лучше было бы, если рабочие сидели бы сложа руки? Дядя Осип всегда говорил, что за лучшую жизнь надо бороться. Печальная и задумчивая возвращалась девочка домой. — Где это ты была так долго? — нетерпеливо встретила её Оксана. — У Варьки. Они с мамой из Мелитополя вернулись. И Настуся рассказала про смерть Мовчана и про то, в каком тяжёлом состоянии находятся Варька и её мать. — Надо им помочь, — сказала Оксана. — Что-нибудь придумаем, Настуся! — Она обняла девочку за плечи. — А я тут уже беспокоилась, что тебя нет. Будем собираться в дорогу. Завтра пойдём в Петровку, к дяде Павлу. — В Петровку? — так и подскочила Настуся. — Да. Туда пойдём пешком, а назад приедем. В этот раз Оксана оделась совсем иначе, чем тогда, когда ездила в Сагайдак. Широкая юбка, сапоги, тёмный платок и кошёлка в руках сделали её похожей на крестьянку, которая, побывав на базаре в Полтаве, возвращается в своё село. Настуся держала узелок, из которого выглядывали длинные полосатые конфеты с кучерявыми концами. Миновав Шведскую могилу, они вышли на широкую Зиньковскую дорогу. С утра подморозило, чистый горизонт обещал ясный, хоть и холодный, день. По сторонам дороги раскинулись поля, на которых виднелись то тут, то там невысокие каменные столбики — петровские редуты, память о давней кровавой битве царя Петра со шведами. Оксана рассказала Настусе, что и Петровка получила своё название от царя Петра: как раз в том месте, где стоит село, он во главе большой армии перешёл через Ворсклу. Подойдя к роще, Оксана с Настусей свернули вправо. Вскоре дорога как змея поползла вниз между двумя глинистыми кручами. Настуся вприпрыжку сбежала с горы и остановилась возле криницы, видневшейся у дороги под вербой. — Уж не та ли это криница, где когда-то Наталка-Полтавка воду брала? — сказала, подойдя, Оксана. — Есть такая пьеса, Настуся, называется «Наталка-Полтавка». А жила Наталка в этом селе, в Петровке, о ней и написал наш земляк, Иван Котляревский. Когда-нибудь мы посмотрим этот спектакль в театре. Там есть хорошие такие песни… И Оксана тихо запела:
— Тогда вы, может, скажете, кому из ваших подпольных товарищей оно принадлежит? Настуся вздрогнула. Она уже знала. Да! Это был Костин револьвер. Неделю назад он хвастал своим новым приобретением. Наверно, Оксана тоже узнала револьвер. Она снова незаметно бросила взгляд на Настусю и твёрдо ответила: — У меня нет никаких подпольных товарищей. Ясно? И вообще я больше не собираюсь отвечать на ваши вопросы. — Вот как!.. — Гетманец спокойно отложил револьвер. — Ну что ж, тогда продолжим разговор в другом месте. Он встал из-за стола, сложил свои бумаги и приказал Оксане собираться. Она быстро надела бархатный жакет, покрылась платком. Настуся рванулась, хотела подбежать, но в глазах Оксаны был тот самый приказ, что и раньше, и девочка потупилась. — Прощайте, Устимовна, прощай, Настуся, — словно откуда-то из-за стены донёсся Оксанин голос. — Не беспокойтесь, всё будет хорошо. Серый туман застлал Настусины глаза. Когда он наконец осел на ресницах капельками слёз, в комнате не было никого. Только Аврам и Кондрат, неслышно ступая по полу мягкими лапками, недовольно обнюхивали разбросанные вещи.
ПУЛЕМЁТ НА ЧЕРДАКЕ
Новое горе потрясло Настусю. Долго стояла девочка в пустой комнате и глядела куда-то перед собой, пока Устимовна, взяв её за руку, не повела, бедняжку, на свою половину. Настуся покорно пошла за нею, послушно разделась и легла, нисколько не удивляясь, что очутилась в чужой кровати. Тяжёлое чувство утраты не покидало её даже во сне, и первой мыслью Настуси, когда она открыла глаза, было: всему конец. Если выследили Оксану, то, наверное, знают и про оружие; наверное, схватили и Костю Гармаша, и других. А может, нет? Может, товарищи не знают о том, что тут случилось? Девочка неприкаянно слонялась по хате и вдруг, выглянув на улицу, так и прилипла к стеклу. Под окнами промелькнуло хорошо знакомое лицо. Без памяти бросилась Настуся к двери и… чуть не ткнулась носом в кожаную куртку Кости Гармаша. — Здравствуй, Настуся, — начал было он весело и громко, но тут же притих, заметив её взволнованное личико. — Что случилось? — спросил тревожно. — Оксана дома? У девочки словно что-то вдруг застряло в горле. Она потянула Костю в сени и через силу ответила: — Забрали Оксану… — Что ты говоришь? Когда? — Вчера… И ваш револьвер. — Мой револьвер? Вот чёрт, а я его искал… Кто же это навёл гетманцев на след? Не Шуляк ли? Я уже давно за ним кое-что замечал… Ну ничего, от меня не уйдёт!.. А Оксану мы выручим, Настуся! Тут, брат, такие дела! Не долго уже осталось гетманцам хозяйничать! — А немцы? — О, немцам теперь не до нас! У них там своя революция началась! — И Костя похлопал Настусю по плечу: — Ну, бывай здорова, не вешай нос! С этими словами Гармаш выскочил на улицу и быстро исчез за углом. У Настуси немного отлегло от сердца. День прошёл без событий, а перед рассветом девочка неожиданно проснулась. Издалека доносились выстрелы. Настуся приподнялась, готовая уже вскочить с постели. Что это? Может, гетманцев уже выгнали из Полтавы? Но звуки далёкого боя понемногу замерли, и новое утро родилось в глухой, зловещей тишине. В обед Настуся не выдержала и метнулась-таки из дома. Улицы были безлюдны. Но вот, повернув за угол, увидела девочка нескольких гетманцев, и сердце у неё упало. Вернувшись домой, Настуся застала у Устимовны соседку, которая принесла новость: ночью в Полтаву ворвались повстанцы, захватили Киевский вокзал, арестантские роты, освободили арестованных, а потом отступили. Настуся так и подпрыгнула. Освободили арестованных! Значит, и Оксану? Но почему отступили? Она растерянно взглянула на соседку, а та сокрушённо покачала головой. — Бедняжка! Ну совсем как тот птенец, что из гнезда выпал. Где же ей голову приклонить?.. — Да на улице ночевать не будет, — отозвалась бабуся. — Пока будет у меня… — А конечно, — кивнула соседка. — Ведь вы, Устимовна, добрая душа… А между прочим, не сходить ли вам с девочкой в Красный Крест? Там Короленко председательствует… — Короленко? Писатель Короленко? — переспросила Настуся. — Да. К нему все идут, у кого беда случится. И от тюрьмы, и от сумы спасёт… А больше всего он о сиротах заботится… Но Устимовна замахала на соседку руками: — И зачем бы я задавала хлопот Короленко! Ещё мы с голода не умираем! А там видно будет… Прошла неделя. Во дворе, как и на душе, было неспокойно и хмуро. Дули пронизывающие ветры, срывался не то дождь, не то снег. Настусины ботинки протекали, и Устимовна не пускала девочку из дома. В Полтаве было тихо, но чувствовалось, что тишина эта непрочная, обманчивая, что она набухает, наполняется, словно снег весной, тревожным ожиданием. Настуся только и жила этим ожиданием. Она знала, что не напрасно Оксана с товарищами вели свои тайные разговоры, не напрасно привозили в Полтаву оружие. «Не долго уже гетманцам хозяйничать!» — повторяла про себя Настуся Костины слова. Наконец дожди перестали, лужи подсохли, и Настуся отпросилась-таки к Варьке. Не шла, а летела на Колонию, чтобы быстрее увидеться с подругой. Варька тоже обрадовалась Настусе. Будет с кем хоть пощебетать, а то мать всё такая суровая, печальная и в хате у них, как в могиле. Подружки залезли на печь и долго там шептались. Не заметили, как и вечер настал. Пришлось Настусе заночевать у Варьки. А рано утром, до света, её опять разбудили далёкие взрывы. Они всё время учащались и становились всё ближе и ближе. Девочка неподвижно лежала в темноте, замирая от каждого звука. Вот громыхнуло совсем близко. Зашевелилась в постели Варькина мать, засветила каганец. Настуся подняла голову — старые ходики на стене показывали половину шестого. — Ты не спишь? — повернулась к ней Варькина мать. — Нет, тётенька. Мовчаниха сунула ноги в опорки и зашаркала по хате. — Наказание господнее, да и только! Нет тебе покоя ни днём, ни ночью. И когда уже кончится эта кутерьма? А кутерьма, наоборот, всё усиливалась. Отовсюду слышалась стрельба. Настуся растолкала Варьку: — Наши наступают! Слышишь, Варька!.. Прижавшись друг к другу, девочки насторожённо прислушивались. Где-то около полудня, как только немного утихла стрельба, Настуся дёрнула подругу за рукав: — Знаешь, Варька, я сейчас пойду. — Куда? — Домой. — Ну вот ещё! — отозвалась Мовчаниха от печи. — Разве не слышишь, что делается? Подожди, пока утихнет. — Да уже и утихло, тётенька. А то там бабуся не знает, что и думать. Мовчаниха махнула рукой: — Ну иди, если хочешь, только смотри ж… Настуся не слушала дальше. Мигом оделась, попрощалась и выпорхнула во двор. Неодолимая сила гнала её вперёд, туда, где ещё минуту назад гремел бой. Одна мысль владела ею: увидеть своих, расспросить про Оксану. На Сенной было пусто, только возле ремесленного училища бродили вооружённые «ухнали» (так в Полтаве называли учеников ремесленного училища, преимущественно из бедняков). На Куракинской валялась опрокинутая афишная тумба. Настуся обошла тумбу и махнула к Корпусному саду. Только она вышла за угол кадетского корпуса, как над ухом просвистела пуля, и девочка, отшатнувшись, прижалась спиной к дому. От кадетского корпуса, с той стороны, которая выходила на площадь и где были главные ворота, по площади полоснула пулемётная очередь. В ответ с Остроградской прогремело несколько выстрелов. Настуся подалась назад, на Куракинскую. Здесь было тихо, и она перевела дух. Надо, по-видимому, возвращаться, потому что через Корпусный сад не проскочишь. Она свернёт в ближайший переулок и проберётся с другой стороны. Вдруг от Сенной, всё нарастая, долетело какое-то необычное постукивание и пыхтение. Мимо Настуси, кашляя сизым дымом, промчался грузовой автомобиль. Девочке нечасто приходилось в Полтаве видеть автомобиль, и она, проводив это чудо восторженными глазами, с наслаждением вдохнула необычный, приятно дразнящий бензиновый дух. Но в этот же миг автомобиль, напоследок оглушительно стрельнув, остановился. Громыхнули дверцы кабины, из неё выскочил водитель и бросился к мотору. В кузове грузовика завозились мужские фигуры, и одна из них, невысокая, по-мальчишески тонкая, перегнулась через борт к шофёру. Настуся присмотрелась. Не Василь ли? Ну конечно же, он! Знакомая коричневая шапка, сдвинутая набекрень, в руках винтовка. — Василь! — позвала Настуся и побежала к автомашине. Парень оглянулся. — Настуся! Он легко перелез через борт и спрыгнул на мостовую. — Василь, голубчик, скажи, что здесь творится? Наши в Полтаве? Где дядя Павло? — В Полтаве, Настуся, в Полтаве! Ещё с утра, как захватили Киевский вокзал, так и погнали гетманцев до Сенной. Теперь наши в Красных казармах, и отец там. А гетманцы отступили к Окружному суду. За углом снова застрочил пулемёт. — А кто это стреляет? — Да это какая-то сволочь засела в корпусе на чердаке. Поливает огнём — не подпускает к Окружному суду. Ну да ничего! Мы вот видишь какого себе коня раздобыли! Сейчас как махнём… Ну что там, Михайло?.. Василь подошел к шофёру, который всё ещё ковырялся в моторе, но тот пожал плечами. — Неужели заглох? Вот чёрт! — послышался из кабины знакомый голос, и на подножке показался Костя Гармаш. Левая рука у него была забинтована окровавленной тряпкой. — Ты смотри… Настуся! Ты чего тут? Беги сейчас же домой, а то здесь, брат, стреляют! Но Настуся подскочила к нему: — Где Оксана? Её спасли? Костя смущённо почесал затылок. — Нет Оксаны… Наверное, гетманцы вывезли её из Полтавы… — Вывезли? Куда? — А чёрт их знает куда! Ну да ничего! Мы её и под землёй найдём! Вот только… Новая пулемётная очередь не дала ему договорить. — Ну не чёртов ли сын! — даже сплюнул Костя. — Засел там и шпарит… Эх, добрался бы я до тебя! Настуся схватила Костю за рукав. — Послушайте! Я знаю, как пробраться туда, где пулемёт! Через тот двор! Она показала на ворота, выходившие на Куракинскую. — Ты знаешь? Откуда это? — А я у генерала служила, в корпусе! Вон пускай Василь скажет! Тот кивнул. — Ну-ну! — заинтересовался Костя. — Так что же ты придумала, говори! — Я проведу вас через чёрный ход на чердак. Мы там бельё сушили… У Кости уже и глаза загорелись. — Так это ж здорово! Если снимем пулемёт, то наши сразу двинут к Окружному суду! А ну, катай, Настуся, веди! Оставив водителя ковыряться в моторе, Гармаш с Василём и ещё двумя вооружёнными парнями двинулись к воротам. Следом за Настусей побежали к чёрному ходу. Одним духом вбежала девочка по ступенькам на самый верх и толкнула ногой дверь на чердак. Дверь скрипнула, приоткрыв вход в темноту… Не теряя ни секунды, Гармаш решительно переступил порог. За ним бросились парни. Последним, кивнув Настусе, исчез в чёрном отверстии Василь. Девочка постояла немного, прислушиваясь к осторожным шагам, которые затихали, а потом не спеша спустилась вниз. Она знала, что хлопцам надо пройти через весь громадный, затянутый паутиной чердак во второе крыло кадетского корпуса. Посчастливится ли им подкрасться незаметно? У ворот она остановилась. Пулемёт, который всё время отзывался короткими очередями, вдруг напоследок чиркнул и замолчал, словно захлебнулся. А через несколько минут двор за спиной Настуси неожиданно ожил. Хлопнула дверь чёрного хода, послышался топот, и мимо Настуси, волоча пулемёт, пробежали Гармаш с Василём. А сзади парни подталкивали насмерть перепуганного гетманца. Тотчас пулемёт втащили в грузовик, мотор которого наконец-то завёлся, и автомобиль с рёвом и грохотом помчался мимо Корпусного сада к Окружному суду. Настуся вышла из ворот и потихоньку пошла домой, на Кобыщаны. Сворачивая в переулок, оглянулась. От Корпусного сада послышалось громкое «ура». Когда наступил вечер, в Полтаве не осталось уже ни одного гетманда. А утром в Кобыщаны приехал дядя Павло и забрал Настусю в Петровку.ДЕНИКИНЦЫ
Вода в Ворскле была холодная. Руки у Настуси свело, пока стирала и полоскала бельё. Наспех отжав последнюю сорочку, девочка взвалила на плечо мокрое полотно и выбежала на высокий глинистый берег. Внизу, под её ногами, причудливо изгибалась речка между узкими песчаными косами. По-осеннему прозрачней и словно ещё глубже стали её воды. Невысокое ласковое солнце нависло над прибрежными вербами. А по берегу, словно разорванная невзначай низка мониста, рассыпалось село Петровка. Поудобнее пристроив на плече свою ношу, девочка пошла тропинкой, которая вела через огороды к хате. Ноша была тяжеловатой, однако Настуся шла прямо, не горбясь, легко ступая в своих небольших сапожках, сшитых сельским сапожником. За год, проведённый в Петровке, девочка подросла и окрепла, её загоревшие на солнце руки приобвыкли к сельской работе. Ведь тётя Галя болеет, а бабушка, мать дяди Павла, умерла ещё весной. Если бы не Настуся, то некому было бы с огородом управиться. Настуся глубоко вдохнула свежий утренний воздух и, вмиг насторожившись, затаила дыхание. За вербами, на мосту, послышался звонкий цокот копыт. Несколько всадников в серых военных шинелях выскочили на крутой берег и понеслись улицей в центр села. Деникинцы! Чего им надо? Зачем их нелёгкая принесла в село? Может, снова ищут «большевистского комиссара»? Вот уже два месяца с того времени, как беляки, словно татарская орда, заполонили Полтавщину, дядя Павло не живёт дома. Из Тахтаулова (там теперь снова вместо Совета «волость») дважды налетали конные белогвардейцы. А сегодня, как назло, дядя Павло приехал домой, навестить больную жену. Что, если деникинцы наскочат?.. Девочка что было мочи побежала через садик домой. Бросив мокрое бельё на плетень, метнулась в хату. Дядя Павло сидел на лавке возле прикрытой кожухом тёти Гали. — В селе деникинцы, дяденька! Тот тревожно обернулся: — Неужели?! Ты их видела? Где? — Я с речки шла, а они через мостик проскочили. К школе… — Ой боже мой!.. — заголосила тётя Галя. — Да они же тебя схватят, Павло! Беги! — Успокойся, Галя. — Дядя Павло, поднявшись, обнял жену за плечи. — Не схватят. Они ещё не знают, что я здесь. Слышишь, направились к школе. Если бы знали, сразу бы сюда завернули… Я сейчас пойду. А ты вот что: не обижайся на меня. Крепись! Сейчас дед Филипп отвезёт вас с Настусей в Гавронцы. Там перебудете, пока мы беляков прогоним. Слышишь? Но тётя Галя не слушала. — Беги, беги… — повторяла она и дрожащими руками совала ему шапку. Дядя Павло послушно взял шапку и шагнул к порогу. — Береги себя! Скоро увидимся! — крикнул он, выбегая из хаты. Тётя Галя обессиленно склонилась на подушку. Настуся припала к окну. Фигура дяди Павла мелькнула в садике и исчезла за густыми кустами бузины. Девочка знала: огородами, садами он проберётся в лес, к Петровским ярам, а там уже свои, повстанцы. Обернулась, чтобы успокоить тётю Галю, и тихо охнула: больная тяжело дышала, прижав к груди судорожно стиснутую руку. Настуся бросилась к ведру с водой. Расплёскивая, поднесла кружку тёте Гале к губам, облила шею. — Ой, тётенька! — схватила полотенце, но та уже вытиралась рукавом. — Ничего, — слегка кивнула девочке. — Мне уже лучше… Настуся присела возле больной. Тревожно смотрела на тётю Галю, которая устало закрыла глаза. — Эх, если бы это Оксана… Она бы вас вылечила… Ресницы больной шевельнулись. — Если бы это… А знаешь, Настуся, дядя Павло говорил, что будто слышал про неё… — Правда?! — Да… Будто бы она в Полтаве в тюрьме. Кто-то видел — из окна рукой махала. Но только дядя Павло не поверил: откуда бы ей там взяться? — А что? Почему нет?.. — горячо, взволнованно заговорила Настуся. В том, что Оксана жива, Настуся не сомневалась. Вот уже скоро год, как она жила надеждой на весточку от неё. Эта надежда теплилась в глубине её сердца, как уголёк, присыпанный пеплом. И вот теперь тётя Галя говорит, что ходят слухи про Оксану. — Ой, тётенька, как же быть? — Но, может, это и не она… — Нет, она, она! Я знаю… как же её спасти? Тётя Галя помолчала немного, потом тихо сказала: — К Короленко бы обратиться… Он бы помог… — К Короленко? У Настуси с надеждой забилось сердце. Она и сама слышала ещё от Устимовны, что Короленко не раз выручал арестованных из тюрьмы. Даже немцы и те знали Короленко, а деникинцы тем более не осмелятся отказать такому известному писателю. Ну что ж, тогда нечего и думать. Настуся немедленно пойдёт в Полтаву, к Короленко, она будет просить его заступиться за Оксану. Тётя Галя не стала отговаривать Настусю. Пока собирались и перекусили на дорогу, уже и подвода остановилась возле двора. Маленький, хромой дедушка Филипп проковылял в сени и, сняв старую баранью шапку, заглянул в хату: — Ну, как там? Готовы? — И сердито пробормотал: — Задерживаться нечего… — Увидев,как больная через силу поднимается с постели, вздохнул: — Ох, грехи наши тяжкие… Вдвоём с Настусей они вывели тётю Галю из хаты, подсадили на воз, обложили подушками. Рядом села Настуся, а потом и дедушка, по-мальчишески легко подпрыгнув, примостился на возу. Подвода, затарахтев, скрылась за поворотом. Вокруг залегла тишина. У хлева спокойно гребли куры, даже не подозревая, что их покинули на произвол судьбы. Рябая Мурка грелась в солнечных лучах на завалинке. Но вдруг словно вихрь налетел на тихую усадьбу. Загремело, затопотало, из-за угла выскочили конные деникинцы и, влетев во двор, толкнули полуоткрытые ворота. Послышалось испуганное кудахтанье кур, загремела под ударами сапог дверь хаты, посыпалось разбитое стекло… По двору на сытом, откормленном коне гарцевал такой же сытый, откормленный деникинец в шинели с погонами, а солдаты переворачивали всё в хате и на подворье, ища «комиссара». Но поиски не дали ничего, и вскоре разъярённые деникинцы скрылись так же неожиданно, как и появились. Двор было не узнать. Всё вокруг белело от перьев. Всюду валялись битые черепки. Ничего живого не осталось ни в хате, ни на подворье, даже Мурка и та сбежала куда глаза глядят.ДОМ НА МАЛОЙ САДОВОЙ
Серый осенний рассвет перелился уже в белый день, когда Настуся, перебежав полусонную Полтаву, разыскала знакомую тихую улицу и остановилась у дома. На парадных дверях блестела медная табличка с надписью:Владимiръ Галактiоновичъ Короленко.Настуся прочитала табличку раз, потом второй, чувствуя, как в грудь заползает холодок страха. Ну как же постучать в дверь? Даже рука не поднимается. Да и пустят ли её к Короленко? Что, если прислуга (а парадные двери в панском доме всегда открывает прислуга), увидев убогое дитя в крестьянской одежде, не захочет даже говорить с Настусей? Оглянувшись, девочка заметила калитку. Подошла, тихонько щёлкнула ручкой и оказалась в уютном дворике. Справа из-за кустов выглядывала веранда дома Короленко, в глубине двора виднелся флигель, а дальше — сад. За домом слышался размеренный стук топора. Прикрыв калитку, Настуся пошла по тропинке мимо клумбы с поблёкшими астрами, миновав кусты, увидела дровяной сарай, а возле него невысокого старичка с густой белой бородой. Старичок возился с сучковатым пеньком, в котором застрял топор. От сарая навстречу Настусе медленно, будто неохотно, шёл чёрный пёс с длинной шерстью и отвисшими ушами. Девочка остановилась.

— Не бойся, он не тронет! — Карко, назад! Карко послушно повернулся и так же медленно пошёл прочь. А старичок, подняв топор вместе с пеньком, со всей силы ударил обухом по колоде. Пенёк треснул, раскололся, и одно небольшое поленце упало девочке к ногам. Настуся взяла поленце и подошла к старичку ближе. Он как раз выпрямился, довольный, что справился-таки с упрямым пеньком. Лицо у него ещё сияло удовлетворением, а блестящие, глубокие глаза смотрели на девочку с таким вниманием, что она растерялась. Эти глаза, этот взгляд были ей так знакомы! Это же они в тот летний день, когда Настуся бежала к маме в больницу, остановили её, заглянув в самую душу… — Спасибо, спасибо, девочка, — молвил старичок, беря сосновую чурку из рук смущённой Настуси. — Давай знакомиться. — Я — дедушка Короленко. А тебя как зовут? Настуся шевельнулась, даже рот раскрыла и… не сказала ничего. Что-то странное случилось с ней. Всегда смелая в общении, она теперь стояла потупившись, словно безъязыкая. Чувствуя, что дедушка всё ещё смотрит на неё, девочка через силу выговорила: — Меня Настей зовут, я к вам… из Петровки… — Из Петровки? — переспросил Короленко, удивлённо окинув взглядом девочку — от маленьких сапожек до большого платка на голове. — И ты пришла оттуда пешком? Сама? — Да, — осмелев, кивнула Настуся. — Через Яковцы. — И как же тебе удалось меня разыскать? — А я знаю, где вы живёте! Я в Полтаве всё знаю! Я ведь и сама полтавская! — Вот оно что! Тогда ясно. Ну ладно, Настуся. Сейчас мы уберём эти дрова, что я нарубил, и пойдём в дом. Там ты мне всё расскажешь. И вот Настуся в комнате Короленко. Белые-белые стены. Кушетка, письменный стол. Нет ни ковров, ни портьер… Владимир Галактионович посадил девочку на стул, сам сел рядом, подперев голову рукой. И как-то уж само собой вышло, что Настуся рассказала всё: и про смерть мамы, и про дядю Осипа, и про Оксану… — Так ты говоришь, видели Оксану? В тюрьме? — переспросил Владимир Галактионович. Он всё записал себе в блокнот и задумался, постукивая карандашом по столу. Дверь кабинета приоткрылась. — Володя, к тебе можно? — спросил тихий женский голос. Короленко кивнул, и в комнату неслышно вошла статная седая женщина в тёмной одежде. — Дуня, тут у меня девочка из Петровки, Настуся, — обратился к ней Владимир Галактионович. — Она побудет у нас, понимаешь… — Хорошо, хорошо… — Женщина улыбнулась Настусе, и её чистое, строгое, немного печальное лицо на миг прояснилось. — Володя, завтракать время, — добавила она озабоченно. — Всё готово. — Благодарю, сейчас приду. Настуся, это Евдокия Семёновна. Она заберёт тебя в своё женское царство. А я сегодня же попробую разузнать про Оксану. Слова эти были сказаны бодрым тоном, но сквозь него проглядывало беспокойство. Настуся поняла, что Короленко уже разделяет её тревогу за Оксану. Немного виновато и вместе с тем благодарно взглянув на Владимира Галактионовича, девочка поторопилась выйти за Евдокией Семёновной из комнаты. Семья Короленко приняла Настусю, как родную. Её выкупали, переодели и накормили. Потом тоненькая, стройная девушка, дочь Короленко, привела её в небольшую комнату с белоснежной кроватью. — Располагайся, Настуся, — приветливо сказала она. — Тут ты побудешь, пока папа всё выяснит про Оксану. Настуся уже знала, что дочь Короленко зовут Софьей Владимировной. У неё были такие же, как и у Оксаны, тонкие белые руки и спокойная решительность во взгляде. Только была она, по-видимому, намного старше. Вздохнув при воспоминании об Оксане, девочка торопливо перевела взгляд на шкаф с книгами, что стоял возле двери. — Какие красивые книжки! — вырвалось у неё. — А ты умеешь читать? — Умею. — Ходила в школу? — Нет, так, сама научилась. Софья Владимировна вынула из шкафа несколько книжек в цветных обложках и положила на стол. — На вот, возьми, посмотри и почитай, если хочешь. Настуся склонилась над книжками, но тут же выпрямилась. В передней послышался звонок. Может, это Владимир Галактионович вернулся? Он сразу же после завтрака пошёл в деникинскую контрразведку. — Нет, это не папа, — проговорила Софья Владимировна, словно отгадав Настусину мысль. Однако обе заторопились к двери. Софья Владимировна открыла, и они увидели незнакомого человека, который принёс Владимиру Галактионовичу письмо. Потом приходил какой-то художник, приятель Короленко, а немного позже — заплаканная женщина с маленьким ребёнком на руках. Софья Владимировна провела женщину к себе, долго утешала и, провожал к двери, всунула в руки объёмистый свёрток. Наконец появился Владимир Галактионович. Усталый и какой-то угнетённый, он быстро прошёл в свой кабинет. Настуся не посмела к нему обратиться и только услышала слова, брошенные Евдокии Семёновне: — Это страшные люди, Дуня… У девочки сжалось сердце. Значит, всё. Не повезло Короленко. Не выпустят Оксану… Невесёлые мысли прервала Софья Владимировна: — Пойдём обедать, Настуся. Она ввела девочку в столовую. За большим столом уже сидела семья Короленко. Настуся в замешательстве кое-как пристроилась на краешке стула. Перед ней уже стояла тарелка с горячим душистым супом, но девочке было не до еды. Тревожила мысль про Оксану, к тому же она всё больше смущалась: ведь впервые оказалась как равная за барским столом. Подбадриваемая хозяйкой, проглотила две-три ложки супа, а ко второму и не притронулась. Подождав, пока все встали из-за стола, Настуся поднялась тоже и тут почувствовала на плече руку Владимира Галактионовича. — Ты что ж это загрустила? Не печалься! Твою Оксану мы выручим! Девочка подняла глаза, полные надежды. — А… что они вам сказали? — Пока ещё ничего. Обещали выяснить. Завтра я снова пойду. А ты, Настуся, будь как дома. Гуляй в саду. Там ещё кое-где яблоки есть и орехи. Кушай на здоровье. Вечером Настусю позвали в столовую пить чай. Теперь девочка уже смелее осматривалась вокруг. Кроме круглого стола, тут стояло несколько мягких кресел и диван. Украшением комнаты был большой портрет Короленко, очень похожий на живого писателя, — в этом Настуся убедилась, несколько раз переведя глаза с портрета на Владимира Галактионовича. За столом, кроме него и Евдокии Семёновны, сидела Софья Владимировна и вторая дочь Короленко со своим мужем. Были там ещё какие-то родственники, среди них — сестра Евдокии Семёновны. И все эти люди, хоть и одетые, как господа, мало напоминали господ. Им никто не прислуживал, держались они просто и сердечно и вели такие интересные разговоры, что Настуся совсем забыла о еде. Владимир Галактионович то рассказывал что-нибудь весёлое или серьёзное, то слушал, время от времени вставляя меткое, умное слово. Лицо у него было какое-то особенное, словно освещённое изнутри. Всем существом своим Настуся вбирала слова Короленко, улыбку, жесты, проникалась его настроением. Было так, словно она уже и не она, будто вдохнули в неё новую душу. Ей было хорошо, так хорошо, как никогда в жизни. На второй день Владимир Галактионович тоже рано ушёл из дома. Вернулся на этот раз довольно скоро и кивнул Настусе, чтобы зашла в кабинет. Девочка несмело переступила порог и остановилась. Короленко легонько обнял её и посадил напротив себя на кушетку. — Ты только не волнуйся, Настуся, — осторожно начал он. — Очевидно, случилась ошибка. Оксаны в тюрьме нет. — Нет?! — Да. Только что мне сказали, в списках не оказалось. — Как же это? Её же видели в окне… — Может, то была не она. Настуся растерянно моргнула глазами и потупилась. А Короленко продолжал: — И печалиться не надо. Это же хорошо, что Оксаны в тюрьме нет! Значит, она на воле. Понимаешь? Придёт время, и ты снова её увидишь. Однако Настуся всё ниже склоняла голову. Нет, уже, наверное, никогда она не увидит Оксану. Навеки потеряла её — как мать и как дядю Осипа… Владимир Галактионович погладил девочку по плечу: — Не горюй! Говорю же тебе: всё будет хорошо. Оксана найдётся непременно. А ты оставайся у нас. Будешь нам за дочку. Согласна? Настуся подняла глаза на Короленко. Конечно же, он шутит… — Что же ты молчишь? Хочешь остаться у нас? Голос звучал ласково и заботливо. Нет, Короленко не шутит. Он действительно хочет взять её к себе. Совсем чужую, бездомную сироту!.. Стыдливая благодарность пламенем пахнула ей в лицо. Из глаз, непрошеные, неудержимые, сами по себе полились слёзы. — Ну вот… Что это ты? Разве ж можно! — всполошился Владимир Галактионович. Отвернувшись, девочка торопливо, обеими руками вытирала щёки. — Я… я… это ничего… я так… — Вот и чудесно, вот и хорошо, — быстро заговорил Короленко. — Да ты, я вижу, молодец! Настуся и правда уже не плакала, слёзы высохли, на сердце было как-то и легко и тяжело одновременно. Весь день согревало её тепло слов Короленко. А перед глазами стояла Оксана. Где же она? Откуда появились эти слухи? А может, в Бабичевском переулке что-нибудь знают? Чем дальше думала Настуся, тем больше беспокоилась. Проснувшись рано утром, она уже твёрдо знала, что не останется в семье Короленко. Сейчас же побежит в Бабичевский переулок, на Кобыщаны, к Варьке, а если нигде ничего не узнает, вернётся в Гавронцы. На улице только что всходило солнце. В квартире Короленко ещё царила нетронутая, сонная тишина. Настуся быстро набросила на себя одежду, обулась в сапожки. Всё то, в чём была одета вчера, оставила на стуле и, забрав свой узелок, потихоньку пробралась на веранду. Сошла по ступенькам, вышла на аллею и… притаилась за кустом сирени. В саду задумчиво прохаживался Короленко. Видно, он в этом доме вставал раньше всех. Может, любил обдумывать тихими утрами что-то своё, важное. Вот он прошёлся сюда-туда и остановился как раз напротив веранды. Чёрный пёс Карко примостился у его ног. Девочка стояла за кустом, боясь даже вздохнуть. Надо было подойти попрощаться, поблагодарить за всё. А вдруг Короленко скажет: «Ну что это ты надумала? Оставайся!» Хватит ли у неё сил настоять на своём? Девочка не знала, что делать, а тем временем Владимир Галактионович, не догадываясь о её присутствии, всё ещё стоял около веранды и рассеянно смотрел перед собой. Потом нагнулся, погладил лохматую собачью голову и пошёл в глубину сада. Старый верный пёс поплёлся за ним… И тут Настусины ноги сами сорвались с места. Девочка выскочила из-за куста и мигом очутилась возле Короленко. — А, это ты, Настуся! Чего так рано вскочила? — спросил Владимир Галактионович и вдруг заметил узелок у неё на руке. — Куда это ты собралась? — Я… я пойду, — через силу выговорила Настуся. — Мне надо… узнать про Оксану. Спасибо вам… за всё. Она виновато вскинула глаза на Владимира Галактионовича, потом опустила голову. Но Короленко лишь посмотрел на девочку с невыразимым сочувствием и тяжело вздохнул. — Ну что ж, — наконец сказал он. — Если надо, то, значит, надо. Иди, Настуся. И пускай удача будет на твоём пути! Настуся снова подняла голову. Хотела что-то сказать, да так и не смогла. Порывисто повернулась и побежала, не оглядываясь, к калитке. Уже на улице, подходя к углу, Настуся на миг остановилась и в последний раз посмотрела на дом, где нашла столько искреннего сочувствия и ласки. Теперь она возвращалась в свой обычный, суровый мир, где были скитания, тревога и борьба. Но там были и люди, близкие и родные, и к ним стремилась её душа.
ЛАГЕРЬ В ЛЕСУ
— Стой, кто идёт! Стрелять буду! — Да ты сдурел, Дмитро! Это же ребёнок! Опусти винтовку! Из лесной чащи навстречу Настусе вышли двое немолодых уже, заросших бородами мужчин. Девочка остановилась. Кто они, вот эти сердитые бородатые дядьки? Может, какие-нибудь бандиты? Но нет, не может быть. Она знала: повстанцы в Петровских ярах. Ведь это сюда её послали с письмом к дяде Павлу. И как оно всё обернулось! Ещё утром Настуся бродила в отчаянии по городу, потеряв надежду узнать что-либо об Оксане. В Бабичевском переулке она не добилась ничего. Какая-то тётка проворчала, что «тут нет никакого дяди Вани». Девочка побрела к Варьке и вдруг, свернув в глухой переулок, узнала огороженный деревянным забором двор, куда они с Оксаной ещё при гетманцах привозили оружие. Когда она постучала, из калитки выглянул тот самый старичок в облезшей бараньей шапке, который тогда отворял им ворота. Молча выслушав взволнованную девочку, старичок повёл Настусю на соседнюю улицу, в небольшой, побелённый мелом домик с красными ставнями. И там, в насквозь прокуренной тесной комнате, девочка встретила наконец тех, кого искала. Это были трое незнакомых мужчин, которые, однако, как оказалось, хорошо знали Настусю. Нет, они не сказали ей ничего нового. Слухи про Оксану были неверными. В Полтаве её нет. Но пусть Настуся потерпит. Скоро всё выяснится. А пока что… Как хорошо, что она как раз подвернулась! Им нужно немедленно кого-то послать к дяде Павлу. Лучшего связного, чем она, и не найти. И вот Настуся в Петровских ярах. Не кто иной, как повстанцы встретились ей и сурово спрашивают: — Ты чья? Чего сюда забрела? Сердце громко стучит в груди от страха, но она звонко отвечает: — Я к дяде Павлу! К Троценко.
— Отведи, Дмитро, — приказал старший. — Там Павло уже сам разберётся, что к чему. — Ну пойдём, если так, — кивнул Настусе тот, что помоложе, и широкими шагами направился вниз по склону. Они спустились на самое дно глубокого яра, где протекал узенький ручеёк. Понемногу яр расширялся, и перед ними открылась небольшая, поросшая осокой долина. Ручеёк потерялся где-то в той осоке, а они пошли дальше по едва заметной в траве тропинке. Вскоре тропка свернула к отрогу оврага. Впереди послышался конский храп. Настуся увидела между деревьями стреноженных коней, а немного дальше — костёр и людей около него. Девочка приблизилась к костру и тут же узнала дядю Павла. Он сидел, освещённый пламенем, на стволе поваленного дерева. Настуся рванулась вперёд, перегнав своего провожатого. — Ты куда? А ну стой! — крикнул он и умолк, увидев, как чужая, задержанная им девочка бросилась прямо на грудь его командиру. А Настуся, едва переведя дыхание, уже рассказывала дяде Павлу, что пришла из Полтавы и принесла ему письмо. Спокойно, нисколько не удивившись, словно уже знал, что Настуся сейчас тут появится, дядя Павло усадил её рядом с собой на поваленное дерево. — Письмо? — переспросил он. — А давай-ка его сюда! Девочка достала из-за голенища завёрнутую в тряпочку бумажку. Дядя Павло развернул её, поднёс ближе к огню и пробежал глазами. Потом прочитал ещё раз, внимательно, не торопясь, осторожно сложил и спрятал в нагрудный карман. — Прокоп! — позвал он. Один из парней, сидящих у костра, поднялся. — Разыщи Погрибняка. Важные вести… А тебе, Настуся, спасибо, что принесла письмо. Молодец! Не страшно было идти лесом? — Немножко, — призналась Настуся. — Когда дядька крикнул: «Стой, стрелять буду!» — Неужели? Так-таки и крикнул? — улыбнулся дядя Павло. — Ну что ж, такая его служба! Ведь он в дозоре. А ты, наверное, порядком устала? Погрейся здесь у костра, а как сварится каша… Он не успел договорить, как в это время подошёл какой-то человек в серой крестьянской свитке и позвал: — Товарищ Троценко! — А, это ты, — откликнулся дядя Павло. — Ну, что там слышно в Петровке? — Деникинцы пьянствуют у попа. Арестованных заперли в школе. — Сколько их? — Пятеро. — Я спрашиваю, деникинцев сколько? — Восемнадцать человек. Все на конях. Завтра погонят арестованных в Полтаву. Да ещё крестьянских подвод около шестидесяти. — Я предлагаю отбить арестованных, — послышался в стороне решительный голос. К костру подошёл высокий мужчина в старой солдатской шинели. — Надо устроить возле дороги засаду, в том месте, где она проходит между двумя кручами. Там деникинцев можно голыми руками взять. Замаскируем в кустах пулемёт и перестреляем их, как цыплят! Человек говорил возбуждённо, горячо, но дядя Павло оставался невозмутимо спокойным. — Сколько, говоришь, подвод? — переспросил он. — Шестьдесят. — Ты слыхал, Погрибняк? — повернулся дядя Павло к высокому. — Открыть огонь — означает погубить безвинных людей. Я на такое не согласен. — Так, значит, пускай гонят наших товарищей в контрразведку? — Пускай. — Ты что, серьёзно, Павло? — Серьёзно. У нас есть более важные дела. Вот девочка принесла письмо из повстанкома. Регулярные части Красной Армии подходят к Полтаве. Собирай товарищей — надо кое-что обдумать. А сейчас давайте ужинать. На ночь Настусю устроили у костра на куче сухих листьев. Дядя Павло укутал девочку в большой кожух. — Тут тебе будет как у бога за пазухой, — приговаривал он, подтыкая полы кожуха ей под бока. — А что? Разве нет? — Угу, — сонно ответила Настуся и свернулась калачиком под тёплой овчиной. На расвете её разбудил голос дяди Павла: — Поднимайся, Настуся, пора в дорогу! Девочка через силу открыла глаза. Не хотелось шевелиться. Ещё бы немного полежать в тепле… Но дядя Павло ждёт. Надо идти. Настуся вскочила и быстро надела сапожки. Потом повязалась платком и подошла к дяде Павлу. — Ну как? Готова? — спросил он. — На вот, подкрепись немного. И он протянул Настусе краюху хлеба и кусок сала. Девочка нерешительно взяла хлеб. Ей совсем не хотелось есть, но пришлось надкусить, чтобы не обидеть дядю Павла. Он уже держал наготове письмо. — Отдашь это тому человеку, который послал тебя сюда. Больше никому. Поняла? На! Настуся завернула письмо в тряпку и засунула за голенище. — Смотри же, будь осторожна, — продолжал дядя Павло. — Как заметишь деникинский разъезд, прячься в придорожные кусты. Посты обходи. — Хорошо, дяденька. — Отдашь письмо и пойдёшь к Мовчанам. Побудешь у них, пока я не подам весточку. Ну, счастливо! Дядя Павло вывел Настусю в долину, и она ушла по тропке вдоль ручейка. Солнце уже взошло, но здесь, в яру, было холодно и сыро. Сапоги Настуси вскоре промокли в росе, намок и подол юбки. Чтобы согреться, девочка всё быстрее шла вперёд. Чем дальше, тем гуще становился лес, склоны яра поднимались круче. Запыхавшись, выбралась Настуся на самый верх и пошла навстречу полосам света, которые пробивались между стволами деревьев. Напоследок дёрнув Настусю руками-ветвями за платок и за подол, лес в конце концов выпустил её из своих цепких объятий. Девочка вышла на опушку. У ног её лежало осеннее опустевшее поле, через которое пролегла дорога на Полтаву. Над полем царила тишина. Ни движения, ни звука. Только иногда с борозды на борозду перелетит тяжёлая и сытая ворона. Спотыкаясь о кочки, Настуся перебралась через поле к дороге. Странно, прошла ещё совсем немного, а ноги почему-то подкашиваются и голова кругом идёт. Дорога расстилалась с бугорка на бугорок, словно свёрток грубого, неотбелённого полотна. Казалось, не будет ей ни конца, ни края. Чтобы хоть немного развлечься, девочка начала считать телеграфные столбы. Один, второй, третий… Однако расстояние от столба к столбу становилось почему-то всё больше и больше. Уже труднее было отрывать от земли тяжёлые, непослушные ноги. Как во сне доплелась Настуся до первых городских домов. Даже радости не почувствовала от того, что скоро конец её пути. Возле переезда равнодушно прошла мимо деникинца, который не менее равнодушно проводил взглядом маленькую, съёжившуюся фигурку. В центре города, где было оживлённое движение и больше прохожих, девочка немного пришла в себя. Собрав последние силы, разыскала нужную улицу, домик с красными ставнями. В доме её уже ждали. Настуся передала письмо, ответила на два-три вопроса и, отказавшись перекусить с дороги — о еде даже вспоминать не хотелось, — через несколько минут была снова на улице. Теперь, когда поручение было выполнено, девочку охватила усталость, и захотелось сесть прямо здесь, на деревянном тротуаре, свесив ноги в заросшую бурьянами канаву. С трудом поборов это нелепое желание, Настуся медленно двинулась на Сенную площадь. Голова болела, перед глазами плыли зелёные и синие круги, во рту пересохло. Она уже толком не знала, куда и зачем идёт, её гнало вперёд лишь неясное воспоминание о Варьке. В горячечном полузабытьи дотащилась она к мовчановскому двору. Кажется, зашла даже в хату и опустилась на лавку. Больше ничего Настуся не помнила.
ОТ СЧАСТЬЯ НЕ УМИРАЮТ
Что это? Какой-то всадник в зелёном жупане и красной шапке скачет по стене. Совсем как на том ковре, который над кроватью у тётки Марины. Настуся болезненно морщит лоб и присматривается. Нет, это действительно ковёр. А вот и тётка Марина склонилась над Настусей. Лицо у неё, как всегда, желтоватое, обрюзгшее, с сердито обвисшими щеками, но глаза подобрели и губы подобраны жалостливо. — Очнулась? Слава богу, — слышит Настуся тёткин голос, но удивляться уже не может и снова закрывает глаза. Ей становится хорошо-хорошо, и на белых крыльях подушки она летит в мягкую безвестность. А когда пришла в себя окончательно, то оказалось, что Настуся и вправду лежит у тётки Марины. Тётка забрала к себе больную в тот же день, когда девочка, подкошенная тифом, без памяти упала на лавку у Мовчанов. Всё-таки родная племянница, не дай бог, помрёт в чужом углу — греха не оберёшься, да и люди навеки осудят. Когда Настусю без сознания, совсем как неживую, внесли в хату, тётка даже руками всплеснула. Что-то тёплое шевельнулось в зачерствелом сердце, и она усердно захлопотала около больной. Положила девочку на свою широкую кровать с пологом, а сама, кряхтя, пристроилась на узкой для её тучного тела лежанке. Маленького же, сухощавого дядю Кузьму примостила на дачке (так в Полтаве называют раскладушку). По ночам тётка вставала, поила племянницу травами, меняла компрессы. И Настуся стала понемногу возвращаться к жизни. Но странная вещь: по мере того как выздоравливала племянница, всё остывали и остывали тёткины чувства. Она жаловалась, что из-за Настуси ей нет покоя, что отлежала себе все кости на твёрдой лежанке, и как только больная начала вставать, поскорее переселила её туда. У Настуси голова закружилась, пока влезала на лежанку, однако она уже радовалась тому, что хоть тётка ворчать будет меньше. Но та угомонилась ненадолго. Всё ей было не так: то укоряла девочку, что не хочет есть того и того, а подавай ей всякие изысканные блюда, то, наоборот, упрекала, что много уходит харчей. — Не срезай так толсто! — кричала тётка, когда Настуся чистила картошку. — С такими помощницами никаких запасов не хватит! Настуся искоса посматривала на тётку. Почему чужие люди лучше родственников? Вот Короленко — в дочки хотел взять! А тётя Галя? А бабуся, у которой они жили с Оксаной? Или тот старичок, который в Якимовке, — последним куском хлеба делился. А тётка, родная тётка над каждой крошкой дрожит. И даже когда хочет добро сделать, оно у неё оборачивается в зло… Ну, да пускай, Настусе лишь бы выздороветь поскорее! Ведь в Полтаве уже свои. Пока она без памяти валялась, деникинцев так турнули, что те только загремели… Варька говорила, что на второй же день, как наши вступили, к ним забегал дядя Павло и спрашивал про Настусю. Не сегодня-завтра они переедут с тётей Галей в Полтаву, на свою старую квартиру на Куракинской. А может, они уже и переехали? Может, что-нибудь знают об Оксане? Настуся так и подпрыгивает на месте. Побежать бы и разузнать!.. Но останавливает резонная мысль: если бы дядя Павло был в Полтаве и знал что-нибудь про Оксану, то уж наверное сам пришёл бы сюда или передал через Мовчанов. Надо набраться терпения и подождать. И всё же в одно утро Настуся не выдержала. Как только тётка Марина пошла на базар, а дядя Кузьма куда-то отлучился, девочка тоже, впервые после болезни, выбралась из дома. Глотнула свежего морозного воздуха и сразу закашлялась. Отдышавшись немного, побрела улицей. Как же долго она болела! Уже и зима на дворе… Настуся с интересом осматривалась вокруг. Дома, деревья, старый дощатый тротуар — всё было такое знакомое и вместе с тем необычное, словно впервые увиденное. И было странно и одновременно радостно от того, что ступаешь по земле своими ногами. Квартал, ещё квартал, поворот — а за ним уже и Куракинская. Вот и тот двор, куда Настуся приходила к дяде Павлу, когда ещё служила у генеральши. Подбежала к знакомой двери. Заперта. И ставни закрыты. Значит, ещё не приехали… Настуся разочарованно вздохнула. Выйдя со двора, она остановилась у калитки, той самой, за которой когда-то пряталась от гайдамаков. Над Полтавой в седоватой морозной синеве медленно кружились мелкие снежинки. Из-за крыш уже поднялось низкое зимнее солнце, и снежинки, как искры, вспыхивали в его лучах. Было тихо, безветренно. Красный флаг над бывшим губернаторским домом почти не шевелился. Но спокойствие, которое царило в природе, почти не чувствовалось здесь, на улицах города. Город жил напряжённой, суровой военной жизнью. По каменным плитам тротуара прохаживался вооружённый патруль. По мостовой время от времени пролетали всадники, а от кадетского корпуса долетала песня:

Последние комментарии
5 часов 7 минут назад
5 часов 15 минут назад
5 часов 25 минут назад
5 часов 30 минут назад
6 часов 59 минут назад
7 часов 2 минут назад