Бекболат [Суюн Иман-Алиевич Капаев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Суюн Капаев БЕКБОЛАТ ПОВЕСТЬ
С ногайского перевел А. ВолковИзвестный ногайский писатель Суюн Капаев родился в 1927 году в ауле Эрки́н-Юрт. С детских лет С. Капаев хорошо знал богатый фольклор родного народа (до революции ногайцы не имели своей письменности). Героические образы эпических сказаний, афористичность и мудрость ногайских пословиц, философская глубина произведений народного творчества оказали заметное влияние на формирование творческого почерка С. Капаева. По окончании Ставропольского пединститута С. Капаев работал учителем в аульской школе, редактором ногайской областной газеты, редактором в книжном издательстве. Произведения С. Капаева — стихи, рассказы, романы — печатаются на родном и в переводе на русский язык. В 1969 году в Ставропольском издательстве вышел на ногайском языке его роман для взрослого читателя «Бекболат». Книга рассказывает о пробуждении революционного сознания ногайского народа, о борьбе за установление Советской власти в ногайских аулах. Предлагаемая юным читателям повесть «Бекболат» является авторской переработкой одноименного романа.
Рисунки М. Соколова
НУРЫШ-АКАЙ
 Я иду по степи. Высоко в небе хрустально звенит песнь жаворонка. Тропинка, извиваясь, то спускается в лощину, то взбегает на холм. Впереди виднеется цепь гор, и среди них величаво возвышается двуглавый Эльбрус, или, как называем его мы, ногайцы, Карлы́-та́у, то есть Снежная гора.
День чудесный, солнечный. Солнечно и у меня на душе. Я гляжу на Эльбрус и тихонько напеваю немудреную песенку:
Я иду по степи. Высоко в небе хрустально звенит песнь жаворонка. Тропинка, извиваясь, то спускается в лощину, то взбегает на холм. Впереди виднеется цепь гор, и среди них величаво возвышается двуглавый Эльбрус, или, как называем его мы, ногайцы, Карлы́-та́у, то есть Снежная гора.
День чудесный, солнечный. Солнечно и у меня на душе. Я гляжу на Эльбрус и тихонько напеваю немудреную песенку:
Три ночи я провел на кошаре у костра под звездным небом. Три ночи рассказывал мне аксакал о бесстрашном батыре и его подвиге. Вот эта история.
 Часть первая
Часть первая
КЛЯТВА
Прошли теплые грозовые дожди, и за какие-нибудь два-три дня все неузнаваемо преобразилось. Горы, долины, балки, ущелья затуманились дымкой от распустившейся листвы. Буйными травами покрылись предгорные луга. Зацвела белая полынь на склонах холмов. Широко и привольно пасся табун чистокровок мурзы Батоки́ в долине предгорья. Молодой табунщик Бекбола́т — смуглый, черноглазый, с бровями, почти сросшимися у переносья, — легко выпрыгнул из седла, разнуздал коня, привязал за луку повод и потрепал по холке своего любимца. Конь повернул голову, как бы спрашивая: «Можно?» — Иди, иди! — кивнул парень. И Елепте́с легкой рысцой побежал к табуну. Бекболат взобрался на холм, сел на пригретый солнцем камень. Внизу по лугу рассы́пался табун. Вдали виднелся аул. Бекболат видел свою саклю: она стояла третьей с края. Ему всего лишь шестнадцать, а мурза считает его лучшим табунщиком и доверил пасти чистокровок — знаменитых кабардинских лошадей. А давно ли он, Бекболат, носился босоногим мальчишкой по задворкам с дружками Батырбе́ком, Амурби́, Исо́й? Играли в альчики[1], а во время уразы́, когда старшие постились и ели лишь только на заре и вечером, ходили по саклям и славили хозяев. Те давали им кто монету, кто чурек. Помнит Бекболат себя и совсем еще маленьким — лет пяти. Вот он долго-долго смотрит в окно и, наконец увидев вдали всадника на рослой гнедой кобыле, со всех ног бросается на улицу и, вздымая босыми ногами дорожную пыль, бежит навстречу отцу. Тот подхватывает сына, сажает впереди себя, и так они едут к дому. Шагом. Но мальчику хочется прокатиться вскачь. — Быстрее, ака́й, быстрее! — просит он. — А не упадешь? — Нет. Я хочу быть джигитом! — Ну тогда можно: джигит должен быть смелым, — пряча в усы улыбку, говорит отец и пускает кобылицу рысью. Восторгу мальчика нет предела. А ночью ему снится, как он несется во весь дух на чистокровном кабардинце, обгоняя дружков, Батырбека и Амурби. Утром он провожает отца. Перед тем как уехать на пастбище, Али́м сажает сына на коня, делает круг-другой по двору и уж потом отправляется в предгорье. Бекболат смотрит ему вслед до тех пор, пока отец не скрывается в балке. Тогда малыш с ловкостью кошки взбирается на акацию и еще долго провожает взглядом отца. Иногда Алим возвращался в аул рано и разрешал сыну вести коня на водопой к Кубани. Гнедая терпеливо выносила удары пяток мальчика, лишь прядала ушами. У реки Бекболат часто встречался со своим ровесником Арсланбе́ком, сыном мурзы Батоки. — Эй, ты! Смотри, как твоя кляча взмутила воду! А ну убирайся отсюда, ишак! — кричал Арсланбек, толстячок на коротких ножках, с бусинками черных острых глазок. — Сам убирайся, жирный кабан! — отвечал Бекболат. — Ах, так! Арсланбек сжимал кулаки и шел на своего недруга, тот — навстречу. Сцепившись, они катались по берегу до тех пор, пока кто-либо из взрослых не разнимал их или оба не выбивались из сил и не становились мокрыми как мыши… Давно то было, но до сих пор Бекболат и Арсланбек остались непримиримыми врагами. Отец Бекболата был искусным табунщиком, и, когда мальчику исполнилось десять лет, Алим стал брать сына с собой, учил понимать коня, знать его повадки. И перед мальчиком постепенно раскрывались все секреты мастерства табунщика. Наблюдая, как Бекболат поворачивает в холодную погоду лошадей головой по ветру, Алим восклицал: — Машалла! Машалла[2]! Вырастет, отменным табунщиком станет. И он не ошибся. После гибели Алима мурза Батока сделал табунщиком пятнадцатилетнего Бекболата. Много отменных скакунов вырастил Алим для мурзы. А сам почти до самой смерти оставался без коня. Счастье пришло нежданно-негаданно. Однажды через аул проезжал купец-армянин. Лошадь его сильно хромала. Армянин купил себе нового коня у мурзы, а обезноженную кобылу оставил даром Алиму. Опытный табунщик вскоре выходил лошадь, а через год кобылица принесла рыжего жеребенка. — Машалла, хороший конь будет, сынок. Расти. Твой будет! И Бекболат заботливо ухаживал за своим питомцем. Жеребенок и в самом деле оказался необычайно резвым. Играя как огненная искра, описывал он круги возле матери. — Машалла! — одобрительно говорил Алим. — Вырастет и ветру не даст себя обогнать. Так и назовем его: Елептес — Обгоняющий ветер. Елептес вырос в стройного огненно-рыжего коня, с красивой головой, точеными чашками копыт, тонкими, легкими бабками. Бекболат сидит на камне, вырезает узоры на кизиловой палке. Точно такие, как на вышивке Салима́т. И вот она сама встает перед его глазами — тоненькая, гибкая, а косы такие длинные, что ими можно опоясаться. Каждое утро, когда он выгоняет табун, она выходит к калитке и машет ему рукой, улыбается… Бекболат вдруг спохватывается, бросает тревожный взгляд на луг. Елептес мирно пасется среди табуна. Вот он поднял голову и глядит на хозяина: все в порядке! Как только буду нужен, свистни, и я примчусь как ветер. Это отец приучил его прибегать на свист… Ах, отец, отец, как ты поддался негодяям? Прошло уже больше года, а Бекболат все еще видит его как живого. Кажется, вот-вот появится он сейчас из-за холма на гнедой кобыле. Подъедет, устало спустится с седла, ласково спросит: «Ну как, сынок? Все ли ладно?» Но стоит прикрыть глаза, как перед ним встает та ужасная ночь, когда он, Бекболат, возвратился домой и при тусклом свете маленькой керосиновой лампы увидел на тахтамете[3] окровавленного отца… Бекболат вскакивает с камня, сжимает кулаки: — Кто, кто убил тебя, акай? Клянусь именем матери: как только узнаю, я всажу ему каму[4] в грудь по самую рукоятку! Он посмотрел на луг: кони пасутся спокойно, лишь вожак, жеребец Жире́н, вскидывая голову, оглядывает табун, окрестности. Но вот и он уткнулся мордой в траву: значит, все кругом спокойно. Бекболат с ловкостью барса в несколько прыжков взбирается на скалу, находит плоский, отполированный горными ручьями камень, выхватывает из ножен каму и точит ее о гранитный бок. С того дня как похоронили отца, Бекболат не расстается с кинжалом. Ложится спать — кладет под подушку, встает — берет с собой. Ж-жик, ж-жик! — скользит металл по камню. «Кто, кто убил отца?» — неотступно думает Бекболат. По аулу прошел слух, будто бы Алима убили казаки из соседней станицы. А потом кто-то намекнул, что это дело рук Кабанбе́ка, зятя мурзы Батоки… Ах, если бы точно узнать!.. Ж-жик, ж-жик! — скользит кинжал по камню. Вдруг снизу послышался голос: — Ва, ва, ва!.. Хорошо служишь, джигит, достопочтенному князю Батоке! Вай, вай, как хорошо! Бекболат глянул вниз: у подножия скалы остановился всадник в коричневой черкеске с серебряными газырями, на голове дорогая мерлушковая шапка. Бекболат сразу узнал старшего муртазака[5] Кабанбека. — Где твой табун, собачий сын? — заорал муртазак. Бекболат вскинул голову: на лугу одиноко пасся лишь его Елептес. Значит, Жирен увел табун в степь. А там посевы. Но может случиться и более страшное: налетят абреки[6], уведут лучших коней… У Бекболата замерло сердце. Потом оно забилось гулко и часто. «Ах, гривастый дурень, чтоб волки тебя покусали!» — досадовал он на Жирена. Но в глубине души он любил этого умного, хотя и строптивого жеребца. Стоит лишь какой-нибудь лошади отойти от табуна, как Жирен несется к ней, и та тотчас же поворачивает назад. Не потерпит он и того, когда какая-нибудь нерадивая мамаша вдруг да забудет про своего малыша, отойдет далеко от него, и тот тоненько, жалобно ржет. Тогда Жирен бежит к кобылице, хватает ее за холку и ведет к сосунку… Нет, добрый вожак! Но вот, бывает, иногда задурит. Трава теперь хорошая, сочная, бодрит. Конечно же, гривастый черт заржал во всю мочь и понесся вскачь — за ним весь табун. Только Елептес, верный, неизменный друг, не покинул его… — А ну, быстро ко мне! — орал внизу Кабанбек. Бекболат ненавидел этого верного пса мурзы. Если бы наверняка узнать, что отца убил он, Кабанбек! Кровь за кровь — таков святой закон предков, и он, Бекболат, не будет достоин своей матери, если не отомстит за отца! Он еще раз взглянул на опустевший луг и начал неторопливо спускаться со скалы. — Быстрее! — снова заорал муртазак. — Кому говорят? Но Бекболат словно и не слышал, продолжал медленно спускаться по каменистым уступам. Наконец он слез, отряхнул штаны, оправил рубаху и так же неторопливо направился к муртазаку. Кабанбек, сдерживая разгоряченного коня, злобно смотрел, как не спеша идет к нему табунщик, будто бы этого нищего батрака позвал не он, старший муртазак, а какой-нибудь аульский шалопай. Кабанбек судорожно сжал рукоятку треххвостой плети, удар которой, как кама, вспарывает рубаху и рассекает кожу. Дернул коня, и тот рванулся, вихрем налетел на Бекболата. Кабанбек вскинул плеть, чтобы опустить ее на спину табунщика. Но, встретившись взглядом с Бекболатом, он увидел в глазах парня такую отчаянную решимость постоять за себя, что рука с плетью помедлила и не хлестнула. Несколько секунд они в упор смотрели друг на друга, пока Кабанбек не отвел глаза в сторону. — Ну хорошо, шакалий выродок, я поговорю с тобой в ауле! — процедил он сквозь зубы, хватил плеткой коня и поскакал. …До самого вечера как ветер носился Бекболат по степи на своем Елептесе в поисках табуна. Но напрасно. А может, Жирен увел лошадей домой? Бекболат поворачивает коня к аулу. Вон и его сакля с камышовой крышей, низкая, словно вросшая в землю. Из трубы, сплетенной из толстой лозы, поднимается жидкий кизячный дымок. Наверное, мать готовит ему похлебку на ужин… А вон она и сама вышла на крыльцо. Каждый день, как только табун покажется на улице, Кани́ выходит к калитке и ждет сына, держа в руках ковш с айраном[7]. Он подъезжает, Кани спрашивает, как прошел день. «Хорошо, аба́й!» — обычно весело отвечает сын, не слезая с коня. Кани дает ему отпить айрана, и Бекболат скачет вслед за табуном. Так было прежде. А сегодня сын чем-то озабочен, хотел, как всегда, улыбнуться ей, но улыбки не получилось. И вернулся из степи без табуна. — Что случилось, Болат? — с тревогой спросила Кани. Ему не хотелось беспокоить мать, и он сказал: — Ничего особенного, абай… Приду домой, расскажу… — Он дернул повод и поскакал к усадьбе мурзы. Нет, он не обманулся: как и предполагал, Жирен привел табун домой. Вон они стоят в загоне, насытившиеся и какие-то по-человечески добродушные: одни дремлют, другие от нечего делать треплют друг друга за холки. И, поблагодарив в душе вожака табуна, он смело вошел в ворота обширного двора мурзы Батоки.ТРЕВОГА КАНИ
Необоримая тревога овладела Кани: случилось что-то плохое, но Болат скрывает, не хочет огорчать ее. Расстроенная, она чуть не обварилась, когда наливала кипящую воду из казана. Руки ее дрожали, из них падало то одно, то другое. Она то и дело выходила на крыльцо — не возвращается ли Болат? — и бранила себя, что не пошла вслед за ним на усадьбу мурзы. Она еще больше забеспокоилась, когда вспомнила, как вскоре после полудня проехал на взмыленном коне Кабанбек и злобно посмотрел на нее. По всему видно, он возвращался с пастбища Эги́з-тюбе́, где паслись кони мурзы… Нет, нет, сердце не обманывает ее: что-то случилось! Случилось с конями. А муртазак Кабанбек — настоящий зверь. Хитрый, коварный, алчный. Сам мужчина представительный — высокий, широкоплечий, усы черные, длинные… Словом, джигит! А взял себе в жены некрасивую дочь мурзы. Не по любви — за деньги, за богатство взял! Не хотелось быть узденем[8], вошел в дом Батоки и скоро стал его правой рукой — главным муртазаком. И теперь весь аул в их руках. А кто ослушается, жди беды… Пред глазами Кани встают высокий, здоровенный Кабанбек и маленький, кругленький мурза Батока, старшина аула. Что они теперь сделают с ее сыном? О всемогущий аллах, не дай надругаться этим злодеям над ее мальчиком! Кани опускается на коврик из козьей шкуры и начинает молиться. А тем временем Бекболат вошел во двор мурзы, огороженный высоким каменным забором. Справа стоял дом самого мурзы Батоки — на фундаменте, под железной крышей, с подвалом, где хранятся айран, буза, различные копчения. Слева — дом его зятя Кабанбека. Поменьше, крытый черепицей, с простым низким крыльцом. В глубине двора расположились различные службы — амбары, сараи, кладовые, навесы. А еще дальше — скотные дворы, кошара, загон для животных. Когда Бекболат вошел во двор, мурза Батока сидел на крыльце и курил длинную трубку. Тотчас же из дома вышел Кабанбек. Без черкески, в одной рубашке с засученными рукавами, он был воплощение грозы. — Ну что, негодяй, пришел? — крикнул Кабанбек, играя плетью. — Где табун?.. Кто пригнал его в загон? А если бы… а если бы… — Муртазак задохнулся от гнева, — если бы абреки увели, заарканили Жирена, что тогда?.. А кто будет платить за вытоптанную кукурузу, а? — Кабанбек широко расставил ноги, вскинул плеть. — А ну поди сюда, собачий сын! Бекболат секунду-другую стоял в замешательстве. Потом твердым шагом направился к Кабанбеку. Подошел, остановился. Кабанбек, держа в правой руке плеть, левой разглаживал усы, ждал. Он полагал, что во дворе старшины аула парень повинно опустит голову. А может быть, и будет слезно просить прощения. Но тот смотрел дерзко и вызывающе, как и там, на пастбище Эгиз-тюбе. — Ах ты шакалий сын! — взорвался Кабанбек. И плетка со свистом опустилась на спину паренька. Будто огнем обожгло все тело. Чтобы не вскрикнуть, Бекболат судорожно сцепил зубы. Когда плеть взвилась во второй раз, он с ловкостью барса отпрянул в сторону. Схватил ярлыгу, оставленную каким-то пастухом. — Кабанбек! Если ты еще раз ударишь меня плетью, я размозжу тебе голову, как бешеному псу! Это была неслыханная дерзость! Сказать так ему, Кабанбеку, главному муртазаку и зятю самого старшины аула, мурзы Батоки! Да и кто сказал — нищий, оборванец! Кабанбек побагровел, выпуклые рачьи глаза его налились кровью, на висках и шее узлами вздулись жилы. — Эй, люди! — крикнул он в сторону служб. — Взять его! Связать! Стегать, пока не лишится чувств! От конюшен к пареньку бросились три здоровенных верзилы. Бекболат отбросил палку и выхватил каму: — А ну подходи, кто соскучился по могиле! Верзилы попятились назад. — Ха-ха-ха! — хохотал на высоком крыльце мурза Батока. Он видел, как трое здоровенных мужчин испугались зеленого парнишки и как растерянно дергал ус сам Кабанбек. В последнее время мурза был недоволен старшим муртазаком и зятем: уж слишком дешево продал тот отару овец. И сейчас мурза был рад, что паренек посрамил этого усача. А тем временем Бекболат неторопливым шагом вышел со двора мурзы и повернул на тропинку, что вела к реке. Елептес, ждавший его у ворот, последовал за ним. Кубань текла с шумом. Она вечно куда-то спешит! Бекболат позавидовал реке: хорошо ей, бежит себе, бежит, никто над ней не властен! Он мысленно следовал за потоком. Где-то там далеко-далеко город Белоярск, куда три года назад ушел его дядя Маметали́. Брат матери. Может, и ему, Бекболату, уйти куда? Но как оставить маму? И к тому же какой он джигит, коль не отомстит за гибель отца? Им снова овладела яростная ненависть к кровнику. «Клянусь именем матери, я никуда не уйду, отец, пока не отомщу за тебя!» Судя по тому, как хохотал Батока, мурза не очень прогневан на него за то, что прозевал табун, и завтра он снова погонит коней на пастбище… Бекболат шагал по тропинке к аулу. Было что-то непреклонное во всей его фигуре: мохнатая баранья шапка сдвинута на лоб, через плечо — черкеска. Широкие, сшитые из грубой домотканой материи штаны и рубашка, перехваченная в талии узким сыромятным ремешком, не могли скрыть его сильной, стройной фигуры. Над аулом поднимались в вечернее небо столбы дыма. Пахло горелым кизяком: аульчане готовились к ужину. Во дворах мычали коровы, там и тут раздавался собачий лай. С минарета Юма́-мечети Кара́-мулла́ оповещал о вечерней молитве. Кани возилась под навесом у летнего очага. Завидев сына, бросилась к нему: — Свет мой, Болат, что случилось? Почему так долго? — и тотчас заметила вспоротую плетью рубаху и проступившие на ней кровяные пятна. — Что это, Болат? Неужели… неужели… — Она не могла вымолвить страшного слова: она хорошо знала, что такое удар плети Кабанбека. Бекболат улыбнулся: — Ну что ты, абай! Разве я поддался бы… Дал себя бить? Это я сорвался со скалы. Кани отвернула край рассеченной материи и увидела кроваво-багровую полосу на теле сына. Теперь у нее не было никакого сомнения, что Кабанбек ударил его плетью. Но ничего не сказала Бекболату: она щадила самолюбие сына и гордилась, что Болат растет таким сильным и смелым, как горный орел. Они вошли в дом. Мать достала гусиного жира и смазала ему спину. — Спасибо, абай! — сказал Бекболат. — Какой же джигит, если он ни разу не падал с коня и не срывался со скалы? — добавил он шутливо. За ужином Бекболат рассказал матери, что он прозевал коней… Просто задумался, замечтался о чем-то, и Жирен увел табун в степь. Кажется, лошади потоптали кукурузу Кабанбека. — Ой, Болат, как бы беды тебе не нажить! Не человек он — зверь! — Ничего он мне не сделает, абай! — решительно сказал Бекболат. Они помолчали, каждый думая о своем. — Абай! А почему так долго нет никаких вестей от дяди Маметали? — вдруг спросил Бекболат. Кани встрепенулась: «Что он задумал?» — А почему ты вдруг спросил о нем? — Да так… Ведь он все-таки дядя мне! — уклончиво ответил Бекболат. Кани вздохнула, сказала с упреком: — Ходит, как дикий конь, отбившийся от своего табуна. Говорили однажды, будто бы видели его где-то недалеко от Белоярска: не то в станице, не то в каком-то ауле. А после этого как в воду канул, никаких вестей. Наверное, среди русских как русский стал. Забыл обычаи и заветы предков. Как будто у него нет ни родного аула, ни своего очага. Хотя давно ушел из аула Маметали, но Бекболат как наяву видит его. Вот будто и сейчас стоит он перед глазами — высокий, плечистый, с камой на поясе, в черкеске, ладно обхватывающей талию. С маленькими красивыми усиками. Шапка чуть заломлена назад… Настоящий джигит! В ауле поговаривают, что будто бы он ушел из родного селения, опасаясь мести Кабанбека… Однажды на глазах у людей Кабанбек ударил плетью дядю Нуры́ша. Стоявший тут же Маметали выхватил каму. — Если ты, дракон, не попросишь прощения у Нурыша, я снесу тебе голову! Кабанбек понял, что это не простая угроза: Маметали сделает то, о чем сказал. Муртазак попросил прощения у бедняка. Конечно, Кабанбек и его тесть мурза Батока не могли простить Маметали этого позора, и все же Бекболат ни за что не поверит, чтобы дядя покинул аул из-за страха. Такой джигит ни на шаг не отступит и перед самой смертью! Ясно, дядя ушел из Кобанлы по какой-то другой причине. А по какой, не знает никто.НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
Ночь. Тускло пламенеет в очаге огонь. В сакле пахнет кизячным дымком. Возле очага Кани прядет шерсть на штаны Бекболату: те, что он носит теперь, совсем уж истрепались, заплатка на заплатке, а парень уж большой. Кани то поглядывает на веретено, то бросает взгляд на сына, богатырски растянувшегося на старой деревянной кровати. Как-то сложится его судьба!.. Не дай бог, как у нее с Алимом! Вся жизнь прошла в заботах, тревоге. Бывало ложишься спать, не знаешь, чем кормить завтра семью. Думалось: ладно, этот год перетерпим, а на следующий, глядишь, будет полегче. Так и прошла вся жизнь в ожиданиях. И вот отец уже в могиле, а она, Кани, высохла, как старая яблоня… Но о себе теперь Кани не думает, вся забота ее о сыне, о Болате. Был бы жив отец, все полегче было бы… Пусть великий аллах покарает того мерзавца, который занес руку с камой над отцом ее сына! Трудно, очень трудно им сейчас без Алима, и все же наперекор злой судьбе сын растет, мужает. Вон уж как вытянулся, кровать скоро мала будет. Отец-то был небольшого роста. А сын раздался и в плечах. Растет настоящий мужчина. С камой не расстается… И тут Кани снова охватывает тревога: нет, не оставит Болат без отмщения отца, не оставит! А потом и ему мстить будут. И она просит всемогущего аллаха отвести руку ее сына от страшного, кровавого дела. Кани проводит ладонями по лицу и страстно шепчет: — Сделай так, аллах, чтобы единственный, мой свет, мое солнце, мой Болат жил столько, сколько будет лежать земля на могиле его отца!.. Мало-помалу она успокаивается. На дворе уже глубокая ночь. Кани клонит ко сну. Ах, как хорошо, что есть на свете сон! Что было бы с бедным человеком, если бы он хоть на час, на два не мог забыться? А иногда бывает и совсем хорошо: бедный человек увидит светлый, добрый сон, будто бы у него всего много, всего достаток. Увидев такой сон, и несчастный человек немного отдохнет, поживет той жизнью, какой наяву живут богатые. Но в эту ночь добрый сон Кани не приснился. Зато наяву пришла добрая весть от Маметали. На другой день поздно вечером постучали в окно. — Кто там?.. Коль добрый человек — заходи. Кани засветила лампу. Неизвестный ступил на порог. — Кани, сестра Маметали, здесь живет? — спросил он на ломаном ногайском языке. — Аллах мой, неужели от брата! — радостно воскликнула Кани. — Заходи, заходи, добрый человек. Это был кумык-лудильщик, в брезентовой куртке, в сапогах, на голове войлочная шляпа, за плечами мешок. — Проходи сюда. — Кани показала на передний угол, где стоял небольшой, о трех ножках столик — сыпыра́, на котором угощают в ногайских семьях. Гость присел на низенькую скамеечку, развязал мешок, достал из него сверток. — Подарок прислал вам Маметали. Он раскинул на руках большой платок. Даже при тусклом свете маленькой керосиновой лампы платок сиял яркими цветами, а по краям свисали длинные шелковые кисти. Кани так вся и замлела в радостной растерянности. Даже когда она была невестой, у нее не было такого платка. Она робко приняла подарок и, приложив руку к сердцу, низко поклонилась доброму пришельцу. В саклю вошел Бекболат. Увидев незнакомого человека, смутился: — Салам алейкум, агай! — Это сын мой — Бекболат, — пояснила Кани. — О, какой джигит!.. Алейкум салам, Бекболат! А меня Сулейма́ном зовут. Будем знакомы. Кани захлопотала у очага: надо угостить кунака хотя бы ногайским чаем, сдобренным перцем и сметаной. Да, к счастью, остался еще кусочек домашнего сыра, который принесла вчера ее сестра Кеуса́р. Чай пили долго. Гость подробно расспрашивал, как живут аульчане, много ли у них земли, какие наделы у бедняков, кто в ауле старшина и как он относится к народу, не бесчинствуют ли муртазаки. Бекболат, как и положено у ногайцев молодому человеку, больше молчал. Отвечал лишь тогда, когда кунак обращался непосредственно к нему. Больше рассказывала Кани. — Житья от них нет бедному человеку, — говорила она о мурзе Батоке и его зяте Кабанбеке. — Лютуют, как звери. Слова против не скажи! Гость отпил несколько глотков чая из пиалы, задумчиво произнес: — Да-а… Трудно, очень трудно жить на свете бедному человеку. Все им помыкают: и мурза, и бай, и мулла. Ну да, как говорят у нас, кумыков, придет время, и для бедняка взойдет солнце. Взойдет! — Сулейман решительно хлопнул желтой от кислоты и ржавчины рукою по коленке. — Дай бог! Но только дождемся ли мы? — Кани горестно вздохнула. — В прошлую пятницу перед вечерней молитвой Кара-мулла говорил: плохие времена наступают. Страшные. Того и гляди, появится тажел[9] со своим несметным войском. Хоть сейчас он еще в седьмом подземелье, но рать его днем и ночью пробивается наверх. И как появится, все погубит, конец света наступит. Кара-мулла говорит, надо больше молиться, просить аллаха, чтобы не выпустил тажела на свет. В уголках губ Сулеймана затаилась улыбка. Но он молчит, неторопливо потягивая из пиалы чай. Кани некоторое время мучительно раздумывает, говорить ли дальше или не надо. Наконец решается. — А еще Кара-мулла плохое говорил о нашем Маметали. Мол, гяур[10] он. Продал свою веру и душу, спознался с какими-то большевиками. Эти нечестивцы не признают ни бога, ни властей, несут мусульманам погибель. Бекболат, не сводивший глаз с гостя, заметил, как при этих словах матери кунак нахмурился. Поставил на стол пиалу, сказал: — Неправда это, Кания. Не плохой человек твой брат Маметали. Никому он не продавался. И свой народ не забыл. — Да, да, — соглашается Кани, — не такой он человек, Маметали, чтоб пойти против своего народа. — И о большевиках неправду сказал мулла, — продолжал гость. — Не погибель они несут мусульманам, а хотят избавить их от баев и мурз. От таких, как ваш Батока и Кабанбек. Гость рассказал, что Маметали работает на шерстомойной фабрике, и они с ним большие друзья. И еще долго сидели все трое за низеньким столиком. Гость все расспрашивал, не берут ли из аула коней и джигитов для русского царя, который ведет сейчас войну с царем германским. Бывает ли в ауле атаман отдела. Дружат ли ногайцы с казаками… Спать легли чуть ли не за полночь. Гость заснул скоро, а Бекболат ворочался с боку на бок, думал: кто этот человек? Всем интересуется, обо всем расспрашивает, словно он жить собирается у них в ауле. Нет, не простой он лудильщик!.. Уж не абрек ли? Пришел все узнать, выведать, а потом как налетят всей шайкой!.. Нет, не может быть: разве дядя Маметали будет путаться с разбойниками? Утром гость поднялся рано. Запаял Кани ведро, вылудил кумган[11], попил на дорогу айрана и стал прощаться. Он взвалил на плечо мешок с инструментами и шагнул за порог. И тотчас на улице раздался его высокий голос: — Кому кумган лудить, тазы, ведра паять!.. Стал собираться в дорогу и Бекболат: сегодня он погонит табун на дальние пастбища, в глубь предгорий. Пока Бекболат седлал Елептеса, прилаживал вьючную сумку, Кани заштопала черкеску, приготовила башлык, бурку. Хоть бурка совсем ветхая, осталась еще от Алима, но без нее в горах никак нельзя. Она защищает и от палящих лучей солнца, и от ледяных горных ветров. Вошел Бекболат. — Все готово, сынок. Бекболат надел черкеску, опоясался камой. Взял бурку. — До свиданья, абай! — Да хранит тебя аллах, мое солнце! Она поцеловала сына в голову. Вышли во двор. Елептес нетерпеливо перебирал ногами. — Едем, едем, дружок! — Бекболат по-молодецки легко вскочил в седло и едва взял повод, как Елептес стремительно вынес его за ворота. Кани долго смотрела ему вслед, радовалась: настоящий джигит! Алим всю жизнь провел на коне, а сын уже теперь держится в седле лучше его. Вместе с радостью в душу закрадывалась и тревога: опасно на дальних пастбищах — и волки могут напасть на табун, и абреки. Хорошо, если поблизости будут другие табунщики. Кани вернулась в саклю, когда Бекболат скрылся за поворотом. К усадьбе мурзы надо было ехать прямо, а он свернул налево, где жила Салимат. Ему очень хотелось попрощаться с ней. Конечно, в саклю он не пойдет. Может, увидит ее во дворе. С замиранием сердца подъезжал он к дому Салимат. Вот и низенький глиняный забор, калитка. Но увы! Во дворе никого нет. Что же делать? Он поворачивает коня и снова проезжает мимо дома. И вдруг на крыльцо выбегает она, бросается к калитке. — Болат! — Здравствуй, Салимат! Как хорошо, что ты увидела меня. Я уезжаю на дальние пастбища. Она опустила глаза, затеребила косу. — Мне скучно будет без тебя, Болат. — Мне тоже. Но я, может быть, приеду повидаться. Конь у меня добрый… — Салимат! — послышался из дома сердитый оклик отца. — Я жду тебя, Болат! — шепнула она и побежала в саклю. Бекболат рванул повод и поскакал на усадьбу мурзы.ДРУЗЬЯ
По широкому току с тяжелым скрипом катится каменный каток. Его тянут два вола — рыжий и бурый. Их ведет молодой парень. На нем залатанная черкеска, такая же ветхая рубашка, домотканые, из грубой шерсти штаны. На ногах чувяки из воловьей кожи. Они так истрепаны, что из правого, как суслик из норы, выглядывает большой палец. Поля старой войлочной шляпы нависают над загорелым до черноты лицом. Волы идут лениво, сонно, и парень часто замахивается на них кнутом: — Соп-сабы, соп-сабы! Работа однообразная, нудная, и парень напевает себе под нос:Недалеко от аула, на взгорье, старое кладбище с низким полуразрушенным забором. Все тут уныло и печально, мертвая тишина. Возле одной могилы с нетесаным каменным надмогильником сидит, сжавшись, женщина. Это Кани. Ее голова и плечи покрыты большим черным платком. Законы адата запрещают женщинам ходить на кладбище. Кани неподвижна, как эти могильные камни. Голова ее полна горьких дум… Вот уже около двух лет Алим лежит здесь в земле, а Кани, когда надо решить что-то важное, приходит к нему и советуется. Сегодня, хотя ей совсем нездоровится, она пришла поговорить с Алимом о Бекболате. Сын задумал что-то страшное. Она сердцем чует, что он собирается мстить за отца. Да, она хочет, чтобы муж был отомщен, но в кровной вражде может погибнуть и ее единственный, ее солнышко, ее Болат. Как тут быть? — Слышишь ты, Алим? — шепчут обветренные губы женщины. — Что мне делать? Молчит могила. Кани берет дрожащими руками с холмика горсть гальки, припадает к ней губами, целует. — Прости, отец Бекболата, что тревожу твой покой. Но я не могу без тебя… Кани замолкает. И хоть ничего не услышала она, но ей кажется, что Алим подсказал, что делать и как поступить. И она облегченно вздыхает, читает молитву. Поднимается, но еще долго, долго молча смотрит на могильный холм и только тогда идет к выходу. «Нет, нет, великодушный Алим не хочет мести за себя, не хочет подвергать смертельной опасности сына, — шепчет она. — Только надо выведать у Болата и вовремя остановить его руку с камой!» Как только он вернется с дальнего пастбища, она, как всегда, поставит на стол две деревянные чашки с айраном, положит кукурузные чуреки, они сядут ужинать, и тогда она попытается поговорить с Болатом. Сколько же у нее было радости, когда, подходя к сакле, она увидела сына во дворе! — Абай! — вскричал Бекболат и бросился к матери, легонько обнял ее за плечи. — А мне сказали, ты больна… Как твое здоровье? — Получше стало, мое солнышко… Давно приехал? Поди, есть хочешь? Сейчас приготовлю ужин. — Я помогу тебе, мама. …Они сидели за низеньким столиком. Бекболат уплетал вкусную мамалыгу и рассказывал, как на табун напали волки и как он верхом на Елептесе вместе с вожаком Жиреном отбивался от хищников. А Кани и на этот раз так и не решилась спросить его о мести за отца.
САЛИМАТ
Как только Бекболат проснулся, первым человеком, о ком он вспомнил, была Салимат. Салимат! Ах, как он соскучился по ней за эти одинокие дни на дальних пастбищах! Завтра он снова уедет в предгорья. Сумеет ли он увидеть ее? Самому ему пойти к ней нельзя. Послать кого-нибудь сказать, что он,Бекболат, будет ждать ее в балке у родника? Но кого? Можно было бы попросить Батырбека, да он чуть свет уехал в горы за дровами. Как же быть? Салимат ходит на родник по воду. Там, у родника, они и познакомились… В то утро он гнал табун в степь. В балке возле родника он увидел девушку. Она уже наполнила кувшин и шла ему навстречу, стройная, гибкая, как лань. Он остановил коня, спросил с улыбкой: «Девушка, может, дашь мне напиться?» «Пей, джигит, в роднике воды много!» Она поставила на землю кувшин. Бекболат выпрыгнул из седла, припал к сосуду и долго пил. Девушка ласково глядела на него. Она хорошо понимала, что вода лишь предлог. Бекболат ей нравился. Она не раз видела его на скачках. В прошлом году он пришел вторым, лишь немного отстал от Арсланбека, сына мурзы Батоки. А как джигитует! «Спасибо! — поблагодарил Бекболат девушку и с улыбкой добавил: — Ни у кого еще не пил такой вкусной воды!» Она рассмеялась: «Коль так, запомни, джигит: я и вечером прихожу сюда по воду». «Да?.. А как тебя зовут?» «Салимат». «Не забуду, Салимат!» Он стегнул коня и поскакал за ушедшим табуном… А что, если сейчас пойти к роднику: не может быть, чтобы Салимат не пришла по воду!Бекболат сидит на кромке балки, поросшей кустарником. Кругом тихо. Только доносится иногда оклик пастуха: «Райт! Райт!» — да шумит на дне балки ручей. Бекболат смотрит в сторону аула. Нет, девушки все не видно! Уже вечереет. Небо становится на горизонте розовым. Летят, торопятся на ночлег птицы. А вон у скалы Яма́н-кая́ кружит орел. Ах, как завидует ему Бекболат, вольному джигиту неба! Были бы у него крылья, облетал бы весь свет, а потом вернулся бы в родной аул и долго-долго рассказывал бы Салимат… Да, но что с ней? Почему за целый день она ни разу не вышла по воду? А не заметили ли ее родители, Кама́й и Рахиме́, как он шел сюда?..
Камай считался узденем — середняком. Имел пару быков, корову и небольшой надел земли. Ее давали только на мужчин, а у них в доме мужчина один — он сам. Это порою очень огорчало Камая: дал бы аллах сына, и он бы, Камай, имел больше земли. Но тут же он спохватывался: «Нет, нет, гневить великого аллаха не надо, он лучше знает, что нужно бедному человеку. Он дал мне дочку, значит, я должен благодарить его. К тому же Салимат и умница, и красавица. Вот еще немного подрастет, и возьму за нее хороший калым. За нее любой бай посватается». И теперь все свои надежды Камай возлагал на Салимат и оберегал ее как сокровище… Нет, нет, великий аллах знал, кого ему послать. Салимат — это богатство! Камай делился сокровенными мыслями с женой. Но спокойная, рассудительная Рахиме думала по-другому: счастье женщины не в богатстве, а в любви. Выйдет за доброго да умного человека — вот и самое большое богатство. Камай сердито обрывал ее: «Я вижу, ум у тебя что хвост у зайца. Такую красавицу отдам только человеку из богатого рода». И вот случилось, что Салимат подружилась с пастухом, работником мурзы Батоки. Не знал этого Камай. Не знала точно и Рахиме. Но догадывалась. И хотя она готова была к тому, что дочь может выйти за узденя или даже за бедняка, но чтобы войти в дом Кани, с этим Рахиме не может примириться. Уж такой бедности, пожалуй, нет ни в одном доме во всем Кобанлы! Как только взошло солнце, Рахиме разбудила Салимат: — Вставай, милая. — Так рано, абай? — Нет, радость моя, не рано, сегодня мы с тобой пойдем просо толочь. А то ступку Нурыша захватят другие, и мы на праздник останемся без пшена, не из чего будет готовить сюк. Но Салимат, кажется, не слышит, о чем говорит мать. И вообще за последнее время дочь стала какой-то рассеянной. Рахиме догадывалась о причине такой перемены. Правду говорят: сердце матери живет в дочери, а сердце дочери — в джигите. После завтрака они идут к дому Нурыша. У него во дворе под навесом стоит кели́ — ножная ступка. Салимат будет толочь просо, а Рахиме веять. На крыльце их встречает Нурыш, приветливо улыбается. — А-а, Рахиме! Заходите, заходите! — кивает он в сторону навеса, где стоит ступка. — Ну и дочь у тебя, Рахиме! Что цветок в долине. И когда только выросла! Помню ее вот такой козочкой. — Нурыш показывает рукой не выше четверти от земли. — А сейчас вон какой красавицей стала! За такую самый смелый джигит посватается… Нет еще на примете? — Пока еще нет, — отвечает Рахиме. Салимат смущенно опускает глаза и идет к ступке, засыпает просо и начинает толочь. А Рахиме и Нурыш еще долго разговаривают между собой.
БАБУШКА КАРТАБАЙ
Наступали холода. Вершины гор уже засеребрились первым снежком. Бекболат возвращался со своим табуном с далекого пастбища. Солнце еще стояло высоко, когда верхом на Елептесе подъезжал он к аулу. В это время мать обычно возится во дворе, укладывает на зиму кукурузные стебли. Но сегодня почему-то ее не видно. У него защемило сердце: что-то случилось! Он отогнал коней в загон и галопом помчался обратно. Скорее, скорее, с мамой, наверное, плохо! Он почти на скаку выпрыгнул из седла и бросился в саклю. Мать лежала в углу на старой деревянной кровати. — Болат, солнце мое! — хрипло воскликнула она. — Вернулся? Быстрыми шагами он подошел к матери. — Что с тобой, абай? — Голова кружится… Слабость… Он присел на краешек кровати, приложил руку ко лбу матери: — Да у тебя жар! Простудилась, наверное. — Ничего, сынок, пройдет. Я сейчас встану, поесть тебе соберу, солнце мое. — Что ты, абай, лежи! Я же не маленький, сам сделаю. Но, охваченный беспокойством, продолжал сидеть около матери. — Не тревожься, сынок, поправлюсь… Иди, иди, ешь. Ты же с дороги, проголодался. Бекболат знал, пока он не сядет за стол, мать не успокоится. Он взял чашку с кислым молоком, чурек и стал есть. И хотя он, верно, очень проголодался, но с трудом глотал кусочки лепешки: с мамой плохо, очень плохо… А Кани не сводила с него глаз. Провела отяжелевшими руками по своему исхудалому лицу, прошептала: — Слава тебе, всемогущий аллах, что послал мне такого сына. Теперь бы мне увидеть его невесту в своем доме, и тогда можно спокойно умереть. Пообедав, Бекболат убрал посуду, вытер тряпкой столик. Подошел к матери: — Абай, может, чаю приготовить? Попьешь горячего, простуда скорее пройдет. — Ну если не устал, приготовь, солнце мое. Бекболат быстро вскипятил казан, заварил чай, сделал его густым, приправил черным перцем, налил в пиалу. — Выпей, абай. Пропотеешь, и простуду как рукой снимет! — Верно, сынок. После чая Бекболат закутал мать в теплое одеяло, сверху накрыл черкеской и отправился во двор нарубить дров. — Осторожно, солнце мое, смотри ногу не порань! — сказала мать ему вслед. — Все хорошо будет, абай! — отозвался Бекболат и шагнул за порог. Кани прислушивается к ударам топора и думает: «Ах, как бы я была рада, если бы попалась ему девушка с душой! Салимат хорошая, славная. Да разве Камай отдаст ее в наш дом! В бедность такую. А девушке цены нет — и собой статна, и добра, и рукодельница, и по хозяйству все может. Сколько она помогала мне в эти дни! И все украдкой, чтобы отец и мать не видели. Говорит: «Они за меня хотят богатый калым получить. Чуть ли не от князя сватов ждут! А я скорее умру, чем пойду за постылого!..» Славная, славная голубка, да не быть ей в нашем гнезде, на все воля аллаха!»Кани совсем стало плохо: металась в жару, бредила. Бекболат заготовлял в ущелье на зиму дрова, а у постели больной неотступно сидела ее родная сестра Кеусар. Тревожась за мать, Бекболат несколько раз в день прибегал в аул: — Абай, ну как ты себя чувствуешь? — Лучше, солнце мое, лучше. Еще недельку-другую — и поправлюсь. — Она ласково гладила бритую голову сына, склоненную над её подушкой. — Болат, что я хочу тебе сказать… Будь послушным, не гневи аллаха. Не мсти за отца. Пусть убийцу накажет сам аллах. Он велик, он видит все и накажет злодея. — Пусть будет так, абай, — сказал Бекболат, чтобы успокоить мать. Но он ни за что не откажется отомстить за кровь отца кровью. А сейчас пусть абай успокоится: ей плохо, очень плохо, хотя она и говорит, что стало лучше. Он видит, как ей трудно дышать и даже говорить. В лице ни кровинки, глаза ввалились… Он взял ее руку, начал гладить. Кани забылась. — Болат! — сказала шепотом Кеусар. — Ты видишь, как ей тяжко? — Да, аптей[13]. — Надо позвать бабушку Картаба́й. — Хорошо, аптей. Я сейчас схожу к ней. Бабушка Картабай жила одна. В ветхом домишке на восточной стороне аула. Маленькая, горбатенькая, необыкновенно подвижная, она с раннего утра до позднего вечера сновала, как челнок, из одного конца аула в другой. Она была знахаркой, гадалкой, а кое-кто поговаривал — еще и колдуньей. Лечила она ото всех болезней, заговаривала от всех бед и несчастий. «Дел у меня больше, чем моих седых волос!» — любила говорить бабушка Картабай. Как и ожидал, Бекболат старушку дома не застал. Но вечером после захода солнца, постукивая длинной кривой палкой, бабушка Картабай пришла сама. И еще с порога запричитала: — Знаю, знаю, что Болат ко мне приходил. Да дел-то у меня больше, чем седых волос на голове. Но коль зовут, как не помочь правоверной мусульманке! С этими словами она подошла к кровати и стала читать над Кани молитву. Потом осмолила на огне пучок шерсти, дала понюхать больной. Закончив свое дело, бабушка Картабай облегченно вздохнула: — Ну вот, смилостивится аллах, завтра ей будет полегче! — Пусть тебе, бабушка Картабай, масло само в рот попадает, — благодарно сказала Кеусар. — Сейчас попьем чаю с сыром, а потом я тебе курицу поймаю… Однако Кани не стало лучше, всю ночь ее лихорадило. Бекболат не отходил от матери, только лишь перед самым утром вздремнул.
СЕРДЦЕ МАТЕРИ
До Маметали дошла весть, что очень плоха его старшая сестра Кани, и Маметали в тот же день отправился в дорогу. …В сакле тускло горела небольшая лампа. Когда Маметали вошел, его никто не заметил. И он сам не сразу разглядел сидевших на низких табуретках женщин. В сакле стояла тишина. Лица сидевших были скорбными. Одна из женщин, словно очнувшись, вздрогнула и посмотрела на тахтамет. Маметали разом все понял. Он шагнул к топчану, откинул черное покрывало и припал губами к холодному лбу сестры. — Маметали, брат! — раздалось за его спиной, и тотчас он увидел младшую сестру Кеусар, с лицом, залитым слезами. — Сестрица… опоздал я, виноват, — тихо сказал он. — А где же Болат? — К Нурыш-агаю пошел, чтоб помог похоронить. Маметали присел у порога на скамеечку. В сакле снова установилась тишина. Бабушка Картабай, сидевшая у изголовья покойной, заглядывая в Коран, начала читать молитву. Одна из женщин запричитала:На другой день после похорон Маметали пригласил племянника побродить в предгорьях. Бекболат охотно согласился. Он чувствовал такую опустошенность после смерти матери, что не находил места. Они вышли за аул и спустились в балку. Бекболат то и дело бросал взгляд на дядю. Маметали сильно изменился: было в нем сейчас что-то мудрое и спокойное. Хотя он еще не старый — лет около сорока, — но голова уже седая, тронуты сединой и черные усы. Зато его богатырская фигура, кажется, стала еще шире в плечах, выше в груди. Маметали также, в свою очередь, приглядывался к племяннику. Когда он, Маметали, уходил из аула, Болат был совсем мальчишкой. А теперь и ростом вытянулся, и в плечах крепок. Словом, Маметали видел в племяннике свою породу. Надо полагать, и характером пойдет в их род. И он с удовольствием повторял про себя: «Машалла, машалла!» — Да-а, вот и похоронили Кани, — в раздумье́ сказал он. — Я потерял сестру, ты — мать. Что делать! Жизнь есть жизнь: одни уходят, другие приходят. Так что будем мужчинами, и рук не опускать, носа не вешать! Бекболат слушал дядю, соглашался, но ему все не верилось, что матери уж нет, что вот вернутся они из предгорья домой и их не встретит абай, не усадит за сыпыра, не подаст айрана, чтобы утолить жажду. Да и как сразу поверить! Кажется, только вчера она стояла у калитки, встречала его с кружкой прохладного напитка. Только теперь он понял, как беспредельна была ее любовь к нему. Казалось, она умерла потому, что вынула свое сердце и отдала сыну: «На, солнце мое, возьми его себе, чтобы твое сердце было большим, сильным, смелым. У тебя впереди большая и трудная дорога. И мое сердце поможет твоему одолеть ее». А в это время Маметали думал о племяннике: «Кроме меня, у него никого не осталось. Сестра Кеусар? Но что она может сделать? Она сама нуждается в поддержке и помощи. Да и Болат уже джигит: ему нужно сейчас наставление аксакала, а не нянька». Маметали вспомнил себя, когда он был совсем молодым. Тогда ему казалось, что достаточно убить мурзу Батоку, как все в ауле изменится. Как же он был наивен! Там, в городе, Василий Семенович Северов и его друзья открыли ему глаза на мир. Теперь-то он, Маметали, хорошо знает, что надо делать и как, чтобы раз и навсегда избавиться от мурз и муртазаков, от баев и мулл. Теперь надо открыть глаза Бекболату… Они шли по берегу неглубокой речушки. На той ее стороне бродил скот. Бекболат узнал стадо Кабанбека, и в нем снова все закипело. От внимательного взгляда Маметали не ускользнуло то, как сурово сдвинулись брови племянника, как сжались кулаки. И он понял причину этого гнева. Сестра Кеусар говорила ему, что Бекболат собирается мстить Кабанбеку за оскорбление. И Маметали был уверен: племянник сделает это, если оставить его одного. Но, убив Кабанбека, погибнет и сам. — Болат!.. Слышишь, Болат? — Что, дядя Маметали? — Давай присядем и поговорим, как быть дальше. Они сели под деревом. Высоко в небе парил орел. Маметали долго наблюдал за его полетом, потом сказал: — Гордая, смелая птица… Могучие крылья… Вот так высоко взлетает и человек, если обретет крылья… Вот и мне хочется, чтобы у тебя выросли крылья. Я думаю взять тебя с собой в город. — Да?! — удивленно воскликнул Бекболат. — А что, хорошо там, дядя Маметали? — как-то по-мальчишески растерянно спросил он. — Трудовому человеку всюду нелегко живется. И в го́роде есть такие, как мурза Батока и Кабанбек, а может, и похлеще. Но там много и хороших людей. Среди них чувствуешь себя человеком — равным среди равных. Тут, я боюсь, пропадешь ты. А там научишься ремеслу, станешь рабочим человеком. А потом… — Что «потом», дядя Маметали? — нетерпеливо спросил Бекболат. Маметали многозначительно улыбнулся: — А потом посмотрим. Много у нас дел впереди… Маметали рассказал о шерстомойной фабрике, где он работает. О своих друзьях-рабочих. Они помогут найти дело и Бекболату. — Ну так как, едем? — спросил он. Бекболат задумался. Он понимал: без матери ему будет нелегко. Но тут друзья — Батырбек, Амурби, Иса. Тут Салимат. А там люди незнакомые. Да и, признаться, город его пугал: он привык к родному аулу, к степным просторам, предгорьям. Тут у него Елептес, его верный друг. На кого оставить коня, кому доверить? — Нет, дядя, пока я поживу у тети Кеусар, — наконец сказал он. — А там будет видно. Маметали огорчился. И в то же время почувствовал удовлетворение: племянник становится человеком уже самостоятельным. На другой день, распрощавшись с сестрой и племянником, Маметали уехал.
ОБГОНЯЮЩИЙ ВЕТЕР
Любят в ауле Кобанлы, как и во всех ногайских селениях, конные состязания. Любит скачки и Бекболат. Сольешься с конем и несешься, как птица, лишь ветер свистит в ушах да гулко, со сладостным замиранием стучит сердце. Впереди твой соперник. Его во что бы то ни стало надо догнать и обойти. Вырваться вперед и потом под неистовый рев собравшихся пересечь заветную черту. Друзья почти подхватывают тебя на руки, хлопают по плечам, по спине, одобрительно кивают степенные, седобородые старцы. А где-то среди толпы стоит та, для которой победа твоя всего дороже. Счастливая и радостная, она украдкой поглядывает на тебя… Да, чудо эти скачки! Накануне состязания взволнованный Бекболат никак не мог уснуть. Ему все время представлялось, как он несется на Елептесе рядом с главным соперником Арсланбеком. Удастся ли обойти? Арсланбек ловкий наездник, Акмангла́й — Белолобый — отличный конь. И все же Бекболат надеется, что его Елептес не подведет. Шаг у него легкий, галоп стремительный. Преодолевая преграды, конь обнаруживает необыкновенную сметливость. И собою красавец. Все завидовали Бекболату, и больше всех Арсланбек. При виде Елептеса у Арсланбека хищно загорались глаза.На скачки собрались все жители аула. Было необыкновенно шумно. Спорили о достоинствах и недостатках скакунов, о наездниках, заключали пари, чей конь победит. Трасса скачек была трудной: три круга вокруг аула, и каждый раз всадники должны будут переплыть один из рукавов Кубани. Строгие судьи, почтенные седобородые аксакалы, как всегда, будут бдительно следить за порядком и решительно пресекать малейшие нарушения и вольности. Все с нетерпением ожидали начала. Вот в первых рядах всадников появились аульские баи. В дорогой каракулевой шапке набекрень, в тончайшей черкеске с серебряными газырями, Арсланбек держался в седле уверенно и горделиво. Позади двигались всадники из узденей и бедняков. Среди них и Бекболат на Елептесе. Бекболат казался спокойным. Однако изрядно волновался. И пожалуй, думал сейчас не столько о сопернике, сколько о Салимат, искал ее глазами в толпе. И вдруг он увидел ее с подругами. Взгляды их встретились, и сердце его забилось тревожно и радостно. Теперь он не спускал глаз с Арсланбека. А тот всем своим видом показывал, что не уступит первенства никому. Настала последняя минута. Всадники выстроились в шеренгу, готовые в любое мгновение сорваться с места и птицей лететь вперед. Бекболат почувствовал, как волнуется его Елептес, нервно прядает ушами, переступает точеными чашками копыт. Бекболат, не выпуская повода, гладил коня по шее, трепал по холке… И вот главный судья подал сигнал. Как ни готовился к этому Бекболат, на какое-то мгновение он помедлил. Но Елептес сам рванулся вперед, и, когда ветер ударил в лицо, в грудь, Бекболат припал к гриве коня и легонько натянул повод. Елептес шел, чуть приподняв голову, стремясь наверстать упущенное по вине всадника время. Батырбек, Амурби, Иса всем сердцем желали победы своему другу. Когда Болат отставал, Батырбек злился: такой ловкий и на таком коне, а никак не вырвется вперед! Он чуть не плакал от досады. — Айда! Нажми! Нажми! — кричали из толпы каждый своему любимцу. — Бекбола-ат! — Батырбек вопил так, что у него на висках и шее вздувались вены. — Не отстава-ай! Но Бекболат не погонял Елептеса: пусть конь разогреется. И лишь в конце второго круга рванул повод. Он почувствовал, как Елептес с каждым мгновением ускоряет бег. И вот уже он летит вихрем, оставляя позади одного соперника за другим. — Так! Молодец! Прибавь чуть еще! — кричал Батырбек. Елептес, казалось, уже не бежал, а летел. Впереди шли только Арсланбек и еще один всадник. Кони у того и другого рвались из последних сил, а Елептес, как чувствовал Бекболат, еще имел запас. И когда дошли до средины последнего круга, Бекболат поравнялся с Арсланбеком. Тот оглянулся: лицо его побагровело от напряжения, черные раскосые глаза налиты кровью. По правилам, всадник, скачущий впереди, несет почетное знамя. Сейчас его держал Арсланбек. Сын мурзы был уверен, что донесет его до судей-аксакалов как победитель. И вдруг этот шакалий выродок! Некоторое время их кони шли ухо в ухо. Но вот Елептес вышел на полкорпуса вперед. Бекболат протянул руку за знаменем, но Арсланбек, будто не замечая, нахлестывал изо всех сил Белолобого. — Ну, отдавай же! Видишь, я иду впереди! — закричал Бекболат и, изловчившись, вырвал из рук Арсланбека знамя и помчался вперед.

Когда Бекболат пришел в балку, Салимат уже ждала его у родника.
Толпа неистовствовала — кричала, улюлюкала, хлопала в ладоши, свистела. Большинство были рады, что спесивый отпрыск мурзы Батоки наконец-то посрамлен. — Молодец, Бекболат! Вот это наездник! Вот это джигит! А конь и в самом деле быстрее ветра! — кричали Батырбек, Иса и Амурби. Батырбек чуть не приплясывал, то и дело бросал торжествующий взгляд в сторону Салимат: смотри, мол, каков джигит наш друг! А девушка, вся оцепенев от счастья, стояла опустив глаза. И только один Нурыш не радовался победе Бекболата. Он знал, что такого позора мурза Батока не простит сыну Али́ма. А тем временем Бекболат уже осадил коня перед аксакалами, и старший из них принял знамя из рук юноши. Подбежали Батырбек, Амурби, Иса, подхватили на руки Бекболата, подбросили. Когда опустили, Батырбек еще и обнял, расцеловал друга. А Бекболат успел шепнуть ему: — Скажи Салимат, что вечером я жду ее у родника. Бекболат знал, что она обязательно придет, как бы ни следил за ней отец. Он понял это по ее взгляду, когда скакал почти позади всех: сколько ободряющего, сколько горячего желания, чтобы победил он, было тогда в ее глазах!
Когда Бекболат пришел в балку, Салимат уже ждала его у родника. Она шагнула ему навстречу: — Болат!.. Болат!.. Глотая слезы, девушка рассказала, что по дороге со скачек она слышала, как Арсланбек похвалялся: «Завтра мы с ним посчитаемся! Будет знать голодранец, из чьих рук вырывать знамя!» — Я боюсь за тебя, Болат! Они засекут тебя плетьми! Она уткнулась лицом в ладони. — Не надо, не плачь, Салимат. Так просто я им не поддамся! Он сжал рукоятку камы. Салимат взглянула на него. — Нет, нет, Болат! — вскричала она. — Ты не посмеешь этого сделать! Не связывайся с ними: они убьют тебя! Лучше попроси прощения у мурзы и больше не выезжай на скачки. Она смотрела на него такими страдальческими глазами, что он пообещал: — Ладно, Салимат, попрошу. Слезы ее тотчас высохли, она стала веселой и даже озорной. Забежала сзади, закрыла ему глаза, потом легонько оттолкнула от себя, крикнула: «Догоняй!» — и бросилась бежать. С ловкостью горной козочки перепрыгнула ручей и стала проворно карабкаться в гору. Бекболат поднимался вслед за ней. — Салимат! Ты цепкая, как кошка, разве тебя догонишь! — А джигит должен быть ловким, как леопард. Догоняй! Они взобрались на вершину горы. — Посидим, — сказала Салимат. Они сели на камень. Вдали виднелась горная цепь. Возвышался двуглавый Эльбрус. — Вот бы взобраться на Карлы-тау, — сказала Салимат. — Наверное, оттуда весь свет можно увидеть… А ты знаешь, Болат, мне часто снится, как я летаю. Взберусь на скалу, взмахну руками и лечу. Вот бы на самом деле нам с тобой крылья, да? Мы бы сейчас полетели с тобой на Карлы-тау… Солнце уже садилось за горы, как послышался голос Рахиме: — Салимат, дочка, где ты? Салимат встрепенулась: — Абай!.. Ты завтра где будешь пасти табун? Далеко? — Нет. У курганов, в лощине. — Я, может, прибегу к тебе. Отец уедет в станицу. — А мать? — Абай я не боюсь! Она у нас добрая… Салимат побежала домой, а он остался, вспоминая каждую подробность встречи: и как и о чем говорили, и как сидели плечом к плечу на камне, еще не успевшем остыть от жаркого дневного солнца… И угрозу Арсланбека: «Завтра мы с ним посчитаемся!» Он долго думал, как быть… Нет, он окажется трусом, если не явится завтра во двор Батоки. И конечно, никакого прощения просить у мурзы не будет…
СХВАТКА
Когда на другой день утром, ведя в поводу Елептеса, Бекболат вошел на усадьбу мурзы, Батока позвал его на крыльцо своего дома. К удивлению Бекболата, мурза был не только не сердит, казался даже ласковым. — Послушай меня, сын Алима. Зачем тебе такой конь? — Батока кивнул на Елептеса. — Правда, скакун он отменный. Сам я вчера на скачках не был, ездил по неотложному делу в атаманский отдел. Но сын мне говорил, что твой Елептес обошел всех. Ну, да ведь скачками сыт не будешь! А ты бедняк, тебе нужны волы или рабочая лошадь. Так вот возьми у меня пару рабочих лошадей, а Елептеса оставь мне. — Елептеса?! — Бекболат задохнулся. Отдать своего верного друга? И кому? Арсланбеку, его непримиримому врагу! Бекболат не сомневался, что мурза хочет подарить коня сыну. Нет, нет, ни за что! Елептеса вырастил отец. Бекболат так привязался к коню, что не представляет себе жизни без Елептеса. — Мурза! — горячо воскликнул он. — Ты можешь просить у меня чего угодно, только не коня! Батока побагровел. Яростно стукнул позолоченной тростью о крыльцо: — Ты, сын нищего и сам нищий, смеешь отказывать мне, князю и старшине аула? На крик из дома выскочил Арсланбек. Прибежал Кабанбек с муртазаком Жамбаем. — Как ты, нищая голь, посмел позорить сына князя? Кто позволил тебе вырывать у него знамя? Кормил, поил тебя, щенка, работу давал, а ты, неблагодарный, камни бросать в ноги князю! Неужели ты думаешь, что я дам теперь тебе работу? Собачьей бурды и той не дам! Бекболат гордо вскинул голову: — А я и сам не попрошу! Я не собака! Мурза чуть не задохнулся от этих дерзких слов. Закричал на сына и зятя: — Вы слышали, что он сказал? — Слышали, отец, — ответил Арсланбек. — Так чего же вы стоите? Надо научить его, как разговаривать с почтенными людьми! Арсланбек выхватил каму. — Я распорю тебе живот, грязный шакал! Сверкая по-кошачьи злыми маленькими глазками, он шагнул к Бекболату. — Убери свою каму, Арсланбек! — воскликнул Бекболат. — Я не сказал вам ничего плохого. А в том, что ты проиграл скачки, вини себя. Упоминание о скачках взбесило Арсланбека. — Ты еще хочешь спорить, негодяй! С занесенным кинжалом Арсланбек бросился на Бекболата. Он ловко увернулся, соскочил с крыльца, выхватил каму. — Арсланбек! Если ты не уберешь кинжал, я буду драться с тобой! Увидев в руке Бекболата каму, Арсланбек остановился. Бекболат не спускал с него глаз. Он не заметил, как Батока подал знак Кабанбеку и Жамбаю, и те налетели на него сзади. На помощь им подбежал Арсланбек. Отбиваясь, Бекболат задел камой сына мурзы и поранил ему руку. — Ах, собака! — Арсланбек занес кинжал, чтобы всадить его в обидчика. — Не сметь! — закричал с крыльца мурза. — Я сошлю его в Сибирь! Пусть сдохнет там, а в княжеском дворе — слишком много чести! Сейчас же заберите у него Елептеса и поставьте в конюшню. А его, негодяя, отстегайте и выбросьте за ворота! При этих словах отца глаза Арсланбека радостно заблестели: наконец-то Елептес — конь, обгоняющий ветер, — будет стоять в отцовской конюшне! Забыв о раненой руке и даже о самом обидчике, Арсланбек бросился к Елептесу: — Не тронь коня! Бекболат рванулся, но Кабанбек и муртазак Жамбай держали его железной хваткой. Тогда он изловчился и вцепился зубами в руку Кабанбека. Кабанбек взревел и ударил рукояткой камы Бекболата под ложечку. Земля покачнулась, и Бекболат провалился в какую-то душную, темную яму…Он очнулся в ущелье, недалеко от Яман-скалы. Он не сразу сообразил, как он здесь очутился. И только мало-помалу вспомнил, как Арсланбек бросился к Елептесу, как держали его, Бекболата, Кабанбек и Жамбай, как он вцепился зубами в руку старшего муртазака, как тот ударил его рукояткой камы. И очевидно, когда он потерял сознание, Кабанбек и Жамбай приволокли его сюда… Во рту было сухо, тошнило. Он спустился к ручью и, черпая пригоршнями воду, долго пил крупными глотками. Студеная вода освежила его. Он вышел к Кубани и пошел по берегу. Вот и Яман-кая. Она почти неприступная: с трех сторон отвесная, а с четвертой на нее ведет крутая, порожистая тропа. Тут можно одному выстоять против целого отряда. Мальчишкой Бекболат со своими дружками играл здесь в абреки, «громил» мурз и баев. Он поднялся на вершину скалы. Сел на плоский камень. Кругом тишина. Лишь где-то внизу, у подножия скалы, шумит Кубань. Вдали виднеется аул. Усадьба мурзы Батоки… И в нем все заклокотало от гнева и ненависти. Машинально схватился за ножны, но кама, видимо, осталась во дворе мурзы. Тогда он вскинул кулаки и потряс ими: — Будь я проклят небом, если не отомщу за все и не верну Елептеса! В горах Карачая, в ауле Карт-Джурт живут родичи матери. Он уйдет к ним, а потом в горы, к абрекам. И уж тогда-то он посчитается со всем родом Батоки — и Арсланбеком, и Каванбеком, и с верным псом мурзы Жамбаем… Но об этом пусть знает лишь этот камень и эта скала. Тете Кеусар он скажет, что хочет погостить у родичей…
ДО СВИДАНИЯ, САЛИМАТ!
Нелегко было Бекболату покинуть родной аул. Здесь находились не только могилы отца и матери, здесь была Салимат, которая стала ему теперь самым дорогим человеком на свете… В эту ночь он не сомкнул глаз: прощаясь, почти до рассвета просидел с друзьями. А проводив их, не мог заснуть — перед глазами все время стояла Салимат. Он поднялся с восходом солнца, умылся, вышел на крыльцо. Отсюда аул виден как на ладони. Улочки кривые, пыльные. Все сакли под камышовыми и соломенными крышами. Только дом мурзы под железом. Да у Кабанбека под ярко-красной черепицей… А вон домик Салимат. Как с ней проститься? Самому пойти к ней нельзя: Салимат говорила, что отец, кажется, догадывается, почему задерживается дочь, когда идет по воду. «Чего ты там делаешь, у родника? Разве долго воды набрать? Смотри, как бы беды тебе не нажить!» «Какая же может быть беда, акай, если постояла с подружкой Айша́т?» — возражала Салимат. Бекболат решил сходить к Батырбеку, попросить его передать Салимат, что он, Бекболат, будет ждать ее в ущелье. У Верблюжьего камня. — Конечно, для друга все можно сделать, — сказал Батырбек. — Но если узнает Камай, он убьет меня. Ты же знаешь, какой он бешеный. Бекболат сердито уставился на него. — Что ты так на меня смотришь? — смущенно пробурчал Батырбек. — Любуюсь твоим курносым носом! — вспылил Бекболат. В мальчишках Батырбека дразнили «Курносиком». Нос и в самом деле был у него словно для потехи — короткий, вздернутый. Зато глаза умные, добрые, правдивые. Бекболат любил друга за справедливость и верность дружбе и сейчас уже жалел, что обидел товарища. Но Батырбек, кажется, и не думал сердиться, Увидев, как приуныл Бекболат, сказал: — Что-нибудь надо придумать. Он прикрыл глаза, на переносице собрались складочки — это значит, Батырбек серьезно задумался. — Вот что! — воскликнул он. — Пойду попрошу у Камая быков съездить за дровами. Он весело подмигнул Бекболату: мол, не горюй, все будет в порядке!Бекболат еще издали увидел девушку. Она шла торопливо, почти бежала. Он бросился ей навстречу. — Здравствуй, Салимат! Как хорошо, что ты пришла! — Ты уезжаешь, Болат? — Да, Салимат… Жесткий комок подкатил к горлу: она не могла вымолвить слова. И тогда он заговорил сбивчиво, горячо, что ему необходимо на время уйти из аула. Но он непременно вернется. Их ничто не может разлучить, никакая даль, никакие люди, никакие степи и горы, ни пропасти, ни ущелья. Он, как орел, на крыльях прилетит к ней. Бекболат умолк и ждал, что скажет она, а она молчала, и он чувствовал, как отчаяние овладевает им. — Салимат, — вскричал он, — да скажи что-нибудь! Хоть одно слово! — Он взял ее за плечи и легонько встряхнул. — Я жду! Она посмотрела ему в глаза долгим взглядом: — Я верю тебе, Болат. Но сердце подсказывает: я потеряю тебя… Судьба пошлет нам большое горе, беду… Но я верю, верю тебе! Он благодарно сжал ее руку. — Это лето поживу в горах, а на другое — вернусь. Ты только жди меня. Договорились? — Нет, Болат, надо сказать так: я обязательно вернусь, если на то будет воля аллаха. Он знал, что она очень верит во всемогущество великого аллаха, и потому тотчас повторил: — Если на то будет воля аллаха. Она порывисто припала головой к его груди. — Да будет добрым твой путь и не оставит тебя в беде аллах! — горячо прошептала она. — До свидания! Мне пора домой. Когда ее шаги стихли, Бекболат подошел к ручью. Вода журчала, и в этих звуках слышался ему наказ: «Смотри не забывай родной край! Тут для тебя каждый простой камень — золото, каждый ручей — медовая вода, каждая былинка — хлеб. Нет ничего более дорогого и святого, чем отчий дом и родной край». Да, да, он понимает это и клянется могилой отцов — не забудет!
ВСАДНИК НА СЕРОМ КОНЕ
Со вторыми петухами поднялся Бекболат. Тетя Кеусар уже хлопотала у очага. Над казаном вился парок. Вкусно пахло чаем. — Умывайся, Болат. Завтрак готов. Поешь — и в добрый путь. Когда все уже было готово в дорогу, Кеусар позвала племянника: — Болат, поди сюда… Наступи на очаг. Бекболат недоуменно смотрел на тетку. — Зачем, аптей? — Иди, иди, слушай старших! Бекболат подошел к очагу. Несколько раз наступил сыромятными чувяками на золу. — Вот так, — одобрительно сказала Кеусар. — Затем, чтоб твои ноги опять ступили на порог родительского дома. И где бы ни был, чтоб не забыл родного очага… Бекболат взял сумку, повесил ее на палку, вскинул на плечо: — Ну, прощай, аптей! Кеусар прослезилась. Утирая кончиком платка слезы, сказала: — Счастливой дороги, мой родной. Да не оставит тебя в пути аллах. Бекболат вышел в степь, поднялся на взгорье. Утро вставало в плотном тумане. Аул, домик Салимат — все было затянуто белесой завесой. И Бекболату стало грустно: вот так же в тумане было все, что ожидало его впереди. Чтобы рассеять грустные мысли, он тихонько запел:Уже много верст трудной горной дороги отделяло Бекболата от родного аула. Но до карачаевского селения Карт-Джурт, куда он держит путь, было еще далеко. Бекболат решил передохнуть. Он свернул на обочину, уселся возле каменной глыбы, достал из сумки овечий сыр, кукурузную лепешку… Было необыкновенно тихо; кругом ни единой живой души, лишь где-то в вышине клекотал орел да свистел ветер в расселинах скал. Но вот послышался конский топот. Бекболат насторожился. Стук копыт становился все явственнее. Бекболат встал. На дороге показался всадник на взмыленном сером коне, держа в поводу гнедого. Увидев Бекболата, он повернул к нему: — Куда путь держишь, джигит? Бекболат взглянул на всадника. Лицо его, темное от ветров и загара, было все в шрамах и казалось суровым. — Случайно, не в Карачай? — спросил всадник. В голосе его не чувствовалось враждебности, а небольшие карие глаза смотрели приветливо, и Бекболат сказал доверительно: — Туда, агай. В аул Карт-Джурт. — К родичам в гости? — В гости, агай. Бекболат кивнул на сыр и лепешку, разложенные на сумке: — Садитесь вместе со мной. Всадник молодецки выпрыгнул из седла. На нем была довольно хорошая бурка, под ней почти новая черкеска, опоясанная широким ремнем, на котором висел большой горский кинжал. Когда поели и напились из ручья, незнакомец сказал: — Садись на гнедого, немного подвезу. — Большое спасибо, агай! Обрадованный Бекболат вскочил на коня, и они тронулись. Всадник на сером коне ехал впереди, Бекболат за ним. «Кто этот человек? Откуда и куда едет? — думал он. — На вид сердитый, а так очень добрый». Расспрашивать старших не принято, да и незачем. Мало ли встречается путников на горных дорогах! Стало темнеть. У глубокого, густо поросшего лесом ущелья незнакомец остановился. — Мне надо сюда. — Он кивнул на ущелье. — Заезжай в наш аул. Переночуешь, отдохнешь, а завтра доберешься до родичей. «И верно, — подумал Бекболат. — Дорога незнакомая, а скоро будет совсем темно…» Сначала ехали по узкой каменистой тропе вдоль реки. Потом начали подниматься в горы. Местами слезали с коней и карабкались вверх по крутым склонам… Только в полночь добрались до места ночлега. — Вот и наш аул! — сказал незнакомец. Посреди поляны, окруженной густым лесом и скалами, стояли два коша[15]. Горел большой костер. Бекболат не верил своим глазам. Сам аллах ему помогал! Привел прямо к абрекам! Он был и несказанно обрадован, и в то же время растерян: очень неожиданно все случилось! Когда отправлялся в путь, он рассчитывал некоторое время пожить у родичей, познакомиться с каким-нибудь абреком и уйти с ним в горы. И вдруг он уже в самом стане абреков! Они подъехали к костру, спешились. Тотчас из коша вышли двое. Один высокий, в дорогой черкеске, на голове шапка из золотистого каракуля, на ногах чары́ки. Широкий пояс весь в серебряных украшениях. Другой низкорослый, кривоногий, в рваном черном шепкене. — Тамада[16],— обратился к высокому попутчик Бекболата, — принимай кунака! Парень устал и есть хочет. Тамада усадил Бекболата возле костра, сказал низкорослому: — Азама́т, накорми парня! А ты, Мухажи́р, иди со мной. Тамада и попутчик Бекболата ушли в кош. Азамат поставил перед Бекболатом полную чашку мамалыги, подал шашлык, кукурузные лепешки. Пока Бекболат ужинал, в стан возвращались абреки. Расседлывали коней, уводили их к коновязи и шли в кош тамады. Потом выходили к костру, ужинали. Недоверчиво, исподлобья посматривали на Бекболата, тихо переговаривались. Тут были и ногайцы, и черкесы, и карачаевцы. Из коша снова вышли тамада и Мухажир: видимо, он был помощником тамады. Они подошли к костру, сели среди абреков. Тотчас завязался веселый хаба́р — беседа. То и дело слышался хохот: словно они были не скитальцы гор и сидели не у ночного костра, а собрались на пирушку к другу. Тамада посмотрел на небо. — Ну, пора отдыхать, молодцы! Мухажир, — обратился он к своему помощнику, — дай кунаку новую бурку, чтоб спалось тепло! — Будет сделано, тамада! — ответил тот. Мухажир отвел Бекболата в кош, разостлал на сене черкеску. — А буркой накроешься, — сказал он. — Ложись, джигит, да спи крепко. Перед дорогой путнику надо хорошо отдохнуть! Бекболат с головой укрылся буркой — мягко, тепло, но заснуть долго не мог. Он слышал, как в кош один за другим входили абреки, валились на сено и тотчас начинали храпеть. Утром его позвал к себе тамада. Он расспросил Бекболата, куда и зачем идет, почему ушел от родного очага.
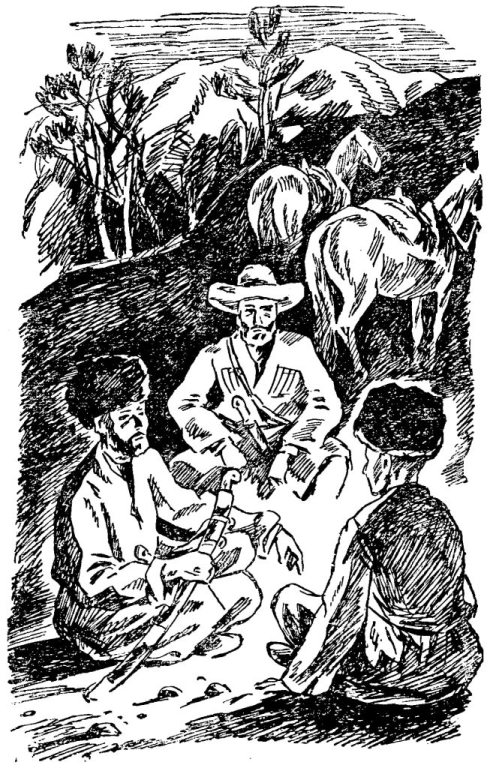
Тамада усадил Бекболата возле костра.
Выслушав Бекболата, тамада сказал: — Вот что, джигит, мы покинули свои родные аулы тоже не для легкой жизни. Скитаться в горах — незавидный удел. Стать абреками нас заставили баи и мурзы. И у меня, и у Мухажира, что привел тебя сюда, и у казанши[17] Азамата — у всех свои счеты с ними. Доро́га наша не легкая. Приходится и грабить и насильничать. Но и твоя тропинка, джигит, не лучше. Если хочешь, оставайся с нами. Дадим тебе доброго коня, и будешь вместе с моими молодцами ходить на дело. Люди они смелые, отчаянные. И дружные — один за всех и все за одного. Так что в обиду не дадут! Бекболат того и ждал. — Спасибо, агай! Я остаюсь с вами! Ему уже чудилось, как они налетают на усадьбу мурзы Батоки, как он выводит из конюшни Елептеса, садится на него и птицей летит по ночной степи… В нем горела и трепетала сейчас каждая жилка. Ему хотелось в нынешнюю же ночьпойти на дело. Но тамада сказал: — Пока отдыхай. Осмотрись, коня себе подбери… — Хорошо, тамада! — воскликнул благодарно Бекболат.
Весь день Бекболат бродил по стану. Тамада, видать, человек с головой: местечко выбрал такое, что сам шайтан не увидит, не подберется — кругом отвесные скалы, густой лес. И коши сделаны так добротно, что в них и зимой можно жить. Неподалеку от кошей стояли на привязи кони. И Бекболат, конечно, прежде всего направился к ним. Опытным глазом табунщика он с первого взгляда определил: скакуны все отличные — резвые, выносливые. И понятно: абреки плохих лошадей держать не будут. На плохом коне головой поплатишься!.. Особенно хорош вон тот, белокопытый. Ноги, как у Елептеса, длинные, стройные, легкие. Вот если бы тамада разрешил взять его! Он подошел к коню, потрепал его по холке, расчесал рукой гриву, поправил челку, погладил по морде. Белокопытый тихонько заржал, словно приветствуя джигита. — Салам, салам! — рассмеялся Бекболат. — Эй, парень! — окликнул его казанши Азамат. — Иди поверти шашлыки, пока я мамалыгу готовлю. Солнце садится: ребята должны скоро возвращаться. Мне достанется от тамады, если ужин не будет готов. — А куда они уехали, агай? — спросил Бекболат. — За барашками. Мясо уже кончается. — А где они их возьмут? — Э, джигит найдет! Мало ли в горах отар. И тут послышался конский топот, веселые возбужденные голоса. — Вон едут наши орлы! — сказал Азамат. На поляну въезжали всадники. На запасных вьючных лошадях — связанные бараны. — Эй, казанши! Принимай шашлыки! Да только смотри, живьем не подавай, как в прошлый раз! — кричали приехавшие, подтрунивая над Азаматом. Казанши сердился. — Изжарю так, чтоб ты язык свой поганый проглотил вместе с шашлыком и не болтал чего не следует! — отвечал Азамат, мешая лопаткой мамалыгу. И снова в горы пришла ночь. Поужинав, абреки разостлали у костра бурки и опять ведут хаба́р — беседу, веселые, беспечные. А Бекболату не дает покоя одна и та же дума: как сказать тамаде об Елептесе? И не возьмет ли он потом себе скакуна? Ведь во всем стане нет коня, равного Елептесу!.. Перед глазами Бекболата встает картина скачек. Выезжают на своих конях аульчане. А вот появляется в белой черкеске с позолоченной камой Арсланбек на Елептесе… Нет, нет, пусть лучше ездит тамада, чем этот жирный кабан Арсланбек! Только как сказать тамаде? И вдруг случай выпадает. Беседа заходит о конях. Оказывается, в прошлом набеге у тамады подстрелили замечательного скакуна, и теперь он ищет себе нового коня. Но какого ни приведут абреки, не нравится тамаде! Скажи ему сейчас, что есть хороший конь, тамада немедля пошлет своих верных людей, а то и сам поедет! Бекболат некоторое время колеблется. Наконец решается: — Тамада-агай! В ауле Кобанлы у мурзы Батоки есть такой конь, какого во всем предгорье не сыщешь. Елептес! Тамада пронзительным взглядом окинул Бекболата: — В табуне пасется? — Нет, агай, отдельно. Разве можно держать в табуне такого коня! Но я вам помогу увести его. Я знаю все ходы и выходы во дворе мурзы как свои пять пальцев. Тамада, нахмурив густые, нависшие над глазами брови, долго думал. Потом одобрительно хлопнул по плечу Бекболата: — Машалла, джигит! Пойдем-ка со мной в кош… Мухажир! Азиз! И вы тоже… Долго за полночь слышался приглушенный разговор в коше тамады. А на другой день три всадника, оседлав самых резвых коней, выехали из стана и направились на север, к предгорьям…
СЛЕД ВЕДЕТ В ГЛУБИНУ ГОР
Уход из аула табунщика мурзы Бекболата вызвал много всяких разговоров. Куда исчез парень, никто толком не знал. Одни говорили, ушел к родичам, другие — подался к абрекам. Все знали, что он поранил камой сына Батоки — Арсланбека. За это мурза отобрал у него коня, а самого хотел сослать в Сибирь. Парень, мол, испугался и ушёл в горы. И понятно: кому хочется погибать в той проклятой Сибири, где вместо лошадей запрягают собак. Одни осуждали молодого табунщика: как можно поднять руку на человека из такого знатного рода! Другие сочувствовали и желали ему доброй дороги и удачи. И только Салимат да верный друг Батырбек знали, куда и зачем ушел Бекболат. Батырбек был уверен: друг его не пропадет — не такой он парень, чтоб кому-то поддаться! А Салимат очень тревожилась за судьбу Болата. Но особенно много говорили об исчезновении табунщика в доме мурзы. Сегодня Батока и его зять Кабанбек засиделись допоздна. Опять речь зашла о сыне Алима. Когда Бекболат поранил Арсланбека, можно было совсем прикончить табунщика — за кровь платят кровью! — но они хорошо понимали, какое сейчас время. Одна за другой доходят и сюда, до предгорий, вести из России. Там голытьба налетает на усадьбы русских баев и князей. Мутят народ какие-то большевики. Да и в предгорьях немало развелось всяких смутьянов. И Маметали, дядя этого щенка, говорят, один из их главарей. Кабанбек очень хорошо помнит, как Маметали заставил его просить прощения у голодранца Нурыша. А за родного племянника он снесет голову. Потому-то Кабанбек и не решился тогда ударить табунщика камой. — Надо было посадить его в подвал, — сказал он Батоке, — или прямо везти в атаманский отдел… — «Надо, надо»! Задним умом все крепки. А где ты был тогда? Батока сердито уставился на зятя. Кабанбек потупился. Буркнул: — Ничего, поймаем! Куда уйдет этот голодранец? Где-нибудь в соседних аулах прячется… — Смотри, как бы он тебя не поймал! — вспылил Батока. Кабанбек боялся гнева тестя и благоразумно решил убраться восвояси. Над усадьбой, над аулом стояла непроглядная темь. Ни звездочки на небе, ни огонька на земле. Дул злой восточный ветер. Кабанбека окружили сторожевые собаки. Он ласково потрепал по шее своего любимца, огромного кобеля Алага́за: «Смотри, ухо востро держи! Видишь, какая ночь!» И, запахивая раздуваемые ветром полы черкески, зашагал к своему дому.Сквозь сон Кабанбек услышал лай собак. Встал, подошел к окну. Во дворе стояла кромешная темь, ничего не было видно. А выходить из дому не захотелось: холодно! Да и на псов он надеялся. Сунься чужой — в клочья разорвут! Он снова лег, накрылся с головой и тотчас уснул. Его разбудил шум во дворе. Бросился к окну: посреди усадьбы толпа людей — работники, муртазаки и сам Батока. Мурза, яростно стуча позолоченной тростью о землю, кричал: — Плетьми всех засеку, собачье племя!.. Кабанбек в одной нательной рубашке выскочил во двор. Увидев его, Батока притворно-ласково спросил: — Ну что, дорогой зятек, сладко поспал? — И вдруг взорвался: — Где… где Акманглай? — Батока задыхался. — Говорил… говорил тебе, поставь на эти ночи муртазака у конюшен. Нет, псы будут стеречь! И только теперь Кабанбек понял: увели Акманглая, лучшего коня Батоки, если не считать Елептеса, которого мурза подарил сыну. Кабанбек не сомневался, что кража Акманглая дело рук того шакальего выродка — Бекболата. Собаки его знают и потому, лишь тявкнув, смолкли. Табунщику известны все конюшни мурзы. Пришел за Елептесом, а, не найдя его, увел Акманглая. К счастью, Арсланбек еще вчера уехал на Елептесе к своему другу в горный аул. Чувствуя свою вину, Кабанбек не смел взглянуть на тестя. — Ну что стоишь как истукан? — рявкнул на него Батока. — Хоть из-под земли достань мне коня! Вернешься без Акманглая — голову снесу! Кабанбек бросился в дом, облачился в черкеску, опоясался камой, схватил карабин. Через несколько минут отряд конных муртазаков галопом выскочил со двора. Они объехали все соседние аулы, направились в горные селения. Там к ним присоединился Арсланбек. Но куда бы они ни приезжали, в каком бы ауле ни спрашивали о таком-то всаднике и таком-то коне, никто ничего утешительного сказать не мог. Было очевидно: похититель, минуя аулы, ушел в глубину гор.
НАБЕГ
Бекболат и его спутники — Мухажир и Азиз — возвращались из набега. Акманглая вел на поводу Бекболат. Ехали ночью, днем отсиживались в укрытии. Вернулись в стан ранним утром. Их встречал сам тамада. С ним был какой-то человек, в шапке бухарского каракуля, дорогой черкеске, рукоять кинжала позолочена, а ножны отделаны серебром. На ногах сапоги из сафьяновой кожи. — О, добрый конь!.. Машалла, машалла! — восклицал тамада, похлопывая по холке Акманглая. — Азамат! — крикнул он казанши. — Накорми молодцов самым лучшим шашлыком! — Будет сделано, тамада! — отозвался тот. Бекболат колебался: сказать тамаде, что это не тот конь, за которым ездили, или умолчать? Наконец желание во что бы то ни стало вырвать Елептеса из рук мурзы заставило его признаться. — Тамада-агай! — воскликнул он. — Это не Елептес. Это Акманглай. Тамада разом сделался мрачным, как туча. Густые брови сошлись на переносице, рука легла на рукоятку камы. — В усадьбе его не было. Я облазил все конюшни, все сараи, — сказал Бекболат. — Так где же он? — грозно спросил тамада. — Не знаю, тамада-агай… Наверное, пасется в табуне… Тут вступил гость: — А скажи, джигит, есть у мурзы Батоки кабардинские кони? — Целый табун, агай! — поспешно ответил Бекболат, сразу догадавшись, зачем приехал гость. — Чистокровки! Глаза гостя загорелись. Он живо повернулся к тамаде: — Как же решим? Тамада распорядился поставить Акманглая отдельно. Хорошо накормить, напоить, чтоб конь отдохнул: он потребуется ему нынче. На закате солнца тамада, оседлав Акманглая, выехал из стана вместе с незнакомцем. Вернулся он на второй день и был очень добр с Бекболатом. Тот понял: тамада хочет послать его на какое-то новое дело. Бекболат не ошибся. Скоро вожак абреков пригласил его в свой кош. — Садись, джигит! — Он кивнул на разостланную бурку и сел сам. — Ну спасибо тебе за коня. Хотя Акманглай не столь резв, как был мой, но зато вынослив… — Тамада-агай! — воскликнул обрадованный Бекболат. — Мы и Елептеса уведем. Клянусь небом: рано или поздно, но Обгоняющий ветер будет у нас! Тамаде нравился этот решительный и горячий парень. Таким в молодости был он сам и питал сейчас к Бекболату почти отеческие чувства. — Машалла, сынок! — ласково сказал он. — А теперь, джигит, вот какое дело. Нам надо раздобыть десять кабардинских чистокровок. Говоришь, у Батоки целый табун? — Да, агай, я сам пас! — Так вот, джигит, снова поедешь с Мухажиром и Азизом и возьмешь у мурзы десять чистокровок. Мухажир знает, кому передать коней. Понятно? — Да, тамада-агай! Бекболат был несказанно рад такому заданию и был готов отбить не только десяток коней, а угнать весь табун: жажда мести роду Батоки ни на минуту не затихала в нем.Ночи стояли лунные, светлые. Идти на дело в такую ночь опасно. Но тамада, очевидно, торопился выполнить заказ и распорядился отправляться в путь. Впереди ехал Мухажир: он знал в здешних местах каждую тропинку. За ним Бекболат. Позади Азиз с карабином за плечом. Он ушел в абреки еще мальчишкой вместе с отцом. В одном из набегов отца убили, и теперь при налетах Азиз был отчаянно дерзок и беспощаден.
До аула Кобанлы оставалось часа два езды. Остановились в балке, чтобы дождаться ночи. Страшно томительны были эти часы! Наконец солнце ушло за горы, но скоро его место на небосклоне заняла луна, залила степь бледно-голубым светом, и все было видно почти как днем. — Да поможет нам аллах! — сказал Мухажир. Всадники тронулись. Бекболату не составило большого труда отыскать табун. Он пасся в лощине, недалеко от реки Кубани. Небольшой степной балкой, поросшей кустарником и редкими деревьями, они выехали к реке. Остановились. Чистокровки паслись совсем близко. Слышалось их пофыркивание. Вдали на холме горел небольшой костер. Около него сидел табунщик, ходил оседланный конь. Бекболат огляделся, сказал: — Азиз! Мы с Мухажиром будем отбивать коней, а ты следи за табунщиком. Если погонится, предупреди выстрелом вверх… Слышишь? Вверх! — Ладно! — неохотно отозвался Азиз, снимая с плеча карабин. Бекболат и Мухажир вылетели на лощину и стали отрезать косяк чистокровок голов в пятнадцать. Они уже почти отбили его, как послышался голос табунщика: — Стой!.. Стойте, проклятые!.. Бекболат на всем скаку осадил коня: голос показался ему знакомым. Едва он повернул Белокопытого, как раздался выстрел. Показался Азиз. За ним гнался табунщик. Но, проскакав шагов двести, он свалился с седла. Бекболат рванул Белокопытого… Он соскочил с коня, склонился над табунщиком: Амурби! Глаза закрыты, в руке намертво зажата кама. Бекболат опустился на колено, приподнял товарища.


— Амурби! Амурби! — окликал он друга. — Амурби, это я, Болат!.. Ты слышишь меня, Амурби? Амурби не отвечал, голова его безжизненно запрокинулась. — Убил!.. Убил, проклятый Азиз! — простонал Бекболат. Он опустил Амурби на землю. Из оцепенения его вывел конский топот. Три всадника во весь опор спускались с взгорья в лощину. «Соседние табунщики!» — Прощай, Амурби! — крикнул он и вскочил в седло. Белокопытый был резвый и выносливый конь, настоящий конь абрека, и Бекболат скоро ушел от погони. Впереди уже слышался перестук копыт угоняемого косяка чистокровок. Еще несколько минут, и он догнал бы его, Но Бекболат придержал коня, поехал шагом. Перед глазами неотступно стоял Амурби: запрокинутая с закрытыми глазами голова, повисшие плетью руки… Он свернул в ту самую балку, где они останавливались перед налетом в ожидании наступления ночи, разнуздал коня и вдруг почувствовал такую усталость, словно он неделю не слезал с седла. Опустился на камень, стиснул ладонями голову… Луна уже скатывалась к горизонту, скоро будет светать. Что же делать? Догонять Мухажира и Азиза? Теперь они ушли уже далеко. Возвращаться в стан? Но что скажет тамада? «Почему отстал? Почему не с Мухажиром?..» А главное — снова волчья жизнь: набеги, грабежи, кровь. Перед ним опять встает Амурби с запрокинутой головой, с безжизненно повисшими руками… Нет, нет, нет! Ни за что! Но куда же идти? И счастливая мысль осенила его: «В Белоярск! К дяде Маметали!.. Недели две погощу, а там будет видно». Занималась заря, светлели дали и уже отчетливо вырисовывались вершины гор, когда он выбрался из балки и направил Белокопытого на дорогу, ведущую в Белоярск.
 Часть вторая
Часть вторая
КРУТОЙ ПОВОРОТ
Огибая горы, дорога вывела Бекболата на степные просторы. Скоро впереди засверкала под лучами солнца река. За ней виднелось большое селение… Белоярск! Хотя Бекболат никогда не был в этом степном городке, но, по рассказам Маметали, он сразу узнал его. По эту сторону реки расположились какие-то строения, дымилась высокая труба. Стояли грязно-серые штабеля немытой шерсти. Бекболат догадался, что это и есть та шерстомойная фабрика, на которой работает его дядя. Бекболат направил коня прямо к фабрике. Остановился у ворот. Спешился. Привязал Белокопытого к забору. У калитки, попыхивая глиняной трубочкой, сидел старичок сторож. Бекболат обратился к нему на ломаном русском языке: — Акай! Маметали Капланов куда служит? Ваша знает? Старичок приложил к уху ладонь: — Ась? Что сказал? — Моя хочет дядя Маметали! Понимаешь, Маметали, дядя? — старательно повторил Бекболат. — Это какой же Маметали? — Старичок наморщил лоб, задумался. — Такого, парень, не знаю. А вот ногаец Магомет есть. Бекболат знал, что для русских все ногайцы — Магометы, как для ногайцев все русские — Иваны. — Да, да, акай, Магомет, Магомет! — радостно воскликнул он. — Ну так бы сразу и сказал! — Сморщенное личико старика сразу подобрело. — Знаю, знаю Магомета. Как не знать! — Моя хочет говорить ему… Скоро говорить… Старичок весело рассмеялся, покачивая головой: — Ну и лопочешь ты, парень! Сразу и не поймешь, что к чему. Стало быть, позвать его? Бекболат кивнул. Старичок закрыл на засов калитку и по-куриному засеменил к низкому длинному зданию, над которым возвышалась большая кирпичная труба. Скоро оттуда вышел Маметали. Дядя был в брезентовом фартуке. Рукава рубахи засучены по локоть. На ногах тяжелые, из воловьей кожи сапоги. Он шел широким, торопливым шагом. Старичок еле поспевал за ним. Племянник и дядя крепко обнялись. — Не ждал, не ждал! — обрадованно говорил Маметали. — И очень беспокоился за тебя. Думаю, по молодости да по горячности натворит там дел… Ну, как говорят, слава великому аллаху! — Маметали улыбнулся, хлопнул племянника по плечу: — Молодец!.. Эге! Да у тебя новый конь! А где же Елептес? Бекболат смутился, опустил глаза. — С мурзой Батокой поменялся… — пролепетал он, покраснев до ушей. Маметали понял, что с парнем стряслось неладное. Но расспрашивать не стал: не время и не место! — Что ж, Болат, — сказал он, — сейчас доложу управляющему: так, мол, и так, кунак у меня, родич, прошу отпустить. И пойдем ко мне отдыхать, гостевать. Сначала они шли по берегу Илинчи́ка. Бекболат вел коня в поводу. Вода в реке была такая прозрачная, что можно было пересчитать на дне мелкие камушки. Недаром тут и построили шерстомойную фабрику. Белокопытый дернул головой, потянулся к воде. — Дядя Маметали! Погоди, я попою коня, — сказал Бекболат. — А не рановато? Не обезножет? — Нет, он уже остыл. Бекболат закинул повод на шею Белокопытого, и тот сам вошел в реку. Долго цедил сквозь зубы холодную прозрачную влагу. Потом поднял голову, посмотрел вокруг, тихонько заржал. — Товарищей окликает! — Бекболат грустно улыбнулся. — Пойдем, дружок, пойдем. Далеко, не услышат! Город начинался тотчас же за рекой. Окраинные глинобитные халупки подступали к самому берегу. Они долго петляли по кривым, ухабистым переулкам и улочкам, пока наконец Маметали не остановился перед низенькой беленькой мазанкой с крыльцом. — Вот мы и пришли. Коня привяжи, а после чая я сведу его на луг. А на ночь накосим травы. Они вошли в небольшие сенцы, делившие хату на две половины. Маметали постучал в дверь направо. — Арина Семеновна! На пороге показалась женщина лет пятидесяти в темном ситцевом платье, в переднике. — А, Магомет! — воскликнула она. — Да с тобой еще кто-то! — Племянник мой, Болат. Сестры сын. — Просим милости. У меня обед готов, — с низким, почтительным поклоном сказала хозяйка дома. — Спасибо, Арина Семеновна. Мы и чайком обойдемся… У вас, кажется, коса была? Болат на коне приехал: травы надо накосить. — Есть, есть. В сарае висит. Берите, когда понадобится. — Спасибо! Маметали открыл дверь, что была слева. — А это моя комната. Заходи, — кивнул он Бекболату. Комнатка была небольшая. В переднем углу стоял столик, накрытый бумагой. Около него две некрашеных табуретки. Справа у стены железная кровать, застланная серым суконным одеялом. В ауле у всех кровати деревянные. И только у мурзы Батоки, говорят, какая-то необыкновенная — вся блестит, со сверкающими шарами и шишками. Но Бекболат никогда не был в его доме, и теперь видит железную кровать впервые. В заднем углу небольшая печка. Вместо казана плита с круглым отверстием и набором кольцевых крышек. — Ну, располагайся, брат, как дома! — услышал Бекболат голос дяди. — Черкеску вешай вот сюда. И все же Арина Семеновна принесла обед. Завернутый чугунок с борщом, жестяную миску с картофельными оладьями. — Горячие еще, — сказала она, ставя все на стол. — Кушайте на здоровье! — Спасибо, Арина Семеновна. Мы бы и чайком обошлись. — Как можно! Парень с дороги, поди, устал, проголодался. Борщ вкусный, наваристый. — Да что же вы стоите, Арина Семеновна! Присядьте! — предложил табуретку Маметали. — Спасибо, Магомет. Не буду вас стеснять, пойду… Племянник у тебя, смотрю, этакий орел, что лицом, что статью. А брови — крылья соколиные, и только! Бекболат смутился, на загорелом, обветренном лице проступил румянец. — Ну, кушайте на здоровье! Арина Семеновна ушла, а Маметали и Бекболат принялись за обед. Маметали с аппетитом уплетал густой наваристый борщ, а Бекболат, впервые пробуя это блюдо, глотал с трудом. При этом у него было такое страдальческое выражение лица, будто пил горький отвар полыни от простуды. Маметали весело рассмеялся: — Не нравится? Ну, тогда ешь оладьи. А сейчас я чай вскипячу. Оладьи Бекболату понравились, и он с удовольствием съел несколько штук. После обеда свели Белокопытого на луг к реке. Потом накосили травы. Легли спать рано. Маметали тотчас уснул. А Бекболат долго лежал навзничь с открытыми глазами. Встал, на цыпочках подошел к окну. Луна освещала соседние небольшие, приземистые хатки. Далее ничего не было видно. Он снова лег. Тетя Арина чем-то напоминала ему покойную мать, и как только он закрыл глаза, перед ним встала Кани. А когда уснул, мать вошла в комнату. «Ну как, сынок, хорошо тебе на новом месте? Я рада, что ты пришел к дяде. В ауле ты нажил бы кровника и погиб… Нет, нет, солнце мое, не думай мстить за отца. Убийцу накажет аллах». Она стала удаляться. — Абай! Не уходи! — закричал Бекболат и проснулся. Маметали вскочил. В свете луны, заглядывавшей в оконце, он увидел Бекболата. Племянник сидел на койке с широко открытыми глазами и бледным лицом и смотрел на дверь. — Что с тобой, Болат? — спросил Маметали. — Да так… Просто спать не хочется…Когда Бекболат проснулся, в комнатке было светло. Дядя Маметали уже собрался на работу, натянул брезентовую куртку, такие же штаны. В руках держал брезентовые же рукавицы. — Выспался? — спросил он. — Выспался, агай. — Тогда вставай. На плите чай и пирожки с творогом: тетя Арина угощает. А в столике есть сыр. Так что доживешь до вечера! — Дядя улыбнулся. — Ну, будь хозяином! — Шагнул к двери, но у порога вдруг остановился: — Да, коня я свел на луг! Маметали ушел. Бекболат рывком поднялся с койки, распахнул оконце. В комнатку повеяло утренней свежестью. После завтрака Бекболат вышел за калитку. Улочка была кривая, узкая. На рассвете прошел дождь, и теперь кругом стояли лужи. В них отражалось небо, такое же высокое и синее, как и у них в предгорье. И улочка походила на их аульную. Да и сам город здесь, на окраине, смахивал на большой аул, раскинувшийся среди оврагов и балок. И только вдали виднелись большие дома. По улице шли люди. Они куда-то торопились, были молчаливые и озабоченные. Бекболат шагал от улицы к улице. Чем дальше, тем дома́ становились добротнее. Некоторые были двухэтажные. Странно, но он, как мальчишка, боялся заблудиться и повернул обратно. Он решил посмотреть Белокопытого. Завидев Бекболата, конь заржал. — Салам, салам! — крикнул ему Бекболат. Подошел, ласково потрепал по холке. — Пить хочешь? Пойдем! Он снял путы, напоил Белокопытого и снова пустил пастись, а сам сел на берегу реки. В воде отражались облака. Они походили на голубые льдины, и волны несли их в степь к водам Кубани. А там далеко-далеко на ее берегу родной аул. Там его очаг, там Салимат… Сердце его сжалось. Как он соскучился по ней! Он, наверное, отдал бы даже коня, чтобы свершилось чудо, и Салимат оказалась бы сейчас рядом с ним здесь, на берегу… Потом перед его глазами встает Амурби… Будь проклят тот день, когда он решил податься в абреки! Нет, не добрый аллах, а злой, коварный шайтан подстроил ему встречу на дороге с абреком Мухажиром, который увел его в свой разбойничий стан. Его мучила совесть, что он не рассказал обо всем дяде Маметали. Сегодня он это сделает и посоветуется с ним, как быть дальше. Он до вечера пробыл на берегу реки. Вернулся домой вместе с Белокопытым. Поставил его в хлев, где когда-то хозяйка держала корову. Скоро пришел с работы Маметали. Он сразу заметил, что Болат растерян и подавлен, порывается что-то сказать, но не решается. Маметали принес степного сыру, плитку черного чая, чтобы угостить племянника настоящим ногайским — со сметаной и перцем. За чаем Маметали пристально посмотрел на племянника: — Я же твой дядя, скажи, что у тебя. Какая беда стряслась? Бекболат, кажется, только этого и ждал. Рассказал обо всем — и о скачках, и о том, как мурза отнял у него Елептеса, как Кабанбек избил его, и о том, как ушел в абреки, чтобы отомстить роду мурзы, и о набеге, при котором погиб Амурби… Положив на стол большие натруженные руки и склонив голову, Маметали долго молчал. Сейчас он очень пожалел, что не увел тогда Болата, оставил в ауле горячего безрассудного мальчишку одного. — Вот что, Болат, — наконец сказал он, — в прошлый раз я необдуманно согласился с тобой: оставил тебя в ауле. А теперь мое слово твердое, слово старшего: ты будешь жить у меня. Подыщем тебе работу. И на другой же день Маметали продал Белокопытого, Бекболату купил городскую одежду — пиджак, сапоги, штаны, две рубашки. Бекболат примерил покупки, невольно улыбнулся: как русский стал! Только бритая голова выдавала мусульманина. Маметали понял его улыбку. Сказал: — Можешь и чуб отрастить. — Гяуром назовут, — возразил Бекболат. — Глупости! Верность своему народу доказывают не волосами, а делами, — сказал Маметали.
НОВЫЙ ДРУГ
Сегодня Маметали вернулся с фабрики не один, с невысоким коренастым человеком. Бекболат сразу узнал в нем лудильщика Сулеймана, который был у них в ауле. Хотя он внешне не походил на дядю Маметали, у них было что-то общее. Оба добродушные, степенные, неторопливые. Будто они владеют каким-то секретом мудрости и всё знают наперед. — А, Болат! — воскликнул Сулейман еще с порога. — Вот и встретились! — Он шагнул к Бекболату и первым подал руку: — Салам алейкум! — Алейкум салам, Сулейман-агай! Маметали захлопотал у плиты, готовя чай, а гость обратился к Бекболату: — Есть у меня в кузнице свободное место подручного. Будешь работать со мной. Работа не легкая. — Ничего, — отозвался от плиты Маметали, — парень он крепкий. — Ну, так как, согласен? — спросил Сулейман. Бекболат кивнул. — Вот и добро! — воскликнул гость. — Там у меня один уже есть. Таких же лет, как ты. Из русских. Колька-Соловей. За чаем Маметали и Сулейман говорили о том о сем. Вспомнили про какого-то чудака у них на фабрике, как тот купил по случаю на базаре великолепные, с жесткими лакированными голенищами сапоги. Сунул их под мышку, на радостях выпил косушку. Пришел домой, хотел похвастать жене, а в руках одни лишь голенища из крепкого картона, а головки отвалились по дороге. Оба весело смеялись. Бекболат тоже невольно улыбался: его удивляло, что такие серьезные люди могут по-мальчишески веселиться. — Ну прямо и смех и грех! — вытирая тыльной стороной ладони глаза, говорил Сулейман. Но вот он снова стал серьезным: — Значит, так, Маметали: завтра приходишь на фабрику с Болатом… Спасибо за угощение и за компанию тоже. — Я тебя провожу, — сказал Маметали. …Утром поднялись рано. Бекболат почти и не спал, все думал, что ждет его на фабрике: какие люди? Что за работа? После завтрака Бекболат надел дядину рабочую куртку, нахлобучил картуз. На ноги вместо легких чувяков натянул тяжелые, непривычные сапоги. — Ну, в добрый час! — сказал Маметали. — В добрый час! — как эхо, повторил Бекболат. Узкими кривыми улочками и переулками вышли за город. С пригорка была хорошо видна вся фабрика — большое длинное здание. Над ним кирпичная труба, словно минарет. Только потоньше и намного выше. — Это сама фабрика, — пояснил Маметали. — А вон то здание — контора. За ней двухэтажный дом хозяина. А в низине бараки. Большинство рабочих из города. Но часть живет здесь, в этих бараках. На берегу реки навесы для сушки шерсти. А это склады для готовой продукции. — Маметали-агай, откуда же хозяин берет столько шерсти? — спросил Бекболат. — А он скупает ее чуть ли не со всего Кавказа. Его знают не только наши баи, но и русские. Через Белоярск проходит железная дорога, которая связывает Россию с Закавказьем. По ней наш хозяин и сбывает шерсть в оба конца. Делец крупный и ловкий! Когда-то был простым перекупщиком, сам ездил по окрестным селениям, скупал шерсть и перепродавал. А теперь вон как разбогател! Столько выжал поту из рабочего человека! Да и Крови немало пососал… Они подошли к воротам фабрики. Старичок сторож почтительно приподнял картузик: — Здравия желаю, Магомет! — Здравствуйте, Матвей Иванович! — Смотрю, никак, и племяша хочешь записать на фабрику? — поинтересовался старичок, показывая трубкой на Бекболата. — Угадали, Матвей Иванович. — С богом! С богом!.. Проходите. Маметали провел племянника в кузницу. Это было небольшое, до черноты закопченное помещение, с двумя маленькими оконцами и такое сумеречное, что поначалу Бекболат ничего не увидел. Когда глаза немного привыкли, разглядел горн с огромными кожаными мехами. Их раздувал молодой рыжеголовый парень. «Наверное, нелегко такими дуть!» — невольно подумал Бекболат. Посреди земляного пола две наковальни: одна большая, другая поменьше. Кузница была полна угарного смрада. У Бекболата с непривычки закружилась голова. — Сулейман! — окликнул Маметали кузнеца, возившегося у горна. — Принимай нового подручного.Нелегко было Бекболату на фабрике. Поначалу его утомлял и сам город. Узкие улицы, суета людей, толчея, шум, грохот колымаг — все это ему, сыну предгорий, было непривычно. И по вечерам после работы у него не только болели руки, ломило плечи, спину, но и гудела голова. Но мало-помалу он начинал втягиваться в ритм городской жизни. Привыкал и к кузнице, хотя работа была тяжелая. Вторым подручным кузнеца, напарником Бекболата, оказался русский парень Николай. Рыжий, вихрастый, как подсолнух, с крупными золотыми блестками веснушек по всему лицу, веселый, разбитной. Он все время что-нибудь насвистывал, и на фабрике его звали Колька-Соловей. Вчера было очень много работы. Сулейман спешил, спешили и подручные. Снимая с наковальни готовую, еще горячую поковку, Бекболат обжегся и уронил ее на пол. Поковка задела сапог Николая. Колька взорвался: — Ты что, ослеп, азиат проклятый? Хочешь, чтобы по башке стукнули тебя этой железякой? Бекболат побледнел от гнева и с трудом сдержал себя, чтобы не вцепиться в горло обидчика. На следующее утро он до последней минуты не вставал с постели. Маметали уже вскипятил чай, нарезал хлеба, а Бекболат все лежал на кровати, отвернувшись к стене. Маметали встревожился: обычно племянник поднимался с ним вместе. — Что с тобой, Болат? Или захворал? Бекболату не хотелось говорить: не в его характере было жаловаться и выкладывать свои обиды. Но дядя все же заставил его рассказать. Выслушав, Маметали подошел к племяннику, потрепал по плечу: — Не расстраивайся, сынок. Он назвал тебя азиатом, ты мог бы назвать его гяуром. Уж так повелось в России: богатым выгодно сеять рознь, натравливать один народ на другой. Так легче держать людей в узде. Конечно, кличка эта оскорбительная. Но Колька сам хлебнул немало горького, бродяжкой был. Парень он с норовом, отходчивый. И душевный. Я поговорю с ним. Маметали сдержал обещание, потому что на другой день Колька сам заговорил с Бекболатом: — Ты чего обиделся? Есть на что! Мало ли чего под горячую руку сбрехнешь! Велика беда! У нас, у русских, говорят: хоть горшком назови, только в печку не ставь. — Колька протянул свою широкую, всю в желтых твердых мозолях руку. — Кто старое помянет, тому глаз вон! Согласен? С тех пор Колька-Соловей стал лучшим другом Бекболата. В воскресные дни они вместе бродили по городу, глазели на витрины магазинов, заходили в лавки, смотрели товар. Денег ни у того, ни у другого не было. К удивлению Бекболата, Колька-Соловей бойко читал вывески магазинов и лавок, объявления городской управы, афиши. — Кто тебя научил? — спросил Бекболат. — Василий Семенович Северов, который на станции меня подобрал… Хочешь, я тоже тебя научу? Еще бы не хотеть! У него от радости даже зашлось сердце. Когда он был мальчишкой, с какой завистью смотрел он на ребят, которые ходили в аульский мектеб[18]! — Пойдем к нам, я тебе одну книжку почитаю, — сказал Колька. Колька-Соловей жил у бабки Агафьи, одинокой старухи. Василий Семенович Северов, подобравший мальчугана на станции, привел его к старушке. «Агафья Кондратьевна! Вот вам внучек. И тебе будет веселее, и ему уютнее. Сирота паренек, как былинка среди холодных камней». Колька быстро привязался к бабке, и та души не чаяла в нежданном-негаданном «внучке». Жили они на окраине, на Собачеевке, в хате-мазанке. Колька зажег керосиновую лампу, бережно достал с полки книжку и начал читать рассказ «Старуха Изергиль». Бекболат был весь слух. Подвиг Данко потряс его. Вот какие бывают люди!.. Колька-Соловей сдержал слово. Дня через три он подошел к Бекболату веселый, с улыбкой от уха до уха: — Все в порядке — достал букварь! В воскресенье приходи. И теперь все воскресные дни напролет друзья сидели за букварем. — А ты здорово способный! — говорил Колька своему ученику. — Ежели и дальше так будешь, к новому году грамотеем станешь! И в самом деле, Бекболат довольно быстро усваивал русскую азбуку, стал читать по слогам. Несколько труднее давалось ему письмо. Но упрямый парень мало-помалу одолевал и его…
В один из вечеров к Маметали пришел какой-то русский, голубоглазый, светловолосый, с коротко стриженными усами. Он был в кожаной куртке и кожаном картузе, ладный, подтянутый. Он долго говорил с Маметали о каких-то непонятных Бекболату делах. Перед уходом спросил дядю: — А это, значит, ваш племянник? — Он самый. Болат. Работает подручным у Сулеймана… Когда он ушел, Маметали спросил: — Знаешь, кто это? Тот самый человек, который подобрал на станции Кольку-Соловья, — Василий Семенович Северов, машинист с паровой мельницы. А позднее Бекболат узнал: Северов был тамадой у белоярских рабочих.
ГДЕ ТЫ, БОЛАТ?
Уже прошло около года, как исчез из Кобанлы сын Алима, аульчане мало-помалу стали о нем забывать. Потом прошел слух, что Бекболат был в абреках и в одном из набегов погиб. После этого разговоры о нем совсем прекратились, угасли, как гаснет в степи костер, покинутый табунщиками. И только верные друзья — Батырбек, Иса и Амурби — не забывали о своем товарище… Да, да, и Амурби! Он остался жив! В ту печально-памятную ночь его подобрали табунщики и увезли к родичам в горный аул; там был искусный лекарь, который и выходил Амурби. Ни на минуту не забывала о Болате и Салимат. Как ни уверяла ее мать, что сын Кани сложил голову и нечего о нем больше думать, Салимат не переставала ждать от него весточки. Каждое утро она выходила к калитке, ждала, когда погонит табун Батырбек, который пас теперь чистокровок мурзы. — Батырбек, здравствуй!.. Ну что, ничего не слышно? — спрашивала она. — Пока нет, Салимат… Но ты не горюй — вернется! Не такой Болат парень, чтобы пропасть! Салимат брала кувшин и шла по воду. Здесь у родника, где они подружились с Болатом, она садилась на камень, задумчиво смотрела на ручей. В душе сама собой рождалась песня. Девушка тихо пела:КАБАНБЕК ИЩЕТ НЕВЕСТУ
В аул Кобанлы пришел тиф. Почти ни одной сакли не миновал он. Хворь постучала костлявым пальцем и в богатый дом Кабанбека. Заболела Ханбике́. Через неделю она умерла. Кабанбек ходил на людях опечаленный, но в душе был рад случившемуся. Давно он мечтал отделаться от старой, некрасивой жены. И вот сам аллах помог Кабанбеку избавиться от старой княгини. Теперь он найдет себе жену молодую, красивую. Он уже не тот бедный уздень, каким был, когда брал замуж засидевшуюся в девках, всю побитую оспой Ханбике. Теперь он первый бай в Кобанлы после мурзы. Какая девушка не пожелает пойти за него! Кто не захочет породниться! Только не спешить, а то Батока оскорбится. Пока надо приглядеть девушку, а пройдет полгода, устроит такую свадьбу, что вся округа заговорит! Как кошка на птаху, стал он посматривать на дочь узденя Камая. И наконец решил: возьмет ее, только ее! Другой такой красавицы не сыщешь во всем предгорье! И как ни страшился Батоки, не выдержал срока Кабанбек. Прикинул: время смутное, тревожное, вряд ли будет сейчас ссориться с ним мурза. Батока не дурак! Кабанбек облачился в новую белую черкеску с серебряными газырями, надел серую барашковую шапку. На ногах — дорогой кожи сапоги. Красавец! Джигит! Как не пригласишь такого человека в саклю и не расстелешь перед ним на полу ковер! Кабанбек оседлал лучшего коня, надев на него серебряную сбрую, и направился к Камаю. Съездил раз, другой, третий… Прямого разговора пока не вел. Но Камай сразу догадался, кому и чем он обязан посещением столь богатого гостя. И хитро повел беседу, что вот, мол, весна наступает, а быки уже старые, один хромает на переднюю ногу. Как с такими управишься! — Эка беда! — воскликнул Кабанбек. — Выбирай из моих пару самых лучших. Могу подарить еще и коня. Чистокровного аргамака! — Ты добрый человек, Кабанбек. Пусть аллах удвоит твое богатство, — льстиво сказал Камай. «Пора приступить к делу», — решил Кабанбек. — Слушай, Камай… отдай за меня дочь. Салимат… Княжной она у меня будет! Камай сделал вид, что предложение Кабанбека застало его врасплох. Прикинувшись растерянным, он долго молчал, хлопая глазами, сокрушенно вздыхая. — Что, Камай, или я не нравлюсь тебе? Или боишься, калымом обижу? — не без гнева воскликнул Кабанбек. — Быков хоть десять пар дам. Сотню баранов пригоню… Денег не пожалею… Зерном саклю по крышу засыплю, — все больше распалялся гость. — Нет-нет… — поспешил заверить Камай. — Видно, сам великий аллах так пожелал… Как же я могу отказать тебе, Кабанбек? Пусть аллах сделает вас обоих счастливыми! И, бесконечно довольные друг другом, они обнялись. А в это время за стеной, закусив угол подушки, лежала Салимат. Плечи девушки вздрагивали. Она все слышала, о чем говорил Кабанбек с отцом.ТАЙНА КОЛЬКИ-СОЛОВЬЯ
Как ни прост, как ни откровенен был Николай, но Бекболат нутром чуял, что приятель что-то скрывает. Есть какое-то особое тайное дело, о котором он не говорит. Гуляя вместе по городу, Колька то вдруг скажет, что ему надо сбегать к какой-то знахарке, попросить для бабки Агафьи трав на припарку — совсем старушка занемогла, то, придя на работу, пошепчется с Сулейманом и куда-то исчезнет. Иногда Бекболат не заставал его дома. А однажды увидел у него какие-то бумаги. Колька поспешно спрятал их и как ни в чем не бывало начал насвистывать. Но особенно удивил Бекболата такой случай. В прессовочном цехе попал в машину рукой тюковщик. Рабочие направили делегацию к хозяину с требованием немедленно принять меры по охране труда и выдать пострадавшему пособие. Среди делегации был и Колька. О загадочном Колькином поведении Бекболат рассказал дяде. Маметали улыбнулся: — Что ж, теперь ты наш, рабочий человек и надеюсь, умеешь хранить тайну. Так ведь? — Да, агай! — горячо ответил Бекболат. — Так вот, Николай выполняет поручения нашей рабочей организации, — уже серьезным голосом сказал Маметали. — Придет время, и ты узнаешь, что это за организация. А пока учись. Грамоте учись, присматривайся, каково живется трудовому люду.Хотя у Бекболата появились новые добрые друзья, а комнатка дяди Маметали стала как бы родным очагом, все же он тосковал по аулу. Для него, с раннего детства знавшего ширь звездного неба, орлиные скалы, вольные ветры, просторы степей, город был тесен и душен… Ах, оседлать бы сейчас Елептеса и ветром лететь по степи!.. По воскресеньям он уходил в степь. Взбирался на курган и долго глядел в затянутую голубой дымкой даль. Где-то там родные предгорья… Возвращался домой грустный, молчаливый. Маметали догадывался о причине такого настроения племянника. Как-то вечером за чаем он спросил: — По аулу скучаешь? — Да, агай. — Понимаю, — сказал Маметали. Ему было хорошо знакомо это чувство. Вначале и он не находил места от тоски, но потом мало-помалу стал привыкать к городу. А когда подружился с Василием Семеновичем Северовым, который вовлек его в рабочий политический кружок, а затем и в большевистскую организацию, в жизни его произошел крутой поворот. «Надо, — решил Маметали, — и Бекболата понемногу приобщать к делу». Все чаще по вечерам Маметали рассказывал племяннику о революционной борьбе рабочего класса, о партии большевиков. — И у нас в Белоярске есть большевистская группа. Руководит ею Василий Семенович Северов. — Дядя Маметали! — не вытерпев, воскликнул Бекболат. — И ты состоишь в этой группе? — Да, Болат. — И Колька? — Нет, Николай пока в рабочем политическом кружке. Вот и тебе надо в нем поучиться. Я потолкую с Василием Семеновичем. А пока, о чем мы сегодня говорили, знаем лишь я да ты. Понял? — Клянусь, дядя Маметали!
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
Бекболат не переставал удивляться: вот он, оказывается, какой — Колька-Соловей! Он уже, наверное, давно в кружке, а помалкивал, только хитро улыбался. И теперь понятно, почему он вдруг исчезал неизвестно куда. Видно, выполнял какие-то поручения самого тамады Василия Семеновича Северова, которого он называл «крестным батей». Что это закрестный батя, Бекболат не совсем понимал, кажется, это вроде второго отца: ведь Василий Семенович спас Кольку — подобрал, выходил и устроил потом подручным к Сулейману. А скоро и ему, Бекболату, пришлось выполнить одно задание вместе с Николаем. Надо было встретить на станции поезд, получить «багаж» и доставить его на место явки — так называлась Колькина хата, где собирались члены тайного рабочего кружка. Поезд приходил в Белоярск ровно в полночь. А они еще засветло вышли, одетые в самое лучшее, что было у того и другого. Еще бы! Ведь они «работники» купца Петра Саввича Неверова! Идут встречать поезд, с которым должен быть привезен Неверову чай самого высшего сорта; его доставляют купцу по особому заказу. Колька-Соловей в новом пиджаке нараспашку, из-под него алеет рубашка, схваченная в талии пояском с кистями на концах, в картузе с блестящим лаковым козырьком, из-под которого вываливается огненный чуб. Колька толкает впереди себя тележку на легких рессорах. Ее сделал в кузнице Сулейман. Попадется колдобина, тележка лишь мягко качнется, как лодка на волне, и катится дальше. Право же, чудесный мастер Сулейман! Бекболат идет рядом. И он приодет, надо сказать, недурно: и у него новая сатиновая рубашка, и пиджак почти новый. На ногах до блеска начищенные сапоги. На станции Колька прокатил свою тележку по перрону, покрикивая: — А ну, странись! Зашибу! Казалось, он нарочно старается попасть на глаза человеку в железнодорожной форме с красной фуражкой на голове. И даже спросил его: — Господин начальник, прошу извиненьица: поезд не опаздывает? К удивлению Бекболата, начальник ответил совсем серьезно и чуть ли не с почтением: — Нет, нет, сударь, следует точно по расписанию. Колька подмигнул Бекболату: мол, знай наших! Когда вдали послышался шум и гудок приближающегося поезда, Колька кивнул Бекболату: — Идем туда, багажный там останавливается. Они прошли почти в самый конец перрона, где возились вокруг каких-то ящиков толстый господин в шляпе и высокий вихлястый парень в брезентовом переднике. — Тута! — выдохнул Колька. Лавина шума, лязга и грохота надвигалась на станцию с невероятной быстротой. Словно кого-то предупреждая, сквозь этот шум и грохот прорвался протяжный, зычный голос паровоза: «Иду-у-у!» И вот он черный, огромный показался из-за поворота и, сбавляя скорость, подходит к станции. Бекболат не раз уже видел его, но и теперь с каким-то чувством благоговения перед чудом следил за приближением поезда. И вместе с тем со страхом: казалось, что паровоз вот-вот накатится на тебя и сомнет, как козявку. Это чувство проходит, как только поезд остановится, и снова в душе трепет восхищения перед чудом и добрая зависть к человеку в промасленной фуражке и с темными от машинного масла руками, который высунулся из окошечка будки. Тяжко дыша дымом и паром, паровоз медленно, как конь после долгой скачки, прошел мимо них, обдавая теплом. А вот и багажный вагон, он остановился точно напротив Кольки. Дверь вагона откатилась, и в ее проеме показался человек в железнодорожной форме, судя по чертам лица, не русский, очевидно какой-то кавказец. — Я от купца Неверова! — сказал Колька, протягивая железнодорожнику пакет. — Велено передать вам. Тот быстро взял пакет, спросил: — Как здоровье супруги Петра Саввича, выздоровела? — Уже чай с калачами пьет! — весело подхватил Колька. — Вот и хорошо! А я как раз выполнил ее заказик: доставил ей самого наилучшего — черного, цейлонского. Прошу получить. И он начал торопливо передавать Николаю картонные коробки с этикетками чая. — Все! — наконец сказал железнодорожник. — Передайте Анне Ивановне мое нижайшее почтение. — Передам! — крикнул Колька и толкнул тележку.ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
В картонных коробках вместо чая были нелегальные брошюры. Их раздали членам политического кружка, рабочим шерстомойной фабрики, вальцовой мельницы, кожевенного завода, железнодорожного депо, бойни. Одну Колька оставил себе. И теперь Бекболат, забежав после работы домой и наскоро перекусив, спешил к товарищу. Колька зажигал маленькую керосиновую лампу, доставал из рваного матраца брошюру и, склонив над столом вихрастую голову, читал вслух. Бекболат внимательно слушал. Многое ему было непонятно. Да и сам Колька нередко останавливался, скреб в затылке, раздумывал. Наконец говорил: — Ну, в общем, так: что наши русские буржуи и помещики, что ваши баи и мурзы — одинаково паразиты! И всех их надо прижать к ногтю… Ясно? Бекболат утвердительно кивал. Колька читал дальше. Иногда они обращались за разъяснением к Сулейману, Маметали, а то и к самому Василию Семеновичу Северову. — Молодцы! — хвалил ребят Северов. — Овладевайте нашей классовой наукой. Назревает новая революционная буря, и к ней надо быть готовым… Как-то в обеденный перерыв Колька шепнул товарищу: — Батя зачем-то велел тебе прийти… Бекболат тут же положил ложку, сбросил брезентовый передник и побежал на мельницу. Дверь машинного отделения была раскрыта настежь. Бекболат остановился у порога. Он уже не раз был тут с Колькой, но никак не может насмотреться на живое железное чудо. Вон большущий-пребольшущий котел. Под ним из огнеупорного кирпича печь. В ее круглом отверстии бушует пламя. Неподалеку от котла ходят железные локти, взад-вперед движутся смазанные маслом стержни, крутится огромное колесо с широким ремнем на ободе — маховик, как назвал его Колька. Все это и есть паровая машина, которой управляет Василий Семенович Северов. Сейчас он ходил с масленкой и тыкал ее узким длинным носом в отверстия машины. Бекболат кашлянул, Василий Семенович обернулся. — А, Болат! — Он поставил масленку, отер концами ру́ки. — Здравствуй, дорогой. Присаживайся. — Он кивнул на какую-то толстую трубу и сел сам. — Вот зачем просил я тебя прийти. Дел у нас прибавилось: теперь наши люди работают на всех предприятиях города. И порою трудно их оповестить. А дело бывает очень срочное. Вот я и хотел бы просить тебя к нам в связные. А то одному Николаю очень трудно стало… Бекболат невольно вспомнил слова дяди Маметали: «Николай выполняет поручения нашей рабочей организации… Придет время, и ты узнаешь о ней». Вон оно что! Значит, Колька не только состоит в тайном кружке, но еще и выполняет поручения большевиков. Конечно же, он охотно согласился стать связным вместе с Колькой. Теперь редкий день проходил у него без какого-нибудь поручения. Бекболат уже бегло читал по-русски и в осенние вечера, когда за окном бушевала непогода и некуда было идти, сидел за книгами. Чтение нелегальных брошюр, занятия в политическом кружке, беседы с Сулейманом, Маметали, Василием Семеновичем все глубже и шире раскрывали перед Бекболатом жизнь, правду о ней. Теперь он невольно улыбался, когда вспоминал, как чуть было не поверил Кара-мулле, что большевики — племя тажела, несут погибель горцам-мусульманам. Теперь он хорошо знал, кто враг горцев-бедняков, и с нетерпением ждал того дня, когда можно будет посчитаться и с мурзой Батокой, и с его главным муртазаком Кабанбеком, и их верным псом Жамбаем. Отомстить и за себя, и за отца, и за батрака Нурыша-агая, за всех бедняков аула.На исходе зимы, когда февральские злые метели чередовались с ясными, солнечными днями и начинала звенеть капель, из Петрограда пришла потрясающая весть: пало самодержавие, царь Николай II отрекся от престола. Создано Временное революционное правительство, которое впредь до созыва Учредительного собрания взяло власть в свои руки… Первым, как всегда, узнал новость Колька-Соловей. Он влетел к Бекболату весь растрепанный, запыхавшийся: — Ура-а-а! Царя Николу с престола сошвырнули! — Он схватил Бекболата за плечи и, неистово тряся, повторял: — Чуешь? Чуешь, «азиат» ты этакий, что произошло? Его веселые, широко расставленные глаза, веснушки, зубы — все сияло, сверкало, улыбалось. — Кто тебе сказал? — спросил Бекболат. — Из Энска нарочный к Василию Семеновичу приезжал… Пойдем слетаем в барак, товарищам расскажем новость. Вот обрадуются! Айда! На улице было уже темно. На перекрестке их окликнул городовой: — Стой! Что за люди? — Не видишь, что ли? Рабочий класс! — с вызовом ответил Колька-Соловей, гордо вскинув голову и выпятив грудь. — Усы, как у сома, отрастил: чуть по земле не волочатся, а… Колька, по всему видно, хотел сказать что-то дерзкое, но одумался, нарочито расшаркался: — Имеем честь откланяться, ваше благородие! И они побежали. Но Колька вдруг остановился, крикнул городовому: — Пушку держи обеими руками, а то, не ровен час, потеряешь, как Николашка корону! Городовой испуганно схватился за кобуру: уж не стянул ли этот голодранец револьвер? Ишь глазищи-то так и рыскают, как у разбойника! Нет, слава богу, на месте… И только когда Колька и Бекболат скрылись за поворотом, страж порядка спохватился: — Стой, стервец!.. Какую корону? Но ребят уже и след простыл…
В эту же ночь состоялось заседание партийного комитета. Было решено организовать завтра демонстрацию и митинг. С раннего утра Николай и Бекболат как угорелые носились по городу, выполняя задание Василия Семеновича. То расклеивали обращение партийного комитета к трудящимся города, то разносили записки… К полудню на площади стали собираться демонстранты. Первыми пришли рабочие шерстомойной фабрики. Их привел Маметали. Вслед за ними появились во главе с Василием Семеновичем Северовым рабочие вальцовой мельницы. Затем пришли с кожевенного завода, из железнодорожного депо, с бойни. Собралось много горожан. Среди толпы сновали юркие мальчишки, раздавая демонстрантам красные ленты. Люди брали кумачовые полоски и кто бантом прикреплял на грудь, кто обвязывал шапку, кто рукав. Вот в центре площади над головами людей взметнулось на высоком древке красное полотнище с надписью: «Да здравствует свобода!» Раздались аплодисменты: это рабочие приветствовали своего вожака — секретаря большевистского комитета Василия Семеновича Северова, поднявшегося на какие-то ящики, заменявшие трибуну. — Товарищи! — обратился он к собравшимся. — День, который мы все так ждали, настал: самодержавие, томившее в цепях рабства трудовой народ, пало. Мы ждем от нового правительства немедленного установления демократических прав и свобод, восьмичасового рабочего дня, земельной реформы, прекращения кровопролитной войны… После митинга демонстранты направились по главной улице города.
Прошло еще несколько месяцев, и однажды вечером Маметали сказал Бекболату: — Болат, настало время, когда ты делом должен доказать свою преданность революции. Положение складывается напряженное. Богатеи не хотят выпустить из своих рук ни власть, ни собственность. Поэтому мы, большевики, должны переходить к активным действиям. Бекболат с волнением слушал дядю. Его ждет новое задание! Ответственное! На него надеются. Конечно, он готов! Он хоть сейчас ринется в бой против всех этих буржуев, баев, князей. — Вот мы и решили, — продолжал Маметали, — послать наших верных людей в станицы и аулы разъяснять народу правду, поднимать бедноту на борьбу. Надо готовиться к вооруженному захвату власти. В Кобанлы поедешь ты. У Бекболата дыхание захватило от радости. А Маметали выложил на стол что-то небольшое, тяжелое, завернутое в тряпицу. Бережно развернул, и перед глазами Бекболата заблестел вороненой сталью пистолет. — Возьмешь с собой. Но предупреждаю, — строго добавил Маметали, — не вздумай посчитаться этой штукой с Кабанбеком. Не кровная месть, а революционное возмездие должно руководить сознательным человеком. Не забывай, что ты посланец партии. Надо, чтобы бедняки и уздени поняли, кто их истинный друг и кто враг. Вот какая будет твоя задача. Ясно? — Да, агай. Бекболат уже всеми помыслами был в предгорьях, в родном ауле Кобанлы, что раскинулся на берегу вольной Кубани… Как-то там теперь Салимат? Батырбек, Иса? С ними он скоро встретится, а вот с Амурби… Ужасно нелепо погиб парень. Будь ты проклят, Азиз!.. Хотя Азиз и сам, в сущности, жертва байского произвола: малолетним мальчишкой бежал с отцом в горы от преследования мурзы. Ах, сколько погубили людей, сколько разорили очагов эти кровожадные шакалы-баи!.. Война, священная война паразитам! И пока бьется сердце, пока рука держит каму, он, Болат, не сойдет с пути, на который ступил.
ЗДРАВСТВУЙ, КРАЙ РОДНОЙ!
Сняв шапку, он стоял на вершине кургана и смотрел на родные окрестности. Набегающий с гор ветер трепал полы его черкески, раскачивал уже давно отцветшие и подсыхающие стебли юсан-травы… Отчий край! Нет в тебе ничего особенного: каменистые глыбы, балки, взгорья, холмы, поросшие полынью, выгоревшая за лето степь. Но отчего же так замирает сердце? Вон внизу несет свои серебристо-зеленые волны знакомая с колыбели река — милая сердцу Кубань. А на ее берегу — родной аул. Низкие саманные сакли жмутся к земле, как перепуганные ястребом перепелята. И только минарет мечети как хозяин, как страж и повелитель правоверных мусульман, смело взметнулся в синеву неба. Бекболат взглядом отыскал свою саклю. И сердце его сжалось: домик покосился и будто врос в землю, двор зарос бурьяном. Удастся ли когда-нибудь снова разжечь в нем очаг?.. Он невольно перевел взгляд на саклю Салимат. Долго-долго смотрел на крыльцо, но никто из сакли не выходил, никто не открывал калитку двора. Словно и тут угас очаг, как в его родном доме. И тревога за Салимат заполнила всю его душу… Скорее, скорее в аул! К тете Кеусар. Она, наверное, знает, что сталось с домом Камая и где Салимат… Первым его встретил старый пес Бара́к. Он узнал Бекболата еще издали. Не успел тот войти в калитку, как пес с радостным визгом бросился к нему, лизнул в руку, в щеку. — Ты еще жив, Барак! Машалла! — Бекболат ласково потрепал собаку. На крыльцо вышла Кеусар, всплеснула руками: — Ва! Болат… Слава аллаху, жив! — По ее щекам покатились слезы. — Ну-ка, дай я на тебя хорошенько посмотрю… Ва, каким джигитом стал, не узнать. Вот посмотрела бы теперь на тебя сестра Кани! Ах, как бы рада была она, бедняжка! Пришли соседки. Они тоже удивлялись перемене, которая произошла с сыном Кани. Хоть и тогда он был ладен собою, ну, а сейчас просто загляденье! Высокий, плечистый, с маленькими красивыми усиками — настоящий мужчина! Глаза карие, как спелый орех. И глядит спокойно, уверенно. И речь стала неторопливой, обдуманной… Когда соседки ушли, Бекболат спросил Кеусар: — Аптей! А что это никого не видно ни во дворе, ни в доме у Камая? Кеусар сразу поняла, почему племянника интересует уздень Камай. — В степь, наверное, уехали кукурузу убирать. Вчера я видела, Салимат везла на арбе кукурузу домой. У Бекболата отлегло от сердца. А Кеусар не знала, что делать: сказать ли, что Салимат сватает Кабанбек, или не надо? Нет, нет, пусть отдохнет с дороги: зачем сразу расстраивать парня! И она захлопотала у очага.Весть о возвращении сына Кани тотчас разнеслась по всему аулу. — Вот так новость! А говорили, в абреках погиб! — Такой молодец разве пропадет! — Да он вовсе и не в абреках был: у дяди. У Маметали в Белоярске. — Совсем приехал или погостить? — Кажется, погостить… В полдень прибежал Батырбек. Друзья по-мужски, крест-накрест, обнялись, поцеловались. Потом уселись на крыльце. Начались воспоминания. — А помнишь, Батырбек, как мы с тобой еще мальчишками напугали Кабанбека, когда выбежали на дорогу в козлиных шкурах? — Как же! Если случается проходить мимо того места, смех так и разбирает! И они смеются, как мальчишки. — Слушай, Батырбек, а как живет, что делает Иса? — По-прежнему и он и Амурби батрачат у Батоки… — И Амурби?! — Бекболат даже приподнялся. И, не веря своим ушам, спросил: — Разве он жив? — Отходили… — Батырбек потупился. Бекболат схватил его за плечи. — Батырбек! Я предупреждал… Предупреждал Азиза, чтоб не стрелять… В табунщика не стрелять, а вверх… И он рассказал, как все случилось. — Ну, не будем об этом больше вспоминать, — сказал Батырбек. — Слава аллаху, что все обошлось благополучно… А про Салимат ты слышал? Ее сватает Кабанбек. Бекболат сердито уставился на товарища: — Ты плохо шутишь, Батырбек! У него жена — дочь Батоки. Разве мурза разрешит ему привести в дом вторую жену? Батырбек присвистнул: — Ва, ва! От Ханбике, поди, уж и косточек не осталось. Еще в прошлом году умерла! Только теперь Бекболат понял, что друг не шутит. Надо во что бы то ни стало завтра увидеться с Салимат… Кеусар позвала их пить чай. Поставила на сыпыра пиалы, положила кусочек сыра, два чурека. Сказала: — Ты, наверное, там соскучился по нашему чаю, Болат? — Верно, тетя. Ко всему, кажется, привык, а вот городской чай до сих пор пить не могу! — Пейте на здоровье, густой сварила. После чая Батырбек предложил погулять. Они вышли в степь. Стоял теплый сентябрьский день. Небо было чистое, бездонное. На горизонте четко вырисовывались снежные вершины Кавказских гор. Хорошо был виден двуглавый Карлы-тау. Подошли к реке, сели на камень. — Вот что скажи мне, дружище, — сразу начал Батырбек, — кто такие большевики? Ты жил в городе, должен знать. У нас про них разное болтают. Недавно мурза Батока говорил: они — абреки. Нас, ногайцев, ужасно ненавидят. А Кара-мулла только и твердит в мечети: большевики — драконы. Как только возьмут власть, наступит конец света. Бекболат сначала не мог удержаться от улыбки, потом его густые брови гневно сшиблись на переносице, как две волны: — От баев и мулл другого и нельзя ожидать. И он рассказал другу о большевиках, за что они борются. — Вот царя свергли, — продолжал Бекболат, — а вы живете в ауле все так же. Потому что власть у нас, на Кавказе, осталась по-прежнему в руках богачей. Мурза Батока по-прежнему хозяйничает в Кобанлы, а в отделе — атаман. В России тоже власть прибрали к своим рукам буржуи и помещики. Вот против них и борются большевики… И еще долго рассказывал Бекболат о том, что происходит в России и у них на Кавказе и что они должны делать тут, в аулах. Батырбек слушал и удивлялся: вон, оказывается, каким стал его друг! Чисто аксакал! Бекболат предложил пройтись по берегу реки. Кубань, как всегда, текла шумно, торопливо. Ее чистая, прозрачная вода звенела в каменистом русле. Давно уж не пил Бекболат из родной реки. Он скинул чувяки, вошел в воду, зачерпнул полные пригоршни студеной влаги, припал к ней губами. Ах, хороша! — Честное слово, Батырбек, нет нигде лучше воды, чем наша. Вкуснее айрана! Батырбек понимающе улыбался. На той стороне реки виднелась казачья станица Беломечетинская. — А как живут станичники? — спросил Бекболат. — Поди, жалеют царя-батюшку. Не все, конечно, а зажиточные верой и правдой служили ему. Даже в Питер посылали на службу своих сынков. — Сейчас наши с ними не якшаются, — сказал Батырбек. — Кроме Батоки и Кабанбека. Каждое воскресенье ездят туда кутить к богатым станичникам. — Понятно: одна свора!.. — Стоп! — перебил его Батырбек, придержав за руку. — Гляди! По дороге из степи в аул медленно двигалась арба, груженная кукурузой. На возу сидели мужчина и девушка. — Салимат с отцом! — воскликнул Батырбек. Первым желанием Бекболата было броситься наперерез арбе. Но он вовремя одумался: что можно сказать девушке при отце? Лишь навлечешь гнев Камая! — Слушай, Батырбек! — воскликнул Бекболат. — Как мне ее увидеть? Встретиться как? — Сегодня они до полуночи с кукурузой будут возиться. А завтра что-нибудь придумаем…
СУЙИНШИ
Солнце уже село за вершины гор, а Салимат все еще укладывала под навес стебли кукурузы. Во двор вбежала соседская девочка Келди́. Она часто приходила к Салимат. Девушка учила ее вышивать, шить носки из тонкого войлока, прясть. Но обычно Келди приходила утром или днем. — Почему так поздно, Келди? — спросила Салимат. — Мы с мамой весь день просо толкли. — Ты молодчина, что матери помогаешь! Круглое смуглое личико Келди зарделось румянцем от похвалы. Было видно, девочке не терпелось сообщить Салимат что-то важное. Она опасливо огляделась вокруг и таинственно прошептала: — Салимат-аптей! Послушай, что скажу… Бью я в ступке просо, гляжу, идет по улице какой-то джигит. Высокий, стройный… Сапоги так и блестят, с солнцем играют. Под черкеской, как у русских, новенький пиджак. Сразу видно — не из нашего аула. Такой джигит, такой джигит, ну просто… — Она не могла подобрать слова. — Хорошо, хорошо, — нетерпеливо сказала Салимат, чувствуя, как забилось сердце. — А куда он пошел? — Он пошел на Найма́н-ямага́т. Мама сказала, что он очень похож на сына Кани. — Да-а?! — воскликнула Салимат. Она бросилась к девочке, обняла, поцеловала. Сняла со своего пальца позолоченное кольцо. — Келди! Это тебе суйинши…[19] Бери, бери, не стесняйся! Келди вся вспыхнула: — Ой, Салимат! Разве можно такое колечко… Ты такая красивая, пусть оно будет у тебя… — Нет, нет! Теперь оно твое: я так загадала. — Салимат взяла руку девочки и надело кольцо. — Ну, а теперь иди домой. А то уже поздно: мать будет беспокоиться. — Спасибо, аптей, за колечко! — выдохнула Келди и, как козочка, поскакала со двора. Салимат смотрела ей вслед и чему-то улыбалась…В дремотной тишине застыл аул. Притихла степь. Сонно булькает в балке родник. Спят уставшие за день люди. Улыбается во сне Камай. «Эй, хозяин! — слышит он голос. — Принимай калым за дочку!» Камай выглядывает в окно: у ворот чуть ли не целая отара баранов! И стоит с ярлыгой сам жених — Кабанбек, в дорогой черкеске, в бухарской шапке, заломленной назад. Он поглаживает длинные черные усы и улыбается Камаю. Камай выскакивает во двор, распахивает ворота, и бараны, толкая друг друга крутыми боками и волоча жирные курдюки, идут в загон… Потом работники Кабанбека пригоняют десять пар волов, запряженных в большие четырехколесные арбы, груженные отборной кукурузой и пшеницей. «Ну, Камай, доволен ли ты калымом? — спрашивает жених. — Так что же ты стоишь? Давай дочь! Вон уж и кони нас ждут!» И в самом деле, словно из земли, выросли два великолепных аргамака: седла, уздечки горят золотом, сверкают серебром. Камай выводит дочь, Кабанбек сажает ее на коня, сам — на другого и, поддерживая Салимат за талию, несется вскачь к усадьбе мурзы… Улыбается во сне Камай, спит сладким сном Рахиме и только сама Салимат не может сомкнуть глаз. Радостная весть, которую принесла ей маленькая Келди, заполнила все ее сердце… И вдруг тревога: «А может, джигит, которого видела Келди, вовсе и не Болат? Может, какой-нибудь гость из города приехал к баям или самому мурзе?.. Да ведь Келди так и сказала: «Сапоги с солнцем играют. Под черкеской, как у русских, новенький пиджак. Сразу видно — не из нашего аула!» Салимат порывисто приподнимается на постели, минуту-другую думает, потом встает, подходит к окну. На улице такая тишина, что Салимат слышит, как гулко и тревожно стучит у нее сердце. Она прильнула к стеклу: пустынна освещенная ущербным месяцем улочка. Спит аул, и, кажется, только не дремлет Аю-та́у — Гора-медведь, охраняя покой селян. Салимат торопливо надевает темное платье, закутывает по самые глаза черным платком голову и, тихо прикрыв дверь, выходит на улицу. Оглядывается — никого нет. Девушка крадучись идет вдоль плетеных заборов. Она торопится, спотыкается о камни. Останавливается, прислушивается и снова идет. По шатким кладям проходит ручей, за которым начинается новый квартал — ямага́т Найма́н. А вот и домик Кеусар под соломенной крышей. Салимат останавливается, чтобы перевести дыхание. В домике темно. Девушка подходит к низкому забору, прислушивается — ни звука! Отчаявшись, Салимат открывает калитку — тотчас раздается яростный лай пса. — Барак! Барак! — ласково окликает девушка собаку, а сама пятится назад. Потом рывком поворачивается и что есть духу бежит по улице. Собака не преследует ее, и Салимат останавливается. Смотрит на крыльцо Кеусар: не выйдет ли кто? Спрятавшись под акацией и кутаясь в платок, девушка долго ждет… Нет, никто не выходит: Кеусар, наверное, ушла к родичам, а тот джигит, которого видела Келди, вовсе не Болат!.. И Салимат понуро возвращается домой. Теперь уж она не пряталась в тени заборов, не куталась в платок: теперь ей было все безразлично… А тем временем Бекболат сидел у своего воскресшего из мертвых друга Амурби. Тяжким камнем лежала на его душе тайна той ночи, когда он привел абреков к табуну чистокровок и был ранен Амурби. И он чистосердечно рассказал товарищу все, как было. — Значит, ты и в абреках походил? — воскликнул Амурби. — Ну и отчаянная голова ты, Болат! — Лучше скажи — бесшабашная, дурная! — виновато возразил Бекболат. — Хорошо, что скоро спохватился и ушел к дяде, а то аллах знает, чем бы все кончилось!.. Как сейчас-то, не болит грудь? — Все в порядке! — Для убедительности Амурби даже постучал по груди кулаком. Улыбнулся: — Как скала! Бекболат сказал, что им, всем товарищам, надо собраться и поговорить о важном деле. Он, Бекболат, скажет потом, где и когда…
Салимат убирала со стола посуду после завтрака, когда в саклю, запыхавшись, вбежала Келди. — Салимат-аптей! Мне надо сказать тебе по секрету! — выпалила она и тотчас закрыла рот ладошкой, смутилась. Салимат бросилась к ней, обняла: — Ну, говори, говори… только тихонечко! — Сейчас к нам заходил Батырбек, — торопливо, глотая слова, начала девочка. — Он сказал… он сказал: вечером, как только стемнеет, тебя будет ждать один джигит в балке у родника. Салимат радостно воскликнула и тоже, как минуту назад Келди, прикрыла рот ладонью. — Ой, какие мы с тобой дурочки! — прошептала она на ухо девочке. — Кричим на весь аул, словно глухие… Спасибо тебе, Келди! — Она поцеловала девочку в щеку. — Вот угостись нашей халвой — очень вкусная! Я сама готовила… Келди положила на язык маленький кусочек и блаженно прикрыла глаза. — Ой, так и тает! — сказала она и, проглотив, облизала пальчики. — Возьми с собой: братишку угостишь. — Салимат завернула в чистую тряпицу два кусочка халвы. — Спасибо, аптей! — поблагодарила девочка и со всех ног пустилась домой. Весь день Салимат ходила сама не своя. Конечно же, это Бекболат! Но как уйти из дому, чтобы отец и мать не догадались, куда она пошла? И она решила затеять перед самым вечером стирку… Солнце уже скрылось, а Салимат все стирала. В очаге неярким пламенем горели кизяки, клокотала вода в казане, подвешенном на цепи. — Уже поздно, дочь, пора кончать, — сказала Рахиме. — Мне, абай, надо еще свое голубое платье выстирать: послезавтра святая пятница, я надену его. Оно мне очень нравится. — И она бросила в корыто еще совсем чистое платье. Над аулом уже повисала темнота, когда Салимат «спохватилась» — в больших кувшинах кончилась вода. — Вай, вай, абай! Воды ни капельки не осталось! — воскликнула она. — Даже напиться глоточка нет. Надо сходить на родник. — Уже ночь, дочка, утром сходишь. — Я так пить хочу, горло все пересохло… Ничего не случится, абай! Салимат схватила ведра и выбежала на улицу. Никогда дорога до родника не казалась ей такой длинной, как сейчас. Наконец-то послышалось журчание ручья. А вот и родник. Она опустила на землю ведра, оглянулась. Из-за кустов вышел Бекболат. Как ни готовилась к встрече, она так растерялась, что стояла будто вкопанная и молча смотрела на него. — Салимат! — сказал он как можно серьезнее. — Ты не хочешь одарить меня даже глотком воды из своего кувшина… Ах, ты сегодня с ведрами! Ну все равно: я так соскучился, так соскучился по… ключевой воде! — Он рассмеялся и бросился к ней, взял ее руки. — Здравствуй, Салимат! Вот мы и встретились! — Я так ждала тебя, Болат, так ждала! — прошептала она, опустив полные слез глаза… Они поднялись на кручу и сели у скалы. Тут было теплее: нагретые солнцем камни еще не успели остыть. — Ну рассказывай, как ты тут живешь? — Болат! — со слезами воскликнула Салимат. — Меня… меня сватает… — Она не в силах была вымолвить ненавистное имя, спрятала лицо в ладонях. — Я знаю, Салимат… Но пусть он попробует взять тебя из дома!.. Клянусь небом… — Нет-нет, — перебила она его, — я скорее брошусь со скалы, чем соглашусь быть его женой!.. Я так рада, что ты наконец вернулся!.. Дай я посмотрю на тебя хорошенько. О, какой стал!.. Ну, как там в городе? Больше не поедешь туда? — словно боясь, что он уйдет, без передышки спрашивала она. Бекболат рассказал, зачем он приехал. Салимат не проронила ни одного слова. Вон он какой: орел, настоящий батыр! И вместе с тем в ее душу вошла тревога: идти против самого старшины аула — это так страшно! — Я не один, Салимат, нас будет много… В этот момент послышался тревожный женский голос. Салимат встрепенулась. — Абай меня зовет… Она встала. — Подожди, Салимат. Я привез тебе маленький подарочек. — Он достал из кармана бусы. Она взяла его руку обеими руками, прижала к сердцу. — Спасибо! — и побежала к аулу.
Рахиме долго ждала дочь и наконец, не вытерпев, пошла к роднику. Она догадывалась, почему так поздно Салимат пошла за водой. Она уже прослышала про приезд сына Кани, и сердце подсказывало ей, что дочь любит Бекболата. Но разве Камай предпочтет батрака баю? Кабанбек обещает вон какой калым! И быков, и баранов! А у бедного Болата даже лишней рубашки нет. Но Салимат и слышать не хочет о Кабанбеке. У Рахиме шла голова кру́гом. Что же делать? Как быть? Она решила посоветоваться с мужем и открыла ему секрет дочери. Камай страшно рассердился. Едва дождавшись рассвета, поднял с постели дочь. — Такой позор еще не падал на наш род! — кричал он. — Что скажут люди, когда узнают: дочь всеми уважаемого узденя полюбила какого-то ку́ла — батрака, нищего! Камай захлебнулся от гнева. Салимат не поднимала глаз, боясь встретиться взглядом с отцом. — Вот мое последнее слово, — продолжал Камай. — Забудь этого голодранца!.. Я покажу ему, гяуру, как перебивать дорогу почтенным людям! Пусть я буду недостоин своего отца, если не придавлю его, как сурка! Салимат решительно вскинула голову: — Ты не тронешь его, отец! Если с ним что-нибудь случится, я не буду жить! Камай никак не ожидал от дочери, совсем еще девчонки, таких страшных слов и растерянно смотрел то на жену, то на Салимат. Воспользовавшись заминкой, Рахиме примирительно сказала: — Остановись, отец Салимат. Видишь, дочь нездорова — горячка у нее. Иди, доченька, полежи, не вставай. Я буду молить аллаха, чтобы все было хорошо…
БАТЫР
В условленное место для встречи с друзьями Бекболат пришел первым. Скалу Яман-кая он знал еще с детства. Много всяких слухов ходило о ней в народе. Будто бы эта отвесная, неприступная скала — обиталище джиннов, злых духов. Стоит человеку подняться на нее, как джинны заводят его в глубь каменных нагромождений и сталкивают в бездонную пропасть. Уже немало погибло смелых джигитов, отважившихся ступить на скалу. Недаром и зовут ее Яман-кая — Плохая скала. И люди боятся подниматься на нее. Да и делать тут нечего: голые камни! Но Бекболат еще мальчишкой побывал на ее вершине… Однажды Болат, Амурби, Иса и Батырбек играли в альчики. Батырбеку в этот день не везло: он проиграл почти все кости. — Хватит! — с досадой воскликнул он. — Надоело: всё альчики да альчики!.. Давайте играть в абреки! — А кто будет тамадой? — спросил худенький застенчивый Иса. — Я первым придумал игру — я и буду тамадой! — сказал Батырбек. — Ва, ва, ва! — присвистнул Амурби, во всем соперничавший с Батырбеком. — Он — тамада! Тамада самый смелый джигит, он даже джинна не побоится! А ты можешь, скажи, взобраться на Яман-кая? — Еще чего придумал — на Яман-кая! — Батырбек надул губы, пробурчал: — А ты можешь?.. И Иса не может. И Болат побоится! — Вот и не побоюсь! — выпалил, не подумав, Болат и тут же почувствовал, как похолодело у него под ложечкой. Но отступать было поздно. — А вот и побоишься! А вот и не поднимешься! — тараторил Батырбек. Иса и Амурби смотрели на Болата глазами, полными ужаса. — Не надо, не ходи, Болат! — пролепетал жалостливый Иса, но Бекболат уже шагнул к скале. О, какого напряжения душевных сил стоило ему тогда взобраться на Яман-кая! И все же он сумел преодолеть страх: поднялся на самую вершину и помахал оттуда стоявшим у подножия друзьям. А потом они играли тут в абреки, и он, Болат, был тамадой… И вот они снова собираются тут: и уже не для игры, а для настоящей борьбы. Поджидая товарищей, Бекболат сидел на вершине Яман-кая. Отсюда открывался чудесный вид на горы. Будто исполинский сугроб ослепительно белого снега тянулся по горизонту изломанным контуром Главный Кавказский хребет. Совсем близко казался Карлы-тау. Отчетливо был виден и Казбек с его остроконечной вершиной. А внизу, стремительной дугой огибая скалу, текла Кубань. На том ее берегу, словно собираясь перейти реку вброд, столпились стройные ели. Там, где поток прорывался сквозь нагромождения каменных глыб, вскидывался радужный бурун. Вода ежеминутно меняла свой пенистый уровень, и оттого казалось, берега реки то поднимаются, то опускаются, как бы тяжко дыша. А сама Яман-кая возвышалась над рекой, будто памятник грозным далеким событиям, происходившим в природе: склоны ее были испещрены словно письменами, которые многие века писали на ней ветры и дожди. Скала отвесно спускалась к реке, и к ней вела лишь одна, чуть приметная тропа. Может быть, когда-то давным-давно ее протоптали своими острыми, крепкими копытами дикие козы, а возможно, и в самом деле скала была в те далекие времена пристанищем разбойников, которых легенда сделала джиннами. За спиной Бекболата послышались осторожные шаги. Он встал и увидел поднимающихся по тропинке своих друзей. — Никто не заметил вас? — спросил он. — И сам джинн не догадался бы, куда идем! — улыбнулся Батырбек. — Разве не видишь — мокрые по самую грудь? В трех местах переходили Кубань, чтобы сбить с толку прихвостней мурзы. — Молодцы! — похвалил Бекболат. Они уселись под низко нависшим каменным козырьком скалы. Бекболат рассказал о последних событиях — о падении самодержавия, о Временном правительстве, о партии большевиков и ее великом батыре Ленине, о том, что и в Белоярске есть большевистская организация. Она ведет революционную работу среди рабочих города, посылает своих людей в казачьи станицы и аулы предгорья. Сейчас надо готовиться к тому, чтобы вырвать власть из рук атаманов и мурз. Земля, скот, пастбища должны принадлежать тем, кто трудится… Было уже темно, когда возвращались в аул. Шли молча, раздумывая над тем, что услышали от своего друга. Хотя Бекболат был их ровесником, сейчас он казался им значительно старше: и годами и жизненным опытом. И столько привез из города добрых и мудрых вестей, которые в ауле еще никто не слышал и о которых они теперь расскажут каждый в своем ямагате…Раньше это происходило лишь по вечерам, когда солнце скроется за горой Кара-тау и над аулом повиснет дремотная тишина. Дневные заботы в это время кончались, а ложиться спать еще рано, вот и выходили мужчины на улицу, чтобы посидеть часок-другой на завалинке, поговорить о том о сем. Но что случилось в ауле сегодня? Тень от Кара-тау не доползла даже до выгона, а папахи, черкески затемнели и на той завалинке, и на другой, и на третьей. На улицу вышли не только старики, но и парни. Да и разговор ведут беспорядочно и шумно, совсем позабыв, что во время таких бесед перебивать друг друга нельзя, тем более старших. «Тут что-то не так!» — подумал старшина аула. Мурза позвал к себе Жамбая: — Вот что, сын Канбола́та. Поставь свою винтовку в угол и пройдись по улицам: вроде идешь по своему домашнему делу, а сам навостри уши! Нам надо узнать, о чем сегодня так шумит ямагат. Через минуту Жамбай уже шагал по главной улице аула. Там, где особенно было шумно и людно, он останавливался как бы закурить. Не спеша сворачивал огромную, как рог, цигарку. В другом месте остановился прикурить, а сам во все уши прислушивался к разговору. Мужчина в большой мохнатой шапке ударил кресалом о кремень, высек искру, трут задымился, Жамбай прикурил и направился дальше. Он обошел почти все улицы, но о чем аульчане вели свои беседы, Жамбай так и не понял. Только дошло до него, что объявился какой-то большой-пребольшой человек, такого могучего батыра на земле еще не было… Да так ведь начинаются почти все ногайские сказки! Что ж он донесет старшине? Не выполнить задание Батоки — уж это Жамбай знает! — не быть ему больше муртазаком. А то, чего доброго, положит еще под плети! Жамбай совсем было пал духом и едва плелся к управе, когда его окликнул в окно Камай. Уздень пригласил муртазака в дом и рассказал, что в аул вернулся сын Алима Бекболат и теперь мутит народ, чтобы отняли у богатых пашни и пастбища. Пусть Жамбай сейчас же доложит об этом мурзе, чтобы связали по рукам и ногам гяура и посадили в темницу. К великому удивлению Жамбая, на прощание Камай даже угостил муртазака чаркой пенистой бузы. Жамбай не знал, что уздень боится, как бы Бекболат не похитил Салимат: тогда прощай богатый калым, который обещал за дочь Кабанбек. Муртазак трусцой бежал в управу. Едва перешагнув порог, выпалил: — Бекболат, сын Алима, мутит народ… Старшина побагровел: — Ах шакалий выродок! Пастух, голь… Да как он смеет?! Вот что: возьми винтовку, иди к Кеусар и припугни смутьяна, пусть немедленно убирается из аула, не то отправим его в отдел, к атаману!.. Конечно, лучше бы сразу связать бунтовщика. Но Батона был осторожен. Он уже прослышал, что большевики владеют большой силой и могут прийти и сюда, в предгорья. И тогда рассчитаются с Батокой за все… Нет, лучше, чтобы сам подобру-поздорову убрался из аула этот смутьян. Когда Жамбай ушел, Батона хватил кулаком по столу. Нет, не в гости, не тетку проведать приехал этот абрек! Народ мутить. И кто? Его, Батоки, бывший пастух! Ну и время настало! Кто бы мог подумать: грозят отнять у него, старшины аула, землю, которой испокон веков владел род Солтановых. Хотят угнать его отары, стада, табуны… Ах, гяуры! Надо ухо востро держать. Верно говорит богатый казак Антон, что горцам и станичникам надо действовать заодно. У казаков есть кони и оружие. То же самое найдется и у них, ногайцев. Батона закурил длинную, украшенную серебром трубку. «Нет, нас так легко не возьмешь! — думал он. — Мы еще покажем, как умеют джигиты постоять за свою землю и веру. А этого шакальего щенка, будет время, привяжем к хвосту коня, протащим по горной дороге — и в пропасть!..»
Жамбай влетел в саклю Кеусар. Отдышавшись, закричал: — Эй ты, смутьян! Старшина приказал сказать тебе, чтоб сейчас же убирался из аула! Понятно? Болат в упор посмотрел на служаку мурзы. — Передай Батоне, что я в родном ауле и никто не имеет права выгнать меня из селения. Ясно? А теперь убирайся вон из дома! — Как ты смеешь, гяур проклятый?! Жамбай вскинул винтовку. Бекболат выхватил пистолет. — Предупреждаю: если ты еще раз придешь сюда, пристрелю, как пса. Жамбай, пятясь задом, споткнулся о порог, упал и выронил винтовку. Бекболат расхохотался: — Бери свою винтовку и беги, пока цел!
Наступила ночь. Аул спал. Лишь в одной сакле Кеусар была не погашена лампа. Это было опасно: с улицы могли ударить из винтовки прямо в лоб.

Жамбай вскинул винтовку. Бекболат выхватил пистолет.
Но Бекболат не гасил лампу. Пусть горит. Пусть люди видят свет в окне Кеусар до утра. Это не только дерзкий вызов мурзе, но и надежда бедняков. Но кто-то, кажется, идет. И не один. Много слышится шагов. Постучали в дверь. Бекболат сжал в руке пистолет: «Заходите!»
Сказок о могучих богатырях у ногайцев неисчислимое множество. Стоит аульчанам сойтись где-нибудь у плетня или забора — вот она и сказка!.. Но то, что рассказывал позавчера на завалинке приехавший навестить свою тетку Бекболат, хоть и напоминает сказку, было не сказкой. Само сердце чует, что сын покойного Алима поведал кобанлычанам настоящую правду о великом батыре. У этого богатыря нет ни вороного коня, ни хризолитовой камы. У него на вооружении слово, горячее, как огонь, и светлое, как солнце. Стоит сказать ему это слово, как самый страшный дракон и аздага́ — двенадцатиглавый змей — отступают. Этот батыр собирает рать, чтобы освободить все народы от злой силы. В том числе и их, ногайцев. А они, ногайцы, наверное, самый несчастный народ. Кто только не сосет из его жил кровь! Чиновники, атаманы, помещики, баи, мурзы — все они здесь, на Кавказе, властвуют, как прежде. И вот теперь батыр собирается всех их прогнать и дать ногайцам волю и землю. Кто же он? Чей сын и как обрел такую силу? Об этом и ведут сейчас речь пожилые мужчины и седобородые старцы на завалинке Нурыша. А может, он пророк, посланный самим аллахом, чтобы избавить бедняков Кобанлы от кровопийцы Батоки и его зятя? Уже ушла на покой с небосклона луна, а они все высказывали по очереди догадки. Дошла очередь и до Нурыша. Он был еще не убелен сединами и не наделен мудростью аксакала, а требовалось сказать не только умное, но и мудрое: иначе незачем было и присаживаться на завалинке — такой порядок, такой обычай. Нурыш собрался с мыслями и, выдержав паузу, стукнув палкой о землю, сказал: — Не кончим мы тут спорить до утра. Смотрите, в сакле Кеусар и сейчас горит лампа. Раньше у нее такого не случалось. Значит, это сын Алима не тушит свет. Пойдемте к нему. Лишних ушей там не будет, он все расскажет нам. Таких, кому бы не пришлись по душе слова Нурыша, не нашлось: все дружно поднялись. Их шаги и услышал Бекболат. Они-то и вошли в саклю Кеусар. — Извиняй, сын Алима, что побеспокоили в такой поздний час, — сказал седобородый Аса́н-акай. — Проходите, проходите! Садитесь, чаем угощу. — Спасибо, сынок. Нам ничего не надо, мы уйдем сразу, как только ты разъяснишь нам погромче: кто он, тот батыр, о котором ты нам говорил? И чей сын? И скоро ли он появится в наших краях? Бекболат долго рассказывал о великом батыре. — Это Ленин — вождь трудового народа России. Скоро, очень скоро его люди должны появиться и в наших краях.
ВЕЧЕРНИЙ ВСАДНИК
На закате в аул Кобанлы въезжал всадник. Конь его был весь в мыле, с провалившимися боками. Видно, сильно притомился и сам всадник — молодой парень с огненно-рыжим чубом. Он спросил первого встречного, где живет тетушка Кеусар. — А вон та сакля, что смотрит окнами на курган, — показал мужчина. Всадник направил коня к дому. Залаяла собака. Бекболат вышел на крыльцо и тут же со всех ног бросился к калитке: — Николай!.. Какими судьбами? Колька-Соловей устало спешился и попал в крепкие объятия друга… До поздней ночи они беседовали, а на рассвете вместе выехали из аула. Николай привез радостную весть: в Петрограде произошло вооруженное восстание. Временное правительство свергнуто — вся власть перешла в руки Советов. Организовано новое правительство во главе с Лениным.Когда Бекболат добрался до Белоярска, город бурлил, как горная река в пору таяния снегов. В тот же вечер он встретился с Василием Семеновичем Северовым. — Теперь будем готовиться к окончательному штурму старых порядков и здесь, у нас, — сказал Василий Семенович. — Вот получено обращение правительства. Бекболат взял из рук Северова отпечатанную в типографии листовку, на которой было крупным шрифтом написано:
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ-МУСУЛЬМАНАМ РОССИИ И ВОСТОКА
Бекболат с волнением прочитал: «Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Знайте, что Ваши права, как и права всех народов России, охраняются всею мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Обращение произвело на Бекболата огромное впечатление. «Устраивайте свою жизнь свободно и беспрепятственно…», «Знайте, что Ваши права… охраняются всей мощью революции…» — повторял Бекболат слова обращения. Василий Семенович хорошо понимал радость Бекболата. — Да, заря занялась, Болат. Но чтобы наступил день, нам тут придется еще немало побороться. Атаманы и мурзы добровольно власть не отдадут. И действительно, белые офицеры, богатые казаки не хотели признавать Советскую власть. Они искали опору и среди горцев. Начали создаваться добровольческие части из казаков и горцев в поддержку контрреволюции. — Медлить нельзя, Болат, надо снова ехать в аул, — сказал Северов. — Во что бы то ни стало сорвать план белогвардейцев. Не дать им обмануть народ… Было уже поздно. Город спал. Ночь была тихая, теплая. Бекболат шел не торопясь и мысленно был уже там, в предгорьях. Что ждет его на этот раз?..
Вернувшись в аул, Бекболат тотчас собрал своих друзей в тайном месте, на скале Яман-кая. Он рассказал, что произошла революция. В руки Советов перешла власть и в Белоярске. И тут, в аулах, она должна перейти в руки народа. Но без боя богачи власть не отдадут. Предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. — Согласны ли вы бороться за народную власть? Батырбек подошел к Бекболату и подал руку: — Клянусь именем отца! — Клянусь именем матери! — подхватил Амурби. — Клянусь честью джигита! — послышался голос Исы. — Клянемся! Клянемся! Клянемся! Клянемся! — повторили все вместе. Слова их клятвы услышала земля и небо, их несла по ущелью река, эхом повторяли скалы. И клятва эта была крепка, как скала Яман-кая, на которой стояли друзья.
КАРА-МУЛЛА
Кеусар была дома одна, когда, постучав длинной палкой в дверь, вошел в саклю Кара-мулла. Это было так неожиданно, что хозяйка растерялась: надо бы испечь баурсак, а пшеничной муки нет. От вороватых глаз муллы не ускользнуло ее замешательство, и он ласково сказал: — Не затрудняй себя, Кеусар: не обязательно меня баурсаком угощать. Я зашел просто так: думаю, для души Кани почитаю Коран. Кеусар несказанно обрадовалась: — Ой, мулла, пусть великий аллах отблагодарит тебя за это! Кара-мулла сделал омовение и стал читать. Кеусар приготовила чай. Но мулла отпил лишь несколько глотков и поставил пиалу на столик. Поведя глазами по сакле, тяжело вздохнул: — Плохие времена настали, сестра. Оллахий, плохие! — Что и говорить! — поддержала его Кеусар, так же тяжело вздыхая. — Люди озлобились друг против друга, — продолжал мулла. — Забывают шариат, обычаи и заветы предков. Оллахий, придет несчастье и в наш аул: не потерпит аллах отступничества от веры, всех накажет! Кеусар горестно качает головой. Кара-мулла помолчал. Потом, почесывая сухими пальцами реденькую бородку, сказал: — Я не поверил, когда услышал, что сын Алима сворачивает с пути правоверных. Достойный человек был Алим, истинный правоверный мусульманин. И Кани, бывало, без совета с аллахом слова не вымолвит. Как может быть у таких родителей неправоверный сын! Кеусар низко опустила голову. — Он всегда слушался родителей, — сказала она. — И не может он делать плохое людям, мулла. Сердце у него доброе. — Я не говорю, что делает он это по злобе, — мягко возразил мулла. — Жизнь, что горная тропа. На ней легко заблудиться, и я буду просить аллаха, чтобы вывел сына Алима на праведный путь… — И вдруг, впившись маленькими, острыми глазками в Кеусар, спросил: — А где он сейчас, сестра? Кеусар потупилась под пристальным взглядом муллы. — Разве молодых людей дома удержишь, Кара-мулла! Кажется, уехал в горы, наниматься на работу к какому-то баю. Мулла недоверчиво покачал головой, задумался. — Зачем далеко ехать, когда у мурзы сколько хочешь работы? — Уж этого я, право, не знаю. Потом Кара-мулла долго, долго говорил, что хотя жизнь нелегка, но каждый правоверный мусульманин должен помнить, что он на этом свете лишь гость. Его вечная жизнь на том свете, и потому человек тут должен делать только то, что повелевает аллах. Строго выполнять все заветы корана и шариата. Пусть сестра Кеусар напомнит об этом племяннику, потому что больше наставников у него нет. Старший брат ее, Маметали, дядя Бекболата, говорят, стал совершенным безбожником, его ждет суровая кара аллаха. Кеусар сказала, что она день и ночь будет молить бога, чтобы он вразумил Бекболата и не дал ему ступить на ложный путь. Мулла, сутулясь, вышел из сакли…Бекболат действительно ездил в горные аулы. Тетке он сказал, что едет искать работу. На самом же деле ему необходимо было установить связи с нужными людьми. Вернулся домой веселый, довольный. — Ах, аптей, давно я не был в горах. И так чудесно поездил по горным аулам! Одна беда — работы не нашел. Но один человек все же обнадежил: обещал сообщить, как только буду нужен… Ох, проголодался я! Кеусар поставила на столик кислого молока, подала кукурузные чуреки, а сама села прясть. В ее умелых и ловких руках веретено вертелось, словно юла, и кольцо за кольцом ложилась на него пряжа. Сидя на низенькой скамеечке, она то и дело бросала взгляд на племянника. Наконец решилась сказать. — Болат, а у нас был мулла. Он видел во сне мою сестру Кани, твою абай, и зашел почитать Коран. А ведь раньше не приходил, когда звали даже. Бекболат насторожился: — А про меня он не спрашивал? — Спрашивал, мой милый, спрашивал! — А что? — Насовсем ли ты приехал. Чем занимаешься. Кто тебя навещает. — Та-ак, ясно… — Густые брови Бекболата сурово сошлись на переносице. — Так вот знай: не твою сестру вспомнил Кара-мулла, а послал его мурза Батока узнать обо мне… Ах, продажная тварь!.. А впрочем, что можно ждать хорошего от муллы! — Ой, сын Алима! — Кеусар тяжко вздохнула. — Нельзя так говорить о святом человеке. Аллах покарает тебя! — Кара-мулла такой же святой, как ишак — мусульманин! Ишак вертит хвостом, когда его угощают чуреками. Так и мулла вертит своей совестью за подачки Батоки. Все сделает для мурзы. Но недолго, аптей, им осталось властвовать и глумиться над народом, недолго!..
САБАНТОЙ
Рано и буйно пришла в этом году весна в Кобанлы. Уже в конце февраля начали таять снега. И берда́зи — время конца февраля и начала марта — было необыкновенно теплым. Набухшие и вспенившиеся речушки наполняли ущелья звонкими всплесками. Кубань вышла из берегов и залила луга. Прибрежные кусты огласились раскатистым пением птиц. Подсыхали поля. Аксакалы каждый день выходили на пашни, нетерпеливо пробовали землю, брали в ладони, растирали, нюхали. А в ауле уже готовились к празднику первой борозды. Сабантой!.. Кто из ногайцев не ждет всей душой этого дня! Так повелось испокон веков: забурлят талыми водами реки окрестных гор, запарует земля, зазеленеют, заискрятся под ласковым весенним солнцем сады — выходи всей семьей в лучших одеждах на улицу танцевать и петь песни, играть и балагурить. А если выпадет случай, то и угоститься рогом сладкого, как мед, и красного, как кровь, давно перебродившего бармажи[20]! И даже байский батрак Нурыш, никогда не имевший и клочка собственной земли, один из первых обряжался в козлиную маску с рогами и бородой и до коликов смешил собравшийся на площади кобанлыйский народ. Ждали такого же веселого сабантоя в ауле Кобанлы и в этом году. Что ж из того, что по свету идет смута? Что люди озлобились друг на друга? Что, даже ложась спать, не расстаются с камами, до блеска наточенными о прибрежные гранитные плиты? Ведь все это не помешало весне снова явиться в горы? И в том же наряде и в той же красе! Да и земля оставалась такой же, как была: милой для сердца каждого хлебороба. Однако что это? День сабантоя должен вот-вот наступить, а на аульской площади не видно никаких приготовлений. Никто не везет дров для костров, никто не устраивает линейки для джигитовки и не огораживает площадки для борцов, игр и танцев. Только каждый день собирается возле мечети народ, чтобы послушать сына Алима. — Там, в России, земля уже давно отдана крестьянам, — раздавался на всю площадь звонкий голос Бекболата. — Да, да, земля — наша кормилица, — повторяли люди его слова. — И она должна быть наша. Так сказал самый большой, самый справедливый человек на земле… С площади эти слова неслись от сакли к сакле по всему аулу. Долетели они и до самого старшины Батоки. Он тотчас позвал муртазаков и поскакал на площадь. Но людей и след простыл! Крепко сжимая позолоченную рукоять камы, Батока в сопровождении муртазаков проехался по главной улице аула, всем видом показывая, что пока хозяин здесь он, власть в его руках и он не позволит беспорядков! Праздник будет как праздник! И тон будут задавать баи — первые люди аула! Но все шло наперекор ему. Странное произошло с Нурышом. Бывало, он еще за неделю до дня сабантоя успеет обойти все дворы аула, чтобы договориться об участии в играх и джигитовке. А теперь словно провалился сквозь землю! Отсиживается ли дома или куда уехал, никто не знал. По всему видно, в ауле происходит неладное. И прежде всего это заметил сам старшина Батока. Что-то готовится: не зря ходит из сакли в саклю тот смутьян, сын Кани, собирает людей на площади. Как мухи к меду, лепится к нему голь и уздени. Бунтует народ в ногайских степях. Один из его, Батоки, родственников поплатился жизнью, когда с камой в руках хотел защитить добро и княжескую честь свою… А вдруг все это докатилось уже и сюда, до аула Кобанлы, вместе с голодранцем Бекболатом?! Так это было или не так, но Батока решил быть начеку. Он позвал к себе Кабанбека и Кара-муллу. — Вы глупы, как ослы! — гневно воскликнул он. — В ауле готовятся беспорядки, а вы куда смотрите? Сегодня же пустить в ход и твою, Кабанбек, плеть, и твои молитвы, мулла. Не бойтесь выйти на площадь. Тебе для того, — обратился он к зятю, — чтобы ни одно слово не пролетело мимо твоего уха. А тебе, Кара-мулла, очистить святыми наставлениями загрязненные смутьянами мозги и души правоверных. Идите! Потом Батока вызвал муртазака Жамбая, приказал седлать коня и скакать в отдел к атаману, чтобы тот по его, мурзы, душевной просьбе прислал в Кобанлы на день сабантоя надежный казачий разъезд. Так, на всякий случай…Аул засыпал. Над камышовыми крышами домов проплывали на север рваные тучи. Тишину аула нарушал редкий лай собак. По темной окраинной улице шел мужчина средних лет в пиджаке, шапке. Он торопился: в эту же ночь он должен уйти из Кобанлы в другой аул. Сакля Нурыш-агая находилась почти у самого обрыва над Кубанью, и всегда в его доме слышался шум реки — всплески волн, бьющихся о прибрежные камни. Маметали по шуму реки определил, что он, кажется, уже дошел до нужного места. Остановился, огляделся. Да, вон она, сакля Нурыша. Света в доме не было. Он подошел к калитке, прислушался. Скрипнула дверь. Из дому кто-то вышел, прошелся по двору. Маметали кашлянул три раза. Хозяин сакли узнал человека и, трижды прокашляв в ответ, приглушенно спросил: — Ты, Маметали? — Я, друг Нурыш. — Джигиты ждут тебя. В низкой, маленькой комнатке, с окном, завешанным войлочным ковриком, кроме Бекболата, сидело четверо молодых людей. Троих Маметали знал — они были кобанлычане: Батырбек, Амурби, Иса. Четвертый был незнаком. Все встали и пожали обеими руками руку гостю, а Бекболат обнял дядю. — Привет тебе от Николая, — сказал Маметали. — Спасибо, агай. Как он там? — Молодцом! Нурыш подал гостю пиалу с чаем. — Благодарю, Нурыш: только что пил у сестры… Ну что ж, начнем? Мне затемно надо еще успеть в Алака́й-аул. — Вот он оттуда, дядя. — Бекболат показал на парня. — Азаматом зовут. Маметали с головы до ног оглядел молодого человека. Глаза острые, дерзкие. Нос чуть изогнут книзу. И все черты лица, крупные и энергичные, свидетельствовали о его незаурядной воле и смелости. — Оллахий, хорошо! Садись, джигит, — сказал Маметали, а про себя подумал: «С таким орлом и на край света не страшно лететь!» — Итак, докладывай, Болат, обстановку. Бекболат покосился на дверь. Нурыш с камой на поясе тотчас выскользнул во двор на охрану. Бекболат рассказал о положении в окрестных аулах. Большинство середняков и бедняков за Советскую власть. В каждом ауле есть доверенные люди, которые готовы выступить в любую минуту. Здесь, в Кобанлы, в день сабантоя они пойдут делить байскую землю… Маметали внимательно слушал племянника, задавал вопросы, уточняя то одно, то другое. — А как с оружием? — спросил он. Бекболат сказал, что некоторые вооружены лишь ружьями да камами, а надо бы винтовки и пистолеты. — Хорошо. Доложу в комитете. — Маметали встал. — Итак, все ваши люди должны быть начеку, чтобы в любое время могли объединиться в боевые группы, в отряды. Самодельная свеча из овечьего жира, стоявшая на маленьком столике и неярко освещавшая комнату, вся оплыла. Пламя ее колебалось и готово было вот-вот погаснуть. — Ну что ж, друзья, желаю вам успеха! Маметали крепко пожал всем руку и обратился к Азамату: — Итак, друг Азамат, будем пробираться в твой аул. Веди горной тропой. Надо быть осторожными: так требует дело…
— Все на площадь! Все на площадь! Кто это кричит, кобанлычане узнали сразу. Конечно же, Нурыш! Только непонятно — почему так рано? Праздник обычно начинается позже, а сейчас солнце не поднялось над горизонтом даже в рост человека. Да и сам клич Нурыша был не тот, что прежде. Раньше приглашение на площадь он пересыпал шутками-прибаутками. Надев маску козла и козлиную шкуру, Нурыш напевал песенку козла, который хвастал смелостью и удалью, а на самом деле был ужасный трус. Нурыш так искусно представлял хвастунишку, что аульчане хохотали до упаду и от всего сердца угощали Нурыша чашкой бармажи, а девушки дарили ему, кто вышитый золотой мишурой кисет, кто платочек. Женщины угощали домашней халвой… Теперь же Нурыш-агай был серьезен и строг. И как аульчане ни зазывали его в саклю, чтобы отведать приготовленного к празднику баурсака, ни к кому так и не зашел. Нурыша будто подменили… Словом, что-то сегодня должно произойти серьезное, и, собираясь на площадь, люди опоясывали себя верной камой. Запоздавших не было. Площадь шумела и бурлила, как Кубань в полую воду. Когда на крыльце аульской управы появился в окружении своих товарищей, вооруженных карабинами и камами, Бекболат, многие влезли на плетни и заборы. А чтобы лучше слышать, приставили к уху шапку. А он говорил о том, что довольно терпеть произвол Батоки и его прихвостней. Довольно кровопийцам владеть почти всей аульской землей! Декрет о земле уже давно издан в Петрограде. Его подписал сам великий батыр Ленин. И потому у кобанлычан, как и у других крестьян Северного Кавказа, есть законное право отобрать у мироедов землю и поделить между бедняками и узденями. Поделить сегодня же, так как время не ждет — на дворе весна, пора выезжать в поле. — Да, да, — загремело над площадью, — ты дело говоришь, сын Алима! Идем в поле сейчас же! И, плотно сдвинувшись вокруг Бекболата и его вооруженных товарищей, люди пошли на поле мурзы Батоки, на которое они раньше не смели и ногой ступить. Земля! Что может быть дороже и желаннее ее для бедняка? Она — сама жизнь, мать и кормилица. Надежда на все лучшее. Теперь он будет обрабатывать ниву для себя. Для себя бросит в борозды пшеничные и кукурузные зерна. Наконец-то дети его будут избавлены от постоянного голодания. Бекболат видел, как радостно светились лица людей, и сам был необыкновенно взволнован. А когда начали делить землю, он сказал: — Батырбек! Отмерь первым Ама́т-агаю. В стороне от собравшихся стоял мужчина лет пятидесяти, в рваной черкеске и старой лохматой шапке, из-под которой пугливо смотрели большие кроткие глаза. Они видели все, что происходило здесь, но сердце Амата не верило. Как можно делить байскую землю? Все это Амату казалось игрой, забавой, какие бывают в день сабантоя. Его прозвали за бедность Ярлы́-Амат — бедный Амат. В ауле больше половины людей были бедными. Но такого горемычного бедняка не было: ни козы во дворе, ни жены, ни детей в доме. Вечный раб мурзы Батоки. Ярлы-Амата пугала опасная затея Бекболата. А вдруг налетят муртазаки и начнут полосовать плетками? И он отходил все дальше и дальше. А когда его окликнули, он поначалу не расслышал. — Амат-агай! Идите сюда! — повторил Бекболат. Амат, встрепенувшись, удивился: он впервые слышал, что его называют не «ярлы», а почтительно — «агай», старший брат. Он в растерянности посмотрел на людей. — Иди, иди, Амат. Вот твоя земля… Твоя, верь нам, — говорил Батырбек, отмеряя саженью землю. — Вот твоя межа… Иди, не робей. Амат неуверенно подошел к меже, и его обветренные потрескавшиеся губы зашептали: — Неужто все это наяву? Или… Нет, нет, конечно же, не сон… Да благодарит сына Алима великий аллах! А Батырбек тем временем шагал все дальше по полю, отмеряя участки. Люди шли за ним радостные, веселые. Весеннее солнце щедро лило лучи на землю, и она, будто дыша, курилась паром. Тот, кому земля была уже отмерена, стоял у своего участка и глядел вокруг такими счастливыми глазами, словно впервые увидел белый свет. Нурыш, после того как ему указали, где отныне будет его поле, опустился на колени и, взяв на ладони горсть рыхлой земли, принялся целовать ее…
Все давно разошлись по домам, только Амат-агай еще ходил по своему наделу. Нагибался, брал землю, рассматривал, мял в руке. — Хороша, очень хороша! — говорил он. — Слава всевышнему! И во сне такое не снилось. Всю жизнь он пахал байскую землю, а вот теперь будет пахать свою. — С божьей помощью я тебя обработаю, и будешь ты мягче пуха, родимая, — благоговейно говорил Амат. — Вон там за курганом посею пшеницу. Там — кукурузу. А вот тут немного проса… И он уже видел перед собой большую чашку с вкусным сюком, приготовленным из жареного пшена… Его размышления прервал бешеный топот коней. Амат обернулся и увидел двух всадников. Размахивая плетками, они мчались на него. Это были сын Батоки Арсланбек и муртазак Жамбай. У Амата дыбом встали волосы, похолодело внутри. Весь день Батока поджидал казачий разъезд, но атаман почему-то не выполнил его просьбу. Не дождавшись казаков, сын мурзы Арсланбек вскочил на коня и понесся в поле. Следом за ним телохранитель Жамбай. И вот они летят прямо на Амата. Арсланбек не сумел сдержать разгоряченного коня, проскочил мимо, однако успел хлестнуть плеткой презренного кула по лицу. Амат уткнулся в ладони, и в тот же миг плетка Жамбая хлестнула с еще большей силой по спине, рассекла старую черкеску. Арсланбек повернул коня, закричал: — Собачье племя! Княжеской земли захотели? Не бывать этому! Он выхватил из-под бурки обрез. Раздался выстрел. Амат вздрогнул, раскинул руки, упал, обнимая землю и прощаясь с ней…
НАЛЕТ
Весть о том, что в ауле Кобанлы бедняки поделили байскую землю, разлетелась окрест быстрее ветра. Бекболат на то и рассчитывал. «Для одинокого и ясный день — ночь», — гласит поговорка. Он надеялся, что и в других аулах последуют их примеру, и день сабантоя — праздника первой борозды — станет днем надела земли беднякам. Так оно и вышло: уже на другой день стало известно, что в ближайших аулах крестьяне вышли делить байские земли. А вслед за этим разнеслась страшная весть: Арсланбек убил Амат-агая. Не успел выйти из сакли Батырбек, сообщивший о зверской расправе с Аматом, как прибежал Иса: — Болат! В аулах Канглы́ и Алака́е казаки! Жгут дома! Бекболат и его друзья выскочили на улицу, поднялись на курган. Отсюда оба аула были видны как на ладони. Дома горели, а между ними по дворам, садам и огородам носились всадники. Их обнаженные сабли вспыхивали под солнцем. Почти весь Кобанлы высыпал на курган. Аульчане с тревогой смотрели на Бекболата и как бы спрашивали: неужели они и сюда прискачут? — Ямагат! — крикнул Бекболат. — Сейчас вам надо разойтись по домам. Здесь вот-вот появятся казаки. Но не падайте духом: мы не оставим вас в беде. Аульчане поспешно расходились. — Батырбек! Иса! — обратился Бекболат к товарищам. — Сейчас же разыщите Амурби. Он в степи с табуном Кабанбека. Возьмите коней и скачите на Яман-кая. Я буду пробираться туда…Через маленькие оконца саклей люди бросали тревожный взгляд на улицу и тут же отворачивались: шквальным ветром проносились по аулу вооруженные саблями и карабинами казаки и муртазаки старшины Батоки. Среди них был и сам мурза. — Обыскать! — крикнул он, подскакав к сакле Кеусар. Муртазаки спешились, облазили весь двор, обшарили все углы в сакле, но Бекболата не нашли. — Найдем… Все равно найдем твоего гяура! — орал Батока. — Как собаку повесим! Мурза приказал Жамбаю собирать народ к управе. Муртазак скакал по улицам и хрипло орал: — Ямагат!.. Ямагат!.. Но люди не выходили из саклей. Удалось собрать лишь несколько десятков аульчан. На крыльцо управы вышел Батока в сопровождении казачьего сотника. Окинул строгим взглядом собравшихся. — Кто знает, где скрылся большевистский выкормыш, подойти ближе! — приказал старшина. Никто не сделал ни шага. Батока побагровел, казалось, вот-вот лопнет от злости. — Еще раз повторяю: если узнаю, кто из вас укрывает гяура, повелю плетьми запороть! Люди молчали. Пожимали плечами: не видели, мол, они сегодня сына Алима. — Он, кажется, еще вчера уехал в горы, — ответил за всех Нурыш. — Врешь, подлец! — вскричал Батока. — Сегодня мой муртазак видел его на кургане! Нурыш потупился. — Что ж ты нас спрашиваешь, мурза? — с укоризной и гневом воскликнул седобородый аксакал, опираясь о длинную кизиловую палку. — А сам ты можешь сказать, куда улетел буйный ветер, что дул с утра? Это был почтеннейший аксакал аула, и Батока не посмел обругать его, лишь метнул на старца полный злобы взгляд. Дотемна казаки атамана и люди мурзы рыскали по аулу. Они пронзали саблями копны прошлогодней соломы, загоняли шашки по самые рукоятки в кизячьи кучи. Но как ни присматривались к клинкам, свежей крови на них так и не приметили. Большевистский смутьян словно провалился сквозь землю! Зато им удалось схватить его сообщника Батырбека, замешкавшегося в ауле. Иса и Амурби успели ускакать в степь и скрыться. На другой день по приказанию Батоки муртазаки согнали во двор управы всех, кто выходил делить байскую землю. Главный муртазак Кабанбек, чтобы услужить тестю, приказал «пересчитать» всех плетьми: пусть голодранцы знают, как своевольничать и нарушать установленный властями порядок! В полдень казаки покинули аул. Вслед за ними пронеслась байская тачанка с двумя вооруженными муртазаками. Кого они увозили с собой, догадаться было не трудно. В тачанке лежал связанный по рукам и ногам Батырбек. Его везли в станицу, чтобы передать атаману, а тот — какому-то страшному полевому суду. Когда стихла тачанка, на минарете закричал Карамулла… Нет, не к молитве звал он сегодня мусульман, а к раскаянию: «Станьте перед аллахом на колени и просите помилования за свои грехи».
МУРТАЗАК ГОТОВИТСЯ К СВАДЬБЕ
Бекболат и его товарищи укрылись на горе Яман-кая. Более удобного и безопасного места, чем это, не найдешь во всей здешней округе. С трех сторон скалу обступают, как верные стражи, отвесные утесы. А с четвертой — пропасть. Над нею к месту стоянки идет тропа, на которой не разъедутся два всадника. Тут можно отразить нападение целого эскадрона атаманцев и муртазаков. Иса и Амурби прихватили с собой карабины. Они прискакали на конях и предусмотрительно привели лошадь для Бекболата. Ах, как бы нужен был теперь Елептес — Обгоняющий ветер! Но Батока оберегает его как зеницу ока. Как только бывший его табунщик снова вернулся в аул, Батока запретил Арсланбеку выезжать на Елептесе куда бы то ни было. А по ночам конюшню, где стоит Елептес, охраняет муртазак с карабином. Но ничего — придет время, и конь будет снова служить ему, Бекболату! Друзья тотчас наметили план спасения Батырбека. Сегодня же ночью они выступят в станицу Баталинскую, куда увезли Батырбека. Остановятся у знакомого Бекболату кузнеца Степана, а коней укроют в балке. Узнают, где содержится Батырбек — наверное, при отделе атамана: там есть подвал, куда сажают арестованных: разведают, как он охраняется, и потом уж, на вторую ночь, совершат налет. Когда стемнело, друзья спустились со скалы, ведя в поводу коней. В долине они сели в седла и пустили лошадей вскачь.К станице подъезжали шагом. Степанова хата стояла на краю балки. Хозяин поначалу был очень удивлен, увидев Бекболата с камой и кольтом на поясе и его двух товарищей, вооруженных карабинами. Бекболат доверительно рассказал кузнецу, зачем они приехали. Оказывается, Степан видел, как вчера привезли в отдел связанного молодого ногайца. Потом видел у крыльца атаманского отдела часового — местного казака Григория. Другой охраны не было. Бекболат решил не терять времени и теперь же отправиться к атаманскому правлению. Ехали окраиной. Станица спала глубоким сном. Будто все вымерло в этот поздний час. Светила полная луна, и было видно как днем. Бекболат остановил коня в тени придорожных акаций и поднял руку. Все спешились. Иса остался при лошадях, а Бекболат с Амурби стали пробираться к атаманскому правлению. Они подошли почти к самому дому. Остановились в кустах бузины, замерли. Как и говорил кузнец, здание охранял лишь один часовой. Он дремотно сидел на крыльце, зажав в коленях винтовку, и клевал носом. Бекболат и Амурби обошли правление и разом налетели на часового. Тот не успел опомниться, как оказался связанным и с кляпом во рту. Пришлось долго потрудиться над подвальной решеткой. Наконец она была вырвана. — Батырбек! — приглушенно окликнул Бекболат. А тот давно уже был у окна. — Сможешь выбраться сам? — спросил Бекболат. — Смогу… Только руку подай… И вот уже раздался стремительный цокот копыт. Залаяли было псы, но скоро над станицей снова установилась тишина…
На вторую ночь на каменистой тропе, ведущей к стоянке, послышался топот копыт и шорох срывающегося в пропасть щебня. Первым услышал Иса, разбудил Бекболата: — Послушай! Бекболат насторожился. — Да, кажется, кто-то едет, — сказал он, выхватывая из кобуры револьвер. Поднялись Батырбек и Амурби. Все взялись за карабины. И вдруг: — Э-гей! Где вы? — раздался негромкий голос. — Да ведь это Нурыш-агай! — радостно воскликнул Иса. И он не ошибся. Через несколько минут, держа под уздцы ишака, Нурыш уже стоял, окруженный молодыми людьми. — Как же ты нашел нас? — спросил Бекболат. — Еще бы Нурышу не найти! Да мне тут с колыбели каждый камень знаком. Думаю, где же им и укрыться, как не на горе Яман-кая! Он протянул Бекболату небольшой пакет. — От Маметали, — пояснил он. — А здесь еда, — кивнул он на мешки, перекинутые через спину ишака. — От меня и Салимат… — и замолчал не договорив. — Что случилось с ней? — тревожно спросил Бекболат. — Ну говори же, Нурыш-агай! — почти закричал он. — Кабанбек готовится к свадьбе… Все долго молчали. Потом Бекболат тихо сказал: — Ну что ж, Нурыш-агай… Спасибо за пакет и провизию. У нас как раз все вышло. А теперь тебе нужно возвращаться, чтобы вернуться домой до рассвета. Нурыш распрощался с джигитами и повернул ишака на тропу, что вела в долину. Бекболат развел небольшой костер, вскрыл пакет. Маметали писал, что белые офицеры формируют из горцев «дикую дивизию». Во что бы то ни стало надо сорвать план контрреволюции, разъяснить горцам, для чего создается дивизия: нападать на обозы с оружием и провиантом для белых частей, отбивать коней. Бекболат тут же решил: завтра все они разъедутся по аулам, чтобы собрать как можно больше джигитов и сформировать боевой отряд. — Задача ясна? — спросил он. — Ну, а теперь спать! В скале была удобная сухая пещера. Батырбек, Иса и Амурби забрались в нее и тут же заснули. А Бекболат, сидя у костра и подбрасывая сухой тальник, думал о Салимат. Если Кабанбек сыграет свадьбу, все будет потеряно. Салимат не согласится бежать. Она глубоко почитает законы адата и не изменит постылому мужу. Всю жизнь будет покорно нести свою тяжкую ношу. Может быть, пока не поздно, выкрасть ее? Но что тогда скажут о нем кобанлычане: приехал выручать их из байской кабалы, а у самого на уме вон что было! А мурза Батока и Кара-мулла не преминут тотчас настроить против него весь народ: вот, мол, убедитесь, кто мутит ваши неразумные головы! Абрек, разбойник этот ваш «спаситель»! Да и что скажут в комитете? Не за тем его послали, чтобы похищать невесту. Его направили для выполнения святого дела — помогать победе Советской власти. Что же делать? Завтра он выедет в горные аулы, а как вернется, попросит Нурыш-агая передать Салимат, чтобы оттянула день свадьбы. А там, возможно, он что-нибудь придумает…
СТРАШНАЯ ВЕСТЬ
Из Белоярска пришла страшная весть: белоказаки разгромили Совет и большевистский комитет. Многие его члены зверски убиты. Публично расстрелян на площади Василий Семенович Северов. Его заместителю Маметали Капланову удалось бежать в степи предгорья и вступить в действующий там краснопартизанский отряд. Старшина аула мурза Батока снова надел набекрень бухарскую шапку и гордо вскинул голову. — Кто посмеет поднять хоть мизинец на законную власть — останется без всей руки! — ораторствовал он на площади. Приободрился и его помощник — главный муртазак Кабанбек. Он решил не откладывать дальше дело со свадьбой, и так уж сватовство затянулось. Муртазак собрал близких и объявил им, чтобы готовились к свадебному тою, большому тою, какого еще не видели в ауле Кобанлы. — Готовить сорок ведер бамаржи, резать сорок баранов. Невесте шить сорок платьев. Так приказал он, главный муртазак Кабанбек, бай, богатством с которым может поравняться только Батока. Приказал… Но вот вопрос: на какой день лучше всего назначить свадьбу? Муртазак посоветовался с муллой. Тот сказал: — Сейчас месяц Бос-ай. А потом наступит Курма́н-ай — месяц праздника жертвы. Вот на третьем дне праздника надо устроить свадебный той. Это самый любимый день аллаха и правоверных мусульман. День этот принесет тебе с молодой женой большое счастье. — Пусть будет так, — решил Кабанбек.А наутро в аул въехала группа казаков. Разъезд возглавлял пожилой есаул в небрежно накинутой на плечи бурке. Казаки направились к дому старшины аула. Батока увидел их через окно еще издали, но встречать не спешил. Вид офицера не порадовал его: без выправки, без серебряных газырей, весь помятый и худой. Такой гость не мог привезти добрых вестей. И Батока вышел ему навстречу лишь тогда, когда есаул громко и настойчиво постучал ручкой плети в окно. — Вы здесь, старшина? — Да, я, — ответил Батока не очень доброжелательно. — Что угодно? — «Что угодно»! — с сердцем воскликнул есаул. — А еще говорят, ногайцы самый гостеприимный народ! За них воюешь, кровь проливаешь, а он — «что вам угодно»! Нечего сказать — добрая встреча! Только теперь Батока понял, что имеет дело с боевым офицером Кубанского войска, и поспешил исправить неловкость. Он почтительно поклонился есаулу, отступил на шаг и настежь распахнул дверь перед гостем: — Прошу, дорогие кунаки! Сейчас будет чай. Дорога у вас, видно, дальняя, приутомились… Из беседы, которая велась за чаем, Батока понял, что дела белой армии неважные. Красные уже овладели Тихорецкой и продвигаются дальше на юг. А в степях предгорья действуют партизанские отряды. Неужто большевики так сильны, что их не могут одолеть даже кубанские казаки и отборные части горцев? После чая есаул без приглашения пересел на мягкую, покрытую дорогим кавказским ковром тахту. — Господин Батока, гостить я у вас долго не намерен. У меня еще не меньше дюжины таких же аулов и потому позвольте вручить вам предписание атамана отдела. У Батоки взлетели брови на лоб: — Предписание? Насчет джигитов? Так нас же, ногайцев, не берут в армию! — Царь не брал, так теперь мы возьмем. К чертям дурацкие законы! — Есаул звучно хлопнул себя по костлявым коленкам. — Есть специальная горская дивизия. От вашего аула требуется не меньше полсотни всадников. Оружие дадим. — Что ж, тогда я прикажу созвать ямагат, — сказал старшина. — Надеюсь, найдутся и джигиты и кони. Ямагат был назначен после обеденной молитвы — уйле́ нама́за. Его собирал Нурыш. Обойдя аул, он поспешил к связному Арата́ю. — Сейчас же седлай коня и скачи к Бекболату на Яман-кая. Скажи, приехал казацкий есаул, требует джигитов для горской дивизии. Скоро соберется ямагат — поспешай! — Лечу, Нурыш-агай! — ответил юноша и бросился седлать коня. Люди собрались на площади. Мурза Батока рассказал, зачем пожаловал к ним есаул. Надо дать джигитов и коней. Отныне ногайцу разрешается сесть в боевое седло и опоясать себя камой и шашкой, вскинуть на плечо карабин. Это великая честь, и он, мурза, почтенный князь, надеется, что кобанлычане будут храбрыми воинами. Лихая кровь пылает в жилах ногайца! Нет для него ничего более желанного, чем боевой конь, бурка и кама! Но на этот раз люди почему-то молчали. Батока смущенно и растерянно посматривал то на есаула, то на аульчан. — Ямагат! Что же вы молчите? — наконец не вытерпел он. — Или вы хотите, чтобы гяуры-большевики пришли сюда и осквернили нашу веру, принесли мусульманам погибель? Не бывать этому!.. Арсланбек! — обратился он к сыну. — Ты пойдешь первым… Пиши, Мамут, моего сына Арсланбека Солтанова, — сказал он писарю. Потом начал сам называть имена сельчан, которые должны отправиться в атаманский отдел, а оттуда в воинскую часть. В этот момент случилось непредвиденное: есаул спрыгнул с крыльца управы — откуда взялась прыть! — и бросился к своему коню. За ним последовала охрана — пятеро казаков. Ямагат догадался лишь тогда, в чем дело, когда есаул уже исчез, оставив позади себя тучу пыли, а на площадь вихрем влетели люди Бекболата — около десятка всадников. — Кончай, мурза, свой хабар! — крикнул Бекболат. — Ямагат! — обратился он к народу. — Неужели вы не понимаете, что вас обманывают? Вас хотят заставить воевать против той самой власти, которая несет избавление от баев. Большевики, которыми вас тут настращали, хотят, чтобы все были равны, чтобы земля стала полем народа. Чтобы каждый бедняк и батрак не чувствовал себя подневольным бая. Идти надо воевать не против большевиков, а против них. — Бекболат показал на мурзу, окруженного конниками. — Ни одного добровольца! Ни одной камы против Советской власти! Красная Армия победоносно движется на юг. Недалек день, когда Советская власть придет и к нам в предгорья! — Сын Алима, подскажи, что нам делать, и мы исполним твой совет и наказ! — послышались голоса из толпы. — Кто желает бороться с баями и атаманцами, пусть седлает коня и идет с нами. — Записывай меня! — И меня тоже! Конь у меня добрый! — И я пошел бы, да коня у меня нет! — Кони будут! И оружие достанем! — сказал Бекболат. — Тогда пиши и меня!.. Когда запись добровольцев кончилась, Бекболат подошел к мурзе: — Где Елептес? — В конюшне стоит, сын Алима, — поспешно ответил Батока, косясь на кольт Бекболата. — Сейчас же веди к себе на усадьбу и прикажи немедленно пригнать в загон табун кабардинских. Мне нужны кони! Батока поспешно засеменил к своей усадьбе, его длинная кривая сабля волочилась по земле.
— Салам, дружище, салам, дорогой! — приговаривал Бекболат, ласково трепля коня по холке. — Вот мы и опять вместе, дружок! Бекболат перекинул седло со своего Каурого на Елептеса, затянул подпруги. В степи показался табун. Вздымая пыль, он мчался к загону. А спустя несколько минут джигиты Бекболата выбирали себе лучших коней. И вот все уже было готово. Бекболат приподнялся на стременах, оглядел конников, скомандовал: — За мной, джигиты! Отряд выехал в степь. Бекболат вел своих джигитов в урочище Таллы́к, когда впереди на дороге увидел обоз не меньше тридцати подвод. Его сопровождали конные казаки. «Провиант для белых!» — сразу догадался Бекболат. Он приказал отряду спешиться, укрыть коней в балке, а самим залечь вдоль обочины дороги. Когда ехавший впереди есаул поравнялся с засадой, Бекболат выстрелом снял его с коня. Охрана тотчас побросала оружие. — Куда путь держите, станичники? — спросил Бекболат возницу первой подводы, старого усатого казака. — В станицу Баталинскую. Провизию везем по распоряжению атамана. — Поворачивайте назад и верните, у кого взяли! Ясно? — Чего ж тут не понять… Только как доложить старшине?.. То есть кто распорядился? — Командир Красного революционного отряда Бекболат Ора́ков от имени Советской власти. Так и доложите своему начальству. — Есть доложить! — Казак козырнул и крикнул своим станичникам: — А ну, поворачивай!
Приехав в аул Кара́-Тюбе́, Бекболат собрал ямагат. Он рассказал аульчанам о Советской власти, о Красной Армии. О Ленине и большевиках. — Аульчане! Не слушайте баев и мурз: не давайте белоказакам ни хлеба, ни джигитов, ни коней. Все это обернется против вас, бедняки. Против вас, уздени… Вы слышите меня, аксакалы? — Слышим, джигит! — раздалось сразу несколько голосов. Пока местный старшина собирал своих муртазаков и верных людей, чтобы расправиться с большевистским агитатором, джигитов Бекболата и след простыл. Они уже собирали ямагат в ауле Теси́к-Таш… Дерзкие рейды отряда Бекболата по аулам и станицам предгорья вызвали сильное беспокойство в атаманском отделе. Была срочно создана казачья сотня со станковым пулеметом на тачанке. В помощь ей мурзы и старшины аулов направили хорошо вооруженных муртазаков. Бекболат решил не подвергать людей опасности и повел свой отряд на соединение с Красным полком Балахова, действовавшего под станицей Невинномысской и Отрадным. Под прикрытием темной ночи отряд двинулся в путь. Надолго покидал Бекболат свои родные края.
ПОБЕГ
Кабанбек готовился к свадебному тою. Готовился и уздень Камай, отец Салимат. За последние дни Камай неузнаваемо преобразился: ходил теперь не в старой, затасканной черкеске, а в новом сером шепкене, в барашковой шапке с мелким завитком. Пусть знают аульчане, что он теперь не просто уздень, а тесть самого Кабанбека! Камай заказал у искусного мастера для Салимат золотое кольцо: не за батрака единственную дочь отдает, а за главного муртазака! И все было бы хорошо, только смущало Камая поведение дочери. Нет, она не плакала, не умоляла его не отдавать ее замуж за Кабанбека. Она молчала. Что у нее на уме? Камай попросил жену поговорить с дочерью и все выведать. Но Салимат молчала, словно на три замка замкнула рот. Внешне Салимат была спокойна, хотя и очень изменилась за последние дни. Под глазами легли фиолетовые тени. Да и сами глаза поблекли, погас в них лучистый свет. Побледнело лицо. Но все так же аккуратно были заплетены длинные косы, все так же чисто и опрятно было платье, туго охватывающее девичью талию. Все так же помогала матери по дому — стирала, пряла, шила. Но по выражению глаз, по напряженной складке между крылатых бровей, по крепко сжатым губам нельзя было не догадаться, что девушка на что-то решилась — твердо, непоколебимо. В одну из ночей кто-то тихонько постучал в окно ее комнатки. Салимат вскочила с постели, накинула на плечи теплую шаль, на цыпочках вышла в сени; сердце подсказывало ей: кто-то пришел с вестью от Бекболата. И она не ошиблась. Это был Батырбек. — Салимат, это я! — сказал он. Девушка осторожно отодвинула засов и увидела гонца Бекболата в лохматой бараньей шапке, в черкеске, с камой на поясе, за плечом висел карабин. Где-то за забором отфыркивался и звякал удилами его конь. — Салимат, — торопливо заговорил Батырбек. — Бекболат просил тебя как можно дольше оттянуть свадебный той. Мы… наш отряд идет на соединение с балаховцами. И мы скоро будем здесь… Придумай что-нибудь. Может, «захвораешь» или еще что. Но не сдавайся пока. Болат очень просил… Понимаешь? — Спасибо, Батырбек, — с трудом сдерживая волнение, выдохнула Салимат. — Ты такой же хороший, добрый джигит, как Болат. — Ну что ты! — смущенно воскликнул Батырбек. — До Болата мне далеко. Посмотрела бы, как он рубится в бою… Ох и отчаянная голова! — Попроси его, чтобы поберег себя… Скажи, что я очень, очень жду его. Постараюсь сделать, о чем он просил…Бос-ай истекал. Приближался Курман-ай, а с ним и день свадьбы. А невеста вдруг захворала, слегла в постель. Три раза в день к ней приходила знахарка бабушка Картабай, выгоняла молитвами и заклинаниями из больной джиннов — злых духов, одолевших девушку. Но здоровье Салимат не улучшалось. Кабанбек гневился на знахарку: — Видно, плохо стараешься! Уже десяток гусей тебе передал, а что проку? Бабушка Картабай, как могла, объясняла почтенному баю, что, мол, злые духи пробрались в самое сердце девушки и скоро их оттуда не прогонишь. — Ну, ну, старайся! — немного смягчившись, говорил жених. — Получишь барашка… Двух дам, трех… Десяток сам пригоню тебе во двор, только поставь на ноги Салимат. — И день и ночь буду просить аллаха!..
Спустя несколько дней бабушка Картабай сказала Кабанбеку, что невесте стало немного лучше, и муртазак решил, как только появится серп молодой луны, привезет Салимат в свой дом. И вот луна взошла. Кабанбек послал человека к Камаю сообщить, что завтра он пригонит скот — калым и заберет невесту. С первыми петухами поднялся Камай. Да он и не спал вовсе. О калыме думал. Такое стадо, какое обещал пригнать Кабанбек, наверняка даже не снилось ни одному узденю в ауле! Он облачился в лучшую черкеску и вышел во двор прикинуть, как лучше разместить скот. Потом ему захотелось в последний раз полюбоваться на спящую дочь. На цыпочках он подошел к ее комнатке, приоткрыл дверь, и вдруг необоримая тревога заполнила все его существо: кровать дочери была пуста. Камай рывком распахнул дверь, влетел в комнату. Заглянул под кровать, под столик. Выбежал во двор. — Салимат!.. Дочка!.. — сначала тихо, потом все громче и громче окликал он. И, не услышав ответа, кинулся будить Рахиме. — Дочь… Где дочь, спрашиваю?! — хрипел он. Рахиме недоуменно смотрела на мужа. — Что глаза-то вытаращила? Дочери, говорю, нет! Рахиме наконец поняла. — Аллах мой! — затряслась, зарыдала она. — За что так наказываешь? Камай бросился из дома в балку, к роднику. — Салимат! До-очка-а! — кричал он, совершенно обезумевший от горя и отчаяния. — До-очка-а-а!.. Вернись, негодная, прокляну! Камай обессиленно опустился на камень, стиснул ладонями голову. Все, все пропало: калым, богатство, знатное родство… Нет, не мог примириться с этим Камай. Вскочил и угрожающе потряс кулаками: — Врешь, змея! Далеко не уйдешь! Найдем! Будешь ты в руках того, кто сватал!.. И он помчался к усадьбе Кабанбека. Через несколько минут там все были подняты на ноги. Муртазаки и работники оседлали коней. Рванули поводья, кони вздыбились и с места пустились вскачь. К полудню они объехали все соседние аулы и ближайшие станицы, но беглянку не обнаружили. Посоветовавшись, одна группа двинулась по большаку, другая проселками: по всему видно, отступница решила бежать к своему бандиту, который, судя по слухам, разбойничает сейчас где-то около Невинномысской и Отрадного.
Салимат понимала, что Болата ей не найти. Но лучше погибнуть в дороге, чем стать женою постылого! Еще с вечера она приготовила большую черную шаль. Надела на шею бусы. Они были дешевые, стеклянные, но бесконечно дороги ей как подарок Бекболата. Она долго ждала, пока заснут родители. Но отец то и дело вставал, выходил на крыльцо, садился на ступеньках, курил. С большим трудом ей удалось выбраться из дома незамеченной. Она знала, что за ней будет погоня, и потому бежала не по дороге, а через овраги и балки… Скорее, скорее добраться до леса, пока еще не рассвело! Она напрягала все силы. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Временами перехватывало дыхание, темнело в глазах, и она, спотыкаясь о камни, падала. Но тут же поднималась и снова бежала. Вот наконец и лес. Она остановилась, огляделась и стала пробираться сквозь чащу. Ветви хлестали ее по лицу, сухие сучья цеплялись за шаль, за платье, словно они были в сговоре с Кабанбеком и хотели задержать беглянку. Салимат рывком освобождалась от них, и скоро ее платье превратилось в лохмотья. Она шла весь день, и было непонятно, откуда брались у нее силы. Она ничего не захватила с собой из еды. Но голод ее не мучил, лишь хотелось пить. Она клала руку на грудь, случайно касалась стеклянных бус, и перед ней вставал Бекболат с такой поразительной ясностью, будто видела его наяву. И у нее прибавлялись силы, и она продолжала идти. Над головой засветились первые звезды. Наступала ночь, в сумеречном лесу стало совсем темно. Она натыкалась на кусты, на стволы деревьев, но шла и шла, ничего не видя перед собой, ничего не слыша. Силы покидали ее. И вдруг нога не нашла опоры, и Салимат, как подстреленная птица, полетела вниз головой… Утром ее нашли охотники. Они шли по следу подраненной дикой козы и увидели под обрывом лежащую на камнях с откинутой головой и разметанными руками девушку. Охотники спустились вниз. Девушка лежала без дыхания. Луч солнца играл на ее стеклянных бусах…
ПОСЛЕДНИЕ БОИ
Весна набирала силы. С каждым днем все торопливее и шумнее становилась Кубань. В зеленое убранство нарядились горы. Птичий гомон наполнял ущелья. Зацветали пестрым ковром предгорные луга, и ярко светило солнце. Светлело и на душе кобанлычан: до аула дошли вести, что Красная Армия прижимает к горам дивизии белого генерала Шкуро. Движется в предгорные ногайские аулы Красный полк Балахова, и с ним его верный сотник сын Алима — Бекболат, бывший батрак мурзы Батоки. И чем больше радовались аульчане, тем мрачней становился мурза Батока. Он хорошо понимал, чем все кончится, если в аул придет со своими людьми тот гяур. И потому Батока спешно сколачивал большой отряд из горцев. Сел на боевого коня Кабанбек, сын мурзы Арсланбек. Под их командованием по сотне сабель. И вместе с частями Кубанского войска двинулись навстречу балаховцам…
Охотники увидели лежащую на камнях с откинутой головой и разметанными руками девушку.
По ковыльным степям летят всадники. Как крылья орла, распростерлись на ветру полы бурок. Бьют землю копыта горячих коней. Тах-тух! Тах-тух! — раздается по степи. А навстречу им летит свинцовая метелица. Тра-та-та-та! — трещат пулеметы белых. Но ничто уже не может остановить огненную лавину красных конников. Сверкают сабли, гремят выстрелы. Впереди всех скачет на Елептесе Бекболат. За ним его верные друзья: Батырбек, Амурби, Иса. Они врываются в самую гущу белогвардейцев. Неотразимы удары клинков молодых джигитов… Бежит воинство Шкуро, не выдержав стремительного натиска красных бойцов Балахова…
Отряд располагается на отдых. Выставлены дозоры. Горит костер. У костра Балахов и командир первой сотни Бекболат Ораков. — Славно мы побили их! — говорит Балахов и мечтательно добавляет: — Скоро, Болат, в твои родные края придем. Встретишься ты со своими земляками и с невестой. Как, говоришь, зовут-то ее? Салимат? Хорошее имя. Побьем Шкуро и всем полком отпразднуем свадьбу… Не знал Бекболат, что страшная весть ожидает его в ауле Кобанлы, что нет уже в живых Салимат. — Завтра будем атаковать Ивановку, — продолжал Балахов. — Потом Беломечетинскую. А там рядом и твой аул. Наутро бой… Ураганом налетела сотня Бекболата на станицу — ураганный оружейно-пулеметный огонь встретил их. Красные конники спешились, пошли в атаку. Завязалась рукопашная. Белые забирались в хаты и вели оттуда огонь. Лихорадочно строчил пулемет из дома какого-то богатея. — Сейчас я его утихомирю! — сказал Батырбек. Сорвал с пояса гранату и, прижавшись к земле, пополз навстречу огненно-свинцовой струе, что лилась из окна. Вот он уже возле дома. Вскочил, размахнулся — взрыв потряс хату, и пулемет умолк. — Ура-а-а! — прокатилось по станице. Остатки белых отходят к Кубани и скрываются в тальниках. Отступая, враг беспорядочно отстреливается, и шальная пуля попадает Исе прямо в сердце… Долго стояли, склонив головы, у могилы его друзья — Бекболат, Батырбек, Амурби. Вот и нет одного из них. Не увидит своего родного аула Иса. А он так близок! Уже ясно различается Яман-кая, а за ней и Кобанлы. Простившись с другом, джигиты, вскочив на коней, поскакали вслед за ушедшим вперед отрядом.
ГИБЕЛЬ ОРЛА
Части Красной Армии с ожесточенными боями все дальше продвигались на юг. Дивизии Шкуро, зажатые в горах, искали выхода к Военно-Грузинской дороге, чтобы уйти в Закавказье. Они метались по аулам, грабили горцев, отбирая последний хлеб, последних коней. Полк Балахова наступал в направлении аула Кобанлы. Высланный вперед разъезд донес, что навстречу им движется конный горский отряд численностью не меньше ста сабель. У Бекболата вспыхнула в жилах кровь: чуяло сердце, что отряд ведет кто-то из его кровных врагов — Арсланбек, сын Батоки, или Кабанбек. Вот когда настал час, чтобы отплатить и за отца, и за Амата-ярлы, за всех бедняков, за все унижения, пережитые им самим. Он попросил у командира разрешения выехать со своей сотней навстречу врагу. Балахов, не сомневавшийся в победе Бекболата, направился с главными силами на станицу Беломечетинскую. Медлить было нельзя: по данным разведки, на помощь атаману отдела идет какая-то часть Шкуро. Во что бы то ни стало надо опередить ее, овладеть одним из опорных пунктов белоказаков и важным контрреволюционным гнездом предгорья. Не один, как донесла разведка, а два вражеских отряда двигались навстречу красным конникам. Только параллельно, по разным дорогам. Один отряд вел Кабанбек, другой — сын мурзы Батоки. С отрядом Арсланбека и столкнулась сначала сотня Бекболата. Бой произошел в неширокой долине неподалеку от кургана Кос-тюбе. Еще издали Бекболат узнал Арсланбека. Словно не на бой, а на праздничные скачки или свадебный той выехал сын мурзы — в новой белой черкеске с серебряными газырями, в мягких сапогах из дорогого сафьяна, в бухарской шапке. Сбруя коня вся горит. Арсланбек тоже узнал Бекболата и приказал муртазакам держаться поближе. Он знал, как ловок его противник, как неожиданны его приемы рубки. Некоторое время оба отряда, как бы взвешивая силы, стояли друг от друга в четверти версты. Первым повел в атаку своих конников Бекболат. — Слушайте меня, джигиты! — обратился он к бойцам. — Впереди наши родные аулы. Там наши отцы и матери, сестры и невесты. Так расчистим же клинками дорогу к родным очагам! За мной, джигиты! И он дал шпоры Елептесу. Конь вздыбился и вихрем понесся на врага. Арсланбек успел рассредоточить свой отряд и двинулся навстречу. И вот уже сшиблись грудью кони, засверкали клинки. Бекболат, рубя направо и налево, пробивался к Арсланбеку. За ним неотступно следовали Батырбек и Амурби, бдительно охраняя своего командира. — Вперед! — скомандовал им Бекболат, а сам придержал коня. Батырбек и Амурби с подоспевшими конниками разрубили кольцо противника, и в него на всем скаку влетел Бекболат, направляя коня прямо на Арсланбека. Тот рванул свою лошадь в сторону, и, когда Елептес проносился мимо, Арсланбек чуть не рассек ему круп. «Хочет спешить и зарубить на земле, — мелькнуло в голове Бекболата. — Но нет, подлый, так нас с Елептесом не возьмешь!» Батырбек и Амурби рубились с муртазаками, а Бекболат снова повернул Елептеса на сына мурзы. Вот клинок красного командира стремительно описал дугу, но Арсланбек ловко скользнул под седло и хотел уйти под защиту муртазаков. Но тех теснили Батырбек и Амурби. Арсланбек явно уходил от боя. Но Бекболат снова и снова навязывал схватку. И тот наконец принял бой. Кони их сшиблись; скрестились, лязгнули клинки и снова разошлись. Бились и кони. Елептес грудью налетел на Вороного и чуть не сбил его с ног. Чудом удержался в седле Арсланбек. Оправившись, сам пошел в атаку. Как бы в замешательстве, Бекболат придержал коня. Но в тот момент, когда Арсланбек занес саблю для верного удара, Бекболат рванул Елептеса в сторону — сабля Арсланбека молнией рассекла лишь воздух. В тот же миг Бекболат направил Елептеса за Вороным, и, когда Арсланбек начал разворачиваться для новой атаки, клинок Бекболата, опущенный сильной рукой джигита, чуть ли не до пояса располосовал его. Бекболат поскакал на помощь друзьям, а по полю битвы метался Вороной с застрявшим в стременах Арсланбеком. Увидев убитым своего командира, муртазаки дрогнули и в панике стали отступать. Их настигали конники Бекболата и точным ударом клинка одного за другим снимали с седел. Только части врагов удалось спастись. Они во весь опор неслись на соединение с отрядом Кабанбека. Конники Бекболата преследовали их. А тем временем к сотне Кабанбека присоединился отряд черкесского князя Герея, шедшего с гор на помощь белоказакам. Изрядно поредевшая в бою с Арсланбеком сотня Бекболата, с ходу ворвавшаяся в расположение врага около горы Яман-кая, оказалась в стальном сабельном кольце противника. Но Кабанбек почему-то медлил с атакой.Бекболат орлиным взглядом окинул долину. Он приказал Батырбеку взять несколько конников и, как только начнется бой, прорваться через окружение и скакать с донесением к Балахову в Беломечетинскую. — Джигиты! — обратился к отряду Бекболат. — Не посрамим нашей чести: будем биться, как туры. Умрем, но не сдадимся! Вперед, орлы! Стремительным веером развернулись красные конники и полетели на врага. Бекболат увидел Кабанбека. Его окружало около десятка всадников — личная охрана. На помощь Бекболату поспешили Амурби и вестовой Аратай. Трое вступили в схватку с десятью. Не выдержал враг их стремительного натиска, лихой рубки. Пятеро свалилось с седел под их клинками, остальные качали отступать. — Собаки!.. Трусливые бараны! От кого бежите? За мной! — вопил Кабанбек. Как горный снег под лучами жгучего солнца, таял отряд Бекболата под сверкающими сабельными ударами намного превосходящего по численности противника. Уже лежал с рассеченной головой на окровавленной земле Амурби. Кружа возле него, пронзительно ржал конь, как бы призывая джигита подняться, сесть в седло и снова ринуться в бой. Но не слышал Амурби ни ржания своего четвероногого друга, ни лязганья клинков. А вот свалился с седла Аратай, разрубленный надвое саблей. Один за другим ложатся замертво в яростной схватке красные орлы. И теперь уж на одного джигита приходится по десятку врагов. Но не сдаются, рубятся до последнего дыхания. Девять раз сшибались грудью кони Кабанбека и Бекболата, девять раз скрещивались сабли. Вот Бекболат вскинул клинок для верного удара. И рухнул бы Кабанбек, да вдруг рука Бекболата опустилась как плеть от удара пули в плечо, пущенной из карабина князем Гереем. И теперь Бекболат рванул коня, чтобы уйти от сабли Кабанбека, и, может быть, сумел бы пробиться к уцелевшей горстке своих джигитов, отчаянно рубившихся у подножия Яман-кая, да вторая пуля настигла Елептеса. Бекболат едва успел освободиться от стремян и тотчас оказался в конном кольце врага. — Не сметь! Живым взять! — ревел Кабанбек. Бекболат огляделся вокруг: там и тут недвижно лежали его джигиты. Ни один из них не сдался живым. Кабанбек злорадно улыбался: сейчас он прикажет привязать красного гяура арканом к седлу и вести в Кобанлы. Пусть смотрят аульские бунтовщики, что ждет каждого, кто поднимет руку на законную власть! Проведут по аулу, сгонят на площадь кобанлычан и у всех на глазах вздернут большевистского гяура на сук. Их взгляды встретились. Долго не отводил глаз Бекболат, пока Кабанбек не отвел свои. Муртазак и сейчас не смог выдержать острого, непокорного взгляда бывшего батрака. Бекболат посмотрел на Елептеса и тихо сказал: — Прощай, верный друг! Он вскинул голову — прямо перед ним возвышалась Яман-кая, где он собирал свою первую боевую группу и где еще мальчишкой с Батырбеком, Исой и Амурби играл в благородных абреков, заступников бедных и обездоленных. Двое из них пали: один лежит под Ивановкой, другой — тут, у подножия Яман-кая. А сумел ли добраться до Балахова Батырбек? С Яман-кая хорошо виден аул Кобанлы. И в эти последние минуты ему захотелось взглянуть на родное селение, попрощаться с ним. — А ну, дай дорогу! — крикнул Бекболат муртазакам. Те вопросительно уставились на своего начальника. Кабанбек ухмылялся: он знал, что с Яман-кая, кроме этой тропы, другой дороги нет, и пленный никуда не денется. — Дайте… Пусть идет! — приказал Кабанбек. Зажав ладонью рану, из которой бежала кровь, Бекболат, превозмогая боль, взобрался на вершину скалы. И только теперь Кабанбек догадался о его замысле. — Взять! Схватить! — заорал он. Бекболат окинул зорким взглядом аул, увидел свою саклю, почти скрывшуюся в бурьяне, домик тети Кеусар, саклю Камая. На миг ему показалось, что он видит на крыльце Салимат. Она стоит в том же цветастом ситцевом платье, в котором он встретил ее впервые у родника с кувшином воды. — Салимат! — крикнул он, чувствуя, как от потери крови темнеет в глазах. Жамбай уже изловчился, чтобы схватить гяура за черкеску, но Бекболат вдруг взмахнул здоровой рукой, будто орел с подбитым крылом, и ринулся в пропасть. Жамбай подполз к обрыву, глянул вниз. Там далеко-далеко темнела на белых камнях распластавшаяся человеческая фигура. У муртазака закружилась голова, засосало под ложечкой, и он попятился назад.
Гудела земля под подковами бешено скачущих коней. Ветер свистел в ушах припавших к седлам всадников. Гулко стучали горячие сердца, полные ненависти к врагу. Скорей, скорей на выручку товарищей! Впереди скачет на огненно-рыжем коне Батырбек. По правую руку его недавно прибывший в полк Балахова Маметали Капланов. Скорее, скорее!.. Впереди уже видна Яман-кая. Враг, кажется, заметил красных конников, начал перегруппировку, чтобы занять удобную позицию. Нет, это не перестройка рядов — противник уходит в горы. Батырбек выхватил саблю: — За мной! И отряд поскакал наперерез врагу, перехватил его у самого входа в ущелье. Еще не видели предгорья такой яростной сечи. Сшибались кони, звенели сабли. Гремели выстрелы. Рвались гранаты. Потерявшие коней схватывались врукопашную. Окруженный муртазаками, Кабанбек трижды пытался прорваться в ущелье, но каждый раз его оттеснял Маметали с группой джигитов. Оба понимали — это их последняя встреча, последняя схватка, последний смертный бой. Все плотнее прижимал Маметали врага к отвесной скале, все у́же становилось сабельное кольцо вокруг Кабанбека. И наконец, прижатые вплотную муртазаки побросали сабли и, спешившись, подняли руки. Весь обмякший, Кабанбек грузным мешком сполз с седла. — Взять под охрану! — приказал Маметали, а сам ринулся в гущу сверкающих сабель, где красные конники во главе с Батырбеком теснили отряд Герея.
Маметали узнал о гибели Болата. Трясущийся от страха Жамбай показал, где лежит его тело. Батырбек спустился в пропасть и с невероятным трудом поднял останки друга к подножию Яман-кая. Саблями вырыли могилу, опустили тело. Один за другим подходили бойцы проститься со своим боевым товарищем. Когда над могилой поднялся холмик, раздался прощальный салют, а вслед за ним команда: «По коням!» Джигиты вскочили в седла и в маршевом порядке двинулись по долине. Их путь лежал в аул Кобанлы. А над скалой, распластав могучие крылья, парил горный орел, словно и он отдавал почести джигиту, не знавшему страха в борьбе с врагом.
Горные ветры обдувают Бекболат-кая. Солнечный луч высвечивает на ее отвесном склоне высеченную надпись:
ДЖИГИТ УМИРАЕТ — ПОДВИГ ЕГО ОСТАЕТСЯ!
Проходят, проезжают путники, на минуту останавливаются около Бекболат-кая, в почтительном молчании склоняя перед могилой голову.

 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

Последние комментарии
5 часов 6 минут назад
5 часов 13 минут назад
5 часов 23 минут назад
5 часов 29 минут назад
6 часов 58 минут назад
7 часов 1 минута назад