Восточные сюжеты [Чингиз Гасан оглы Гусейнов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Восточные сюжеты
МАГОМЕД, МАМЕД, МАМИШ Роман
СО СНОВИДЕНИЯМИ, ИХ РАЗГАДКОЙ, С НАИВНЫМИ СИМВОЛАМИ, СКАЗОЧНЫМ ГРОТЕСКОМ, СЕНТИМЕНТАЛЬНЫМИ ОТСТУПЛЕНИЯМИ, С ЭПИЛОГОМ, ПОХОЖИМ НА ПРОЛОГ, — В СОБСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ АВТОРА С РОДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НА РОДНОЙ РУССКИЙ
Мамиш написал сразу два письма, так у него заведено давно, еще с армии: в Ашхабад, где у него уже три сестры, родные лишь по отцу, и в поселок Кулар, откуда мать прислала фотографию, в Якутию. И отцу и матери он сообщил, что перешел — а вдруг забыли? — на четвертый, сдав последний экзамен по «Бурению нефтяных скважин»; был вопрос: «Сущность вращательного бурения»; по книжке это очень просто: в скважину опускается долото, оно крепится на бурильной трубе, верхней рабочей трубой квадратной формы снаружи, передается вращение от двигателя к бурильным трубам, через них же в скважину закачивается глинистый раствор; Мамиш видит это с закрытыми глазами, а его и слушать не хотят, ясно, студент ведь особый, практик, на Морском работает; а Мамиш свое: вглубь и вглубь. А расскажи как не по книжке. «А вы видели горящее море? Нет?..» Комиссия думает, что Мамиш расскажет им, а Мамиш руками разводит: «Я тоже, увы, не видел; вернее, к счастью!» А было накануне приезда Мамиша в Морское — рядом со дна стала бить нефть, смешанная с газом и водой; Сергей рассказывал; и тут же частицы грунта, ударяясь о стальную арматуру, высекли искры, мгновенно возник пожар. Горящий фонтан выбросил арматуру в море как щепку, тяжелые рваные осколки, как снаряды, полетели на сотни метров по эстакаде. «Вот, смотри!» — показал ему Сергей тяжелый осколок: металл был отполирован бившим со дна песком до блеска… Пожар полыхал свыше двух недель, его удалось сбить взрывной волной. Когда Мамиш приехал сюда работать, фонтан еще бил. «А вы слышали, как ревет фонтан? Сверлящий уши гул!..» Мамиш видел этот фонтан: в небо бьет гигантский коричневый столб, море под эстакадой бурлит и кипит, лавина нефти, смешанная с землей, ударяясь об установленный над основанием заградительный щит из тяжелых толстых бревен, с шипением разбрызгивается по сторонам; на буровой площадке стоит несколько тягачей и пожарных машин; и вокруг далеко-далеко тянется, расползается нефтяной покров, похожий на крокодиловую кожу; и каждую минуту может вспыхнуть новый пожар; брандспойты с семи точек бьют и бьют по фонтану; загорись он — и будет гореть море; единоборство человека и стихии. И люди победили. Вот как не по книжке!.. Письма, похожие, как два инжировых листочка, сложил, заклеил Мамиш. Вышел на балкон, взглянул на двор, узкий и полутемный, как колодец. Однажды Мамиш поймал редкого здесь, в их доме, гостя — солнце, с помощью увеличительного стекла оставил на перилах балкона свой вензель, а рядом — Р, ясное дело — ее имя. От балконных перил шел легкий тонкий дымок, пахло сухой горелой доской. Первая стрела, как у многих, ударилась о камень, но другие уже стерли с губ под усиками горечь несбывшейся любви, обрели ее пусть не первый, но не менее сладкий вкус у иных подруг, а М по-прежнему предан только Р, хотя от нее остался лишь обожженный кругляшок на кривой палочке. Мамиш ехал домой после демобилизации и ранним утром в Бресте в ожидании состава, который переводили с узкой колеи на широкую, вдруг услышал родную речь. «Из Баку?» — спросил он. «Да», — ответила одна, недовольно повернув к нему голову. Но Мамиша так обрадовало это давно не слышанное «да», что он тут же спросил снова: «Студенты?» Та собралась было обрезать его и прекратить все разговоры, но осеклась: ее поразила по-детски наивная улыбка рослого парня в солдатских сапогах и гимнастерке с широким ремнем. «И студенты есть… Будущие!» — и даже улыбнулась. Ясные, чистые голубые глаза, волосы медные горят и переливаются под солнцем. И с такой нежностью и мелодичностью произносит азербайджанские слова, что Мамиш готов слушать и слушать всю дорогу, что он, кстати, и делал, весь день проведя в их купе. Она с золотой медалью окончила школу, почти студентка турецкого отделения восточного факультета! Год удачный, интересная поездка в Брест с одноклассниками, и даже поклонник со странным именем Мамиш. «Можете звать меня Мамиш». — «Что это, Мамед?» — «А вы зовите Мамиш». В Москве Мамиш специально пришел проводить их на Курский вокзал, и она помахала ему из открытого окна вагона, и Мамиш уже жалел, что взял билет в Ашхабад и не едет с нею в Баку. Он дважды приходил в университет и на турецком отделении среди первокурсников ее не нашел. А потом случайно встретил. «Я вас искал». А она возьми да уколи: «Еще скажете, что из-за меня уехали из Ашхабада!» Куда девалась ее уверенность? «Поступите на будущий год… А я вас действительно искал». В саду Революции, за филармонией, как-то повстречался им Хасай, дядя Мамиша. «Непременно поезжай в Баку, сделай, как мама велит. Хасай тебе во всем поможет. Там моя комната есть». И тут на глазах растерянного племянника его дядя изменился: в голосе появилась вкрадчивость, в глазах ласкающая, притягивающая теплота. Мамишу даже страшно стало за Р, и он мгновенно понял, что может потерять ее. Она тоже почему-то растерялась, но быстро справилась с собой и, аллах знает, как ей это удалось, сразу же уловила избранный Хасаем тон, подстроилась под него. Хасай говорил о сущих пустяках, но с такой доверительностью и проникновением. Холодный озноб прошиб спину Мамиша. У Хасая умелая хватка. Он обволакивал, будил в девушке непонятные ей самой чувства. То, что Р понравилась, было приятно Мамишу только в первое мгновение. Но тревога не покидала его все последующие минуты, пока они стояли в тени деревьев сада Революции. Приятно, что выбор был одобрен, но страшно, что ты ее, оказывается, не знаешь, что ее могут на твоих глазах в ясный день при людях смутить, взбаламутить. Мамиш думал, что за месяц-другой узнал ее, а тут на лице растерянность, робость, какое-то оцепенение сковало, и она долго потом оставалась рассеянной. Хасай, говоря с нею, отключил Мамиша, как-то изолировал Р, погрузил в свой, только для них двоих созданный микромир. А через несколько месяцев Хасай спросил: — Чего не женишься, Мамиш?.. Да, кстати, я тогда тебя в саду Революции встретил, видитесь? И прежняя тревога зашевелилась в Мамише. Ему вспомнились и взгляд Хасая, и бархатистые нотки в голосе. Мужественное, властное лицо, руки, знающие нечто интимное и запретное. Да, это он, Хасай, разбудил в ней такое (значит, было что будить, а Мамиш не сообразил), что она не захотела больше видеть Мамиша. Открыв ее для себя, Хасай закрыл ее для Мамиша. Может быть, он и преувеличивает, но именно это стало ему отчетливо ясно в тот момент, когда дядя вдруг невзначай вспомнил: — Да, кстати, где она? у тебя!.. Они и не ссорились вовсе — разошлись, забыв назначить день следующей встречи. И все. Просто и ясно, как с тем закрывающимся с последним лучом солнца листком странного дерева, под которым они потом сидели. Хасай закрыл Р на ключ и ключ в карман. Ищи-свищи теперь тот ключик. — Жаль, жаль, — задумчиво произнес Хасай, видя, что племянник молчит. — Хорошая девушка, по-моему. тебе лучше знать!.. «А я тебя искал». Неужели и с нею — как со всеми? Надо было, как со всеми? — Что с тобой? — Ничего. — А сама, как в лихорадке. — Малярия у тебя? — Какая малярия?! — И злость в голосе. — Может, обнять тебя? — Попробуй. — Взял за руки, а она дрожит. Прижать к груди? Но такая хрупкая. Руки никак не решались. Еще обидится. — Не простудилась? — Нет! — резко ответила и встала. — И провожать не надо! — Осунулась, бледная. А матери, как только дочь придет домой, и спрашивать не надо: «Уж не влюбилась?» Она и не спрашивает, только советует: «Тебя каждый полюбит, а ты не увлекайся!» Встала и ушла, а Мамиш сидит ошарашенный: «И провожать не надо!» А потом: «Иди же, что ты стоишь?» — крикнула она ему. Он к ней, а она как увидела его рядом, снова раздражение в ней поднялось. «Не провожай!» Договорились идти на пляж. «А как же завтра?» Он прождет ее, позвонит без толку домой к ней, простоит у ее дома до полуночи, недоумевая, где же она, и уйдет, отойдет, отдалится от него Р. На террасе над садом прохаживается милиционер. Остановился, смотрит сверху на одиноко сидящего человека, а ну как спросит: «Эй, молодой человек, что вы там делаете?» Когда сидели вдвоем, и милиционера не было. В поезде кто-то на нижней полке рассказывает, а Мамиш лежит на верхней, смотрит на пробегающие чахлые деревца, а поезд мчится все дальше и дальше на запад, к границе. «Они и сами не любят, когда церемонятся», — назойливо говорит тот, внизу. И Мамиш вспоминает, как в первый раз, во тьме, ни лица не запомнил, ни глаз. Только голос: «Ну?!» Ни волнения в голосе, ни нетерпения. «Иди же!» И потом: «А ты очень впечатлительный». «Хасай тебе во всем поможет, — писала Тукезбан Мамишу по адресу «полевая почта». — Возвращайся непременно в Баку». Путь домой был кружной, через Ашхабад. И Хасай помог. Очень хорошо помог. И встретили его, и на работу он устроился, а еще через неделю Хасай пир закатил в честь Мамиша: «Всех друзей позови!..» А потом позлорадствовал, но безобидно: — Это тебе не кязымовское угощение! — Хасай еще в первый раз, как встретился с Кязымом, невзлюбил его. А теперь тем более — родную его сестру, Тукезбан, оставил, хотя не поймешь, кто кого оставил, Тукезбан такая упрямая, не договоришься с нею. отца моего не трогай, не надо! — Ну что, — улыбается Хасай, — верно я говорю? Это тебе не кязымовское угощение: мясная тушенка в ржавой банке и походный котелок!.. — Чего спорить с Хасаем? И младший дядя, Гейбат, вслед за Хасаем: — Ко мне давайте, у меня двор большой, на всех места хватит, всех друзей своих позови! Хасай прослезился — какие у него братья! И сын красавец, и племянник — их стать, их кровь! Сегодня Гейбат угостит, завтра Ага, средний брат, а над всеми над ними — он, Хасай, всем за отца. Мамиш пригласил свою бригаду. — И это все?! — на лице Гейбата, всегда таком неподвижном, застывшем, изумление. Мамиш растерялся. — А что? Мало? — Да нет, — пожал плечами Гейбат. — Я думал, дюжины две пригласишь… Но лучше меньше, зато настоящие друзья! Ничего, — успокаивает Мамиша Гейбат, — располагайтесь как дома, гость — самое дорогое для меня!.. И уже отброшен нож с темным сгустком. Даже издали чувствуется липкость крови, и шкурка барашка белеет, красная полоска на шерсти. — Ну как, сын Кочевницы, доволен? — Хасай кладет руку на плечо племянника. — Пировать так пировать. Это тебе не кязымовское угощение! при чем тут отец?! И Мамиш вспоминает, как мать упрекает Кязыма: «Да разве так мясо режут?! Ты бы у Хасая или Гейбата поучился!» — «У Хасая! У Гейбата!» — передразнивает Кязым… Это Кязым и Тукезбан в честь сбора семьи решили в Ашхабаде приготовить шашлык. «Кто же так режет мясо? А ну-ка отойди!» И ловко, быстро — раз, раз, раз и куски мяса не крупные, но и не мелкие. А потом в Якутии пировали в честь Мамиша. «Эх, в Баку бы сейчас!..» — размечталась тогда Тукезбан. Но Кязыма на сей раз не ругала, потому что один запах шашлыка чего стоит!.. И дым ест глаза, но комары не кусают. — За великий народ в лице Сергея! — говорит Хасай. — Я только верховой! — щеки у Сергея красные, уши горят (станет его слушать Хасай, сказал — выпили). — За мудрый народ в лице Арама! — Это Ага. — Он у нас моторист. — Мамиш доволен, что вся бригада здесь и угощает их его родной дядя. — Тем более за него, раз моторист! — И корреспондент, — тихо добавил Гая, их мастер. — Тем лучше, поможет когда надо! — Тоже Хасай. — Пропагандист Морского! О винограде на привозном песке, о выставке роз на нашем нефтяном острове и так далее! — Это Мамиш, а потом шепчет Хасаю: — Надо бы и за мастера, за Гая! — Знаем, знаем, но Гая подождет, он наш! — У Хасая свои соображения, тем более что людей — раз-два и вся компания, он и не такие застолья вел. — За наш Дагестан! — Ваш, да наш! — вставил Расим, и в больших глазах у него и удивление, и вызов, и ожидание ответного удара, и готовность спорить. А Хасай уже забыл о Расиме. — И за мастера Гая! — Это мы его так прозвали. А зовут его Дашдемир Гамбар-оглы — Камень-Железо, сын Булыжника. — Гая — это скала, и к имени идет, и облику под стать! — Почитатель ансамбля «Гая», поэтому. — Не только! Скальной породы ваш мастер! — И за Селима, бурильщика, чтоб до самого дна бурил. И за Мамиша, конечно. — Нет, такого я еще не ел! — отвалился от стола Расим. А уж он в армии съедал двойную норму и все равно голодный ходил. Последний шампур тому, кто жарил, — Гейбату. — Ну, кто следующий пир закатит? — спрашивает Хасай и смотрит на Агу. А сам уже решил, кто. — Ну уж Ага нам что-нибудь придумает без крови и кинжала, дикость какая-то… Да вымыл бы кто-нибудь этот кинжал, черт возьми! — крикнул Хасай. И тут же из дому выбежала Гумру, жена Гейбата, и нет уже кинжала со сгустком темной массы, скрылась в доме, откуда доносится звон посуды. — А я и не знал, что она у тебя такая быстрая! — Это не она быстрая, а твой голос прозвучал! — сказал Гейбат. — Ты нам как отец родной! — Это Ага. — Ладно, ладно, не хвалите, перед ребятами неловко. — А пусть ребята слышат, какой у Мамиша дядя родной! — Как не гордиться Мамишу? Крепко прижал Хасай к груди Мамиша. Прикоснулся, и сразу будто та же кровь слилась воедино, до того физически ощутимо родство. И Гюльбала тут же, рядом с Мамишем, двоюродный брат его. И течет, соединяя их всех, кровь. — Ну так кто же? Ты? И Ага на балконе у себя шашлык выдал. И правда, без крови. — Отличные у тебя дяди, Мамиш!.. Особенно Хасай. — Это Арам еще у Гейбата сказал. Два сына Гейбата песком очищали шампуры, отгоняя от себя самого младшего брата. На нем юбка вместо брюк. До приезда Мамиша, в начале лета, самому младшему обрезание сделали, и он обвязан цветастым полотном, пока не заживет ранка. — У нас скоро свадьба одна за другой пойдет! Сначала Гюльбала, потом Мамиш. Или ты раньше Гюльбалы? Что ж, и это можно, уже подрастают сыновья у Аги. И Гейбата. Шутка ли — если каждый год по свадьбе, — двое у Аги, плюс четверо у Гейбата! и первый в этой цепочке ты сам, с тебя и начнем! — Ну да ладно!.. За вашу интернациональную бригаду!
Так грохочет мотор и вращаются трубы, что буровая дрожит под ногами. Шум, лязг металла, надо кричать. — Опять идут! — в ухо Гая кричит Мамиш. — А ты не смотри, делай свое дело! — спускаясь по наклонному деревянному настилу, Гая идет навстречу гостям. не поскользнись, а то опозоришься! Начальник промысла размахивает рукой, что-то объясняет гостям, приехавшим издалека, показывает на буровую, а потом и дальше, в открытое море, на острова-основания. Смуглые худощавые гости в перламутровых зеркальных очках, кубинцы, наверно. И Гая стоит поодаль, руки в карманах куртки. Вся группа направляется к ним, поднимается по липкому настилу. — Это у нас интернациональная бригада! — кричит начальник. — А ну-ка отойди! — это из сопровождающих. Он снял свой светлый пиджак, отдал начальнику промысла, чтобы подержал, а сам Мамиша теребит, мол, снимай робу, отойди. И гаечный ключ у него берет. — Что вы, Джафар-муэллим, ну зачем? — останавливает его начальник. — Нет, я должен! — И Мамишу: — Дай закреплю! — и крепит трубу. Пыхтит, но получается. — Эх, силы уже не те!.. — Мамиш слышал от Хасая это имя. Неужели он, тот самый, высокое начальство Хасая? Джафар-муэллим пожимает руку Мамиша, возвращает ему ключ и робу. Сели в две машины, уехали. — О тебе спрашивал, — говорит Гая Мамишу. — Кто? — Наш начальник. — С чего это? — Как же, друг Хасая, о его племяннике печется. — А насчет труб ты сказал ему? — Даст взбучку, чтоб не задерживали. При Джафаре-муэллиме сказал. И переводчику: «Вы им не переводите!» В машине начальник повернулся к Джафару-муэллиму: «Знаешь, чью куртку ты надевал? Племянника Хасая!» — «Что ты говоришь?! Широкие брови, как у Хасая». Мамиш недоверчиво смотрит на Гая — когда он успел сказать? — Буровая не может ждать! — А почему ты молчал, когда робу свою давал? Сказал бы! и скажу!.. А когда ехали в машине, в грузовике в общежитие, Расим покачал головой: — Красавец наш начальник! — С лауреатским значком! — Ишь ты, сверху углядел? — Селим у Сергея спрашивает. — И я сразу увидел, на солнце горит. Массивное кресло оскалило свои львиные пасти-ручки. Старинное, высокая спинка с резным гербом, как трон. Парчовая обивка золотыми нитями прошита, позолота в углублениях деревянной резьбы тоже кое-где сохранилась, а на сиденье обивка стерлась, дыры, никто уже не садится, больно потому что. (А сядешь — пружинами ржавыми покряхтит и ждет, когда встанешь, чтоб крякнуть еще.) Стоит, никак не развалится. — Мамиш, ай Мамиш, а тебя Гюльбала ждал, ждал… — Это мать Гюльбалы, Хуснийэ-ханум… Тихо, двор будто вымер, а голос в ушах. не дадут даже переодеться! — Задержались, работа была тяжелая. — Знаю, а как же?.. Но ты пойди, он очень просил, — повторяет она, — долго ждал тебя Гюльбала, очень долго. дай хоть чаю попить! Как ей рассказать? Болят мышцы, ноги гудят, спать, спать… Буровая барахлила, тяжелый пласт, давление росло и росло; потом бур заклинило, пока они раствор вкачивали; опасно, когда давление растет, очень опасно; может, как на соседней буровой… Море от толстого нефтяного слоя как в крокодиловой коже. Заклинило бур, схватило, Мамиш и так и сяк, на ручку тормоза всей силой давит — никак не высвободить бур, будто пригвоздили ко дну. Что там, в глубине? Час бились. А как удачно провели первое наклонное бурение!.. Писали газеты, передавали по радио, телевидению, показывали в киножурнале… Мамиш на фотографиях вышел плохо, если бы не перечислили имена, доказывать пришлось бы, что это, мол, я за Гая стою. Смещенное лицо, будто одно наложено на другое, и оттого нет четкости во взгляде, весь облик расплывчат и неясен. Даже «Правда» о Гая рассказала, а тут… Хитрый же Гая! И везучий. Нефть под глубокой водой — до нее не доберешься, если бурить прямо, сверху, потому что нет еще оснований для глубоководного бурения. Вот и сообразил Гая, хотя наклонное бурение до него придумали, но то на суше, а здесь море; да еще с таким отклонением! Впервые в мире! Раньше американцев! Прямо не доберешься, а мы наклонно, сбоку, неожиданно для пласта. Он же дикарь, этот пласт. К нему надо умеючи подойти, стратегия ясна, а тактика — это талант, интуиция; и не каждому это дано; если напрямую не возьмешь, схитри, придумай, черт бы тебя побрал, посиди, мозгам дай пошевелиться, если, конечно… И наклоняет, наклоняет он трубы… Первое бурение прошло успешно, и Гая взялся за второе; пусть бы другой, хватит судьбу испытывать — и слава есть, и уважают, и деньги большие всей бригаде выпали, — так нет, взялся Гая еще бурить, с наклоном, правда, чуть меньшим. А тут заклинило! Скандала не оберешься!.. Но главное — спокойно, без паники. Как это не слушаются недра? А мы этот бур сейчас… «Отойди-ка, Мамиш!» Гая отодвинул Мамиша, и сам не знает, как ему удалось высвободить бур, чутье какое или что еще? Много времени потеряли, но обошлось, и давление стало нормальным. — Ладно, пойду. Кресло сначала было в большой комнате, где Хасай жил, перекочевало потом в среднюю, комнату Аги и Гейбата, потом в комнату Теймура, еще в одну и — в самую маленькую, ту, о которой Тукезбан Мамишу писала («Там у меня комната есть, живи в ней, она теперь твоя»). Мамиш вынес кресло на балкон: и место занимает, и толку никакого. Любил в нем сидеть Гюльбала. Кресло это — их прадеда Агабека, отца их бабушки Мелек-ханум. Сидя в кресле, Гюльбала сказал очень обидное Мамишу. Весь утонул в нем, голова чуть ли не на уровне ручек, в выпуклые гладкие глаза львов пальцами тычет. «Мой отец лучше твоего». Мамишу обидно, но он молчит. Гюльбала у них на улице самый сильный, заводила. «А ну за мной!» — и все бегут за ним на соседнюю улицу, где драка с «чужими», и те, конечно, по дворам разбегаются, станут они связываться с Гюльбалой!.. Стоит он, ребята вокруг столпились, и Гюльбала рассказывает, как мушкетеры дерутся… Потом Мамиш прочел, видит, многое он присочинил, не так было. Расскажет, потом плюхнется в кресло, будто он и есть мушкетер, к ним в Баку приехал, устал после боя, сел отдохнуть. Сидит, сидит, вдруг вскакивает, уходит в комнату и зовет Мамиша: «Иди сюда! — Достает из буфета высокую бутыль вина. Никого нет. — Хочешь? Это моему папе привезли. Давай…» Наклоняет бутыль, и густое вино льется в кружку. К ним без конца несут и несут, по коридору топают и топают люди в сапогах, чарыках, галошах, кепках, папахах каракулевых, шляпах. «На, пей». «Ты сначала». «Боишься? — и одним махом полкружки. — Теперь ты», — говорит хрипло уже. И Мамиш пьет. Сладкое и обжигает. И снова Гюльбала в кресле сидит. Многое от него впервые Мамиш услышал. И не только про мушкетеров. Гипнозом увлекся. Вольф Мессинг и Кио. Однажды даже пытался Мамиша усыпить. Усадил в кресло и давай ему в глаза впиваться взглядом, и пальцы — будто лапа коршуна. «Спи!.. Спи!.. Ты хочешь спать!.. У тебя тяжелеют веки, ты закрыл глаза!..» Мамиш закрыл глаза, но спать ему не хочется, и он, конечно же, сколько бы Гюльбала ни долбил «Спи!..», не уснет. Только бы не расхохотаться, а то обидится. Приятно даже — сидишь в мягком кресле, отдыхаешь. «Уф, жарко! — говорит Гюльбала, видя, что «опыт» не удался. — Толстокожий ты, тебя не берет». — «Не умеешь, вот и валишь на меня». — «Это я не умею?» — вскипает Гюльбала. Но «опыт» не повторяет. А потом стоят они, Мамиш рядом, и Гюльбала, их вожак, вожака другого квартала «разоблачает». Это Селим из Крепости, как его называют, гроза города. Но откуда Гюльбала знает, удивляется Мамиш, что Селим в милиции дал «твердое слово»? Исчез, будто лечился в больнице от ножевой раны, а сам трусливо прятался… И Гюльбала, доказав, что Селим вовсе не вожак и не человек даже, может делать с ним — это неписаный закон блатного мира — все что захочет. И Гюльбала не спеша достает бритву («Неужели?..» — у Мамиша захватило дыхание) и полосами разрезает шелковую рубашку «врага»; лезвие иногда касается тела, и Селим вздрагивает, но молчит. Одна полоска, другая, много полос уже, и тот уходит посрамленный, и ленты рубашки развеваются, треплются на ветру. — Ты зачем его так? — Гюльбала недоуменно смотрит на Мамиша. — Зачем? — А ты бы тогда, когда я бритвой… Вышел бы и защитил! — И ты бы перестал? — Я нет, но чего держать слово за пазухой? «Зачем?» — передразнил. — Другой бы на моем месте кровью его лицо залил, а я только царапины на спине! Видел, как вздрагивал? Больше не сунется! Когда Мамиша определили в бригаду, где уже были его друзья, почти братья, Сергей и Расим, вместе ведь служили, вдруг он Селима встретил, того самого, из Крепости. Мамиш Селима на всю жизнь запомнил, а Селим нет, он тогда, кроме Гюльбалы, никого не видел и не слышал. Селим казался Мамишу страшным и жестоким, от него можно ждать всего. И очень за жизнь Гюльбалы опасался: Селим ведь прирезать может!.. Мамиш разволновался, жарко ему сразу стало… Долго не решался рассказать, а потом не выдержал, когда ему показалось, у Селима хорошее настроение было. Селим никак не мог поверить, что Мамиш — двоюродный брат Гюльбалы. В эту минуту Мамиш заново пережил то старое чувство страха, когда взгляд Селима на миг помрачнел и бледность придала смуглому лицу серый оттенок. Но неожиданно для Мамиша Селим отрезал от себя старое, поморщился. «Спасибо ему, на всю жизнь отучил!.. И сам, по-моему, бросил!.. Обидно только, сколько времени и сил ушло!.. Дикие мы, Мамиш, ой, какие дикие!» …Тихо, двор будто вымер. Блеяли овцы, кудахтали куры, и шли, и шли мимо окна Мамиша люди к Хасаю. И чаще всех хромой один. Идет, палкой стучит по деревянному полу балкона. Тук-тук, тук-тук… И во всю мощь звучал огромный, как сундук, приемник, трофейный. Лилась и лилась музыка. «На дереве яблоко созрело, спелое, сорву и любимой в дар понесу…» Разрывались стены, дрожали окна. — Я сам женю вас! И Гюльбалу, и тебя, и всех своих племянников. — Хасай обнял Мамиша за плечи. — Кстати, где та, я как-то вас видел, Мамиш!.. тебе виднее, где она!.. сам знаешь!.. И Гюльбала здесь, он о чем-то задумался. «У тебя уже седые волосы, Гюльбала! — вздыхает Хуснийэ, и глаза у нее слезятся. Она прижимает голову сына к высокой груди и будто убаюкивает его. — Мой Гюльбала, отчего у тебя так рано поседели волосы?! Да умереть мне, чем видеть эти седые волосы!» Двор будто вымер. Мамишу надо спешить, уже ждут его. Быстро сошел по каменным ступеням, прошел мимо низких полуподвальных комнат, откуда часто высовывался Гейбат и кричал Хуснийэ: «Какого? Рогача?» — «Нет, пока не надо, это к празднику», — звонко отвечала молодая Хуснийэ. И выволакивал Гейбат в середину двора другого безрогого барана, тяжелого, с отвисшим курдюком. И уже отброшен нож и полоски красные на шерсти. С улицы еще не убрали чан. Чуть ли не каждое лето приглашаются кирщики, латают давшую течь плоскую крышу, покрытую вечно трескающимся киром. На улице устанавливается громадный чугунный чан, в него валят старый кир, разводят костер, и черный дым с хлопьями копоти и едким запахом гари несется и стелется по всему кварталу. Растопленный кир ведро за ведром втаскивается с помощью веревки и блока на крышу, заливается в щели, и так до следующего раза, пока крыша в скором времени от ветров, влаги и солнца снова не начнет трескаться и течь. А как потечет да еще задождит — хоть переезжай отсюда; ступить некуда, пол заставлен медными кувшинами и тазами: где струей льется, где капли падают. В комнате Мамиша нет даже окна на улицу, единственное окно смотрит на балкон, да еще дверь наполовину застеклили, может сойти за окно. Света на балконе мало… Строили в старину, скупились, что ли? Те, конечно, у которых фонтанировали скважины, приглашали кто итальянских, кто французских или немецких зодчих, и те возводили дома с тончайшими высокими колоннами — эти дома неподалеку от углового, в одном Дворец бракосочетаний, где толком еще ни один из Бахтияровых не справлял свадьбу, а в другом резиденция Президента, с которым Мамиш лично не знаком. Бакинская бабушка Мамиша Мелек-ханум была дочерью именитого, но обедневшего бека, а бедный бек, известно, живет хуже нищего, потому что ни к чему не пригоден и носится с родовым своим именем, как с ссохшимся бурдюком, пока не придет голодная смерть или не спасет чудо. Чудо пришло к Мелек, об этом — в свое время. Куда же спешит Мамиш? Будто сбросил он с плеч давящий груз и надел, сняв с вешалки, крылья, помахал ими, и не угонишься теперь за ним. Завернул за угол, широко шагает… А о тяжести груза я вспомнил не зря: бакинский дед Мамиша исходил город вдоль и поперек, сколько грузов на горбу перетащил; кто скажет «амбал» — носильщик, а кто — «пехлеван», богатырь. Когда он усталый шел домой, люди, глядя на его могучую спину и большие руки, языками цокали и головами качали… Порой так крутанет штурвал корабля, с которым схож угловой дом, аж мачта затрещит, и, смотришь, бекскую дочь-красотку бросило в объятия обыкновенного амбала. Но Мамишу некогда. Он вмиг перепрыгнул через ступени, сотрясая дом. Давно оставлены кованые железные ворота. Мамиш спешит. Он как вихрь, как выпущенная стрела, как пуля, и не догонишь его.
ГЛАВА ВТОРАЯ — рассказ о пире мужчин в микрорайоне и отом, что если бы чудо — быстроходные чарыки — лапти были с нестирающейся подошвой, которые носили в старину влюбленные ашуги, можно было бы переломить хребет дороги. Надежные ослы и быстрые кони. Телеги, которые тащат быки, волы, буйволы. Фаэтоны с тонкими спицами колес… Промчалось такси, но Мамиш не остановил его. Сел как-то, на свидание с Р торопился. Шофер небритый, с круглым упитанным лицом, будто сливы за обе щеки заложил. «Не выключаете?» Шофер наращивает на уже полученные. «Лишнего не возьму», — буркнул с обидой. «Сколько же?» Шоферу будто фокус показали, сонливость как рукой сняло. «Считай, что даром!» Беден, мол, нечего садиться. А Мамиш только недавно демобилизовался. Проехали от Касум-Измайлова — угол Ефима Саратовца до парашютной вышки на бульваре. Опустил ему в карман распахнутой рубашки металлический рубль, и машина рванулась, обдав Мамиша облаком выхлопного газа. Это тебе не тот город, где он служил!.. А вот и автобус. Кружным путем, но надежно. Долго ждали и на других остановках, так что, когда автобус дотащился, он был набит до отказа. Задняя дверь закрыта, все сходят с передней и, спеша выскочить из духоты, бросают пятаки в плоскую широкую кепку водителя. Она и касса-автомат, который то ли заколочен, то ли сломан, она и кассир-кондуктор, которого сократили в связи с автоматизацией. Моток висит над головой водителя, хвост билетов нехотя колышется от дуновения, и до него не дотянуться. Жмут, торопят, жарко и душно. И сыплются пятаки в кепку. Все выйдут, и откроются задние створки, уставшие ждать штурмуют автобус. Попробуй упрекни! «Хо! Напугал! А я и другого твоего дядю знаю, Гейбата! Люблю привокзальный его ресторан». Гейбат крупный мужчина, рука — что труба на буровой, и шея бычья. Одну ногу до колена миной оторвало, вся сила потерянной ноги передалась плечам и шее. И левая рука, держащая палку, раздалась, кулак величиной со спелый арбуз. А как справляется с круторогим бараном: повалил, стоя на одной ноге, свернул ему шею, и уже баранья голова на земле, смотрит удивленно и не поймет, куда тело девалось. А потом глядит, не мигая, на шкуру, и дым щекочет ноздри; но зато какой хаш получится, с золотистым бульоном да с чесночком из этой бараньей головы!.. «Тоже мне законник! Напугал! Ему просто пятака жаль! А водителя не жалко?! Ему тоже иногда хаш поесть хочется!..» Привычные к вместительным кепкам водителей, люди не замечают и действующие кассы-автоматы. Потому что некогда. И строчит конторский служащий из ведомства Хасая: «На данный маршрут согласно проданным билетам выпустить столько-то автобусов». Иначе не пришлось бы Мамишу так долго ждать и он поспел бы в микрорайон на мужской пир вовремя, а не тогда, когда веселье разгорелось уже вовсю. Сначала трудно было войти в автобус, а потом еще труднее выйти. И каждый раз — сколько лет уже прошло! — перед тем как позвонить в дверь, Мамиш собирается с силами: кто ему откроет? Он не хотел бы, чтоб Р. «А, это ты…» Неужели и та, и эта — Р? Именно с того застолья, собравшего всех Бахтияровых и полу-Бахтиярова Мамиша, и началось. Получилось так, что Хасай вспомнил брата, погибшего на войне, Теймура. Кто-то, кажется, Гейбат, сказал, что Октай, сын Хасая и Рены, — вылитый Теймур; было помянуто и яблоко, разрезанное пополам. — Ах, Теймур!.. — вздохнул Хасай. — Вчера, вижу во сне, идет он, а я еле поспеваю за ним. «Куда ты, вернись!» — кричу ему. «Не могу! — он мне отвечает. — Дорога моя длинная, и нет ей конца!» А я за ним, за ним, еле поспеваю. «Что это за одежда на тебе? Солдатские сапоги в пыли, шинель в дырах, за спиной тощий вещмешок…» — «Солдату — солдатское!» — он мне с вызовом. «А где твое ружье?» — спрашиваю. «Вот оно, — отвечает, — разве не видишь?!» Смотрю, палку он мне показывает. «Но это не ружье, Теймур, тебя обманули! Это же посох, обыкновенная кривая палка!» А он смотрит на меня долго-долго, а потом говорит: «Вот когда выстрелит, узнаешь, палка это или винтовка!» Я не могу поспеть за ним, останавливаюсь, чтоб отдышаться, а он идет, идет, не оборачиваясь, я ему кричу вслед, молю — вернись, а он уходит и уходит, все дальше и дальше… Всю ночь проплакал. — Слезы к радости! — говорит Ага. — А разговор с умершим к долгой жизни! — в тон ему Гейбат. У Хасая густые седые волосы, а над энергичными глазами черные лохматые брови, весь, говорят, в Гюльбалу-пехлевана. А у Рены ясные чистые голубые глаза и волосы золотисто-медные, горят и переливаются под лучами солнца, которое вот-вот закатится. Мамиш на Октая смотрит, чтоб Теймура увидеть, да что толку? Тот мужчина, а этот дитя. И вспомнить не может Мамиш, мал был. — Ах, Теймур! Если бы ушел в сорок первом, что ж, все мы ушли, как говорится, защищать Родину, отдавать свой долг. И отдали! — перед кем красуешься? — а хоть бы перед Реной! «Ну да, просвистели над тобой пули! — кричит Хуснийэ Хасаю; крик по коридору бежит, заворачивает раза два и — в окно к Мамишу. — Да! — она не в духе, очередной скандал. — Слышала, как свистят пули в темную ночь!.. А разве нет?» Это когда батальон Хасая перешел границу на Араксе, как писали тогда газеты, «в целях самообороны»; отдельные отрывочные ружейные выстрелы на Араксе стали с годами шквальным орудийным огнем. Бывает же такое, Джафар-муэллим был таким же командиром, как и Хасай, а теперь вот куда его занесло, непосредственное его начальство. Хасай рассказывает, а Джафар-муэллим молчит. «Пусть, кому это теперь важно?» И Джафар-муэллим вспоминает. «Помнишь, Хасай, — это они при Мамише вспоминали, а Мамиш слушал и молчал, — помнишь, как в деревне Келла тебя дети виноградом угостили?» — «А как ты, Джафар-муэллим, уплетал, — позволяет себе напомнить Хасай, забыв на минуту, что перед ним начальство, — холодную довгу (кислый молочный суп с рисом, горохом и зеленью) в жару, когда песок плавился?» — «Где это было? Ах да, в поселке Алучжучи! — вспоминает Джафар-муэллим. — Но, как ты помнишь, мы только помечтали о довге и отказались есть». — «Как можно забыть?» — «Я без тебя тогда ни шагу!» «Хорошо бы и теперь так», — думает Хасай. — Да, — говорит он и гонит, гонит коня по дорогам воспоминаний, — все мы в сорок первом году воевали! Гейбат потерял ногу, Ага, вы знаете, испытал немало бед: плен, болезни всякие. Да пошлет аллах долгую жизнь его брату Хасаю, с его помощью вернулся с незапятнанным именем в родные края, а я хоть и поседел, но все тот же Хасай, рука крепкая, вот она, — поднял кулак, — а в душе, — ладонью ударил по груди, — сколько хотите огня! Но бывает и по-другому, когда взмыленный конь еле-еле на ногах стоит, сердце вот-вот выскочит из груди. «Нет, что ни говорите, а обидно: желаний много, а силы уже не те!..» Хасай стоит перед большим зеркалом на стене, в резной раме оно, с золочеными фигурками, уцелело с бекских времен и привезено сюда недавно из отчего дома, и смотрит на свое отражение, сокрушается, что непомерно потолстел — до пупа и не доберешься, — заплыл. Попадет в гости к Аге, где шафранно-золотой плов, приготовленный искусной мастерицей, женой Аги, или к Гейбату, где осетрина на вертеле, попробуй удержись!.. «Раз уж пришли, пусть насладится плоть!» И с усердием наваливается и на плов, и на эту самую осетрину, и на люля-кебаб, завернутый в нежный лаваш и такой сочный, что не успеешь взять в рот, как надо брать новый, потому что прежний уже растаял. «А что в этом дурного? Кто устоит? Француз? Американец? Видал я их!» Хасай группу сенаторов принимал из Америки, люля-кебабом их угощал; ему перевели: «Мы такого чуда еще не пробовали! Самое яркое впечатление из нашей поездки!» Да, годы уже не те!.. А недавно вдруг — что это за шишка в боку?! И страх пробежал по лицу. И болит немножко, когда надавишь. Но страх появился и ушел. Рена однажды видела — взял Хасай ее настольное зеркало, встал так, чтобы макушку разглядеть, и такая печаль (ну просто ребенок!) на лице!.. К седине, которая красила Хасая, оттеняла его смуглость, придавала облику благородство, изысканность, стала прибавляться (вот горе-то!) лысина, а это уже ни к чему; и она катастрофически росла; только недавно, он смотрел, была с пятак, а вот уже с розетку для варенья, с блюдечко. «Какая досада!» На Хасае туго облегающая светлая батистовая рубашка с жестким, накрахмаленным воротником, который впился в шею, потом останется от него розовый след; Мамишу очень хотелось да никак не удавалось встать и подойди к дяде, сорвать-отстегнуть верхнюю пуговицу, чтобы воротник не жал. Будь они с дядей одни, Мамиш встал бы, подошел бы, как тогда у Аги, вскоре после приезда Мамиша. Они были одни, дяди и Мамиш с Гюльбалой, да еще ребята из бригады; Хасай его обнял: «Красавец мой!» И уколол: «Ну что у тебя общего с Кязымом? Ты — наш, наша плоть! Тукезбан хоть и Кочевница, но осуждать ее не стану, такого богатыря нашему роду дала!.. Всем, всем свадьбы сыграю!.. Всех на ноги подниму!..» Мамиш сидит; никто, видите ли, не замечает, что воротник врезался, а Мамиш, ай да молодец, всех опередил!.. Вот-вот затрещит на Хасае рубашка — от силы, от слов, от гордости, которая распирала: — Если бы встал из могилы мой отец-амбал, который всю жизнь таскал чужие грузы, носил полные ящики, хурджины, мешки, разгружал корабли, ни разу вдосталь не отоспался, и не насытился, если бы… — да вот же он, отец твой, смотри — вошел! — где?! — Не видишь разве? вот же он! «Салам-алейкум!» — говорит. Усы торчком, лицо щетиной обросло. Папаху пыльную, мохнатую, с мельницы, что ли, на хрустальную вазу надел. «Ой!» — скинул спинную подушку носильщика, а там, на спине, где подушка была, большое черное пятно от пота, чарыками на ковер ступает — отваливаются, остаются на ворсе комья грязи. Хасай побледнел. «Сбегай на кладбище!» — успевает шепнуть Аге. «Зря посылаешь, — отец ему, — нет там моей могилы, вот же я, пришел». Все видят деда, но не узнают. Только Хасай отца узнал, помнил ведь, а братья его, те маленькие были… А вот как Мамиш узнал, это загадка! «Ну, что вы тут без меня?! — спрашивает грозно. — Заврались, расхвастались? Покажи-ка мне лживую свою морду, посмотрю, как ты лихо на коне скачешь, кости мои топчешь, имя мое на выгоду себе склоняешь!..» — не встанет и не войдет, валяй бахвалься! — уфф, отлегло!.. — Если бы хоть одним глазом увидел, как высоко вознесся его сын Хасай, решил бы наверняка, что это всего лишь сон! Спасибо нашему веку! Да и как поверить? Когда мой покойный отец в свои неполные сорок лет ушел из жизни, кем я был? Подростком лет тринадцати! И все заботы о семье пали на мои плечи. Аге было десять, Тукезбан восемь, Гейбату и того меньше, а у Теймура только-только зубки прорезались. Стал я кондуктором-билетером, вы знаете. На нашей улице проложили трамвайную линию, и новенький красный трамвай проходил мимо наших окон. Изменили и облик улицы, и ее название, и всех нас вывели в светлую жизнь в этом новом мире! Да, обыкновенный кондуктор! Знали бы вы, как сегодня я горжусь этим! Нет, вам этого не понять! И не спорьте! А когда приходится писать автобиографию, а я это делаю нередко — поездки, то да се, всякие передвижки, представления, — то четко, так, чтобы все, кто читает, обратили внимание, вывожу и еле удерживаюсь, чтоб не подчеркнуть: в таком-то году я, сын амбала, работал кондуктором в трамвае, а в таком-то — водителем!.. Если бы можно было красным карандашом, под линейку, подчеркнул бы, да неловко!.. Часто говорил, скажу и теперь: именно трамвай стремительно вытолкнул вперед вашего Хасая, уютный, быстрый, полный света и тепла, звонкий трамвай! Сначала кондуктор, потом водитель, курсы, общественная работа, снова курсы, профсоюзы, то да се, война и так далее! И, как говорят братья, за которых умру и не пикну, острый нож в дурной глаз, и да не сглазить аксакала нашего рода Хасая! Год, месяц и даже день рождения каждого из Бахтияровых знает лишь Тукезбан; у нее специально заведена была простая ученическая тетрадь, которую, уезжая из Ашхабада, взял с собой Мамиш, вернее, она каким-то образом оказалась у него в чемодане и выплыла наружу в Баку. И Мамиш рад ей, хранит на память. В голодную зиму шестнадцатого года амбал Гюльбала-киши спас от гибели бекскую дочь Мелек. У нее никого не оставалось, весь род вымер, только угловой дом, да и тот почти развалился. Родичи Гюльбалы всей апшеронской деревней служили беку, и Гюльбала, переехав в город и став амбалом, продолжал по обычаю гнуть шею перед бекским родом. Но деревня еще раньше, чем бек, обнищала, и Гюльбала в последние годы, пытаясь отдалить от бека голодную смерть, по просьбе старика сбывал одну за другой фамильные ценности, перламутровый поднос или герб с изумрудом на полумесяце и бриллиантом на звездочке, домашнюю утварь. Носил больного, худого, как щепочка, на руках к доктору, отправлял в Петербург царю письма с напоминанием о былых заслугах родичей бека «перед царем и отечеством». И отец, и дед Агабека были офицерами царской армии, отец участвовал в русско-турецкой войне, а дед в «победоносной», как писал Агабек в своем прошении, войне с «персидским шахом», которая завершилась «избавлением Азербайджана от азиатчины и дикости». Но надеждам Агабека не суждено было сбыться: началась мировая война, бека разбил паралич, затем пришла смерть. Мелек и не помнит, как стала женой Гюльбалы. Первенца он назвал именем своего отца, Хасаем, потом родился Ага, по паспорту Агабек, унаследовавший имя покойного отца Мелек, А дальше пошли Тукезбан (это имя матери Гюльбалы, таков обычай), Гейбат (в честь близкого друга Гюльбалы, погибшего при разгрузке английского судна) и последний — Теймур. Хасай не любил вспоминать отца-амбала и вообще отцовскую родословную, а тут вдруг понесло его… Чаще и охотнее рассказывал о матери и ее бекском роде. «Ты же, — кричит, задыхаясь, Хуснийэ и ищет слова похлеще, чтоб больнее было, — ты же полураб! Отец твой был рабом, и в тебе течет эта рабская кровь!.. — Очередная вспышка ревности. — Ни чести в тебе, ни гордости! Какая женщина поманит, за той ты и бежишь! Был холопом и остался им!» А сегодня Хасай вдруг отца вспомнил. Служили всей деревней Агабеку, а почему, и сами не знали. Испокон веков, и прадеды, и деды, и сам амбал Гюльбала. Под балкой бекского дома и погиб: решил подправить балкон, подгнившие балки сменить, уже почти все сменил, а одна по голове его — насмерть. — Вот я буду считать, а вы загибайте пальцы, и пусть Гейбат произносит свое «не сглазить». Первым делом — крепость моей души Рена-ханум, затем свет моих очей Октай, семьи моих братьев-богатырей, могучая армия Бахтияровых! У Аги трое сыновей, у Гейбата четверо! — Пятеро! — поправил Гейбат. — Да, пятеро, конечно же… Так плодишься, что не уследишь!.. Затем, скажу я вам, старший мой сын, вот он, посмотрите на него!.. И гордость моя, и боль моя, и величие мое, и позор мой!.. Ай какой сын! Гляну на него, и один глаз радуется, а другой наливается кровью!.. Чем же знаменит мой Гюльбала? Вы думаете, только тем, что он любитель отборных французских коньяков? Или шотландского виски? Или тем, что щедр на отцовские деньги? Или тем, что испробовал на собственной шкуре все профессии, которыми гордились в прошлом великие художники? Только что шпаги не глотал, уколов боится да змей не укрощал, брезгует. Это же феномен! Уникум! Он мог бы стать миллионером, имея такого отца и такого тестя. И что же? Где его миллионы, чтоб отцу не думать о своей старости, а жене о черном дне? В голове его ветры дуют, а карманы легки, как пух! Он, как Каракумы, никак жажду не утолит! Но Хасай еще жив! Хасай не позволит, чтобы его Гюльбала был лишен тех маленьких удовольствий, которых алчет его душа!.. бис! браво! ай да Хасай! Гюльбала молчит. Сидит рядом с Мамишем и ни звука. Будто не о нем Хасай. А что сказать? Возразить нечем. То ли тоска в глазах, то ли презрение. Гюльбала курит, он затягивается с такой жадностью, будто целый век дожидался этой сигареты и только что дотянулся до нее дрожащей рукой после долгого блуждания по выжженной степи, где и кустика нет, чтоб сухие листики растереть. — Дорогая родительница Рены-ханум, уважаемая Варвара-ханум… — Переход от непутевого Гюльбалы к почтенной Варваре-ханум был рискованным, Рена могла бы обидеться, но у Хасая мир разделен на две части: одна — это те, кто связан с ним кровно, и конечно же здесь и Рена-ханум, а другая — это, к примеру, Кязым или Варвара-ханум. Но Кязым сам себе пропитание нашел, а Варвару-ханум кормит и поит он, Хасай. И нечего обижаться, что названа она именно после Гюльбалы. — Тому помощь, другому поддержка, третьему участие, но непременно материально выраженное, это тоже, сами понимаете, крайне важно. Тут и дни рождения, и праздники обрезания, и всякие годовщины, юбилеи, новруз-байрам и прочее и прочее! Да, много мужчин собралось здесь — и усатых, и безусых, и остриженных наголо, и убеленных сединой… Сыновья, сыновья, у всех Бахтияровых сыновья, сидят они за столом и слушают; кто понимает — тому понимать, а кто не понимает — тому дорасти. Братья старшие за столом, все на одно лицо, высится, как гора, лишь Хасай, а Гейбат и Ага стараются во всем походить на Хасая. Но дети, какие они разные, хотя здесь, за столом у дяди, все схожи в одном: сидят и молчат. Хасай мог бы о каждом из них сказать, не помнил только, кто когда родился и кому сколько лет, тем более что годы мчатся стремительно и вчерашний малец, который имя свое толком назвать не мог, уже усики теребит. Ну, хотя бы о сыновьях Гейбата. Женил Гейбата Хасай, когда тому было уже тридцать: ждал, когда Ага женится, так положено, чтобы не опережать старшего. Гейбат специально ездил в деревню выбирать жену. И выбрал покладистую, краснощекую и полненькую. Звали ее Гумру, а Гейбат переиначил на свой лад — Юмру, то есть округлая. И в точно отсчитанное время, минута в минуту, родился первенец. Ребенок был круглый, здоровый, и Хасай сказал: «Машаллах!» — «Да не сглазить!» Так и прозвали — Машаллах, ему почти двадцать уже, правая рука отца, здоровяк, хотя от армии уберег его Гейбат: временно прописал в район, где сам работал и где с ним дружен был председатель медицинской комиссии при военкомате — и Машаллаху приписали порок сердца. «Я отвоевался, ногу потерял, мне теперь помощник требуется», — сказал Хасаю Гейбат; честно говоря, в этом деле Хасай палец о палец не ударил, Гейбат сам сумел. Через год новый ребенок, но Гумру не уследила за ним и мальчик умер. Мелахет, жена Аги, их дальняя родственница, научила Гумру кое-каким хитростям: «А то каждый год рожать будешь!..» Прошло время, и жены братьев почти одновременно родили сыновей; Ага назвал своего сына Асланом, «львом», а Гейбат, у него, оказывается, дальний прицел был, на много лет вперед, Ширасланом, «львом-тигром»; третьему имя тоже было заготовлено еще до того, как родился: Ширали, «тигр Али». Шираслан в отличие от своего двоюродного брата Аслана — прекрасных математических способностей парень, блестяще кончает среднюю школу. Его собираются послать в Москву учиться на астронома, как будто мало было звездочетов на Востоке; насчет звездочетов говорит Гейбат, чтобы как-то пригасить восторги окружающих: попадется дурной глаз и сглазит еще парня; лет пять-шесть назад Шираслана закидывали вопросами, и больше всех гордился Хасай: «Сколько будет 33 на 33?» Ответ следовал тут же. «А три палочки на три палочки? — спрашивал Ага и, довольный ответом, просил: — Ты бы помог Аслану, а?» Недавно кто-то из дядей, кажется, Хасай, вспомнил о «трех палочках» и о том, как быстро Шираслан перемножил их на другие «три палочки», но тут же заговорил Ширали, третий сын Гейбата, и слова его прозвучали для Хасая как гром в ясный день. «Это и я могу!» — сказал Ширали, и Хасая удивило, как быстро и незаметно вырос Ширали. И сыновья-первоклассники, почти одногодки, у каждого из братьев: у Хасая — Октай, у Аги — по созвучию с сыном старшего брата — Алтай, а у Гейбата — Ширмамед, «тигр Мамед», нелюдимый какой-то, если что не так, сразу же заплачет или огрызнется. Шираслан, всезнайка этот, прозвал своего младшего брата «вещью в себе», но его понимает лишь Ширали, во всем подражающий Шираслану. Пятый сын у Гейбата родился много лет спустя, только недавно, и о нем, перечисляя свой род, забывает иногда Хасай. И на пятого было запасено имя у Гейбата; для Гумру он Ширинбала — «сладкое дитя», а для Гейбата, верного традиции, Ширбала — «тигр-дитя», хотя имени такого вообще нет. — Кого я еще не назвал? — спрашивает Хасай, обводя глазами Бахтияровых, и не успевает остановиться на Мамише, как тот его опережает: — Меня! — Да, упустил из виду!.. Но… — и на сей раз Хасай не завершил свою мысль. Глядя на Мамиша, он вспомнил старый дом, где родился, а в том доме — единственную освященную законом жену Хуснийэ-ханум, сокращенно Х.-х. — Ай-ай-ай! Говорю же, кого-то забыл! И кого! Хуснийэ-ханум и ее сестер и братьев в прекрасном краю — в Закаталах! — Рена демонстративно выскочила из комнаты, все недоуменно переглянулись. И не потому, что имя это было произнесено при Рене — она к тому привычна, — а потому, что, произнесенное вслух, оно всегда вызывает оцепенение у братьев Бахтияровых. Ага поперхнулся, Гейбат разинул рот и уставился глазами на дверь, куда ушла Рена, будто вот-вот в ней появится Х.-х. О!.. Это женщина!.. Не каждому дано найти к ней ключ! Лишь Мамишу это пока удается, но вот-вот от нечаянного слова или какой другой неведомой причины она взорвется, вспылит; чуткость в ней развита «оптимально», как сказал бы тот, что приходил к ним на буровую, новый лауреат, автоматику испробовать; чуткость и к взгляду, который Х.-х. ловит моментально и тотчас «обрабатывает», как сверхчуткий аппарат (такой бы тому лауреату!), и к произнесенному слову: каков его оттенок, как оно произнесено, что при этом выражало лицо собеседника?.. Не успеешь и рта раскрыть, как она тут же улавливает, с какой вестью к ней пришли, и если весть ей на пользу, даст договорить, нет — найдет веское слово, чтобы сразу и наверняка опечатать уста пришельца. «Хуснийэ-ханум, а я видела Хасая!» — скажет ей соседка, и Х.-х. вся тотчас соберется, как пружина, готовая к отпору: злорадство («А я вот видела!»)? просто информация (мол, видела и сообщаю)? готовность выполнять обязанности добровольного сыщика (спроси, и я все-все выложу тебе!)? проверка на восприятие? розыгрыш? подкупили и подослали (а ну, как ты среагируешь?!)? психическое воздействие? издевка (не с тобой ведь видела, вот и гори, сгорай на медленном огне!)? намек (видела его, а спросишь, с кем, еще подумаю, сказать или нет)? — Хорошо, что не слышит она! — сказал Хасай (но Мамиш в этом не уверен). — Такой бы тарарам устроила здесь, хоть переезжай! — (это правда). — …А что? И право на то имеет, и положение обязывает! — Казалось, стены имеют уши, и Хасай на всякий случай пытается усластить речь: кто знает, а может, во время недавнего ремонта Х.-х. уговорила рабочих вмонтировать в стену передатчик и теперь настроилась на нужную волну, пилкой ногти подтачивает и разговор подслушивает? — Хуснийэ-ханум по высокому ее положению и расходы требуются высокие, и они составляют… нет-нет, я не жалуюсь… почти половину моих доходов. Если не верите, пойдите и у нее самой спросите. Как же — немедленно побегут и спросят!.. Нередкие стычки между Хасаем и Х.-х. в угловом доме, переходящие затем в семейные скандалы, обычно вспыхивали и протекали однотипно. Спектакль. Место действия — угловой дом, время действия — наши дни. В первом действии Х.-х. стоит на балконе и во все глаза смотрит в ворота, ждет появления Хасая. Хасай переступает порог дома и входит во двор. Х.-х., будто выдернули кольцо из гранаты, взрывается и обрушивает на Хасая осколки. Фразы обдуманы заранее, и в них вложены вся злость, гнев и презрение к нему. Причина — женщина. Кто-то застукал Хасая. Сначала достается «нищему амбалу Гюльбале», затем матери — «буржуйке», их духу и памяти о них; далее следуют братья его; речь смешанная, русско-азербайджанская; от этого слова приобретают особый колорит. Хасай, сжав губы, молча и не спеша, потому что спешка унижает человека, а солидного и подавно, поднимается по лестнице, будто ругань адресована не ему, а кому-то третьему, хотя никого вокруг вроде бы и нет. Хасай уже на втором этаже. На лице полнейший покой. Сейчас даже зевнет от скуки. Пока Хасай доходит до своей квартиры, расходуется и энергия Х.-х., горло ее не выдерживает нагрузки, голос слабеет. Хасай хватает Х.-х. за руку и втаскивает в комнату. Во втором действии дверь и окна затворены наглухо. Закрыты даже плотные, из сплошного дерева ставни за оконными рамами и застекленной дверью. Из комнаты, погруженной в полутьму, рвется наружу ругань, как язычки пламени из горящего дома. Иногда Х.-х. хрипит, будто душат ее. Крики перемежаются звуками разбиваемой посуды. Схватка достигает апогея. И вдруг, как на Каспии и нигде более, наступает штиль. Такая тишина, что и словами не выразить. Непосвященный может подумать, что Хасай задушил Х.-х. или в его грудь вонзен по рукоять нож. На самом деле развивается своим ходом третье действие: ругаясь и толкая друг друга, Хасай и Хуснийэ переходят во внутреннюю комнату, именуемую спальней. Дается воля рукам: она больно щиплет его, он пытается зажать ей рот (хотя она уже и не кричит), хватает за руки, чтоб не щипалась, не больно, но чувствительно бьет по лицу. Х.-х., спотыкаясь, грохается на кровать, и шлепанцы удачно минуют люстру, ударяясь о потолок. Хасай, не удержав равновесия, падает на Х.-х. Кровать просторная и мягкая, покрыта дорогим парчовым покрывалом; оно сминается, съеживается, шуршит, трещит, дыбится, об него вытираются туфли Хасая, но оно терпит, сносит унижения, в обиде отворачивается и прощает им, вздрагивая, как только капают на него горючие слезы Хуснийэ-ханум. Искра здесь, искра там — и вспыхивает пламя, на сей раз пламя любви. И заключительная сценка: дверь и окна настежь. Х.-х. взлохмаченная, она поправляет рассыпавшиеся волосы. У нее очень красивое румяное лицо, глаза светятся. Хасай устало зевает, садится за стол на балконе и ждет, когда Хуснийэ-ханум, его незаменимая ласковая жена, подаст ему терпкий чай в грушевидном стаканчике, снимающий усталость и гасящий жажду. Самый крупный скандал разыгрался в связи с Реной. Хватилась Х.-х., а паспорта ее нет. Тогда Хасай часто уезжал в командировки. Вот и сейчас он в Москве, а паспорта ее, который хранился в ящике письменного стола, на месте не оказалось. Исчез паспорт. А полезла она в ящик, чтобы взять облигации, вернее, тетрадь со списком-колонкой номеров. Дом — стог, паспорт — игла; весь дом перерыла — нет и нет. Когда Хасай позвонил из Москвы, она спросила, где ее паспорт. Хасай замялся, а потом сказал, что случайно захватил с собой, когда брал свой. Это забылось. Спустя некоторое время он снова уехал, на сей раз в Киев. И, как назло, снова Х.-х. понадобилось влезть в ящик стола все за той же тетрадью. «А ну-ка, где мой паспорт?..» Глядит, нету! Решила не спрашивать, а когда муж вернулся, обыскала его пиджак — и вот он, ее паспорт! У него в кармане! Долго ломала Х.-х. голову над тем, зачем Хасаю понадобился ее паспорт. Перед очередной поездкой его решила спрятать свой паспорт. Хасай собирал чемодан, был хмур и рассеян. Чего-то ему явно не хватало. Он входил в комнату, потом в другую, облазил шкаф, свой стол перерыл. — Что ты ищешь? — спросила Хуснийэ-ханум. — Да вот бумажку мне одну надо… Никак не найду… Куда она запропастилась?.. И она ему вдруг с ходу: — Может, тебе снова мой паспорт нужен?! Хасай, не ожидавший такого вопроса, осекся, тут же вспыхнул: «У, гадюка!» «Женщина!» — как всегда в таких случаях, мелькнуло у Хуснийэ. Но при чем тут паспорт? И от мысли, которая ее осенила, Хуснийэ чуть не лишилась чувств. «Так вот почему нужен паспорт!..» И решительно сказала: — Номер на двоих?! С моим паспортом любовницу возишь, подлец! И попала в точку. «Кто капнул?» — было первой мыслью Хасая. Кого же он видел в Ленинграде? Постой, постой, не соседку ли с их улицы? Да, это была она, давняя приятельница Хуснийэ. Попался как мальчик. А делал он вот что: брал паспорт Хуснийэ и привозил с собой Рену, в гостинице, где ему бронировали место, заполнял бланки, протягивал паспорта и получал номер на себя и на «законную жену». На сей раз трюк не удался. Какая досада!.. Но, хотя момент и упущен, он набросился на Хуснийэ: — Какой паспорт? Какая женщина?! Но атаковала уже Хуснийэ: — Я все про твои грязные проделки знаю! Все мне о тебе докладывают, знай! Дорого обойдется тебе твой обман. Далее все пошло по заведенному порядку, очередная сцена с битьем посуды, которая и на сей раз завершилась вихрем страстей (а как еще сказать?); Х.-х., извините, была неутолима; и Хасай, можете спросить, жалел, что растратил весь свой пыл; а силы, известно, уже не те. Недавно у него впервые очень что-то неладно стало с сердцем. Будто вскипало в верхней части, что-то болью отдавалось почему-то в ноге. Хасай даже остановился на улице, присел на скамейку в сквере. Потом так же вскипело сердце к вечеру, когда он увиделся с Реной. Но Хасай виду не подал, смолчал: как признаться в этом ей? Отпугнуть?.. Но сейчас, после бурной сценки с Х.-х., он успокоился — есть еще порох!.. Вот какая она, Хуснийэ-ханум, и вот о ком вспомнил Хасай, глянув на Мамиша. — Аллах, да будем недосягаемы для Хуснийэ! — взмолился Ага. — Ты прав, брат! — Гейбат кивнул подстриженной под машинку большой головой. Толстая кожа на бычьей шее на миг разгладилась и снова сложилась гармошкой. — А что до твоей помощи, до самой смерти не забудем ни я, ни Ага. (Хасай предлагал ему: «Давай выдвину!» Но Гейбат каждый раз отнекивался: «Нет уж, спасибо! Мой ресторан — мое ханство!») Сам себе хозяин. И Ага доволен. Кто знает, где бы сейчас, — вздохнул Гейбат, — да, где бы сейчас гнили его кости! Ты и квартиру ему выхлопотал, и на работу прибыльную устроил, а дальше он сам уже, — Бахтияровы это умеют, создай им только условия — в гору пошел! В ведении Аги все точки питания в городе. Шашлычный принц, владыка чрева — как сказал однажды о нем Гюльбала, относившийся к дядям как ровня на правах старшего сына аксакала рода Хасая; а условия, созданные Аге, были не совсем просты; без схемы тут не обойтись. Хасай Аге, это ясно; Агу взяли на войну с третьего курса индустриального, а когда он вернулся с помощью Хасая, товарищ его по институту стал большим человеком да еще оказался троюродным братом жены Аги Мелахет. «Может, учебу продолжишь? — он ему. — Помогу восстановиться». — «Нет, поздно мне уже учиться, семью содержать надо!» Ну тот и помог; Ага этим знакомством, по совести сказать, не злоупотреблял, а потом того перевели на работу в другую республику, и ниточка эта теперь резервная. — В каждом ресторане, — продолжает Гейбат, находившийся у Аги под двойным подчинением, дай бог каждому такое, родственным и служебным, — специальная для него кабина, и стройные юноши подносят ему, как шаху, лучшие блюда!.. Ко мне он не ходит, у меня таких юношей нет, а если зайдет вечером (идут перечисления знаменитых «точек» с названиями рек, озер, городов, гор, долин, сказочных героев, цветов… Мамиш и не предполагал, что их столько, а Гейбат все новые и новые подкидывает) в «Дружбу», «Интурист», директор принимает стойку «смирно» и оркестр играет в его честь победный марш! — Еще неизвестно, кто из вас главный! — сказала Рена. У Аги чуть порозовела прилипшая к скулам сухая кожа. — А что? — в тон ей Хасай. — Я бы лично предпочел быть на месте Аги. Рена довольна, что Гейбат замял оплошность Хасая, когда тот упомянул Х.-х. Неприятно слышать ее имя и неприлично даже. Ох эти нравы!.. а они… беззлобно, но все-таки! сколько можно? Ей, Рене, это не по нраву: она победила в открытой борьбе, и чего злопыхать? Уши закрывала при гостях — «Умоляю, не надо!» — и штрафовала («У нас штраф: кто скажет Х.-х., клади на стол рупь!»); первое время куражился Ага: «А я вот скажу и наперед еще», — и ладонями о стол, а меж них хрустящая новенькая; но со временем помогло, перестали, а тут вдруг снова. Это было при Мамише, и не раз; и еще когда Рены не было. «Родной мой! — прижала Хуснийэ-ханум к высокой груди голову сына Гюльбалы. — Отчего у тебя седые волосы? И худой ты какой стал!.. Хасай, надо его врачу показать, на глазах тает!.. Нельзя так, ты совсем не следишь за собой». Гюльбала шарит рукой по столу, сигарету хочет взять, а Хуснийэ отодвигает пачку: «Не надо так много курить! — И гладит, и гладит его волосы, потом брови его осторожно. — Родной мой! — вздыхает она. — Как время летит!..» — защитил бы мать! А что он скажет? Разве сказать нечего? Конечно, Гейбату Гюльбала мог напомнить: «Мало она кормила, поила тебя, неблагодарный?» И Аге мог возразить: «А кто тебя спас?! Не один Хасай!..» И Гюльбала был бы прав. («Ах, ах! — сказал романтик ашуг, сочинивший на нашей улице каламбуры насчет завязи на инжировом дереве. — Ах, ах!.. Человека из болота вытащили, от грязи очистили, добрую услугу ему оказали, в чистенькую, накрахмаленную рубашку принарядили, галстук на шею заграничный да лакированные, как народному артисту, туфли на ноги, когда и то, и другое доставалось трудно, а кто настоял?») Хасай, конечно, щедр, ничего не пожалеет для родного брата, а галстук свой любимый и собственному сыну не отдаст… Хуснийэ настояла! Хуснийэ не пожалела, а он теперь как необъезженный конь брыкается, как свирепый верблюд кусается! Было ведь время, оно у нас на памяти, не в прошлом веке было, когда Ага клялся именно Хуснийэ — она и ближе сестры и роднее матери, она, «я слов не нахожу», плачет Ага, «чтобы выразить», и падает на колени.
О том, что Ага был в плену, работал потом на приисках, Хасай узнал из письма, посланного матери их, Мелек-ханум. Переслала письмо молодая женщина-счетовод с этих же приисков. Матери не было в живых, и письмо попало к Хуснийэ. Ага никак не мог примириться с мыслью, что он вдалеке от родных мест, и крепко верил, что братья, если они живы, сумеют вызволить его. Он считал дни, а ответа не было. Из месяца в месяц надежда его, как короткий осенний день, гасла, а потом, с наступлением длинных зимних ночей, и вовсе исчезла. Он потерял счет месяцам, путал сны и явь. И круглолицая белотелая женщина засияла в его жизни. Она пожалела Агу, ухаживала за ним, неприспособленным, а потом перевезла к себе домой — жила неподалеку от приисков. В ее маленькой комнате был весь огромный мир Аги: его прошлое, его братья, мечты о возвращении. Но Ага никак не мог представить себя в Баку сидящим со своей женой за одним столом с Хасаем и Хуснийэ или рядом с матерью: они ведь друг друга не поймут, его жена и Мелек-ханум. А письмо Аги работало — Хасай обдумывал план спасения брата, почти неосуществимый, очень рискованный. Нужны деньги, притом очень большие, они есть. Дерзости Хасаю тоже не занимать. Если дойдет слух до «хозяина», «четырехглазого», в два счета голову снесут. Это сказала Хуснийэ, а потом добавила, после того как Хасай твердо заявил, что Ага — его брат и за брата он пойдет на все: «Мое дело сторона, поступай, как знаешь!» «Может быть, он рядом, разузнай!» — просил он Тукезбан. А там земля, как вся Европа, попробуй найди. «Это Кязым не хочет», — догадался Хасай, и интуиция не подвела. Тукезбан тогда во всем слушалась Кязыма, а ему встревать в это темное дело, да еще в такое время, не хотелось. «Но он мне брат!» — «А я тебе муж». Тукезбан все же, когда случалось, у знакомых спрашивала, мол, земляки интересуются; фамилии-то у них разные с Агой; Кязыму один дружески посоветовал: пусть жена не очень за земляков хлопочет. «А ты знаешь, кто мне советует? — пригрозил жене Кязым. — Сиди и помалкивай!» «Чужак и есть чужак! — решил Хасай. — А сестре припомню!» — подумал, хотя обиды на нее не было: не Кязым при ней, а она при Кязыме. Ему, Хасаю, такая судьба: всех нянчил, всех тащил, вытягивал, придется попыхтеть еще. И план созрел не без помощи Хуснийэ-ханум. Предстоял трудный путь: из Баку в Москву, а оттуда в Иркутск, затем на машине, может быть, даже пароходом по реке. Хасаю ехать нельзя, потому что человек он на виду, если раскроется, будет худо, а Гейбату терять нечего; да и с цепкой он хваткой, языкаст, инвалид к тому же. Гейбат не доехал, вернули его с полпути. В начале следующего года поехал вторично, запасся нужным разрешением, почти доехал до конечного пункта, не пустили. Но кое-что узнал: Ага жив, адрес не изменился. И еще: начальство у него строгое, контакты исключены. Начались поиски связей. И главное: семья начальника, жена и дочь, живет в Иркутске. И брат его с семьей там же. В третий раз поехал сам Хасай. «Случайно» снял комнату на площадке этажа, где жила семья начальника, познакомился с ними, угостив крупными ярко-малиновыми, будто покрытыми лаком, блестящими гранатами, потом «случайно» познакомился с братом. Тот оказался человеком чутким, понял, что брат Хасая в беде. А у Аги полное истощение сил, как не помочь? Но все это потом, когда Хасай открылся. Прежде же Хасай пригласил их провести август под Баку, где горячий песок, ласковое море и сладчайший виноград, и брат принял предложение и со своей женой поехал в Баку, где Хасай устроил их в закрытом санатории, купил две путевки. К чести брата и к удивлению Хасая («Чудак какой-то этот брат!»), тот не только сполна расплатился («Я сам не знаю, куда деньги тратить; хочешь, — пристал к Хасаю, — одолжу тебе?»), на прощание устроил застолье, чуть не до драки дошло, когда расплачивались. Победил тот, кто пригласил в ресторан, — брат начальника. «Это у нас не принято! — вопил Хасай. — Это оскорбление!..» — «Ну и оскорбляйся, но и нас, сибиряков, знай!» А главный разговор состоялся в доме Хасая при Хуснийэ, она тоже («А это уже по-нашему!») устроила гостям прощальный обед. «Ах, как жаль, — сокрушался потом Хасай, — что связи потеряли с ним!.. Прекрасный был человек! Как же его звали? — Нет, не мог вспомнить Хасай ни имени, ни фамилии. — То ли Григорий, то ли Ефим…» И Хасай в начале сентября поехал снова в Иркутск. И брат старший («Григорий или Ефим?») сказал младшему брату — начальнику: «Это ошибка. Ага истощен. Моя первая, ты знаешь, и последняя, даю тебе слово, просьба!.. Ошибка, понимаешь!» О чем еще говорили, никому не ведомо. Может быть, начальник даже подумал, что все равно не жилец Ага. Он к тому времени лежал в больнице, и его отправили домой, на родину. Но до этого Хасай на «студебеккере» поехал в поселок, где жил Ага, познакомился, не испытывая при этом особой радости, с его женой, поглядел на младенца с голубыми, как у матери, глазами… Хасай вернулся в Баку, а через две недели (подлечили-таки Агу, на своих ногах чтоб явился домой!) Ага ступил на бакинскую землю и яркий свет ударил ему в лицо; он долго привыкал к этому свету, жмурился, слезы текли и текли у него из глаз… Но Ага вернулся не один, как они договаривались с Хасаем, а с женой: она отпросилась на месяц — в отпуск; срок ее договора по найму истекал лишь через год. Аге был уже заготовлен новый паспорт, без всяких лишних отметок и с постоянной наконец-то бакинской пропиской. И в этом Хасаю помогла Хуснийэ, несмотря на ее «мое дело сторона». Ага мог бы вспомнить (ах, как коротка память человеческая, слышу я снова ашуга-романтика) и о том, какую услугу оказала ему Х.-х. после того, как он приехал в Баку с женой, и как мила была Х.-х. с нею. Он может забыть имя начальника и его брата, хотя и ему, и Хасаю помнить бы о них, но забыть такое!.. «Ах-ах!» Но что подумала жена Аги, осторожно сходя со ступенек вагона, потому что перрон очень низкий, как бы не треснула юбка на ней? Ничего не понимала, но чувствовала, что ей обрадовались. Еще на вокзале, куда ее с сыном и Агой пришли встречать его родные, ее осыпали цветами и поцелуями. Она сразу всех узнала, хотя видела их, за исключением Хасая, впервые; и Гейбата узнала, и Хуснийэ (какое трудное имя у нее!), ведь о них (и о Теймуре, и о Тукезбан, и о матери) ей подолгу рассказывал Ага в ожидании вестей из дому. И ей сразу понравилась Хуснийэ-ханум. Та бросилась к ней, обняла, расплакалась от радости, отняла тотчас ребенка у Аги, прижала его к груди, разохалась, умилилась, рассиялась вся. А жена Аги боялась этой встречи с родными мужа и была несказанно рада, что ее опасения не сбылись. И Хасай улыбался, и Гейбат, и сын Хасая… Жаль, Теймура не было (о его гибели они с Агой узнали недавно, Хасай им рассказал, когда был у них), и Тукезбан, Кочевница, не могла их встретить — недавно уехала за своим мужем в поисках ценных металлов… нет, нет, очень далеко отсюда: и ни слова о Кязыме. Не надо портить настроение. И мать Аги она не застала в живых; почему-то верила, что найдет с нею общий язык, понравится Мелек. Потом привезли их к Хасаю, где был уже накрыт стол. Хуснийэ-ханум тут же, как приехали, отвела ее в свою комнату, распахнула шкаф и подарила шелковое платье, которое оказалось впору, туфли на высоких каблуках отдала, заставила переодеться и выйти к столу нарядной — ни такого платья, ни туфель таких у нее в чемодане не было. О чем говорили за едой, она не понимала. Но это и неважно, думала. Главное — все так обходительны с нею, особенно Хуснийэ, с ее лица не сходила улыбка, она то и дело подходила к ребенку, который лежал весь раскрытый на их двуспальной кровати и блаженствовал в тепле, щебетала над ним. Разговаривали громко. Ага то о чем-то тихо рассказывал, то вдруг, перебивая собеседника, возбужденно размахивал руками. Горячо, со страстью говорила Х.-х., поглядывая на нее и улыбаясь, и тогда лицо Хасая делалось мягче, дружелюбнее. Гейбат вдруг вставлял слово, и разговор вспыхивал. Х.-х., обнимая ее, что-то доказывала им, потом прижималась к ее щекам губами, и в ее глазах гостья видела слезы. Она изучила Агу хорошо и видела, что он рад, что приехал в родной край. Но в нем появилось и что-то новое, неясное еще ей: он смущался, когда Хасай или Гейбат о чем-то ему говорили или спрашивали, и виновато опускал голову, но Х.-х. приходила ему на помощь, становилась за его спиной и обнимала за плечи, и гостье казалось, что Хуснийэ-ханум защищает его, рада, что он с женой и сыном здесь, и тогда снова все улыбались, головы согласно кивали, ей подвигали вкусную еду, которую она пробовала впервые. А за столом говорили вот о чем (жаль, что ни Теймура, ни Тукезбан не было). Хасай Аге: — Зря ты меня не послушался! — В чем? — Приехал не один, вот в чем! — Как же мог я оставить сына? Гейбат: — Подумаешь, сына! А от кого? Х.-х. вскипала: — В своем ли ты уме?! Вы же в ее руках! Немедленно улыбнитесь! (Здесь Х.-х. целовала гостью. И лицо Хасая теплело, Гейбат улыбался. Ага опускал голову.) И снова Хасай Аге: — Одно я понимаю твердо: ей у нас не жить! И тебе напоминание, и нам. Пойдут расспросы, кто да откуда, все раскроется, и тогда мне несдобровать! — Припугнуть надо, сама сбежит! — говорил Гейбат. — «Припугнуть»! — передразнила его Х.-х. — Она вас так припугнет, что позора не оберетесь! Надо с умом подойти. Мне тоже ясно, что ей здесь делать нечего, не нашегокруга человек! Но ребенок — Бахтияров, он — наш! (Здесь Х.-х. вставала за спиной Аги и обнимала его за плечи. И Ага смущенно улыбался — ребенок-то ведь его и он очень привязался к нему.) — Жалко его. И ее тоже жалко, — говорил Ага, и Х.-х. поддерживала его: — А мне, думаешь, не жалко? — (подходила, обнимала гостью). — Мне тоже очень жалко, но, пойми, ей у нас жизни не будет и тебе мученье одно! Она же совершенно чужая! Не бойся, мы ей ничего худого не сделаем, не обидим, не звери ведь!.. Уверяю тебя, ей и без нас тоже будет хорошо! Да, да, очень хорошо, у нее свой мир, свои обычаи, а у нас свои! Что у вас опять кислые рожи? — (Х.-х. говорила, расплываясь в улыбке, и все, как по команде, следовали ее примеру, и лица снова согревали гостью.) Когда разговор пошел по третьему кругу, на грозный вопрос Хасая: «Пусть скажет свое слово Ага», — тот ответил: «Ты мне за отца, скажешь «умри» — умру». После чего Гейбат, радостный, встал, приковылял к Аге и крепко обнял его, а Хасай предложил: — В таком случае я с нею немедленно поговорю, если надо, прямо и твердо скажу, что мы ее не ждали. Ребенка оставим, вот тебе деньги, вот тебе подарки, подобру-поздорову уезжай отсюда туда, откуда приехала, в свою вечную мерзлоту! — Х.-х. взорвалась: — Сдурели вы все, и Хасай первый! — (Это ей только и дозволено…) — Стоит тебе рот раскрыть, как она такой скандал поднимет, что вся республика услышит, встанет на ноги и растопчет тебя! И тогда не ей, а тебе, дай только повод четырехглазому, придется топать по вечной мерзлоте!.. Бот здесь-то Хасай произнес свои знаменитые слова, дав Х.-х. полную власть решать будущее Аги: — Меня к этому делу не примешивай, поступай как знаешь! И утром Х.-х. обняла гостью и стала ей рисовать картину их будущей жизни с Агой и с ребенком, таким милым, таким симпатичным, просто куколка!.. Х.-х. и выведала (об этом Ага даже не обмолвился), что они не расписаны, но виду не подала, сказала, что это пустяки и формальности, Ага и она — муж и жена, и они это, как только подоспеет время, мигом оформят. — Ты вернешься туда, мы тебя проводим, дадим денег, Ага подкрепится, устроим его на работу, а ты постараешься расторгнуть контракт. Аге пока и жить негде. К тому времени и он обзаведется домом, и вы начнете новую жизнь. Тебе с ребенком будет трудно, его оставим здесь, лично у меня и под мою ответственность, ты можешь быть абсолютно спокойна, моя душенька! — И Х.-х. горячо поцеловала гостью, на глаза ее навернулись слезы. — Ах, как вы страдали!.. Бедный ребенок!.. Я понимаю тебя, ведь я тоже мать!.. Спасибо тебе, сберегла нам и Агу, он рассказывал, и сына. Как не поверить? Обе они рыдали, и Хуснийэ-ханум вытирала пахучим своим платочком ее слезы. И проводили. И денег понадавали. Хотели дать много, но Хуснийэ и здесь проявила свой ум: «Столько нельзя, поймет, только на дорогу!.. Остальное пошлем потом!» И подарками осыпали. И расстались. Как поется в песне: «Ты посмотрела, я посмотрел, ты мне рукой — я тебе рукой, ты подморгнула, я подморгнул…» Временно, конечно. А через месяц вдогонку ей пошло письмо. Ага с помощью Хуснийэ сообщал: «Не уберегли мы нашего Алика!.. — А в конце приписал: — Хуснийэ-ханум говорит, чтобы ты не горевала, мы молодые, и ты родишь нам еще. Наш уговор, она говорит, остается в силе, весной мы тебя ждем». Зима только начиналась. А еще через некоторое время Ага под диктовку Хуснийэ написал ей: «Нас связывал ребенок, но его нет. Прости меня, я тебя, честно скажу, не любил. А как без любви жить? Мы с тобой разные…» И послал денег. «Пиши, если будет нужда, поможем. Привет тебе от Хуснийэ-ханум, ока тебя очень любит». Али-Алик действительно рос болезненным и хилым мальчиком, но Хуснийэ-ханум нелегко было упросить Агу вывести на бумаге: «Не уберегли мы сына», — грех на душу брать, когда пишешь о живом, как о мертвом; какой отец даже во спасение свое пожелает заживо хоронить сына?.. Хуснийэ-ханум прибегла к маленькой хитрости, чтоб убедить Агу: «А мы обманем рок, ребенок долго жить будет». И обманула: чуть ли не с той самой минуты, как Ага отправил письмо, случилось почти чудо, ребенка будто подменили, и он на глазах стал крепнуть.
С той поры много шолларской воды утекло из вечно капавшего медного крана в угловом доме. Последнее время Хуснийэ при виде родных Хасая вскакивала, будто в седло джиннова коня, и это было связано с тем, что братья признали Рену, установили с нею добрые отношения. И каждого из Бахтияровых, кто попадался на глаза Хуснийэ, она хлестала плетью из колючек. Каждого, но не Мамиша… Может, остерегалась его: он был «пришлый», «чужак», сын Кочевницы, не ясно, что выкинуть может. Или уважала: Мамиш часто помогал ей, так и не научившейся грамоте, в написании всевозможных заявлений и просьб, а когда Хуснийэ оформляла в прошлом году свою персональную пенсию (она была чуть старше Хасая), заполнил ей анкету, написал с ее слов автобиографию, еще какие-то бумаги переписал, и о пенсии не знала ни одна душа, даже сын ее Гюльбала. Речь ведь шла о возрасте, а это тайна пуще государственной.
А Хасай гнал и гнал скакуна, и усталость ему нипочем. — Все согласились со мной, и Гейбат, и Ага, даже наш Мамиш, хотя помощи моей по-настоящему еще не поймал, но даст бог!.. — Хасай по-родственному подмигнул ему. Улыбка красила его лицо, оно вызывало доверие. И хоть Мамиш не проронил, как Гюльбала, ни слова, — весь вечер говорил лишь Хасай, а братья поддакивали, — в ряду других имен Хасай назвал Мамиша для весомости, чтоб оттенить, может быть, следующую мысль: — Но вот я смотрю на вас и думаю про себя: отчего молчит мой сын Гюльбала? Неужели ему сказать нечего? Уж кто-кто, а первым должен был удесятерить силу моих слов именно он! — И Гюльбала — виноват отец, кто его тянул за язык? — был вынужден сказать: «А я тогда дал себе твердое слово: что бы ни говорили — молчать». И он молчал. Даже тогда, когда речь зашла о родной матери. Попробуй кто другой при нем недобро отозваться о матери, такую звонкую пощечину влепит, что весь город услышит!.. Но нет, не дали Гюльбале спокойно усидеть на месте, до конца сдержать слово. Кто тянул Хасая за язык? Если бы, конечно, Хасай знал, что ответит сын, разве стал бы приставать к нему. — Пусть льстят твои братья! — сказал Гюльбала. — Противно угождать тебе! Мамиш насторожился: взгляд у Гюльбалы был точь-в-точь, как в те далекие годы… «Я доказал тебе, что ты мразь, и могу делать с тобой все, что захочу! Так?» — «Так», — сказали другие. И Гюльбала стал разрезать бритвой шелковую рубашку Селима из Крепости. А потом тот шел и лентами на ветру развевалась рубашка, «…доказал, что ты мразь!» — Вот вам и благодарность моего любимого сына! Дерзость Гюльбалы воспринималась Бахтияровыми привычно: он рос, чувствуя за спиной силу отца, и все переносили на сына свое почтительное отношение к Хасаю. Даже теперь младший Хасаевич — Октай — говорил с дядьями требовательно, но к этому примешивалась и капризность, вызванная тем, что Октай был сыном любимой жены, занимавшей привилегированное положение в семье Бахтияровых. — Я не виню его, мир так устроен. Одному чем больше помогаешь, тем ненасытнее делается, думает, так и должно быть: ты помогаешь, а он принимает, да еще дуется на тебя, чем-то недоволен. А начнешь злое лицо показывать, льстит, пушинку с тебя сдуть спешит, слово в мед макает, чтоб слаще было. Не смотри на меня с такой ненавистью, Гюльбала, я же не враг тебе! И не о тебе речь. Вошла Рена. Она слышала Хасая. Разве мог умолчать Гюльбала? — А есть такие: мелют, что на ум взбредет, и философами ходят! а ну дай ему еще! Хасай вот-вот взорвется, Рена к Гюльбале, а не к Хасаю, с ним управиться легче: — Прошу, не спорь! — А что ему спорить? Опустеют карманы, снова к отцу придет, — заметил Ага. — Не быть мне Гюльбалой! — Да ну? Лотерейный выиграл? Клад открыл? Тогда магарыч с меня! Везу всех за город в шашлычную Али-Аббаса! Кормят быстро и вкусно, сколько бы ни приехало народу. С утра и до поздней ночи. Аге не подотчетна, хотя он и любит иногда посидеть здесь с важным гостем. — Довольно, Хасай Гюльбалаевич, сколько можно бить по башке «я» да «я»! За Хасая тут же братья заступились: «Тебе бы радоваться, что такого отца имеешь» и «Ай-ай-ай!» Это Ага. Надо же, даже Мамиш повернул к Гюльбале лицо, мол, брось! а ты меня не слушай, врежь ему! Гюльбала удивленно посмотрел на Мамиша. — И ты? — И резко отвернулся от Мамиша. — Не видишь, выпил, — шепнула Рена Хасаю. — О Теймуре говори! — Ах, Теймур!.. — и такая боль, что все умолкли. — Если и был кто из нашего рода самородком, так это Теймур. Весь в покойную мать. Чистый, как горный снег! Как скажет, так и сделает. Лучшим учеником в школе был! что ж ты умолк?! встань, скажи! Будто для Гюльбалы говорил, в назидание. — Сколько книг прочел!.. А Гюльбала всю библиотеку прадеда прочел, все сидящие столько не прочли. — Ушел бы в сорок первом — молчал бы, но в сорок третьем!.. Когда сабля моя резала и острием и ребром!.. Одного моего слова было достаточно, чтоб Теймура оставили. Но все мы, Бахтияровы, упрямы, упрямство и погубило его. «Теймур, — сказал я ему, — ты изъявил желание пойти добровольцем, и баста! Считай, что выполнил свой гражданский долг, а теперь отойди в сторону и поручи свое дело мне. Сам видел, — говорю ему, — Гейбат без ноги лежит в госпитале, в бывшей твоей школе, и неизвестно, выживет или нет. Ага пропал без вести, мать больна, уйдешь, сердце ее разорвется». И разорвалось, как только пришла черная весть о смерти. И что, вы думаете, он ответил мне? «Нет, — говорит, — у меня денег, чтобы взятку тебе дать, зря не старайся!» Я подумал, что он шутит, расхохотался, а он, вижу, всерьез, побелел даже. — Молодец! Так я и ожидал! — Несчастный!.. — Ага с сожалением глядел на Гюльбалу, и неизвестно было, к кому относятся его слова — к Теймуру или племяннику. Оказалось, что к Гюльбале: — Имеешь ли ты хоть понятие о том, куда шел Теймур? На верную смерть шел! Уцелели ведь чудом! тебе виднее, пророк!.. в плен — и спасся! шкуру сохранил! — «Молодец!» — передразнил он Гюльбалу. — Пороху не нюхал! Хасай будто не слышал ни сына, ни брата. — А я смеюсь: «О какой взятке говоришь?» Он молчит, только в глазах, как вот сейчас у Гюльбалы, огонь горит. Кто-то завистливый наговорил, настроил против меня. «Ну зачем ты так, Теймур? — говорю ему. — Маму нашу пожалей!» Но скрывать не буду, приносили, умоляли: «Да прикоснусь устами к земле, по которой ступали твои ноги!» — и развязывали полные мешки, высыпали на кровать красные шуршащие тридцатки. И что выгадал Теймур?! — Ты все выгодой меришь. И чего в бой лез Гюльбала? А Хасай не поддавался — сын, чужих нет, пусть себе тешится; да и станет он сердце перегружать, спорить на ночь глядя. — Чем же мерить, светик мой? — Не хотел, а сказал. — Теймур тебе говорил. — А ты свидетелем был? — Снова не хотел, но выпалил. — И не я один! — Ай какой ты умница! — Ну что вы спорите? Что вы не остановите их? Ага? Гейбат? Хоть ты, Мамиш? и не подумаю! пусть влепит ему, отцу родному! А Хасай дразнил: — Так чем же? — Сам знаешь! — А еще говорят, сын у меня неудачник! Да я такого сына на дюжину иных умников не променяю! Люблю, когда сын о совести толкует: и нас воспитывает, и сам воспитывается! — Вот-вот! — Гейбат повернул могучий затылок к Гюльбале, будто не ему говорил: — Любителю таких пламенных речей не пристало с помощью отца кооперативную квартиру строить, это раз, пышную свадьбу играть за его же счет… но первым женился все же Хасай! «Отец породниться хотел с большим человеком, вот и сосватал мне его дочку, а потом локти кусал, когда того с треском сняли…» Гейбат методично — какая память! — перечисляет: — …устраиваться на новую работу, когда гонят со старой, опять же с помощью отца! — Гейбат доволен, то на Хасая смотрит, то на Агу, а те и без Гейбата все это знают. — Точка! Теперь точка! На Гюльбалу даже непохоже — чего кипит? Ага зевнул. — Когда сыт, и пошуметь можно, даже полезно. — Что вы три брата на одного набросились? Ведь правду Гюльбала говорит! Ренины слова сигнал к прекращению: «Видите же, человек выпил, оставьте его в покое!» — Я молчу, Рена-ханум! — И я на кизил перехожу! — Ага придвинул к себе вазу на высокой тонкой ножке. Рена дружит с женой Гюльбалы, и тесть его еще в силе, никому и не приснится, что придет день, и Хуснийэ позовет Мамиша: «Мамиш! Мамиш!» Вытираясь полотенцем, Мамиш спешит к Хуснийэ-ханум. «Что случилось?» А Хуснийэ держит газету. «Вот!» «Что?» «Здесь же о тесте Гюльбалы! Не знаешь?! Вчера на пленуме говорили, Хасай рассказывал! — Раньше был «наш родной брат», а теперь «тесть Гюльбалы»! — Найди это место!» — Взяла у него полотенце, сунула в руки газету. И Мамиш пробегает ее, шепчет: «…прирост промышленного производства… ускорение темпов нефтяного… повышение эффективности… при активной поддержке…» «Не здесь, не здесь! — Хуснийэ надела очки и тычет в середину газеты. — Здесь ищи!» «…усилить борьбу с проявлениями собственничества и мелкобуржуазного индивидуализма…» «Дальше, дальше!» «…сигналы трудящихся о злоупотреблениях…» «Вот, вот!» читала ведь сама, чего же меня заставляешь! «…и лично…» «Это о тесте!» «…в деле подбора и расстановки кадров… бесконтрольность…» «Говорила я ему!» «…беспринципность, порождающая обстановку безответственности…» «Так, так». «…безнаказанность…» «А ну-ка покажи! — Мамиш показывает, и она вчитывается: — «Без-на-ка-зан-ность». Ай-ай-ай! И мы породнились с ним! Я такие подарки им понесла на обручение!.. — Смотрит на Мамиша, и за стеклами удивленные глаза. — Ай-ай-ай!» Но это было потом… А Хасаю, раз Рена говорит, что Гюльбала прав, ей виднее, чего ради портить кровь на ночь глядя? Сын ведь, не чужой, поспорили, и хватит! — Я расскажу вам занятную историю о красных тридцатках! Однажды в разгар веселья, это было в том же сорок третьем, к нам постучались. Смотрю, стоит щупленький мужчина, а в руках незачехленный тар держит, весь инкрустированный перламутром. Вспоминаю, что где-то до войны слушал его игру, мастер-виртуоз, бедняга умер недавно… Пришел, говорит, увеселить вашу компанию! Я его приглашаю, радуясь удаче… Но Гюльбала вскочил. — Нет, не удастся тебе заставить меня молчать! — И палец, словно револьверное дуло, на Агу и Гейбата: — И тебе я готов ответить, и тебе! В тот же миг — надо же, чтоб так совпало! — одна из ярких, похожих на свечу ламп в люстре, щелкнув, погасла, и все три брата, не сговариваясь, разом залились хохотом, и даже Мамиш не сдержал смеха: смешно вышло, что совпали и вспышка Гюльбалы, и щелчок лампы — казалось, и она испугалась его угрозы. Лишь Рена с беспокойством взглянула на перегоревшую лампу — где она найдет такую свечеобразную? Гюльбала растерянно, ничего не понимая, уставился на Мамиша и, видя, что и он смеется, часто-часто заморгал густыми ресницами, изумленно обвел глазами сидящих и, не говоря ни слова, сел, опустил голову. Кажется, он не слышал даже, как треснула лампа, не заметил, что погасла она, одна из дюжины. И все тут же замерли, оборвали смех — из глаз Гюльбалы крупными каплями на белую скатерть капали слезы. В нежданно наступившей тишине раздался тонкий голосок Октая: — Брат плачет. Глаза Рены округлились, лицо побелело, пошло красными пятнами. Она сорвалась с места и выскочила из комнаты. И Хасай первым заговорил. Он поднялся, обошел стол и, подойдя к Гюльбале, положил руку ему на спину. Сказал громко, так, чтобы и Рена слышала — ее замешательство было неожиданным и он почувствовал себя виноватым перед нею: — Да я изрежу на куски любого, кто осмелится косо взглянуть на моего сына, ранить его сердце! Не посмотрю, брат он мне или кто еще!.. Глаза Хасая повлажнели. «Как же это мы, а?.. — говорил его взгляд. — Что же мы, звери? Своего сына, а?..» — Рена! Рена! — громко позвал он. И Ага не ожидал, губы его улыбаются, а в глазах застыл страх. Гюльбала — и слезы! И Хасай вот-вот расплачется. Гейбат не понимал, что случилось, — хохотать еще, а хохот клокочет в горле, или бросаться на защиту Гюльбалы, ведь обидели племянника! И Мамишу еще ни разу не доводилось видеть плачущего Гюльбалу, он этого не помнит… Упали, прыгая на ходу с трамвая, больно очень, обидно, что брюки у колен порвались, Мамиш не хочет плакать, а слезы льются и льются, а Гюльбале хоть бы что. И Хасай ремнем его при Мамише, губы злые — раз, два, — Гюльбала отбегает, а ремень достает его спину. больно! не надо! Мамиш вот-вот разрыдается, а Гюльбала терпит. И нет слез. Будто отец не его ремнем: «Вот тебе! Вот тебе!..» стой! умрет! И вдруг Хасая осенило — он нашел выход из этой ситуации и для себя, и для Гюльбалы, и для всех. — Вы думаете, мне легко? Как тут не заплакать? А сколько слез пролил я во сне? Какого брата я лишился! Какого дяди… Гюльбала порывисто скинул руку отца и вскочил из-за стола. Поднимаясь, он то ли издал какой-то возглас, то ли прохрипел; будто от резкой волны, Хасай качнулся и отпрянул, Мамиш втянул голову в плечи, хотя никто и не собирался его бить, Ага и Гейбат заерзали, заметались, словно Гюльбала бросил гранату, и она вот-вот разорвется. Оправившись от мгновенного испуга, Хасай вдогонку Гюльбале: — Стой! Вернись! Дверь с шумом захлопнулась. На зов Хасая откликнулся тихий молчаливый парень, который ничем не выдавал своего здесь присутствия; смуглолицый голубоглазый старший сын Аги, память трудных тех лет, Али-Алик выбежал за Гюльбалой; то ли догнать и вернуть, то ли уйти вместе с ним. Али моложе Мамиша и Гюльбалы и отличается от «коренных» Бахтияровых и цветом глаз и прямыми каштановыми волосами. Никто не вернулся — ни Гюльбала, ни Алик. — Свои и повздорят и помирятся! — Хасай не мог себе простить минутной слабости и, выведенный из равновесия, трудно обретал прежнюю уверенность. — Рена-ханум, куда ты ушла, тут у нас чаи остыли, заваривай новый. И братья закивали. — Дури у него много в голове, особенно как выпьет. Хасай нагнулся к столу и шепнул братьям: — У Рены такая хрупкая душа… — И озирается на Мамиша: извини, мол, ты этого не знаешь, не успел узнать. — Чуть что не так, всю себя изводит. С Мамишем творилось непонятное: зря поддался общему смеху, это его смех потряс Гюльбалу — и ты с ними?! Кое-что новое о Теймуре; и насчет гордой строки в автобиографии… Встать, бухнуть кулаком по столу так, чтобы бутылки подпрыгнули. — хватит! — ты о чем? (Хасай) — о тебе и подлых речах твоих! — хватай его! Мамишу жарко стало. Спина вспотела. Вздохнул, чтоб воздуху набрать. Душно очень. «Гейбат слегка тронет, я сама видела, — рассказывает Тукезбан, — а голова, глядишь, как блин, сплющилась. Зверь!» А у самой голос дрожит. С чего это вдруг рассказывает Кязыму? То ли за свое «поучился бы у Гейбата!» неловко стало? Не помнит Мамиш. Собрались как-то все у Хуснийэ с Хасаем. Ага привел с собой товарища, щеголя с тонкими, как ниточка, усиками, высокого и стройного. Не то чтобы ухаживал за Тукезбан — упаси аллах, как можно здесь, в доме, при братьях!.. — просто оказывал знаки внимания: то в тарелку ей красную редиску положит, то кусок отварного мяса. Тукезбан, расстроенная тем, что Кязым не смог, как обещал, приехать в Баку хоть бы сына повидать, которому уже пять месяцев, сидела и хмурилась. Братья решили, что это из-за гостя. — Кто привел этого дохляка? — тихо спросил Хасай. Ага виновато опустил голову, — мол, если бы знал… — А мы его сейчас… проучим! — Хасай поднялся, полез через стол к гостю и ухватил пальцами его за подбородок. — Милок, а ну глянь на меня! — Что это значит! — Не нравится или нельзя? — спросил Хасай. — А? — Что за шутки? С гостем… — Ах, с гостем!.. — прервал его Хасай. И цап его занос. Так крепко сжал, что у того вмиг на глазах слезы выступили, лицо стало темно-багровым, как и нос. — Как вы смеете?! — Гейбат, проводи дорогого гостя! И Гейбат вскочил, погнал гостя к балкону. Что-то грохнуло, покатилось по ступенькам вниз. Хасай выглянул в окно. — Будешь знать, — бросил он вслед, — как себя вести. Все произошло так стремительно, что Тукезбан даже не поняла, что случилось. — Дикари! — Это Гейбату, когда он, довольный, вошел в комнату. А Гейбат будто и не слышит. — Хороший клиент попался! — Звери! — А ты потише, сестра! — упрекнул ее Хасай. — Из-за тебя ведь. Губы ее дрожали. — Сама же просила! — изумился Гейбат. — Я? Ну, знаешь!.. — отбросила стул и пошла к спящему Мамишу. А Мамиш глянул на себя, пятимесячного, над которым склонилась мать. И молоко горькое, а он молчит, слышит только, как гулко стучит сердце у нее, и за ее спиной Теймур: тоже пошел на Мамиша взглянуть. И смотрит, как Мамиш кулачки сжал, себя по носу бьет. Тогда, когда ему об этом рассказывали, Мамиш гордился тем, что у него такие дяди, с которыми ничего не страшно, — отвадили от матери того с тонкими усиками. И правильно сделали, что прогнали. Пришел в гости, сиди смирно, не лезь. А теперь Мамиш вздохнул, руки у него холодные, но молчит. Появилась Рена, братья заерзали, зашевелились. Новый чай — новые разговоры… Мамиш вскоре ушел. Гейбат, чтобы как-то отвлечь Хасая, спросил: — А как же с таристом? — С каким таристом? — удивился Хасай. — Ах, с ним! — вспомнил. — Да, занятная история, жаль, Гюльбала помешал! Хасай был человеком вдохновения, а крылья обрезали. И чтоб отойти душой, попросил Рену: — Дай мне тар, я лучше сыграю вам. А история с таристом была вот такая. Пировали у Хасая, и вдруг кто-то в дверь стучится. Хасай вышел и тотчас узнал тариста из знаменитого рода музыкантов, не раз слушал его в филармонии. — Пришел для вас играть. Вижу, компания у вас собралась, а музыки не слышно. — Но… — Хасай не хотел видеть лишних людей за столом. А тарист решил, что тот думает об оплате. — А я даром! Буду играть сколько хотите! Хоть всю ночь! Появление тариста, да еще такого знаменитого, было встречено восторженно. Тарист, как это принято, начал с серьезных народных мелодий, с мугамов, но Хасай прервал его — ведь люди собрались повеселиться! И перевел его на песенно-народные лады, даже спел одну песню: — Ты откуда, откуда, журавль? Вероломным охотником раненный журавль, раненный, раненный, раненный журавль… Затем пошли танцевальные мелодии; столы отодвинули и начали плясать. Тарист не просил передышки, а Хасай не знал устали. — Давай европейскую музыку! Тарист знал и это; разучил и из «Маленькой мамы», и из «Петера». — Нет, это ты играешь плохо! Как ножом по стеклу! — Ну что вы, — попытался возразить тарист. — Мы тоже кое-что в музыке смыслим! Давай другое! — Заказывайте! — «Най-най-най-най, на-на-най!..» — запел Хасай. — Вот эту! Понять было трудно, но тарист попытался сыграть. — Да ты простую мелодию уловить не можешь! — «Най-на-най-най…» — подхватил другой, и тарист понял. — Ладно, эту песню знаешь, но тоже, между нами говоря, чуть-чуть фальшивишь! — Тарист стал раздражать Хасая; чуял он, что тот пришел с просьбой и поэтому находится в его власти, и Хасай может говорить ему что угодно. — А ты покажи нам что-нибудь этакое! Я видел, как играют! Держат тар, к примеру, над головой или даже за шеей! Вот так попробуй! И тарист, как Хасай точно рассчитал, стал показывать свое умение: то на груди тар, то закинут за шею, то поднят над головой. — Мне бы такой тар! — говорит Хасай. — Я достану вам. — Пока достанешь, война кончится! И тут Хасая осенило: «С мобилизацией связано!» Он вспомнил, что вызывали тариста. — Дайте срок, не достану, свой подарю! — А ты оставь его мне в залог! — «Так и есть!» — обрадовался Хасай своей прозорливости. — Тар оставишь, а сам… а сам будешь приходить ко мне и учить играть! Давно мечтал, да руки не доходили! — Учить буду, только… — Тарист усмехнулся. — В армию берут? — Да. — А почему бы не пойти защищать отечество? — А я готов, только врачи не пускают, болен я. — Ну и что дальше? — Хасай нахмурился, сузил глаза, прощупывает тариста. — Только не пойму, почему меня каждую неделю вызывают, от работы отрывают. — Кто? — Ваш заместитель. Вот почему я и решил прийти к вам, побеспокоить. — Ах, он!.. — «Так… — мелькнуло у Хасая. — За моей спиной, значит!» — Это я улажу. Тарист вздохнул. — Нет, ты свой тар оставь! И весь год тарист учил Хасая. Вот он, тар. Хасай давно не притрагивался к нему, пришлось долго настраивать. И все терпеливо ждали, понимая, что перебивать нельзя, пусть Хасай играет как может. — Начни же! — говорит Рена. — Еще не настроил, — отвечает ей Ага. — А чего глаза закрыл? — Он для себя играет, а для нас настраивает, — пытается шутить Гейбат. — Хитрый какой! — говорит Рена. — Слышишь, перестань настраивать, играй! — просит Рена. — И, пожалуйста, открой глаза! чтоб мы видели, какой ты есть, чтоб прочли о твоих подлостях, добавил бы про себя Мамиш, не уйди он раньше времени. А Хасай никого не слышит, настраивает и настраивает тар, прикрыв глаза. Что они понимают — и Рена, и его братья? Хасай настраивал, думая о скоротечности жизни: «Ай, как годы бегут!..» — и ему было жаль старика тариста, который недавно умер, жаль, что те времена, когда он был молод и полон сил, канули в небытие и их уже никогда не вернуть. Инкрустированный перламутром, чуткий и послушный тар. Сколько лет прошло, а тар и сейчас как новый. Никак не настраивался, а братья терпеливо ждали. Прикрыл веками глаза, перебирая струны, вспоминая ушедшие, умчавшиеся годы. — Все, — сказал Хасай. И братья ушли.
Даже в жаркий летний зной очень прохладно в этих возвышенных частях города; в микрорайоне, как на высокогорном пастбище. Милое дело отсюда пешком спускаться в город. Слышишь, как он грохочет, как дышит, большой и живой. Идешь и идешь, охватив его взглядом весь, щедро залитый огнями гигантский массив, именуемый родным городом, где немало домов, тебе близких, и каждая улица — твоя; и ты чуть ли не сросся с его деревьями, камнями, людьми; где есть и твой угловой дом, куда ты приходишь всегда с замиранием сердца и болью: здесь ты родился; дом, полный голосов, увы, уже ушедших; и никто тебе не знаком; и каждый раз выбегает тебе навстречу кто-то очень похожий, из далекого детства, ты сам… Мамиш шел и шел, и ему приходилось порой чуть ли не бежать, когда перед ним возникала улица, круто сбегающая вниз. Идет, идет, а с ним его тени, отбрасываемые фонарями. Тени, тени, много теней расходится от тебя — прямые, с изломами, длинные, короткие вдоль улицы сбоку, спереди, сзади… Сколько теней!.. Но одна тень — каждый раз главная, она темнее других. Идет, идет, и за ним его тень. И вот уже, длинная-длинная, бежит впереди, идешь, догоняешь, на голову свою наступил, а тень уже сзади, за спину ушла, вытянулась. Идешь, идешь, она взбирается на стену, выше тебя, ломается на балконе и снова намного впереди тебя, и ты догоняешь, еще шаг, и ты топчешь голову… Только хотел Мамиш во двор юркнуть, как с угла окликнули: Гюльбала; с Али прощается. Странно, как показалось Мамишу, посмотрел на него Али и тотчас ушел. — Что с ним? — Я о многом должен рассказать тебе!.. — Сели на мраморную ступеньку, что ведет в дом с парадного входа, давно уже заколоченного, зажгли сигареты. — Завтра мне на работу. — Тебе все всегда некогда и некогда! — Не обижайся… — Новая трудовая неделя начиналась; семь дней и ночей на море. — Тут не до краткости, разговор такой, что… Но получилось по Мамишу, ставни крытого балкона-фонаря с грохотом распахнулись: — Гюльбала? Ты? А кто рядом? Мамиш? Что так поздно?! Гюльбала иногда приходил сюда ночевать, жена знала, мирилась с этим, кажется. О разговоре не могло быть и речи; поднялись каждый к себе, в свой отсек коридора. Только собрался Мамиш лечь, как раздался такой вопль, что Мамиш вздрогнул. Голос Хуснийэ взорвал ночную тишину, ударился о стены и отскочил к соседям, в другие дома квартала. Хуснийэ-ханум клялась отомстить братьям Хасая (один — «шакал», другой — «гиена»), разоблачить их «грязные проделки»; Рена еще поваляется у нее в ногах, уж она ее потопчет, эту… (перо сломалось под тяжестью слова). А потом набросилась на Гюльбалу и прогнала его («Нечего шляться по чужим домам»). Дверь хлопнула, послышалась дробь сбегающих шагов, затрясся дом. Хорошо еще не задержался Гюльбала возле комнаты Мамиша, не то беда — не миновать и ему тогда гнева Хуснийэ-ханум. Это знал и Гюльбала, пожалел Мамиша, проскочил мимо. Но не успел Мамиш сомкнуть глаза, как нетерпеливо постучали к нему в окно; делать нечего, пришлось открыть и впустить Хуснийэ-ханум. С ходу посыпались упреки: — Как не стыдно! Что ты за человек! Рабочий парень, член бригады коммунистического труда, работаешь на Морском! Почему-то надела очки. А Мамиш слышит и видит иную: «Прочти, что здесь написано!» И Мамиш читает, а потом сама вчитывается по слогам, губы что-то шепчут и шепчут, на лбу морщинки, и две глубокие собираются над переносицей. А память! Что прочла — врезалось в сознание, бралось на вооружение. — Что случилось? — И ты еще имеешь совесть спрашивать? С кем дружбу водишь, парень? Подумал бы прежде! ты права! — Это же мои дяди, разве вы не знаете? — Дяди! Разве это люди? Это же хищники! Лютые звери! один из них — ваш законный муж! и Октая вы признали, как сына принимаете! — Здесь мне салам говоришь, а потом за один стол с моими врагами садишься, чокаешься с ними! Такого лицемерия я от тебя никак не ждала! «Ага! Выведала у Гюльбалы! Разговоров теперь не оберешься!» ругай! ругай! и хорошо, что разузнала! — Разве тебе не известно, что от меня ничего не скроется? Этому Аге я всю душу вытрясу, еще поплачет он у меня! отлично! — Али я так напущу на него! В клочья разорвет!.. Выяснила, узнала я, где его мать! Спасибо Тукезбан, век не забуду ее услуги, помогла мне разузнать, написала мне! И без того плох сон у Мамиша, а тут он разом его лишился. Мать написала? Но почему он не знает? Или придумывает Хуснийэ? В наше время нетрудно узнать — запроси в центре, мигом разыщут. Вот, мол, скажет дядям, ваша родная сестра помогла!.. Хлебом не корми, дай разжечь страсти. — А почему мне мать не написала? — Постыдился бы! Не веришь? Я покажу тебе завтра письмо, написанное ее рукой! ай да мама! молодчина! — И Гейбату еще попорчу кровь, он у меня попляшет! Пепел на голову Хасая! Рена стреляет глазами, ей таких, как вы, подавай, одного вашего намека достаточно, а он, старый ишак!.. Да я бы на вашем месте… — Но тут осеклась, заметила, что взгляд Мамиша странно изменился, что наступил предел, который переступать небезопасно. Вихрем ворвалась — вихрем унеслась, аж искры из-под ног. Вот и усни теперь. Уснешь на миг, а разбудят — и сон долго не идет. «…стреляет глазами, ей таких, как вы…» неужели? и с нею — как со всеми? «…одного намека…» Приходит Хасай домой, а дома Р. Никак не может Мамиш, выше его сил представить Р с Хасаем. Он и она… Нет, что-то не укладывается! И Хуснийэ тоже не может, и потому: «…ей таких, как вы…» Как их соединить — Рену и Р? «Ага в телогрейке был, весь пропах углем». При чем тут Ага? А рядом, закутанная с головы до ног в серую грубую шаль, небольшого роста женщина. Тревожно озирается по сторонам, прижимает к груди хнычущего годовалого малыша. «Как приехала, так и вернулась». А свадьбу Аги Мамиш помнит хорошо. Сама Хуснийэ нашла ему невесту, чернобровую красавицу сосватала. А теперь — сына против отца и мачехи. «Ай да Хуснийэ!» От Рены долго скрывали подлинную историю Али-Алика, об этом знали лишь братья и Хуснийэ-ханум; да что Рена, даже Тукезбан, чтоб не узнал чужак Кязым, убедили в том, что мать Али умерла. В какую-то минуту Хасай все же проболтался Рене: ему хотелось доказать ей, что между ними нет никаких тайн, что он настолько ее, что идет на риск, выдает тайну, за которую, захоти Рена, Хасая по головке не погладят, открылся ей Хасай как раз в тот день, когда она вернулась с Октаем из роддома; Рена, к удивлению Хасая, ополчилась на мать Алика: «Как же могла она оставить сына?! Я знаю, вы можете так припугнуть, одна твоя ханум чего стоит!.. Но мать?! Как она могла?» Рена и рассказала Алику. В отместку Мелахет, которая встала на сторону Х.-х., «законной» жены, даже после того, как Рена родила Октая; Мелахет высокомерно поджимала губы при виде «игрушки», которую дали в руки «ребенку» Хасаю и с которой он не может расстаться. Рене хотелось приобрести союзников в борьбе с Х.-х. и Мелахет. А Мелахет эта история окрылила: Али, слава богу, не сирота, у него есть мать и Мелахет никто из Бахтияровых не вправе упрекнуть за то, что она палец о палец не ударила, чтобы через именитого троюродного брата помочь Али поступить в университет; и Агу удержала: нечего иждивенца растить, пусть устраивается сам; Али не поступил, а потом, когда его взяли в армию, Мелахет два года блаженствовала, хотя стало труднее без помощника в доме. Рена сначала заронила в душе Алика надежду: «Кто тебе сказал, что мать умерла? Может, это слухи?» А потом: «Я наверняка знаю, что жива! Они ее выпроводили!» Вспыхнул гнев на отца, но Рена добавила: «Насели они на отца, особенно ханум, он и струсил». Гнев на мать тоже отвела Рена: «А что ей, бедняжке, оставалось делать? Убедили, что тебя уже нет». Светло-светло перед глазами на миг возникла картина — встреча с матерью. И только это, и ничего другого: ни гнева на отца, ни неприязни к Хуснийэ-ханум, только обида непонятно на кого, а потом и она растаяла: жива мать, как она обрадуется тому, что он жив! Узнай Алик об этом раньше, он бы, демобилизовавшись, поехал искать ее, но как быть теперь? Когда до Хуснийэ дошло, что «безмозглый Хасай» проболтался, у нее нежданно родилась идея перехватить инициативу, приобрести в лице Али нового союзника, направив пущенную в нее стрелу против ненавистных братьев. Не Рена, не Хасай, не Ага, а именно она, Хуснийэ-ханум, поможет Али… И пошло: Москва, адресное бюро, Тукезбан (и ее против братьев!). «Готовься, Али!..» Но Али «быть умницей» — запастись терпением, не спешить, на носу защита дипломного проекта! И вникает, вникает Хуснийэ-ханум, она это очень любит, в суть этого проекта будущего архитектора-строителя: «Ах, как интересно!..» Искренно, с восхищением, до слез в глазах вникает, а Али вдохновлен, рассказывает, как надстроить старые дома, соблюдая общий рисунок, восточный стиль; у домов крепкие фундаменты, прекрасный белый камень, они выдержат еще два этажа!.. Хуснийэ-ханум очень хочет понять Али, восторженно разглядывает чертежи, ничего в них не смысля. «Ай да мой Али! — говорит. — Скажи честно, неужели это все ты сам придумал? Мен олюм, честно скажи!»; «мен олюм» — мол, «да умру я», заклинает она, присказка такая. Али льстит участие Хуснийэ-ханум, никто не поинтересовался, а она вникает, да с каким еще восхищением. «А наш дом как? Выдержит? Он тоже из белого камня. А какой кружевной орнамент! Какая резьба!..» «Что ж! — говорит Али. — Со временем можно и надстроить, только…» — и умолкает, не хочет огорчать Хуснийэ-ханум, потому что слышал о будущем этой улицы, о том, что угловой дом подлежит сносу. Он и проектирует надстройку через три квартала отсюда двух прекрасных особняков-дворцов, подлинных произведений азербайджанского зодчества; угловой дом уступает им по габаритам и по архитектуре. Именно они по реконструкции должны украшать будущую улицу; а Хуснийэ-ханум не огорчишь; слыхала она об этих проектах, но чутье подсказывает, а пока оно не обманывало, что еще неизвестно, кто кого переживет: план или дом; население растет с быстротой, какая не снится другим городам, по темпам чуть ли не на первом месте в стране; вряд ли расщедрятся настолько, что станут ломать их дом. «Непременно спроектируй! — говорит она. — Он и нас с тобой переживет, и правнуки наши увидят его». Мамиш закрыл глаза, но веки подрагивают. В мировом океане — Каспий, на Каспии остров, на острове буровая, на буровой — Мамиш. Хорошо, что работать в ночной смене. Плывет и плывет теплоход. Утренняя теплынь сменяется зноем, жара разлита повсюду, негде спрятаться. В воздухе ни дуновения, ни подобия ветерка, слой за слоем застывший зной. Поверхность моря, как зеркало, слепит глаза, когда смотришь, собирает палящие лучи и, отражая их, нещадно опаляет лицо. В такую погоду спать в густой тени на ветерке под стрекот кузнечиков… Вздремнул Мамиш чуточку, а этого порой хватает, чтобы взбодриться. Повезло, что работать в ночной, с восьми вечера до семи утра. Сравнительно прохладно все же. Тем, кто днем, труднее: море — зеркальная гладь, отбрасывающая солнце все целиком, будто приоткрыли крышку кипящего казана и горячий пар бьет в лицо. Мамиш однажды крикнул: «Не могу больше!..» И побежал. Бежал, бежал — и в воду с эстакады. И долго потом головы ломали: что с ним теперь делать? Наказать? Уволить? Премии лишить? А Мамиш искупался и не остыл; остыл, когда премии лишили и выговор закатили. Ревет мотор, лязгают тяжелые цепи крана, скрежещут трубы, уши от гула закладывает. И когда спишь, долгий гул в ушах и крики мастера и верхового. И большие удивленные глаза Расима глядят на тебя то ли на дюнах, то ли здесь, на море. Спать, только спать… Сдал работу своему тезке Мамеду, а тот сдал Мамишу свою постель-кровать. И Мамиш видит сны своего тезки, как тот — сны Мамиша. Это придумал Мамиш, хотя никаких снов, когда спишь. Прозвали того Мамед Второй, потому что Мамиш — Мамед Первый, хотя и пораньше Мухаммеды-Магомеды были, много-много Мамишей. Спать, спать… Добираешься до кровати, камнем падаешь и спишь беспробудно, и не замечаешь, что душно. Что простыня горячая, липнет к телу. А потом морской душ. И считай, что мать родила тебя только что — свеж, как колодец. Все глубже и глубже. С наклоном, отклонением, эта Гая придумал, чтоб добраться до слоя. Прямо не доберешься, там глубоко, и буровых оснований таких еще не придумали. Мало осталось. Еще несколько дней, и вырвется, а ты держи пока, вкачивай раствор, чтоб раньше времени не вырвался из глубин густой поток. И по трубам потечет в гигантские серебристые резервуары в открытом море, оттуда — в чрево танкеров и снова — по трубам на заводы… Черным-черно лицо моря, будто не вода кругом, а пропасть. От гула эстакада дрожит под ногами. Трубы удлиняются, ввинчиваются с отклонением, и Мамиш ротором будто крутит и крутит землю. Уснул Мамиш. Даже Хасай Гюльбалаевич спит. Вспоминать не хочет, а может, забыл и оттого спит спокойно, почему Теймур раньше положенного добровольцем ушел на войну. И настоял, чтоб ни на какие курсы, а прямо на фронт.
Уж так случилось, что Теймур знал двух близнецов. Старший на час — Ильдрым, а второй — Идрис. Идрис проучился четыре года, а потом как умственно отсталый, с «прогрессирующим тугоумием», был отчислен из школы и вскоре, будучи физически здоровым, устроился в подручные к старому частнику сапожнику, что сидел в своем закутке напротив углового дома. — Прокати меня, дядя! — попросил однажды долговязый Идрис шофера крытого грузовика, привозившего из пекарни хлеб в лавку на бывшей Базарной — угол бывшей Физули, рядом с бывшей трамвайной остановкой, где теперь широкий проспект. А почему бы не прокатить? Садись! Идрис стал помогать шоферу загружать машину в пекарне и разгружать в окрестных лавках. Только ради того, чтобы прокатиться, Идрис, за которым утвердилась кличка Дэли, Дурачок, стал рабочим, хоть и не получал за это никакого вознаграждения — лишь через год, когда ему вручили паспорт, его оформили подсобным рабочим. — Дэли, что ты делал? — спрашивали его дети на улице. И Идрис, с виду такой рослый, с наивностью ребенка шумно изливал свой восторг, громко гудел на потеху малышам: — Завтра опять кататься буду! В тот год, когда сабля из нержавеющей стали одного нашего знакомого, по его же свидетельству, творила чудеса, братья получили повестки из военкомата. Ильдрым, безусловно, был годен защищать отечество, а Идрис… Но дело в том, что к тому времени в угловой дом уже дважды приходила с соседней улицы женщина, умоляла спасти племянника и, еще не получив согласия Хуснийэ поговорить с Хасаем, надела ей на палец кольцо с крупным бриллиантом, и рука Хуснийэ-ханум точно заиграла. Оно было чуть маловато, и пухлый палец тотчас захватил кольцо. «Если это задаток…» — подумала Хуснийэ. Верни она кольцо — у нее самой тоже были кольца (это чувство вспыхнуло и, увы, погасло тотчас…), — выстави она знакомую (это желание тоже возникло, но вмиг испарилось…), кто знает, как бы обернулось ее будущее? Но снять кольцо — что оторвать палец! Шутка сказать — помочь! Спасти!.. Есть разнарядка!.. И в пору раздумий Хасая перед ним возникла фигура Идриса. И Хасая осенило. — Нет, брата посылать нельзя, он же болен, — изумился Ильдрым. — Не учи нас, мы знаем, что делаем! — ответил Хасай. — Без тебя разберутся. — Я тоже иду на войну! — ликовал Идрис. — Ты же видишь, — сказал Хасай Ильдрыму, — без тебя он не может, куда ты, туда и он. Ильдрым решил, что Хасай или шутит, или Идриса жалеет, с братом разлучать не хочет. — Меня на фронт берут! — говорил Идрис соседям по улице, а те недоуменно пожимали плечами, мол, кто-то кого-то дурачит. Хасай понимал, что на первом же городском призывном пункте Идриса отпустят, но важно, что к этому времени уйдет и рапорт о плане по району; а пока можно оттянуть срок призыва того, у кого мешок с тридцатками. Идрис не успел пройти и двух верст от районного пункта до городского, как его демобилизовали; он вцепился в Ильдрыма, лил слезы, и его с трудом оттянули; конечно же, решили вслед за Ильдрымом, «пожалели Идриса в районе». — Ну как, отвоевался? — спросил его старик сапожник, качая головой. — Ну и дела!.. — Спросил при Теймуре, стрельнув в него презрительным взглядом. А потом Теймур слышал, как сапожник рассказывает кому-то: — Видал, какой умник этот Хасай? Дурака забирает, а своего всеми правдами и неправдами оберегает! (Хотя Теймуру еще не пришел срок идти.) — Слушай, — позвонили Хасаю, — кого ты нам посылаешь? — Но он рвется!.. — Хасай увильнул от разговора и решил рискнуть еще: мол, недоглядел. На сей раз Идриса отпустили через неделю, аж до станции Баладжары, где был призывной пункт, протопал; Хасай получил грозное предупреждение, и «фронтовая карьера» Идриса оборвалась. Но дважды высыпались на двуспальную кровать красные тридцатки, и Хуснийэ-ханум особенно понравились старинныесерьги с полумесяцем и звездочкой-бриллиантом. «Вот как призовут меня!..» — хвастался Идрис. Дети хохотали, а старик сапожник прикрикивал на них: «Не сметь!» По привычке Идрис еще несколько раз прошелся по улице, выкрикивая: «Я иду на войну!» — а потом забыл и, подолгу о чем-то напряженно думая, молча сидел на низком стуле сапожника и смотрел, как тот стучит молотком. Кстати, Дэли Идрис и сейчас жив, переехал отсюда и живет у брата, который получил новую квартиру на всю семью за оперой. Идрис — грузчик в центральной пекарне, и не поверишь, что с Ильдрымом, который, бывает же такое, без царапинки вернулся с двух войн — немецкой и японской, — они близнецы; Ильдрым до волоска седой, а у Идриса черные-черные волосы и глаза молодым огнем горят. И он не помнит ни старика сапожника, который умер, а закуток его снесли, ни тем более Теймура.
Хуснийэ-ханум поджидала Мамиша, подперев бока кулаками, как это она обычно делала: «А Гюльбала тебя ждал, ждал. Очень просил, как только появишься, чтобы шел к нему». Мамиш не успел еще переступить порог дома. Он чертовски устал. Мечтал еще на теплоходе, придя домой, завалиться спать и спать. Пришлось лишний день задержаться на Морском. Даже чая попить не успел. И Мамиш пошел. Вверх по улице. К Гюльбале. Устал, не хочется идти, ноги еле двигаются, но попросил Гюльбала, они не успели тогда поговорить, и Хуснийэ помирилась с сыном и не сердится на Мамиша, как же не пойти? Какая нелепо крутая улица, но вот и дом Гюльбалы, вот его квартира, дверь отворил сам Гюльбала, и для Мамиша открылась
ГЛАВА ТРЕТЬЯ — глава диалогов, глава новых знакомств, рассказ о том, что комната задыхалась в дыму, а в пепельнице громоздились окурки. Запомнилось, никогда не забудется: чуть початая бутылка водки, брынза, зеленый лук, белая, как яблоко, редька, вареные яйца. А потом нелепое: «Где жена?» — Отослал к родителям, пусть утешает отца-пенсионера. — Это Гюльбала о тесте, и через стекла очков на Мамиша смотрят удивленно расширенные глаза Хуснийэ-ханум: «Ай-ай-ай!» И она по слогам читает: «Без-на-ка-зан-ность!» — Ссора? — Проходи, садись. Чем тебя угостить? Только не проси чая, заваривать неохота. Наполнил рюмку и протянул Мамишу. — А сам? — Я не буду. Новость — он выпил, а Гюльбала смотрит. — Слышал? — О чем? — О поездке Али. — Что за Али? — Ну, Алик, сын Аги. — Ах, Алик! — протянул Мамиш. — Уехал? А куда? — Какой ты тупой стал! Выпей еще. Давай рюмку! Значит, Али поехал искать мать!.. Ну и что он будет делать, когда найдет? Больше двадцати лет прошло! — Думаешь, ненужная затея? Нет, глубокий смысл есть в этой поездке! Пусть раскусит своего тихоню отца! — И тебе, и мне он дядя. — Спасибо, разъяснил! Я знаю, как ты любишь своих дядьев, и Агу в том числе. Очень тебе по душе его лисьи мордочка. — Пью за тебя! — Посадили Али в самолет и в Бодайбо! — Ты что, за этим меня позвал? — Мало? — Нет, но все же я с работы, трудная неделя была. Спокойный разговор. — А чего задержался? — Заклинило трубу так намертво, что весь день провозились. — Намертво, говоришь? — И почему-то побледнел. Мамишу это, конечно, померещилось, он додумал потом. — А Гая тут как тут, спас положение, да? — Откуда ты знаешь? — А ты поподробнее расскажи, вот и скоротаем отпущенное нам время! Нет, это было Гюльбалой сказано беззлобно, и «отпущенное время» всплыло в памяти потом, после того, как все случилось. А тогда одно лишь сверлило: «Смеет еще издеваться!» Встать бы и уйти! Надо было! Чего расселся? Но Гюльбала не за тем звал, чтобы так легко распроститься. — Ладно, не заводись! Я с тобой долго буду говорить, всю ночь! — Устал я. Вот и уйди! — Камни, что ли, таскать заставляют? Болтовня одна! Уж тут-то не надо было медлить! Не дать ему сказать! Встать и уйти, чтоб не слышать больше ничего. Все и так ясно. А потом такое пошло, что уйти уже было невозможно. При чем тут древние дастаны? «Я такие дастаны тебе расскажу!..» Надо было уйти! За что Мамишу все это? Почему, как поют ашуги, черная кровь должна течь в нем, густая и тяжелая, почти как нефть? Разве недостаточно того, что до этой крови они добираются там, на острове? И пошло! И пошло! А Гюльбала говорит, и его уже не остановить, не заткнуть ему глотку. — Я такие тебе дастаны расскажу, что сон как рукой снимет! Как тебе, к примеру, такой дастан «Гюльбала — Рена»?! чудовищно! Лицо Гюльбалы побелело, и рука, которую он протянул, чтобы взять рюмку, мелко задрожала. Мамиш снял руки со скатерти и с грохотом отодвинулся — только и всего? — от стола, стукнувшись стулом о стенку комода. Гюльбала прошелся по комнате, потом встал прямо перед Мамишем, вплотную нагнулся к нему. — Знали два человека — я и Рена. Теперь знаешь и ты. Но плохо, когда о такой истории знают три человека. ложь! — Тогда не рассказывай. — Не бойся, не омрачу твой чистый дух! язык твой вырвать! «Почему он на меня не смотрит? «Познакомились мы на пляже…» Кому это нужно и так ли важно? Что же дальше? Дальше что? И дурацкий вопрос: «Когда это было?» Непременно узнать!» — Подожди, узнаешь!.. Вскочил, вижу, сопляк пристает к девушке. «Отстань!» — говорю ему. Полез ко мне драться, я его, как щепку, отшвырнул, он поскользнулся и в брюках плюх в воду. А она дрожит от страха! Я к ней, и вдруг сзади что-то мокрое на меня прыгает. Гляжу, опять он. Сбросить было трудно, цепко повис, к земле тянет. И царапается! Я его и так, и сяк, а он висит. Только избавился от него, как на меня его дружки… Чудом спасся! «Надо было уйти! Еще не поздно! Встать и уйти!» — Я взбешен, а она успокаивает. А руки!.. Как прикоснется, тут же боль утихает. — Почему я не слышал об этом? — Не было тебя в Баку. — В армии был? «Ухватился за спасительное! Мол, в армии был, и дело мое ясное, без меня, дескать». — Нет, из армии ты уже вернулся. — Когда же?! — Чего орешь? — Год назови! — Год! Говорю, не было тебя в Баку! Но чего это тебя так волнует! Мамиш вскочил и на Гюльбалу. — Да стой ты, чего взбесился? Ну, ладно, не буду, сказал, не буду! Так и задушить можно… Давай за любовь! Чтобы нас любили, как я ненавижу! Пей! — Дальше что? — Ага! Заинтриговал! Дальше была любовь! «Стой! Ни с места! Пусть расскажет!» — В каком смысле? — Как в каком?! Нет, никто не поймет меня! И ты не поймешь! Разве ты испытал нечто подобное?! И вряд ли испытаешь когда! — Это почему же? — Да потому, что разделен ты на части и все у тебя по полочкам. Здесь у тебя любовь, здесь работа, а здесь — еще что-то. — Красиво! Но разве работа… «При чем тут работа?» — Вот-вот, — перебил его Гюльбала. — Мура на постном масле, от запаха которого меня мутит. — А ты рассказывай! Что дальше? — Я сказал отцу, что хочу жениться. А он: «С кем породниться хочешь?» Кинулся искать защиты у матери, думаю, она меня любит, трясется надо мной, «любимый мой, родной мой» и так далее, но и она: «Кто ее родители?» А у нее даже отца нет. знаю! — …что я мог Рене предложить? — Взял бы и женился! — А где деньги взять? У тебя? У своей богатой тети Тукезбан? — При чем тут деньги? — Вот-вот! Ты же у нас из другого мира, случайно тут оказался. — Но если и она любила… — Не в ней дело! Это ты бы мог, а я не могу — взять да жениться!.. Ох, с каким бы удовольствием я ограбил своих родителей! Умолк. Подошел к окну, свесился по пояс. Долго стоял так, высунувшись наружу. Потом выпрямился. — Отдышался, и стало легче. — И что отец? — Отец — мясник! Особенно по части бабьих печенок, сырыми их ест! — Она знала, что он твой отец? «Нет, это бред какой-то! О чем я спрашиваю?» — Было уже поздно, когда узнала. Он давно за нею охотился, и она рассказывала мне об ухаживаниях какого-то седого мужчины, я думал, разыгрывает, ревность вызвать хочет. А мой отец знаю!.. искусно плел сети, и она попалась. Однажды Рена пропала, и это я знаю! исчез тогда и мой отец. Потом она объявилась и оставила мне записку, что вышла замуж. Он купил для нее эту самую квартиру в микрорайоне. И об отце, и о квартире я узнал полгода спустя. Я знал, что он содержит любовницу, знала и мать, но что это именно Рена, в голову не приходило. отец твой хорошо угостил нас тогда! «Ну вот, я пригласил вас к себе, хочу познакомить с новой женой!» А с Мамишем уже не раз говорил Хасай: вот, мол, и перед тобой я чист, дорогой мой Мамиш, но ничего, я найду тебе хорошую девушку! Да, я как-то вас видел… Жаль, жаль, хар-рошая девушка была!.. «Ну вот, братья мои дорогие, сын мой, ты уже взрослый и должен меня понять, племянник мой любимый, представляю вам, вернее, представляю вас моей новой жене Рене-ханум! Кто меня любит — тому и Рену любить!» И на Мамиша взгляд: «Ты, конечно, понимаешь, о какой любви я говорю?» Гейбата помнит Мамиш, тот расплылся в улыбке, будто царице его представили, заулыбался и Ага, а вот Гюльбалу он не помнит. «А кто ее не полюбит, того я из сердца вон», — и пальцем черту в воздухе. И все на Мамиша, на Мамиша поглядывает, а ей хоть бы что, смотрит влюбленно на Хасая… — О, эта записка!.. — А… до тебя у нее был кто? — Говорю тебе, я у нее первый! — А ты вспомни! — Ухаживал за нею какой-то чудак, но это не в счет, так, воздыхатель. Да, кстати, она называла его имя, как твое точь-в-точь… Мамишей, ясное дело, много. Гюльбала стоит на балконе. «Кто это выжег? Ты?» — «Нет». — «Вот это — Р?» — «Да нет же, говорю!» — «Но здесь есть и М, значит, ты, а вчера не было, я помню, — провел пальцем. — Видишь, свежее, увеличительным стеклом выжгли. Ты?» — «Почему я?» — и улыбается. «Слушай, — не отстает Гюльбала, — а откуда ты знаешь?» — «Что?» — «Не что, а кого, ну эту, Р?» — «Оставь, никакую Р я не знаю». — «Ну и чудеса! Не сама же она? А может, и сама?» — Очень много Мамишей… Что краснеешь? Слушай, а может, и ты в нее влюблен?! Ха-ха! Вот это да!.. Да отойди ты! Тоже вояка мне нашелся! Перед нею кто устоит? Ну, ладно, если не ты, скажу: она его бросила, молчун какой-то, сказала «ни рыба — ни мясо». неужели и с нею, как со всеми? Как в первый раз, во тьме, — ни лица не помнит, ни глаз, только голос: «Ну?» Это Гюльбала ему как-то: «А хочешь, тут у нас есть одна…» И повел его, заранее сговорившись: «Она уже здесь, иди». «Знаешь, где комната?» — спрашивает Гюльбала. «Знаю». А у самого голос дрожит. «Иди!» И Мамиш зашел в дом. Вот и комната. В ушах шумит, сердце гулко бьется. «Ну, иди сюда». Зашел, а шагу сделать не может. «Долго тебя ждать?» Свет луны в окно падает. Черноволосая. «Ну?» И потом: «А ты впечатлительный! Таким, как ты, только по любви». И было еще в Морском. В будку влез, спасаясь от жары; прохладно здесь было. «Иди сюда, здесь дует». Сидит в тонком платьице. И ног не прячет. Сел. И вдруг потянуло к ней. «Что ты?» А у самой тоже голос дрожит. «Что ты?.. Дверь!..» Вскочил, задвижку закрыл. «Ну что ты, что ты?..» И не помнит Мамиш, где он. Только: «Ой!» Губы, соль, жесткие доски. И под ними бирюзовая вода. Сухие, солоноватые губы… Потом еще раз виделись. Но больше не повторилось. «Нет!.. Сдурела я!..» «Ни рыба — ни мясо». Как ушла Р тогда, после лихорадки, Мамиш к ней звонил. «Это ты?» Очень похожи голоса Р и ее матери. «Кто вам нужен?» — «Извините, можно Р?» — «Кого-кого?!» Грозный голос. И «ду-ду-ду-ду». Еще раз позвонил. «А кто ее просит?» А потом: «Ее дома нет». — «Когда будет?» И снова «ду-ду-ду-ду». «Тебя каждый полюбит, — говорит мать дочери, — а ты не увлекайся!» Не для того взрастила в райском саду розовощекое яблочко, чтоб потом в мазуте испачкать! Варвара-ханум путала нефть с мазутом. «Надо сильную опору иметь», — поучала она дочь. Теща — почти ровесница зятя, но он ей «Вы, Варвара-ханум». А она ему: «Ты бы, Хасай…» — О, за эту записку («Слушай, слушай, как он этой запиской!..») дорого мне заплатила («Он может; бритвой, не спеша, и шелк трепыхается, как ленты бескозырки»). А потом плюнул на все, разорвал записку! Точка! — Вчера?! — Да! — И все это время?.. — Да и да! — Врешь! — И сам не знает, когда схватил его. — Врешь! — Да ты что? — опешил Гюльбала и тут же: — А может… Да нет, чушь какая-то. Отпусти, рубашку порвешь!.. Ха-ха-ха!.. А может, и ты с нею того!.. Бей, да не так сильно, черт тебя возьми! — Гюльбала щеку трет, но в драку не лезет. — Ладно… А может, — снова ухмылка, — и правда? А? А что? И мне вроде не обидно. Подпрыгнул, зазвенел стакан. — Могу не рассказывать! — Рассказывай. Так чей же?.. — Мамиш не докончил фразу. Не смог. Язык не повернулся. — Октай? — помог ему Гюльбала. И спокойно, как о чем-то второстепенном: — Не знаю. Да и какая разница? — А что она? — Чудак! Разве скажет? На перроне стояла, по саду Революции шли с нею, потом: «Познакомьтесь, это моя новая жена». А тут еще Гюльбала. И собрались лучи в пучок, жжется сухое дерево, закругляется палочка — Р. И Мамиш в этом пучке. Сейчас зазвонит будильник и Мамиш проснется: «Ну и сон!..» — Я понимаю. Ты думаешь: подлость! грязь!.. Да, все хороши, и я тоже! Будильник молчал, потому что Мамиша незачем будить, он сидит у Гюльбалы, скрестив руки на груди и отодвинувшись от стола, напоминающего недорисованный натюрморт: сыр пожелтел и края его загнулись кверху, а на белом срезе редиски прожилки, точь-в-точь как на отпиленном бивне мамонта, подаренном матерью. Да, Гюльбала и Рена познакомились на пляже, но что было дальше, Гюльбала скрыл. Об этом никто не знает, только он и Рена, и никого Гюльбала в этот мир не впустит. Знал один-единственный человек еще, но его уже нет. Гюльбала и Рена в тот день в город не вернулись, а пешком пошли по кромке берега, шлепая по теплой воде, и вышли к дому, где похоронен прадед Гюльбалы. Почему он привел ее сюда, почему пошла с ним Рена, и не объяснишь; Рена никуда не спешила, именно в этот день мать уехала к подруге, которая жила в двух часах езды. И останется там на ночь. Рена почему-то решила поехать на пляж одна, хотя договаривалась с парнем, но тот стал раздражать ее — будто она хрупкий сосуд какой, вот-вот упадет и разобьется. У Рены наступило то неясное ей самой состояние, когда ни о чем думать не хочется, когда, будто кому-то вопреки, идешь за тем, кто тебя ведет, и ты знаешь, что непременно что-то должно произойти, что-то важное, решающее, и ты переступаешь порог, который хочешь переступить, нетерпелива, нет сил остановиться, и боязно тебе, а ты все равно идешь, и ничто уже не в состоянии тебя остановить, идешь назло самой себе, перешагиваешь через запретную черту. Гюльбала иногда берет ее за плечо, и она вся замирает, тяжелеют ноги, и, если б не он, она бы упала, но он ее держит крепко, и она будто плывет и плывет по берегу. Пришли, он открыл калитку, смотрит во двор. — Эй, кто здесь есть? Никто не откликнулся. Вошли. — А вдруг собака? — Иди, не бойся… Эй! — кричит Гюльбала. Будто вымер дом. Ни на первом этаже никого, ни на втором. Самовар стоит теплый, дверь открыта, на балконе деревянная тахта, палас на полу. — Эй! — сверху кричит Гюльбала. Никого! Что за чудеса? Спустились снова во двор, даже в колодец Гюльбала заглянул, и Рена на свое отражение в круглом зеркале воды взглянула, не узнала себя. «А вот и случится!» — сказала ей та. «И пусть!» — ответила эта. И снова поднялись наверх, Гюльбала быстро взбежал, а у последней ступени сел, протянул Рене руки и ловко поднял ее, обнял, и она, ей очень этого хотелось, оказалась у него на коленях. И ушла в какое-то забытье. И отдаленно-отдаленно долетали до нее с порывом ветерка какие-то звуки. Ушло, оттаяло, сгорело все то, что сковывало, сдерживало, создавало напряжение, постоянную настороженность. Сгущались сумерки, она не помнит, как они оказались на балконе, как наступила ночь и когда они уснули. Рано утром калитка отворилась, пришла хозяйка и на балконе увидела, что лежат чужие люди, прикрытые шалью. Она собралась крикнуть, но тут взор ее упал на девушку, лицо у нее было доверчивое, детское, и парня она увидела, и они лежали, так крепко обнявшись, что она не стала их будить и тихо сошла. Первой проснулась Рена — ей в нос ударил запах табака, это хозяйка закурила внизу, набив чубук. Проснулась, с ужасом вспомнила, что не дома, а мама?! Но тут же успокоилась — как хорошо, что и ее нет!.. — и прижалась к Гюльбале. Что же будет, когда хозяйка их увидит? Проснулся и Гюльбала, сразу поднялись оба, Рене вдруг жарко стало, лицо горит; и шагу сделать не может, ой! И прижалась к Гюльбале, припала к нему, не отпускает, он самый родной, близкий. Как же она теперь пойдет? Как уйти незаметно?.. А Гюльбала с балкона: — Здравствуйте! — хозяйке. — Вот мы и сберегли ваш дом! — Я на свадьбе была, не слышали разве? Ах, вот откуда эти звуки кларнета!.. — Но мы берегли и свой дом, — Гюльбала уже спустился, а Рена никак не сойдет, прислушивается к разговору внизу. — А вот так! И ваш, и наш!.. — Рена осторожно спускается по ступенькам, боясь повернуться к хозяйке. — А это моя жена, — говорит он хозяйке. — Хотите, докажу, что этот дом и наш? Хозяйка — женщина худая, курит чубук, и очень ей симпатичен этот парень, эта молодая пара; свои молодые в городе, на дачу не едут. — Доказывай! — Вот там в углу, — таинственно говорит Гюльбала, — есть могила! — Что ты, что ты! — замахала рукой хозяйка и закашлялась. — Чего вы боитесь? Плита, а ее песком занесло, там мой прадед лежит! Не верите? — Верю, верю! — Хозяйка бледная стоит, а Гюльбала уже жалеет, что сказал. Весь день они провели здесь, хозяйка от страху их не отпускала. — Да я пошутил, откуда здесь могиле взяться?! Шли по песчаной улице, а как вышли на асфальт, Рена остановилась у глинобитного дома с высоким тротуаром, чтобы выбить из босоножек песчинки. — Я твоя жена, да? Гюльбала опешил: — Так скоро? Рену обожгло: — Но ты сам! — Я же не мог иначе. — Не жена? — жжет в горле. — Нет? — Ну что ты! — тяжкое что-то навалилось и давит. — Конечно, жена! Горячо-горячо Рене, и слова сказать не может. И такая обида, так жаль себя! Гюльбала о чем-то рассказывал, а она как в тумане, какие-то люди, душная электричка, не помнит, как сели и как сошли, что же дальше? Ах да!.. Он завтра позвонит, и они снова встретятся!.. Хасай поднял тогда на ноги всю милицию, Хуснийэ-ханум, хоть и привычная к неожиданным выходкам сына, чуть с ума не сошла!.. А Гюльбала уже не отчитывается перед родителями, он мужчина, и он будет еще часто-часто ездить на их бывшую дачу. Дела у Гюльбалы шли тогда неплохо, он работал в управлении метрополитена и помог Рене устроиться в одну из тамошних контор. Могла ли Рена даже помыслить, что ее медаль золотая ничего не значит, тем более для поступления на турецкое отделение! На другое утро после дачи телефонный звонок, а за миг до этого Рена проснулась и такую легкость ощутила в теле!.. Вскочила и на себя в зеркало, а в трубке голос Гюльбалы. Ну и пусть! Такая любого осчастливит! Что? Вот еще! Не ей за ним, а пусть он. — Нет. Не могу. Не приду. Ничего со мной. Прекрасно. Нет-нет. Завтра тоже. Когда?.. Я бегу на работу, опаздываю. Только трубку положила, новый звонок. Другой уже. А этот и вовсе чужой, сначала даже не сообразила, кто. — Ах уезжаешь… — и на себя в зеркало. И ему говорит, и той, что в зеркале на нее смотрит. — На неделю? Только? Счастливого пути! — А когда положила трубку, та, что смотрела, добавила: — И больше можешь не звонить! Удивительно, срезалась и на следующий год — и тема знакомая, и есть о чем писать: «Читайте, завидуйте!..», вольная тема. Но нет худа без добра, потом она будет рассказывать Гюльбале о красивом седом мужчине, безымянно легендарном, Гюльбала не придаст ее рассказам значения, потому что и сам любит иногда присочинить, тем более что ни разу рядом с нею никакого мужчину не видел. Хасай любил неожиданно нагрянуть на подопечные объекты, это еще со времен Шах-Аббаса водится: шах переодевался, приклеивал длинную бороду — «А ну, погляжу, как народ мой живет, послушаю, что обо мне рассказывают» — и шел по базару, заглядывал в караван-сарай, просто стучался к кому-нибудь и просился на ночлег. Хасай — не шах, но и ему доставляло удовольствие, когда он обходил подвластные ему учреждения: не ждали, а он тут как тут! — Не туда, Хасай Гюльбалаевич, пожалуйста, сюда, здесь вам удобно будет! — И суетливый начальник уступает ему свое крутящееся кресло, а Хасай отказывается: — Это ваше месте, а я тут с краю посижу. — И садится на обычный стул. — Вы хан, а я ваш гость. Тут же несут чай, а он сидит и смотрит, как работа идет. Так он нагрянул и в строительную контору метрополитена. Только собрался уходить, как в соседней комнате, через стенку, послышался шум — это Рена забежала сюда после сочинения, еще не зная о провале. Хасай недоуменно посмотрел на начальника: что, мол, за оживление в разгар рабочего дня?! Тот тут же выскочил, чтобы узнать, в чем дело. — Это наша работница, экзамены сдает, можете не беспокоиться. — Потому что хорошо сдает? — Надо же и пошутить, нельзя все время строго. Уходя, Хасай заглянул в соседнюю комнату и увидел Рену. Щеки у нее горели, вся она разрумянилась, как только что испеченный чурек, а Хасай не обедал еще, проголодался. — Хорошие (хотел сказать «чуреки печешь», но тот еще пристанет с рестораном) цветы выращиваешь! — сказал начальнику Хасай. Лицо ее показалось знакомым. Где видел? Вспомнить не мог, а потом вдруг неожиданно и в самый неподходящий момент осенило; говорил по «внутреннему»; у Хасая правило: если кому из «верхов» не позвонит, считает день потерянным; «С Мамишем видел!» Чуть к тому не обратился: «Мамиш!» Вот потеха была бы!.. «Что-о-о-о? Мамиш?! — Но вовремя проглотил слово. — Как я мог забыть?!» Ключи ведь у него в кармане, еще не потерян ключик!.. Через дня два позвонил туда в контору, спросил невзначай: «Кстати, а как ваша работница, поступила? — О кадрах забота. И, узнав, что срезалась, обрадовался, но в голосе огорчение: — Жаль, жаль… Пошли ее ко мне». И Рена пришла. Уже давно просто азарт охотника, а тут словно впервые с ним такое, и даже чуть-чуть нервничает. — Входите, входите… — И помощнику взгляд, а тому только знак подай: мол, не беспокой по мелочам. Он почувствовал, когда за руку ее у локтя взял, как она замерла, и с ним что-то давнее, думал, уже не испытает, до нее только дотронулся, и тянет еще раз коснуться и не отпускать эту руку, это плечо, усаживает ее, только не вспугнуть. Рена тотчас узнала его, и ее охватил непонятный страх, но было почему-то приятно и голос его слышать, и взгляд его ловить. И тут же одолела испуг, почувствовала себя легко и уверенно. — А мы знакомы. — И тут же на «ты»: — Помнишь? — Да, я не забыла. — И я. И очень рад встрече. — Но мужское достоинство прежде всего и племянник — родной. — А… Как Мамиш? Видитесь? — Нет. — И очень твердо. Почувствовала, что весть эта обрадовала Хасая. — Что так? — спрашивает, а у самого душа поет. «Какое тебе дело? Говорит «нет», и все!» А Рена почему-то обиделась: «Ведь вижу, что довольны вы, так чего же расспрашивать?» И плечами повела. А тут еще чай вносит секретарша и конфеты дорогие, Хасай ведь готовился. И ему даже понравилось, что не нарушил законов мужской дружбы. Разве посягнул он на право племянника?! Потом он спросит у Мамиша: «Да, кстати!..» И еще спросит, прежде чем открыться всем: «А ты видишь ту, я как-то встретил вас…» Чтоб потом никакой недоговоренности, никаких обид. Никто ни у кого не отбивал, честная борьба, без обмана — Хасай такие вещи не любит, мужчина есть мужчина. — Турецкое?! Сдалось оно тебе, боже упаси! — Но… — попыталась она возразить, хотя не могла бы объяснить отчего; самые красивые девушки, с которыми она училась, особенно одна, из именитых, почему-то рвались на восточный факультет и именно на это отделение. — Подальше, подальше от всего турецкого! Лучше на юридический! — Но к этому разговору он еще вернется, когда она станет ему близким человеком. — Только на юридический! — И произнес торжественно: — «Предоставляется слово для обвинительного заключения прокурору Рене-ханум… — И заколебался, а потом, много-много дней спустя уверенно добавит: — Рене-ханум Бахтияровой!» И в зале тишина. А на скамье собственный муж! Но, когда она пришла к нему в первый раз, как он ей сочувствовал. — Ах, если бы я знал раньше!.. — И с таким неподдельным участием. — У меня же много друзей в университете. Особенно на юридическом. Хасай говорил правду. До войны он учился на ускоренных курсах историков, нужны были кадры, читались лекции и по философии, и по юриспруденции, выдали диплом, приравненный к высшему, и это пригодилось, когда Хасая, как комиссара, перебросили за Аракс в сорок первом; Мамишу как-то попался учебник по истории — сжатое изложение событий с древнейших времен и по наши дни, почти весь исчерканный красным карандашом, где сплошной жирной линией, а где пунктиром… Те, которые учились на этих ускоренных курсах, занимали теперь неплохие посты. — Но ничего! И сейчас еще не поздно! И созрел план. — Выйдешь, встань на ту сторону, жди. Откроешь, как подъеду, заднюю дверцу и сядешь. Поедем к моему другу. За рулем сидел Хасай. Рена легко вошла в эту таинственность, сидит в углу, стекло занавешено, не надо, чтоб его видели с нею. И радостно Хасаю: с полуслова его понимает! Так же она вышла раньше, и он велел ей идти за ним. Тихая улочка в центре. Хасай подождал в подъезде и, когда она оказалась рядом, снова заволновался. Обнять, внести на третий этаж на руках, крепко прижать к груди… Но отпугивать нельзя! Друг уже обо всем знал, проводил их в столовую, и Рена за спиной, в высоком зеркальном стекле серванта увидела, как друг — Хасаю: мол, во! Мировая!.. А Рена удивляется себе: ни скованности, ни робости, будто всю жизнь в этом кругу вращалась. — Ну вот, все будет в порядке! Нет, он не может, он не отпустит ее, он не может с ней вот так проститься! И Рена не хочет этого — уйдет, и окажется, что не было ничего. И он помчал ее в своей новой «Волге», а куда, и сам еще не знал. Гнал и гнал, потом — хватит, говорит ей, от чужих глаз прятаться — усадил рядом. И снова погнал машину. Ехали они долго, дул ветер, стал накрапывать дождь. Едет, а куда, не знает. Весь на виду! Везде глаза, куда спрячешься? А потом, когда дни, проведенные без Рены, будут казаться потерянными и сама Рена будет тянуться к нему, Хасай придумает, как быть, даже комнату облюбует на бывшей Балаханской (Хасай про себя называл улицы старыми названиями: Балаханская, а не Первомайская, Чадровая, а не… Он даже не помнит, хотя ему, ведающему сетью движения, надо бы знать: не Чадровая, а Алиева, не Торговая, а Низами, не Старая Почтовая, а Островского, не Армянская, а Максима Горького и так далее). Настроение у Рены было преотличное. «Тебя каждый полюбит, а ты не увлекайся», — учила дочь Варвара-ханум. И Рена во всем следовала советам матери: и в крупном, и в мелочах. «У тебя красивые глаза, не отводи их, смотри гордо и с достоинством. Никогда не сутулься, держи голову прямо, и шея у тебя прекрасная, и плечи тоже красивые!..» И Рена шла прямо, гордая от сознания того, что она есть, что она ходит по земле, сильная и красивая, идет, зная и чувствуя, что на нее смотрят. Длинные волосы заплетены в одну косу, не идет, а будто летит, и коса петляет за спиной. У высокого холма, уже далеко за чертой города, он свернул на проселочную дорогу, в багажник забарабанила галька. И остановился. И уже нет сил ждать, не может. И Рена притихшая сидит, что-то будет, она знает, что-то очень важное. Хасай притянул ее к себе сначала слегка, а потом крепко обнял. И не помнит Рена, когда откинулось сиденье. Она вырывается, но не очень. А он любит, когда чуть-чуть вырываются и чтоб он пересиливал сопротивление, чтоб она постепенно подчинилась его воле. И чувствовала, чего он хочет, и, сама даже не понимая, что делает, отвечала ему, угадывала желания. И не надо спешить. Не надо никуда торопиться. Такого у Хасая давно не было. Не погасить никак. За окном темно уже… А Рена запуталась: будто и не Гюльбала был в первый раз, а он. Тогда не терпелось переступить черту тут же, немедленно, какой-то вызов, дерзость. И неуверенность, как же дальше? Страх, будто обман совершен, преступление какое-то, а здесь иначе, здесь по-другому, здесь никуда уходить не хочется, никакой боязни, так будет всегда, ни о чем не надо беспокоиться. А потом Хасай вспомнит Мамиша. Надо у Рены еще раз спросить. «Я должна тебе объяснить…» Глупышка, чего объяснять? И спрашивать он ни о чем не будет. Дитя! — Ну вот, ты и моя жена. — А может, я уже замужем? — Никто, никогда, ты слышишь? Варвара увидела у дочери дорогое бриллиантовое кольцо. Откуда?! «А я… но ты будешь очень довольна!» И Рена подстроила так, чтоб мать его увидала. «Это же очень большой человек, Рена!» И целует дочь. «А ты уверена? Не обманет?» Рена молчит, улыбка у нее торжествующая. Рена тогда боялась первой встречи с Гюльбалой. Он ей не нужен уже, но не было сил оттолкнуть. Потом, потом все само собой, думала она, все иначе, все не так, не надо бы, но как прервать? Она надеялась, что что-то должно очень скоро произойти… А теперь Хасай часто хватается за сердце. И Рена бережет Хасая. «Потерпи до следующей субботы!» И кулачки вперед. Ей ничего не надо, был бы только он рядом, и этого предостаточно. Хасай сдержал слово, помог поступить, потом Октай, отсрочки, так что диплома еще нет. «Предоставляется слово прокурору Рене-ханум…» И вроде бы пауза перед «Бахтияровой». «Не надо!» — расстраивается она. А он волосы ее целует, хорошо пахнут. «Все в свое время будет, не в этом счастье». — «А я и не жалуюсь. И пусть говорят обо мне все, что хотят». Мамиш сам как-то это слышал из ее уст, будто ему она адресовала свои слова, хотя Мамиш ни жестом, ни взглядом ее не упрекнул. Чепуха какая-то! А упрекнул бы, и не услышала б она. А тут еще Гюльбала! — Почему ты рассказываешь мне? Гюльбала удивленно взглянул на Мамиша. — А кому же рассказывать? Отцу? Матери? Ты друг, родственник, ровесник! Один в трех лицах! Ты меня поймешь, единственный на этой земле. Выделишь особую полочку и для меня, моей истории, а вот я тебе сейчас расскажу, как перила жег! авось пригодится. Нет, не стыдно, чего мне стыдиться? После такого великого стыда все эти стыдишки — одно сотрясение воздуха. Я в такой ливень попал, что дождь мне не страшен. А потом меня женили и ты до упаду на моей свадьбе танцевал! Отец сам подыскал, из семьи ба-альшого человека, породниться думал через меня, укрепиться, а тут такое — раз, и полетел канатоходец! Здесь крах, там мать ему сильно карьеру подпортила своими жалобами, сам ей небось писал, ты же у нее штатный писарь! — Да, было такое. а мне бы Хуснийэ-ханум сказать: «это Р обо мне: «ни рыба — ни мясо»… — Я устал лгать! Лгать жене, лгать отцу, лгать самому себе! А ты? Ты не устал? — А кому я лгу? — Всем! Что вы будете делать со своими ржавыми конструкциями через десять, через пятьдесят лет? Изгадили море, извели рыбу, набросали в воду сотни тонн металла, который ржавеет… Что, не согласен? Не солги хоть здесь, при мне, нас ведь никто не слышит, мы с тобой вдвоем! — Давай, давай, послушаем, что ты еще скажешь. — Интересно знать, стали бы французы или какой другой народ в своей столице, найдись там нефть, буровые вышки ставить… Ты, конечно, чистюля, никому никакого вреда от тебя, никаких подлостей. — Я и тебя считаю порядочным человеком. — Меня?! После всего, что я тебе рассказал?! — Ну… считал, пусть будет так! — Считал!.. А знаешь ли ты? Знаешь ли, что я свою начал, так сказать, деятельность с самоанонимки? Ты даже не знаешь, что это такое, да?.. Еще в школе настрочил на себя анонимку! И послал домой, что, мол, ваш сын Гюльбала подлец из подлецов, мразь и так далее. И знаешь, почему я это сделал? Надо мной измывались ребята, дразнили, что я выскочка и сын выскочки. — Мы же лупили их! — Да, но мать и отец, когда я рассказывал им, не верили, думали, что это я заводила в драках. — И ты, — изумился Мамиш, — настрочил на себя анонимку, чтобы поверили? — Да, я был неопытен. Мать пришла в школу возмущенная, сличили мое письмо с почерками наших учеников и, к ужасу матери и учителя, обнаружили, что почерк мой. Это еще больше ожесточило меня, как ты помнишь, я всю школу лихорадил, пока в один прекрасный день не вышвырнули. «Неужели это он только что рассказывал об Р? Об отце? Уйти, уйти…» — Наш Селим благодарен тебе. — Какой Селим? — Ну тот, Селим из Крепости. Отучил ты его, сам он мне признавался. — Ладно, что мне твой Селим? Я бы на его месте после того позора весь город поджег и сам бы в нем сгорел! Но что вы знаете о чести? В состоянии хоть один из вас подумать о том, чтобы отомстить? И отомстить не какому-то чужаку, а собственному отцу? Нет? Вы на такое неспособны! А я хотел убить отца! — Стращай, стращай, мне уже не страшно. — Я хотел подкараулить, когда он от Рены возвращался. Стоял у парадного входа, и нож у меня был с пружинкой — подставь и лезвие само войдет. Пока он подходил, все силы у меня иссякли, вся глотка иссохла. А как кашлянул он, душа в пятки ушла. Потом решил избить, маску даже приобрел, чтоб не узнал. — Как же, хватит у тебя сил! — Хотел даже тебя с собой взять, чтобы вдвоем. — Прекрасная сцена: сын и племянник избивают отца и дядю. — Увы, тебя на такое не подвигнешь. Надо было бы тогда открыться во всем… Но я избрал другую месть! Я был убежден, что Рену прельщают высокий пост и большие доходы. Свалить отца, вот какая у меня была цель. И я стал подкреплять жалобы матери своими анонимками. — А она знала? — Кто? — Мать. — Ты что, спятил? — Что же ты писал? — Не писал, а поливал грязью! Но, увы, поди разбей его крепость козлиными кругляшками! От них и следа не остается. Но все эти анонимки, а главное, жалобы чуть было не возымели действия. Хасай тогда, исчерпав ресурсы терпения, пошел прямо к Джафару-муэллиму: «Вы меня не ограждаете от потока грязи, устраиваете допросы, вот мое заявление, ухожу». А Джафар-муэллим ему: «Ореол обиженности? Демонстрация? Нет, мы тебя не отпустим! Забирай свое заявление!» Хасай ни в какую. «Если каждый за правильную критику будет устраивать подобные демонстрации… — внушает Джафар Хасаю. — Ты что же, хочешь уйти героем? Не дадим! Мы и тебя заставим работать, и других на твоем примере учить будем! Разреши тебе уйти, черт знает какие фокусы выкинешь! — Хасай притих, но пыхтит. — Сплетни отметем, факты оставим, будем тебя воспитывать! Да, да! И не таких воспитывали». А о том, сколь наивны были его анонимки, Гюльбала узнал после. И речь завел Амираслан, отцовский заместитель. Встретились они случайно (такое бывало и раньше. «Мы с тобой ровесники, поймем друг друга лучше», — сказал как-то Амираслан. И эта фраза пришлась Гюльбале по душе, в разговоре с Мамишем он не раз повторял ее, добавляя при этом, что они еще и братья…) у крепостной стены, рядом с чайханой, уставшие, они присели отдохнуть (чайхана славилась искусным заварщиком чая). Хасай тогда приходил к Рене измотанный и раздражительный после потока жалоб и анонимок, но «хитрая Рена», как об этом однажды сказала Хуснийэ-ханум, еще крепче привязывала к себе его, мол, анонимки и жалобы — дело обычное, прилипнут — отстанут, щеткой ототрем, и Хасай отходил, успокаивался. Рена была единственным прибежищем от невзгод. — Анонимки — это же целая наука! — говорил Амираслан, разливая из чайника в грушевидные стаканчики чай цвета петушиного гребешка. — Чудак человек думает: возьму-ка я и оболью другого грязью. И кидает в него не то что камешки, от них больно может стать, а козлиные кругляшки (и это взял Гюльбала на вооружение от Амираслана). Ты, по-моему, знаешь, что на отца в свое время писали преподленькие анонимки (Гюльбала, кажется, поперхнулся, сахарок поцарапал горло). Я как-то разбирал архив наш, чтобы что надо сдать, а ненужное актировать и сжечь. И попались мне эти анонимки, хохотал до упаду, хотел собрать и на память Хасаю-муэллиму подарить, да нельзя, этика не позволяет. Какой наивный и глупый человек их писал! Хасай, мол, и взяточник, и карьерист, и пьяница, и бабник!.. Ну кто всерьез станет обращать внимание на такие банальности? Анонимка — дело подлое, конечно, но наука ох какая хитрющая! Возьми даже твоего отца и моего дорогого начальника. Он прекрасный организатор, человек многоопытный, с огромными связями, знающий свое дело и так далее. Согласен? (Еще бы не согласиться сыну, думает Амираслан. Так тебе и поверил я, лиса лысая, думает Гюльбала. Но чай вкусен, один пьет маленькими глотками и слушает, а другой ждет, чтоб чай чуть остыл, — горло у него катаральное). Ну, в общем, не мне его тебе расхваливать. Надо соблюдать чувство меры, не валить на одного все человеческие пороки. Надо знать, кому ты пишешь, психологию того, кто прочтет эту твою писанину. Есть люди, которые с первой строчки угадывают, что в корзину, а что в дело. Удивляюсь, как эти анонимки не угодили сразу в корзину. И в каждом обвинении должно быть подобие правды. Это же искусство, точный математический расчет, ажурная вязь! Надо знать, чего больше всего опасается твой враг. — Извини меня, Амираслан, ты рассказываешь так, будто сам этим занимался, — подколол его Гюльбала. — Я? Бороться анонимками — это примитивно! Лучше подписывать. — Чтоб узнали? — Чудак, не свою фамилию, а чужую! Я же говорю, изучить связи! Знать, кто в данный момент может иметь зуб на твоего врага! Кого он может заподозрить! Тем самым вовлекаешь в игру нового человека! Твой враг непременно пристыдит того, а тот, естественно, будет отпираться. Вчера еще нейтральное лицо становится врагом твоего врага! Но непременно в таких случаях в анонимке должны быть детали, известные именно тому, чья подпись стоит под письмом! Есть, кстати, одна любопытная форма анонимок — автоанонимки! Это когда ты сам пишешь на себя анонимку! Чрезвычайно поучительная форма саморекламы! Но об этом как-нибудь в другой раз. — Амираслан пил чай с удовольствием. Ему было приятно, что ошарашил Гюльбалу, который ловил каждое его слово с нескрываемым изумлением. «Жаль, — думал Гюльбала, — не встретился ты мне раньше!..» Круг замкнулся, и Гюльбала снова увидел перед собой Мамиша. — Осточертело мне все, и отец, и мать, и ты со своей моралью, и собственная жена! Противно. Тошнит от ее вида, от ее ласк, от сладкого ее голоса. От грудей ее! — Зря ты так! — Не укладывается в твою мораль? Давай еще выпьем! — Ты уже! — Я? Как стеклышко! Хочешь, продекламирую: «Привет тебе, привет, источник вдохновенья!» Давай выпьем, знаешь, за что? За целесообразную гармонию и гармоническую целесообразность! И можешь катиться на все четыре стороны, хоть на север, хоть на юг!
«Шесть минут первого ночи. Отрывки из Моцарта». Это «Маяк». «А он тебя ждал, ждал…» И снова истерика: она то затихает, то накапливается, собирается и вдруг как хлынет!.. «Ну что вам стоит? Скажите же, что все это мне снится. Ну что вам стоит?» Но перед этим крик. Крик Хуснийэ. Такого крика Мамиш не слышал еще. Сначала в оболочке сна, а потом как ощутимо твердое. Отчаянное причитание. Мамиш вскочил и выбежал на балкон — обезумевшая Хуснийэ рвала на себе волосы. На рассвете, когда солнце только-только появилось из-за моря и окрасило его в багряный цвет, дворничиха, подметавшая улочку в верхней части города, отпрянула, споткнулась о цветочную клумбу — из открытого окна упал человек, плашмя упал на край асфальтового тротуара. Затрещала сломанная ветка, но никто этого не слышал. Дворничиха сидит — ни встать, ни слова сказать не может. Но подошел один, второй, еще. Кто же у него там, дома? Никого? Вывалился, бедняга! Ох, эти пьянки!.. Вопросы были потом. Сначала милиция. Ноющие пронзительные гудки «скорой помощи». Тело еще жило, но разум был уже мертв. Кто был с ним последний? Мамиш! Да, да, это он видел его последним. А что он скажет? Да, был у него, пили, потом разошлись. Не в себе был? Что значит не в себе? С ума не сходил, только много рассказывал. О чем? О самоубийстве? Что вы! Нет, нет, не говорил! Он просто вывалился. Ведь рост какой!.. А окно раскрыто. И ложился ведь, и даже спал. И спросонья встал и к окну, чтоб отдышаться… Помнится, он подходил к окну, чуть ли не по пояс высовывался. Где жена? Но в какой семье ссор не бывает? С Мамишем говорили вместе и врозь, а он сам как в тумане, что тут выяснять? Хуснийэ то ли спрашивает, то ли сама с собой говорит. И снова в забытьи. Приставала ко всем: «Мне это снится? Да? Это неправда?» Соседи окружали кольцом, заставляли пить валерьянку. И она снова спрашивала Мамиша: что? о чем? При Хасае молчали, но стоило ему уйти, как Хуснийэ причитала: «Да чтоб ему света божьего не видать со своей Реной! Это он виноват! И его братья! А-а-а-а-а…» Из морга привезли домой к матери, а завтра похороны. Хасай купил уже давно себе участок, отгородил высоким, из настоящего белого камня забором. На десять могил. «Думал, уйду первым я. — Говорил и плакал. — Сам первый переселюсь, думал, а оказалось, сын». Даже нечто вроде мавзолея построил, храм — не храм, склеп — не склеп. С минаретом и куполком. Много разговоров было, но что толку? Не разрушать же! Похоронят Гюльбалу не в склепе, это для Хасая, а рядом. И будет первая могила на семейном участке. Такого Гюльбалу, как в тот вечер, Мамиш раньше не знал. Готовился в дальний путь. Потом отметят, как положено, день третий. И снова в доме Хуснийэ-ханум — там, где родился, а не где жил. И не любил. Жена это чувствовала. На портрете Гюльбала не похож на себя. Здесь серьезен, а когда говорил, ехидный такой, и теперь: смотрит точно живой, с издевкой. Хуснийэ как-то выступала: «Отсталые обычаи! Иссушают душу народа! Третий день, седьмой, каждый четверг!..» Отметят день третий. И, посмотрев в глаза вдовы, Мамиш поймет: знала она, догадывалась, «…от ее грудей». На нее сразу столько ударов: отец, муж… Держится, молодец. Что же ты так, а, Гюльбала? Ничто не скроется, годом раньше, годом позже. И в который раз Хуснийэ смотрит на портрет Гюльбалы, увеличенный кем-то срочно, и пристает к каждому, кто приходит выразить соболезнование: «Мне это снится? Ну скажите же, что все это неправда, что вам стоит?» Будто вся высохла, и слезы находятся, и какая-то сила держит, не дает умереть. И шли, шли люди. Казалось, весь город прошел в эти дни через их двор: женщины сидели на первом этаже, а мужчины поднимались на второй. То сидят тихо, молчат, а то вдруг — в мужской половине — заведут обычные разговоры о том о сем. «А я ему: «Мы с твоим отцом…». — «Слышали? Сняли! Да еще как!..» — «Не сегодня-завтра… Дни его сочтены… А что врачи? Только диплом!..» — «…Но на его место надо другого, а людей откуда возьмешь? Вот и земляков своих вынужден…» Разговоры, разговоры, и все реже поминали Гюльбалу. А Хасай на седьмой день уже улыбнется! Даже улыбнется! Как не улыбнуться, еслисмешные анекдоты сочиняют! Нескончаем людской поток, нескончаем. Суд родных, суд свой, суд официальный. Первый бесцельный, потому что всего не расскажешь, что знаешь, третий для папки, так положено, надо выяснить: убийство? самоубийство? несчастный случай? нет! нет! — Конечно же… Да, да, несчастный. От своего не уйдешь, оставив, как ящерица, кожицу. Хасай ночевал у Хуснийэ: оставлять одну опасно. Ночевали здесь и жены Гейбата и Аги. «Неправда это!» — вдруг кричала Хуснийэ. И крик проникал к Мамишу, и спать страшно, невозможно.
Мамиш и не предполагал, что следователь давно, может, о том и мечтал, чтобы увидеть наконец Мамиша, поговорить с ним не для протокола, а так, по душам, начистоту. И что следователь, звали его Саттар, знает нечто такое о Хасае и о Бахтияровых, о чем и понятия не имеет Мамиш. Можно даже сказать, что именно Хасай, но не прямо, а косвенно, стал причиной выбора Саттаром профессии. Но он — лицо не частное и вызвал Мамиша по вполне определенному делу, и не дозволено ни словом, ни намеком выразить свое пристрастие к семье Бахтияровых, дабы не отстранили тебя от расследования. У каждого ведь есть тот неожиданно случайный день в жизни, который оказывается вдруг поворотным в судьбе. Сидишь, с увлечением решаешь сложную математическую задачу, и вдруг приходит друг, показывает тебе стихи, вот, мол, какой интересный сочинитель объявился по соседству! Тебя за живое задевает восторг друга, ревность вспыхивает в тебе, и ты, сам того, может, не желая, говоришь: «Ну, это пустяки, я тоже так могу!» Бросаешь задачу, и, пока друг знакомится с ее условиями, в тебе неожиданно рождается нечто, ты сочиняешь двустишие-экспромт, причем сразу два, шуточную пародию на друга, будто он зеленая завязь на инжировом дереве, переиначивая то ли читанное, то ли слышанное. И рифмы есть, и мысль высекается, и самому удивительно, и другу. Ты снова кумир, ты снова первый, и прости-прощай биномы, или погиб ты, пропащий человек, или вознесся, сжигая себя и обжигая публику, или и то, и другое вместе. Нечто подобное случилось и с Саттаром, у которого и в мыслях не было стать юристом, он и слова такого не знал, когда у них по соседству поселилась семья братьев-близнецов. Саттар горевал, потому что с братьями поменялся, отдав две маленькие смежные комнаты, их сосед, человек одинокий, тихий, дядя Христофор, как называл его Саттар, или Колумб, как называл отец. Христофор, пристрастивший мальчика к шахматам и научивший его матовать голого короля королем и ладьей, подарил Саттару пропахшие табаком шахматные фигурки в картонной коробке и раскладную бумажную доску с изображенными в клетках шахматными чемпионами мира и знаменитыми гроссмейстерами и уехал поближе к своей сестре, у которой недавно умер муж, оставив ее с годовалой дочкой. О том, что новые соседи братья-близнецы, Саттар узнал позже: один из братьев, седой и женатый, казался старше. Общая галерея была небольшая — они да эти братья. Мать Саттара в отличие от отца отнеслась к жильцам с участием, и Саттар вскоре понял причину этой материнской жалости и отцовской настороженности: отец, как однажды невольно подслушал Саттар, боялся за него же, за сына, ведь один из братьев слаб умом. Но братья жили здесь недолго. Вскоре им дали отдельную квартиру в новом доме, выстроенном напротив: у седого, Ильдрыма, родились, надо же такое, тоже близнецы. Мать Саттара отвезла роженицу в больницу, потом примчался туда и Ильдрым. Тут же им сообщили, что родились два крепыша-близнеца. Мать Саттара расплылась в улыбке, кинулась было поздравлять молодого отца с такой редкой удачей, но ее будто кипятком облили — лицо Ильдрыма при этом известии стало белым, как мел… Отцу Саттара пришлось, когда те вернулись из больницы и жена рассказала о случившемся, пригласить молодого отца, усадить его рядом и успокоить: природа не обязательно должна повторить их судьбу в судьбе новорожденных. До поздней ночи сидели тогда с Ильдрымом отец и мать Саттара. Страхи, как потом оказалось, были напрасными — дети растут вполне нормальными, только один флегматик, а другой взрывчат, как холерик. С тех пор много раз сменялись в родном городе Саттара времена года. Были зимы буранные, с небывалыми ранее завалами, и Саттару приходилось, прилетая из Москвы, где он учился, на каникулы в Баку, чистить дорогу с аэродрома в город; чистить от снежных сугробов небывалой высоты; были лета странно холодные, будто и не июль вовсе, когда от жары прежде, бывало, плавился асфальт, а московская осень. И Саттар стал работать старшим инспектором уголовного розыска в районной милиции, неподалеку от углового дома, где жили Бахтияровы, о которых он так много слышал, в том числе историю в тот памятный вечер, поразившую его, историю о Хасае и Дэли Идрисе. Разошлись пути-дороги с одноклассниками, однокурсниками, сверстниками; кто-то позабыт начисто, даже имени не помнишь, другой очень высоко поднялся — и не дотянешься, а случится заговорить, и не поймешь, верить ему на слово или нет, третий и вовсе забросил юриспруденцию, на ином поприще действует. Но все пока на подступах к ключевым позициям. Для поколения Саттара время еще не подоспело, они где-то между тридцатью и сорока годами; пройдет пять-шесть лет — и кто знает, кто где окажется. Жмет, жмет поколение, накапливает силы для прыжка; бесспорно, и министры будут, и повыше кто пойдет. Как-то случайно встретился с одноклассниками. Один, оказывается, уже лауреат, как это он пропустил в газете, за автоматизацию нефтедобычи получил. Но лишь Амираслан, пожалуй, подает пока надежды на взлет; разговор о том о сем, и, к изумлению своему, Саттар узнал, что Амираслан, оказывается, в замах у Хасая ходит, чуть ли не всем городским транспортом ведает, артерию в руках держит. И всего добился без помощи именитого мужа сестры — Джафара-муэллима. Пока Саттар в Москве учился, Амираслан «биографию делал» — к удивлению сестры и с одобрения зятя, пошел рабочим на вагоноремонтный завод, вступил там кандидатом в члены партии; работая, учился, и в выборе специальности, может быть, сказался, как бы тешил себя Саттар, и его совет; но Амираслан и без него решил, что юриспруденция — основа основ знаний; учился заочно и вскоре получил диплом; и армия была обойдена («Между нами, это же потерянное время!» — сказал он сестре, но так, чтобы слышал и зять; тот хотел было снять очки, выйти к ним и возразить, но миг был упущен и он махнул рукой — связываться с ними, тем более спорить не было ни сил, ни желания, выпадал редкий день, когда можно отдохнуть); член партии, и работа тут же, на вагоноремонтном заводе: юрисконсульт по трудовым спорам; облысел спереди чуть ли не до макушки, защищая интересы рабочих, обострил отношения с начальством и в один прекрасный день, года через три, совершил свой оригинальный рейд к Хасаю и выслушал затем его нотации: «Жена есть… дети есть…» Но об этом в свое время. Так вот, случилась беда, какая бывала в большой практике Саттара не раз, и он взялся за расследование: тотчас выехал на место происшествия, определил и заактировал смертельный исход; затем осмотр квартиры, комнаты, подоконника; экспертиза: не было ли умышленного убийства? степень опьянения? временные параметры — выпадения и клинической смерти; и немедленные допросы; Мамиш был третьим, после Хуснийэ-ханум, к которой Саттар отправился тут же, и жены, увы, уже вдовы, Гюльбалы. Пришел в угловой дом, но там толпилось столько народу и так причитала Хуснийэ-ханум, что потолкался и ушел, понимая еще до прихода сюда бессмысленность своего визита. Уходя, встретился глазами с Мамишем. Тот, глядя на человека в милицейской форме, с капитанскими погонами, решил, что это из знакомых Хасая или Гюльбалы. «Как будто нельзя в штатском!..» А когда кто-то из соседей шепнул: «Следователь», — Мамиш невольно подался вперед. Следователя поразил по-детски страдальческий взгляд Мамиша, так не соответствовавший его росту и широким плечам, и он тихо, как и пришел, спустился по лестнице и вышел, выбираясь из толпы, на улицу. Пройдет третий день, решил следователь, самый пик траура, тогда можно будет прийти снова. И уже зная данные экспертизы. От Хуснийэ-ханум лишь то и узнал Саттар, что именно Мамиш накануне несчастного случая виделся с Гюльбалой, почти всю ночь сидел у него. «Они же как братья были, самые близкие, где же ты, Мамиш, почему не расскажешь, отчего погиб мой сын? Иди же, где же ты?..» А Мамиш стоял неподалеку, дойдет очередь и до Мамиша, Саттар знал Хуснийэ-ханум как активистку района, но не был знаком с нею и даже недавно встречал ее как-то на улице и, приблизительно представляя ее возраст, подивился ее совсем молодому облику: шла она быстро и решительно, одетая не броско, но нарядно, гладко причесанная, с гордо посаженной головой. А тут перед ним женщина с дряблыми щеками, старая-престарая, с распущенными седыми волосами; сквозь выкрики, причитания и вопли, от которых у Саттара по спине пробегали мурашки и холодела макушка, нетрудно было и неследователю понять, сколь велика ее ненависть и к Хасаю, и к его второй жене, имя которой не сходило с уст Хуснийэ-ханум в минуты, когда рыдания на миг оставляли ее. «Убили, убили моего сына, — кричала она. — Оставили меня одну перед этой бандой! На кого мне теперь положиться на старости лет? Накажите убийц, — умоляла она, и тут же в голосе ее угроза: — Я этого так не оставлю, я накажу преступную шайку! Они убили моего единственного, моего родного, моего мальчика ненаглядного!.. — И слезы, такие горючие, такие обжигающие, текли и текли из ее воспаленных глаз. — Где же Мамиш, куда он делся? Вы у него спросите, он все-все знает!..» Потом жена-вдова Гюльбалы. Так вот она чья дочь!.. У нее свое горе, не меньшее потрясение, чем это. «Странно, — думал Саттар, — но Хуснийэ-ханум ни разу не вспомнила о невестке, будто и не женат был сын, хотя именно жена Гюльбалы и должна была ночью быть дома и о ней в первую очередь и следовало сказать». — А я ему не нужна была вовсе. Он другую любил. — Кого? — Это вы узнайте сами. — Может, вам кажется? — Ну, да, вы мужчина, женщина-следователь об этом бы не спросила. — А сами-то вы знаете, кого именно любил, или только догадывались? — Я видела, что не нужна ему, а он же мужчина, он не может без женщины. Она оперировала двумя категориями — женщины и мужчины.
Вот и Мамиш. Он сидит напротив Саттара, и Саттару отчего-то симпатичен этот парень; может, это чувство обманчиво, кто знает? Но как вызвать его на откровенный разговор? Надо же, оба они почти ровесники, одно поколение, у каждого за плечами жизнь, о которой можно рассказывать, вспоминая забавные истории, сидя за чашкой кофе или, если Мамиш играет в шахматы, за шахматной доской. Глядеть с балкона на огни родного им обоим города, который разросся, раскинулся, ах как похорошел, чистый и нарядный, потом выйти к бульвару, к бухте, похожей на серп, побродить по знакомым до боли улицам детства, вспоминая, а что же было здесь прежде, ведь изменился, очень изменился родной город!.. Как жаль, что вести им иные речи, когда один спрашивает, доискиваясь истины, — ведь надо же! Случилось такое!.. — а другой, да еще в шоковом состоянии, когда погиб близкий друг, должен отвечать, поведать самое сокровенное незнакомому человеку. Но именно здесь, сидя у следователя, у которого умные, добрые и понимающие глаза (обидно, что именно при таких трагических обстоятельствах они встретились!), Мамиш вдруг вспомнил то, чему не придал особого значения в ту ночь, когда возвращался от Гюльбалы; потому, видимо, не придал, что факты были ошеломляющие, а это лишь слова. И вспомнил, кажется, оттого (Мамиш был как в тумане, и верил, и не верил случившемуся, и никак не мог отогнать от себя крик Хуснийэ, который разбудил его; это было дня два или три назад, но такие длинные и длинные дни, никак не кончатся…), что следователь задал ему вопрос: «Не было ли у него разлада между жизнью, которой он жил, и тем, что он думал?» — Надо хоть раз в жизни, — сказал Гюльбала в ту ночь Мамишу, — каждому из нас суметь ответить самому себе: зачем ты приходил в этот мир? — И что бы ты ответил? — Я бы сказал так: друзья мои, перед вами человек, который думал одно, говорил другое, а поступал по-третьему. И вот что удивительно: он всеми считался нормальным и, в сущности, был им. Но это что?! Парадокс состоит в том, что, говори он, что думает, и поступай, как говорит и думает, ой что было бы на свете! Какой бы переполох и тарарам начался! «Хватай! — кричали бы. — Гони его в шею!» Это в худшем случае, а в лучшем все бы сочли его ненормальным или чудаковатым, которого в приличный дом и пускать нельзя, избегай и сторонись!.. — Ты говоришь страшные вещи! — Но зато чистую правду. — Правду ли? — Послушай, перестань лгать! Признайся хоть раз в жизни, что я говорю правду! И признайся, что не один я такой!.. Нет, нет, тебя я не имею в виду, не волнуйся!.. И почему я такой? Как же я дожил до такого? Неужели все это говорил ему Гюльбала? Не приснилось же Мамишу! Каждое слово Гюльбалы врезалось в память, и не вышибешь оттуда. Но как ясно говорил он; Гюльбала вообще-то иногда излагал свои мысли с железной логикой, это у него с детства; Селиму-то он доказал, что тот для блатного мира не человек! И получил право по законам того же мира делать с ним все что вздумается. Но следователь, задав свой вопрос и видя, что Мамиш молчит, и непонятно, думает он, как ответить, или скован, подавлен случившимся, добавил: — Это не для протокола, мне хочется, чтобы вы обрисовали его как человека. Вы, именно вы можете осветить причину гибели Гюльбалы. о вы с Хасаем поговорите! с Р! — Не мне вас учить, дорогой Мамед, что это очень и очень важно. И не только для меня, но и для вас, для всех нас! Идет борьба, идет по всем направлениям, сверху донизу, вы же видите сами. Надо понять, очень многое надо понять нам, и смерть Гюльбалы… Неужели вы думаете, что это несчастный случай? — да, вы правы, это самоубийство! — вот! я так и думал! я был убежден, что это именно самоубийство! и именно это я хотел от вас услышать! так и запишем!.. «а чего ты радуешься?!» — а теперь давайте по порядку: что толкнуло? на основании каких его слов вы так считаете? каков характер разлада? личный? семейный? общественный? гражданский?.. дайте нам веские доводы! «ах тебе веские доводы!.. вот ты какой оказался!..» — как вы сказали? «говорит одно, думает другое, поступает по-третьему?» ну и ну!.. может, на магнитофон запишем, а? — что ж, записывайте! все записывайте! я вам такое порасскажу!.. такое!.. он… в глазах у следователя снова блеснула колкая улыбка. Мамиш осекся, бездна слов, люди, лица, маски, гримасы, ужас, шарахаются, как от огнедышащего дива, поедающего своих детей, смотрит и Гюльбала: «ну, давай строчи!.. чего же ты умолк, валяй, выпотрошись!..» — идите-ка вы знаете куда! — тогда остается предположить, что именно вы, да, да, вы, когда он высунулся из окна, помогли, так сказать! кулак Мамиша ударился о скулу следователя, а потом в него полетело все, что подвернулось под руку, кажется, как это всегда случается, пресс-папье. Мамиш вздрогнул. Гюльбала говорил только ему. И никого рядом… Подло!.. — Извините, я думаю, что это именно несчастный случай. Не было у Гюльбалы никаких причин выбрасываться из окна. Есть много иных способов кончать жизнь, и этот не самый надежный, можно остаться в живых, искалечиться на всю жизнь. — Но как вы объясните его частые перемены работы? Эти бесконечные уходы по собственному желанию, причем иногда с очень перспективной, увольнения? Никак не скажешь, что все шло у него гладко. Ни трений, ни серьезных недовольств. Это очень важно, поймите, Мамед! — Недовольства были… Но они так мелки, что из-за них вряд ли надо было обрывать жизнь. мелки?! ну-ну, выкладывай! — Ну, а все же. Каков был он как социальная личность? Взгляды его на жизнь? Его гражданский облик, а? — вот-вот! немедленно изложу!.. эх вы, не там ищете, следователь! — ?! — а может, и там, не знаю. — Представьте себе, он был озабочен будущим Морского больше, чем собственными невзгодами. — В каком смысле? — Захламили, говорит, прекрасное наше море тоннами ржавого металла, сгубили и море, и рыбу, и никому нет дела до завтрашнего дня. — А вы? Что же вы ему ответили? — Я ему нарисовал картину будущего, когда на Морском иссякнет нефть. Сказал, что здесь будет не груда ржавого металла, а музей-пляж. — А нефтяные загрязнения как? — И он мне об этом. А я тут же сочинил о проекте моментальной очистки моря от нефтяной пленки. Мол, целый институт разрабатывает. И просто, и никаких затрат — водят, как прожектором, по поверхности моря особым лучом, и пленки как не бывало. И рыба плодится на славу: загорай, дыши, ешь осетрину на вертеле! — И он поверил вашему розовому будущему? — Почему бы и нет? — А на самом деле как? Что вы сами думаете о будущем вашего Морского? — Я же рассказал вам. — И никаких пятен? — Металл-то ржавеет, говорит мне Гюльбала. Увы, говорю ему, с этим трудно бороться. Но не вся труба ржавеет! То, что под водой, и то, что над водой, уберечь еще можно, но беда в том, что ржавеет та часть, которая постоянно на стыке воды и воздуха. Отлив — высыхает, прилив — мокнет. Но кто придумает лучи, тому нетрудно и эту задачу решить. — Я слышал о вас двустишие-экспромт. — И это вы знаете… Просто мое имя легко в рифму ложится, вот и сочинили. — Вы сказали о невзгодах. Не зря ведь он вас ждал! Может, крах тестя? — Не думаю. — Я заметил, что жена Гюльбалы не очень горевала. — Ей своего горя достаточно. — Может, разрыв отца и матери? Он, кажется, поддерживал сторону матери. — и писал на отца анонимку! — ?! — даже убить его хотел! — !! — И в то же время был дружен с новой семьей отца, очень был привязан к… как ее зовут? Рена, кажется. — Это вы спрашиваете или утверждаете? — Как я могу утверждать? — Тогда спросите об этом у них самих — у Хасая и его молодой жены. — Я и собираюсь. Кстати, могу позвонить при вас, знаете телефон Хасая? — А он в вашей книжечке. — Мне Хасая Гюльбалаевича… Следователь Саттар Макинский… Не Бакинский, а Макинский, от слова Маку, деревня есть такая… Записывайте, буду ждать. Хасай занят, как освободится, немедленно позвонит сам. И очень скоро. И все же. Вы считаете, что можно поддерживать сторону матери и в то же время дружить с новой женой отца? — А вы непременно повидайтесь с Реной. — Идеал женщины и человека? — Как же! Неземное создание! Сама красота! ждет и не дождется она вас! Мамиш то замкнут, то серьезен, то иронизирует. И не поймешь, где он настоящий. И тут позвонил Хасай. Телефонный разговор получился кратким: Хасай не приедет, он пошлет машину за следователем, Саттаром-муэллимом, как почтительно назвал его Хасай, и привезут его к ним. Следователь мог настоять на своем, но не стал. Пусть будет, как хочет того Хасай. Итог разговора с Мамишем уместился в несколько фраз, но в душе Саттара осадок недоговоренности — Мамиш ускользал и даже его твердый ответ на главный вопрос — несчастный случай — показался Саттару неискренним. Придется вернуться к Мамишу, когда замкнется круг.
Хасай провел Саттара в дальнюю комнату, и первое, что увидел Саттар, это словно вымершую квартиру и большие серо-черные круги под глазами у Хасая. Весь его облик — безутешное горе: и огрубевший от слез голос, и влажно-грустный взгляд, и седая щетина на небритых щеках. — Да, да, — говорил Хасай, избегая взгляда Саттара и будто стыдясь своей слабости, — это мы сами виноваты, нас и судить мало, не удержали, не уберегли нашего Гюльбалу. Раздражительным он стал, а мы, ай какие мы жестокие, не люди, а звери, дразнили его, масло ему в огонь лили и лили… Как вспоминаю нашу последнюю с ним встречу вот здесь, у меня в квартире, редкий, прекрасный вечер был, сидели всей семьей, всем родом, и братья мои, и дети моих братьев, Мамиш, племянник мой, а Гюльбала… Что ни слово, раздражается, а мы его отовсюду пинком, загнали колкостями своими, как измывались, а нам бы ласково с ним, мне, старому дураку, извините, стукнуть бы кулаком по столу, заткнуть всем рты, обнять Гюльбалу… Так нет же, со всех сторон на него набросились, он нам раз, а мы ему сто, взвинчивали и взвинчивали его. Пил, а отчего, почему, не задумались, не спросили… Очень много пил он в последнее время, и в ту ночь они с Мамишем тоже пили, и в семье нелады, прогнал жену. — Но он был трезв, — перебил его Саттар, — когда (поискал, как сказать) случилось несчастье. — То есть? — не понял Хасай. — Но Мамиш с ним в ту ночь пил! Это уже говорил другой Хасай. — Мамиш да, пил, но Гюльбала не притронулся к напиткам. — Значит, пил до прихода Мамиша, какая разница? — Экспертиза показала, Хасай Гюльбалаевич, что Гюльбала в момент смерти был трезв. — Что вы хотите этим сказать? — насторожился Хасай. — Как бы то ни было, но Гюльбала не мог решиться на такое. Я, как отец, чистосердечно делюсь с вами своими сомнениями, своей болью, и, учтите, не для протокола вовсе, а говорю вам, как сыну. Я не исключаю раздраженности, некоторого затмения, сами помните, какая духота была в ту ночь… Мамиш, думаю, сказал вам, что те разговоры, которые они вели, вряд ли дают нам повод прийти к иным толкованиям того несчастья, которое свалилось нам на голову. И не надо бередить раны ни матери его, ни мне, ни кому бы то ни было. Саттар заслышал шорох и, повернувшись, увидел в полутьме коридора ослепительно белое женское лицо. Коридор будто засветился. Саттар поклялся бы, что он впервые видит такое белое-белое лицо, как лунный серп. Оно так же незаметно, как появилось, исчезло, и комната, где уже сгущались сумерки и они сидели, не зажигая света, вдруг погрузилась во тьму. — Мне надо, если позволите, поговорить и с Реной-ханум, так, кажется, зовут вашу супругу? — А это к чему? — Хасай чувствовал, что еле сдерживает себя. — Прошу ее к этому делу… — Но понял, что следователь вправе, не спрашивая позволения, говорить с Реной, резко встал и, с шумом отодвинув стул, позвал Рену. Та, войдя, тут же зажгла свет, и Саттар, как только она посмотрела на него, встал, волнуясь, поздоровался, будто чувствуя вину за то, что беспокоит столь хрупкое существо, которому и свет-то электрический причиняет боль. — Я только хотел бы, — глядя не на нее, а на Хасая, проговорил Саттар, — задать вам один-единственный вопрос. Хасай с подчеркнутой обидой вышел, оставив их наедине. — Скажите, — все еще находясь под впечатлением удивительного ее появления в полутьме коридора, спросил Саттар, — вы были дружны с Гюльбалой? О, наивный вопрос!.. Рена вздрогнула, как показалось Саттару, и ему стало жаль ее. Рену от страха и впрямь била мелкая дрожь. — Простите, я еще не все осознала, так ужасно, что Гюльбала погиб, извините меня. — Ну что вы, это вы меня извините, если вам трудно, можете не отвечать мне, пожалуйста. Этот короткий разговор двух людей, извиняющихся один перед другим, стал причиной неуправляемого раздражения Хасая, и он, как только Саттар ушел, искренне подавленный состоянием Рены и пораженный ее чуткостью, тут же позвонил домой к Джафару, что делал последнее время редко, и, чуть не плача, стал умолять его заставить этого Макинского больше не терзать и без того подавленных горем Бахтияровых. И Джафар-муэллим на следующий день позвонил, хотя и без особой охоты. «Что вы тянете, Саттар Исмаилович, — как можно спокойнее, но твердо, мол, я не люблю, когда меня ослушиваются, сказал Джафар. — Я понимаю, это ваш долг, но дело ведь, по-моему, ясное». Джафар, правда, вовсе не хотел оказывать нажима на следователя и, честно говоря, был бы рад, если бы следователь, пусть не дерзко, но все же вполне определенно, возразил бы ему, мол, что вы, Джафар-муэллим, я никак не могу этого дела оставить, не завершив. Но следователь выслушал его почти молча, сказал что-то невнятное, мол, дело идет к концу, можно сказать, завершено даже, потому что все показания собраны. И это согласие следователя огорчило Джафара, погрузило его в грустные думы об уступчивости, небоевитости идущего вслед им молодого поколения. Но Саттар вовсе не намеревался ставить точку. Предстояла вторая встреча с Мамишем… Он повесил трубку, и тут же новый звонок. Амираслан. — Амираслан?! — и сразу после разговора с Джафаром-муэллимом. — Поверь мне, клянусь, это чистая случайность, — сказал Амираслан, и сам удивленный таким совпадением, разумеется, никакой договоренности с Джафаром-муэллимом у него не было, хотя позвонил он именно по делу Хасая и собирался воздействовать на Саттара, брось, мол, старика мучить. — При чем тут Хасай?! Давно лица твоего не видел, стал забывать, как ты выглядишь, не мешало бы и тебе на меня взглянуть. Заехал за Саттаром, повез его по душам поговорить в привокзальный ресторан. — Кстати о Хасае, — Амираслан потом, когда они уйдут, удивит Саттара, сказав ему, что встречал их в ресторане и проводил в укромную, на двоих, прохладную кабину родной брат Хасая. — Старик совсем плох, как бы не слег, у него ведь был недавно почти инфаркт. Разве не знал? Прекрасный человек, только с одним крупным пороком, хотя смотря как взглянуть: порок это или признак жизнелюбия. Ни одну бабу не пропустит, страсть как их любит. Ехал как-то Хасай из микрорайона на работу и не успел завернуть за угол, как тут же на повороте «проголосовала» девушка в ярко-синем брючном костюме и с длинными распущенными волосами. Хасай, хоть и спешил на работу и не имел привычки сбавлять скорость, остановился. «Куда так рано спешит красавица?» — спросил он, открывая дверцу и приглашая сесть. Им оказалось по пути. Девушку звали Нигяр. Услышав ее имя, Хасай даже пропел строчку из популярной песни: «Полюбил я тебя, полюбил, о, моя Нигяр!..» Она улыбнулась, и улыбка шла к ее широкоскулому лицу с чуть раскосыми глазами. И это покорило незащищенное сердце Хасая. Ехала она в тот же дом, куда и Хасай, в Министерстве культуры ей обещали помочь устроиться на телевидение. Прощаясь, Хасай сказал Нигяр: «Если не помогут, приходите ко мне, я вас устрою». И она пришла. И он, как обещал, устроил… Они изредка виделись. А когда старшая сестра Нигяр уехала в отпуск, Хасай впервые пришел к ней домой. Сегодня утром Нигяр решила, что пора действовать: хватит им встречаться по углам, она хочет стать законной женой Хасая. Хасай обещал Рене быть дома в шесть. И погода неожиданно испортилась: до полудня небо было чистое, а теперь ветер-чабан гнал и гнал с севера тучные стада, и низкие облака казались особенно зловещими здесь, в микрорайоне. И телефон молчал. Погасила в комнате свет, чтобы лучше видеть улицу. И дождалась: вот она, голубая «Волга»! «Октай, отец приехал!» — крикнула. Рена быстро пошла на кухню разогревать обед, но когда снова выглянула в окно, машины на месте не оказалось. Но вскоре опять затормозила под окнами. Хасай не выходил из машины и не выключал мотор, задний красный свет таял в молочном дыму. «Машаллах, — позвала Рена племянника Хасая, он привез им два крупных арбуза, — спустись, узнай, что там с дядей!» Машаллах выскочил, и в это время Рена увидела, как Хасай с трудом вылез из машины и, не прикрыв дверцу, шатаясь, неуверенно пошел к дому. «Выпил?» Но Хасай давно не напивался допьяна. Что же с ним? Машаллах подбежал к дяде, потом сел в машину и поехал. Рена вгляделась и увидела в машине женщину. И тут открылась входная дверь, Хасай зашел в квартиру и, шатаясь, вытянув руки, направился к Реке, у которой от обиды на глазах выступили слезы. «Как тебе не стыдно!» «Рена, мне плохо!» «Меньше бы пил!» «Рена, я не пил, мне плохо!» И обнял ее, а она несильно оттолкнула его, и он, к ужасу Рены, вдруг, как куль, свалился на ковер. Рена вскрикнула, бросилась к Хасаю, быстро расстегнула ему воротник, сняла галстук. Хасай учащенно дышал, лицо было мертвенно-бледным. Рена тотчас позвонила маме: «Вызови нам «скорую помощь» и сама немедленно приезжай, Хасаю плохо!» Октай сидел около отца. Появился Машаллах. И они вместе с Реной, осторожно подняв, уложили Хасая. Пришла и Варвара-ханум. А вскоре приехала «скорая помощь». И в это время позвонил телефон. Варвара-ханум приоткрыла дверь в комнату, где были врачи и Хасай, и взяла трубку. Женский голос спрашивал Хасая. «Он подойти не может, — тихо сказала Варвара-ханум. — Он болен». И положила трубку. Телефон зазвонил еще, женский голос настойчиво требовал Хасая. Женщина кричала так, что Машаллах понял, что это та, везти которую поручил ему Хасай. «Я же вам сказала, — все так же тихо прошептала в трубку Варвара-ханум, — Хасай Гюльбалаевич болен». — «Не говорите неправду! Я только что была с ним!» Не отвечая, Варвара-ханум повесила трубку. Телефон тут же зазвонил опять, и не успела Варвара-ханум приставить трубку к уху, как та сказала: «Я вчера была с ним, сегодня…» Голос кричал в трубку, и Варвара-ханум, к изумлению Машаллаха, неожиданно басом сказала: «Иди ты!..» — и громко стукнула трубкой по аппарату.
А в машине случилось вот что. Нигяр-ханум пристала к Хасаю, что называется, с ножом к горлу: «Мы сейчас пойдем с тобой к Рене, — это когда они сидели в машине, — и ты ей скажешь, что мы муж и жена!» А за час до этого Хасай здесь же, в микрорайоне, в квартире сестры Нигяр, куда она его пригласила, выпил крепкий кофе с рюмкой коньяку и почувствовал легкое головокружение, закололо в сердце. «Сейчас поедем и ты скажешь!..» В машине Хасаю стало плохо, и он вовсе перестал слушать, что говорит Нигяр, решил, что надо немедленно ехать домой, и ему стало безразлично, сидит ли кто-либо в машине или нет. Нигяр подумала, что Хасай притворяется, и отступила: «Тогда вези меня домой!» Хасай чувствовал, что с ним происходит что-то неладное, руки его не слушались, но он поехал. На повороте машина запетляла, к счастью, аварии не случилось, свисток милиционера сработал мгновенно, и Хасай остановился. Подбежал регулировщик. Он узнал Хасая. Хасай дал ему десятку и тихо сказал: «Мне плохо, перекрой движение, хочу завернуть к своему дому!..» Милиционер задержал машины, чтобы дать Хасаю возможность развернуться. Хасай не помнил, как довел машину до дому, открыл дверцу, вышел. Нигяр оказалась той недозволенной нагрузкой, которую не выдержало сердце. Она еще несколько раз пыталась предъявить свои права на Хасая, но после разговора с Гейбатом, которому Хасай поручил «уладить дело», больше ни разу не набрала его номер телефона. К счастью, до инфаркта не дошло и Хасай вскоре оправился.
— Так что брось, не бери грех на душу, пусть другой наносит последний удар. — Признайся, шефа своего решил выручить? — Возможно, но, поверь мне, чихать я хотел и на Хасая, и даже на Джафара-муэллима. Меня волнует совсем другое… Но прежде чем узнать, что же волнует Амираслана и почему он не так уж заинтересован в том, чтобы история с Гюльбалой затянулась, послушаем о нем. Амираслан самый младший в семье (разница в возрасте между первой, Сеярой, и им была большая — двадцать лет; Сеяра даже корила мать, когда та Амираслана носила: «Стыдно ведь!»), воспитывался, как пошел в школу, у Сеяры: у них с Джафаром своих детей не было и они привязались к Амираслану, как к сыну. К тому времени, когда Амираслан стал задумываться о женитьбе, у него сложились житейские принципы, которые он сформулировал и которым пытался следовать; тут и «необходимость делать биографию», и связи, прямые и косвенные, и умение играть на слабостях сильных мира сего, и теория смелости и риска. «Надо, чтобы биография была чистая, как окна, вымытые перед весенним праздником новруз-байрам»; теория трамплинов — двигаться не постепенно, не эволюционно, а скачкообразно, прыжками; или уходить в сторону, обходить преграду, чтобы затем неожиданно оказаться намного впереди; добиться должности, чтоб иметь возможность делать добро — реальное, весомое, ощутимое. Для Амираслана праздник, когда звонят ему с просьбой о транспорте; а транспорт нужен всем; тут и похороны, и свадьбы, тут и всякие переезды-передвижки — город ведь большой, народ в постоянном движении… Упустишь момент и застрянешь навсегда; надо перескочить — и вверх; времени в обрез, но нельзя и спешить!.. Пытался как-то пойти на откровенный разговор с Джафаром-муэллимом, хотя знал, что тот помогать не любит, а возьмется помочь, испортит дело, что-нибудь непременно будет не так. «Выдвини моего начальника», — говорит ему Амираслан, имея в виду Хасая, а заодно и себя. А Джафар-муэллим, как это с ним часто случается, будто и не слышит, смотрит отсутствующим взглядом, в котором порой мелькает нечто, похожее на удивление: очень знакомое лицо у собеседника, где-то он его видел, а где, вспомнить не может… Амираслан развернул бурную общественную деятельность; избрали в профком; важно, чтоб начали склонять по-хорошему твое имя; он член жилищной комиссии, он в товарищеском суде; и везде слышен его голос; затем избрали в партком; Амираслан дельный, быстро схватывает суть предложений и дает четкие формулировки постановлений; обтекаемо, гладко и конкретно; свежо и в рамках общеизвестного; и критика есть, и в меру самокритично; удовлетворен и тот, кто предложил, и тот, кому адресовано; сказались и образование и «хобби» Амираслана; на районной конференции, куда его тоже избрали, остро выступил по наболевшему вопросу о сфере обслуживания, «толкнул», как потом делился с Сеярой успехом, «патетическую речугу» о высоком звании бакинца; и волна новых веяний вынесла его на своем гребне на городскую конференцию. «Ты совсем перестал работать», — упрекнул его как-то Хасай. «Ревнует! — подумал Амираслан. — Или за место свое боится!» Хасай понял и шутливо добавил: «Смотри, пожалуюсь Джафару-муэллиму!..» А потом неловко ему было, что зря одернул: рассказали, как Амираслан защитил его на днях в горкоме. Инструктор намекнул тому: «Может, на место Хасая, а?» Неясно было, мысль эта сверху идет или сам додумался, причем в комнате были еще люди, насторожились: «А ну, посмотрим, как ты среагируешь?!» Амираслан спокойно, но твердо стал защищать Хасая и защитил, и свое благородство продемонстрировал: лишен, дескать, карьеристских побуждений. Но это после. Так вот, пользуясь афоризмами Амираслана, тогда несколько наивными, потому что это было время, когда они только-только рождались — «Женитьба — на век, любовь — на миг», — Амираслан, решив жениться, составил «картотеку невест»; потом на основе картотеки возникла схема должностных и семейных связей, которая затем обновлялась, разветвлялась и уточнялась; появлялись новые линии, обрывались исчерпавшие себя… Захватывающее занятие!.. Амираслан составил список лиц (скажем, первая десятка!), затем узнал, у кого из них есть дочери, получалась любопытнейшая картина: у первого в десятке детей нет; у второго старшая дочь после третьего развода, кажется, дома сидит, а младшая еще не доросла; у третьего — ровесница, даже чуть старше Амираслана, а это плохо, надо, чтобы жена была моложе, но не в этом суть; уж очень эта дочь серьезна, очкаста и некрасива; у четвертого — единственная, лелеют, с телохранителем ходит; а когда сессия, телохранитель с зачеткой от одного преподавателя к другому, аккуратно и предметы вписаны, и оценки, любо поглядеть, круглая отличница, лучше не связываться; у пятого — это надо разузнать, кажется, сын… Да нет же! Дочка, красивая, умная, кончает школу, надо чуть-чуть подождать, в резерв ее. Пойдем дальше (а пока составлял, она и упорхнула, стала невесткой Хасая!..); у шестого три дочери, сам красавец, жена красавица, а дочери уродки; у седьмого одна дочь, весь город о ее нарядах и жизнелюбии говорит, гроза знаменитостей, особенно по ведомству искусства; у восьмого дочь в маму, а мать, упаси аллах, такая боевая, никакой жизни не будет; у девятого… жених у нее, и неплохой парень; у десятого — сами они еще молоды, но надо держать на примете, авось у Амираслана родится сын или дочь и, кто знает, может, к тому времени… И унесли-унесли Амираслана думы далеко-далеко!.. Первый список исчерпан, Амираслан принялся за картотеку знаменитостей второй десятки; продумал, каким требованиям должен отвечать идеал: скромность, здоровье, красота, образование, рост, фигура; но на первом месте — скромность как синоним верности, домовитости; чтоб взглядом — ни-ни (рты потом не закроешь!). И тут же на одиннадцатом — стоп! Вот она! Ко всему прочему еще и добра!.. Стал приглядываться и узнал, что дружит с девушкой, которая живет во дворе Саттара; тут же к сестре за советом, та — к мужу, муж — подробности об отце: прекрасный человек, превосходная семья; пока то да се, сглазил будто кто семью: отец девушки надолго выбыл из строя (вирусный грипп и, как осложнение, катастрофически прогрессирующая слепота), а уже и Саттар был подключен, уже и сваты нашлись, даже обручение состоялось. Отец, предчувствуя недоброе, не стал тянуть; но попросил, чтоб без пышности; свадьбу сыграли, а через неделю он умер, Амираслан с болью заштриховал на своей схеме линии, которые вели к тестю. Некоторое время спустя сбоку на своей схеме Амираслан записал: «Стремясь к большему, довольствуйся малым»; он счастлив, жена — его тыл, жена — его любовь, жена — это все для него. Схема, схема… Есть, конечно, момент везения, счастья, но главное, чтобы утвердилась за тобой молва как о везучем. И, кроме того, надо, чтоб люди видели и знали, что ты осведомлен, знаешь мельчайшие подробности из жизни тех, кто «наверху», — кто с кем, кто против кого, кто как думает о том или другом. Схема разветвляется: кто на ком женился; кого куда переставили, кто кого обошел; неожиданная смерть — и надолго клетка не заполнена, и Амираслан думает, глядя на нее: «Кто же?» И догадки рождаются: этот? Он связан с тем-то по материнской линии, а с этим через жену; но есть еще один, кто может эту клетку заполнить: внучатый племянник такого-то и зять такого-то!.. А если догадка кажется ему стоящей, сообщает о ней Сеяре при Джафаре, та еще кому-то, тот дальше, и пошло гулять по городу: «Б. идет на повышение, занимает место Г., и Ш. идет на место Б.». — «А куда же Г.?» — «А он на свое старое место и возвращается». Линии появляются, прочерчиваются, приходится новые узлы завязывать — жизнь-то идет, кто-то на пенсию, кто-то умер, кого-то ушли, кто-то подрос, кто-то женился, перемещения всякие, неожиданности. Иногда для ясности Амираслан выделяет какой-то важный участок, отдельно рисует микросхему, и порой она причудливый вид обретает, эта схемка: вроде акула из воды высунулась или удивленный бегемот пасть разинул. Неплохо бы, думает Амираслан, сигнализацию придумать, чтобы сразу видеть, если потянул нужную тебе нитку, как она приводит другие в движение.
— Так вот, — говорит Амираслан Саттару, — не удивляйся! Да, да, чихать я хотел, и даже на Джафара-муэллима! Кругом такое творится, и не только у нас, но и у соседей, что Хасай и прочее — мелочь. Можно вмиг и взлететь высоко и пасть так низко, что, как Гюльбала, впору головой вниз. — Значит, самоубийство? — Да отстань ты, маньяк! Я к примеру. О тесте его даже какой-то заграничный голос вещал. Я, правда, не слушал, рассказывали. — Амираслан понимал, что такое дело, как гибель сына Хасая, а Гюльбала связан родственными узами с вчера еще могучим человеком, не из пустяковых. Только потяни ниточку! Сын. Шурин. Самоубийство. — Тут можно, конечно, прославиться на всю республику, но тебя, знаю, такая слава не прельщает, хотя все мы люди. — Потянут, думает Амираслан, за ниточку Хасая, а там, кто знает, может, подденут и Джафара; для Амираслана такой поворот пока ни к чему. И, понимая, что нельзя ничего пускать на самотек, недооценивать ни одну ерундовую деталь, он и решил перестраховаться, позвонил Саттару, да вышло некстати («А Джафар-муэллим, между прочим, только что мне звонил! Не успел я повесить трубку…»). Надо же, чтоб такая накладка! — Я убежден, то, что делается у нас, вселяет надежды! — Ты наивен, Саттар, неужели не видишь, что покрываем себя позором на всю страну? В газете целая полоса про все эти дела: бассейн в квартире! Бриллианты в банке с вареньем! Хищническая охота в заповедниках! Разбазаривание музейных ценностей!.. Смотрят все и дивятся: «Ай да мы!..» Ты думаешь, такая реклама нас красит?! — При чем тут реклама? По всему фронту идет борьба! И я думаю, что эта борьба очень даже нам необходима! — Но надо же с умом подходить! Разве только у нас эти безобразия?! Но другие-то делают шито-крыто! — Извини, но это старо, насчет сора из избы! — Старо, но верно, черт побери! Поснимали одного, другого, третьего, надо же меру знать! А ты убежден, что их всех заменили люди, как говорится, с чистой совестью? — А как же? И не сомневаюсь я! — Наивен, ох, как наивен ты!.. Нет, я не скрою, надо обновлять, омолаживать, пора и нашему поколению дать простор, кое-что в этом направлении делается, не сегодня-завтра и твой друг, да, да, не удивляйся… — А я не удивляюсь и не удивлюсь. — …может взлететь. Но вообще-то ты прав, никудышные мы! — Я этого не говорил. — Ты не говорил, так я говорю. — И зря! — Нет, нет, вялые мы какие-то!.. Чем мы можем похвастаться, так это снами! — Чем, чем? — не понял Саттар. — Наши земляки много снов видят. У любого спроси! Видит сон, но этого ему мало! Рассказывает, потом требует отгадки, множество людей в это вовлекается, и мусолят, и мусолят. Вместо того чтобы окунуться в реальную жизнь, активизироваться, сны да их разгадки! Вчера вот один рассказывает, цветной, говорит, сон. То ли море голубое, то ли лодка розовая. Черт знает что такое!.. Амираслан не случайно ополчился на сновидцев. Два его начальника — непосредственный и, так сказать, семейный, один дома (Джафар), а другой на службе (Хасай) — расскажут, а потом ждут. А когда сбывается — мол, дорожи нами, мы не только сновидцы, но и ясновидцы. «Увидел я во сне», — Хасай Амираслану рассказывает. «А я снов не вижу». «Быть не может!» А чего Хасай удивляется? Его Хуснийэ тоже не видит. Вернее, раньше не видела, до смерти Гюльбалы. И ей Хасай так же, как Амираслану, говорил: «Быть не может!» А она ему: «Ты тоже раньше не видел, как со своей Реной связался, так и стал всякие сны видеть!» Хасаю приснился сон. Диковинный. Но он не знает, что такие же сны снятся не только ему в этом городе. Ну, скажем, Джафару-муэллиму. А удивляться нечему: одни корни, одна географическая и иная среда, с детства привык слышать, как рассказывают о снах, это вторая жизнь его земляков. Рассказывают, как помнит Хасай, непременно в кругу семьи, и кто-то берется отгадывать. И, случается, совпадает. Конечно, таких отгадывателей почти не осталось, вымерли знатоки, а сны снятся, и ничего с ними не поделаешь, приходится самому голову ломать. Часто, ложасьспать, Хасай долго не может уснуть, ворочается на горячей простыне, подушка становится жаркой. Об этом Хасай, между прочим, как-то сказал Джафару-муэллиму: «Знаешь, Джафар, ложусь спать, на сердце тяжело, кажется мне, что усну и не проснусь больше». И что же ответил Джафар-муэллим? «Хорошая смерть, когда во сне… Повезло ему». — «Кому ему?» — «Ну, тому, о ком ты рассказываешь». — «Да о себе я говорю!» — «Ах, о себе-е-е-е! — протянул Джафар-муэллим и незаметно зевнул. — Это бывает!» Амираслан отреагировал взволнованно, прямая противоположность своему родственнику. Встал, подошел, в глаза заглянул, за руку взял, чуть ли не пульс пробует. Хасай даже растерялся: «Да нет, я здоров, что это ты?» — «С этим не шутят. Электрокардиограмму сделать надо. Не пойдете сами, позвоню, скажу, чтоб силой повезли вас. Вы что? Со здоровьем не шутят!»
— Черт знает что такое! — гнет свое Амираслан. — Погрязли в снах!.. — Ну зачем ты так?! — Но Амираслан перебил Саттара: — Сколько у нас знаменитых ученых, на всю страну известных? А? Я этим специально занимался. Составил список, получился он очень и очень жидкий!.. С искусством ничего, терпимо. Афиши так и пестрят: Ибрагимбеков Максуд, Ибрагимбеков Рустам! Родные братья, а работают врозь. Был Бейбутов, теперь вот Муслим. — Почему был? Он и сейчас, слава богу, как соловей поет. — Пусть, но я не о том! Есть у нас, к примеру, Ал-18? Или Маг-24? — Что за ал и маг?! — Ну, самолет! Алияров-18 или Магомаев-24! А светило по части астрономии? Кибернетики? Теория, к примеру, Бахтиярова?! — Стоп! Ты неточен! Говори, да знай меру! Большие люди у нас были и есть. И будут! Есть и в астрофизике, и в нефтехимии, есть, кстати, и немало теорий, даже теория моего однофамильца, пойди и поинтересуйся!.. Да, да, теория Макинского, нашего земляка. Я тебе скажу еще вот что. Даже бригада, в которой, кстати, работает и племянник Хасая, ты читал о ней недавно? — Коллективная знаменитость? — Хотя бы! Наклонно пробурить в море такую скважину, да еще впервые в мире, да еще с таким наклоном!.. Это, знаешь ли, не меньше, чем в космос слетать! — Это какой же племянник? Магомед? Я, кажется, с этой бригадой знаком, вместе у Хасая пировали… Да, ничего не скажешь, знаменитость!
Хасай их познакомил, мол, ровесники, крепко друг за дружку держитесь. Мамиша удивило: ровесник, а спереди лысый, только виски черные-черные; потом Гюльбала шепнул: «Подкрашивает виски!» Сначала представился Мамиш, как младший; ему всегда кажется, что он моложе собеседника; зовите меня, мол, просто Мамиш. «Но вы выглядите на всю полноту имени — Мухаммед, — заметил Амираслан. — Я понимаю, старомодно. А, Мамиш, вы что же, из южных? Это у иранских азербайджанцев принято». Какой он выходец? Материнская линия — бакинцы, а вот отцовская — он из туркменских азербайджанцев. «Ну тогда ясно! Там много из южных выходцев, лица у них, знаете, продолговатые такие и кожа потемнее». «Что правда, то правда», — подумал Мамиш, но почему-то ему не понравилось, обидно стало, что отец точь-в-точь соответствует нарисованному этим бесцеремонным человеком портрету. Амираслан не смог бы объяснить, почему не назвался полным именем, опустил первую часть; видимо, после «Мамиша» напыщенно прозвучало бы «Амираслан» — «Эмир среди львов» или «Лев среди эмиров»… Если бы тот сказал «Мухаммед» или хоть искаженно «Магомед», можно было бы тогда и «Амираслан». А потом в день поминок по Гюльбале пришел почти одновременно с бригадой; старший сын Гейбата Машаллах, не стриженый, обросший щетиной в связи с трауром, заправлял всей поминальной процедурой: встречал пришедших, следил за очередностью входа, помещение-то маленькое, за подачей чая, чтоб никто не был обойден; а народ все идет и идет. Знакомые, родные, родственники, друзья, знакомые друзей, соседи по кварталу, сослуживцы отца, матери, самого Гюльбалы, приятели братьев, просто любители ходить на поминки: здесь и разговоров наслушаешься о городских новостях, о мировых событиях, диспуты и споры между верующими и неверующими, истории всякие, последние известия… Хорошо, когда много помощников: сразу же моется посуда, быстро заваривается чай, кто-то подает, кто-то убирает со стола, откуда-то принесены большие самовары и на плите стоят здоровенные чайники для заварки. А народ все идет и идет… Минуту-другую Амираслан постоял с бригадой Мамиша на улице, пока не освободилось наверху место. Амираслан шепнул тогда Мамишу: «Твое счастье, что есть алиби, дворничиха видела…» — «А если б не видела?» — Мамиша возмутила бестактность Амираслана, а тот пожал плечами: «Что с тебя взять, раз в таких элементарных вещах ничего не смыслишь».
— Да, слава у них мировая, все вокруг трубят о феноменальном изгибе наклонного бурения! — Значит, собираешься совершить скачок? Занять ключевой пост? — Поверь мне, все силы я отдам своей нации… Не сердись, может, я лишнего наговорил, всякое иногда в голову лезет. Живем, боремся, анонимки друг на друга строчим, а жизнь-то уходит. Ты, кажется, не был на похоронах сына Хасая? — Был на кладбище. — Я тебя не заметил. — А я в штатском в толпе стоял. Амираслан то к Хасаю подойдет, то к вдове. — Жуткая картина, когда в гроб, в землю… Иногда ночью как представлю, что когда-нибудь и я вот так… В землю, а сверху плиты каменные, и все! — Глаза у Амираслана влажные. Удивительно, как быстро он полысел. — Перестань, нам с тобой еще жить да жить… Где же официант, расплатиться надо. — Кто пригласил, тот и платит, не знаешь разве? Когда прощались, Амираслан напомнил: — Оставь Хасая, прошу. Саттар пожал плечами. — И чего вы так всполошились? И ты, и твой зять. Дело как дело. Необходимые формальности, не более. Странно, но Саттар вспомнил Рену, как она появилась в полутьме. И как волновалась, напуганная несчастьем. Именно Рену — не Хуснийэ, не вдову, не Хасая, за которого так хлопочут, а именно ее, Рену. Окончательный разговор с Мамишем — и дело закрыть.
Повестку в угловом доме подписал кто-то из Бахтияровых, здесь их много в связи с трауром. А Мамиш — на работу. Только он за ворота, как на углу какой-то человек стоит, насупился, на Мамиша смотрит, да так пристально, что Мамиш поздоровался. Незнакомец молча свернул за угол. Мамиш глянул в ту сторону, куда тот ушел, — ни души. Недоумение перешло в тревогу, и она не оставляла Мамиша всю его недолгую дорогу до пристани и весь длинный путь на теплоходе. Люди поглядывали на Мамиша, а один даже спросил: «Не болен?» Не станешь же каждому объяснять, что в трауре. И Гая с упреком сказал о бороде, которая так не к лицу Мамишу. А небритость — это признак лени, и нечего прикрываться традициями. Долгий траур тоже косит живых, иссушает душу: первые три дня, седьмой день, каждый четверг до сорокового дня, сороковой день. А потом годовщина. Мамиш насупился. «Бриться я все равно не буду». Грохот и лязг.
Крытый брезентом грузовик привозил рабочих с буровых в жилой поселок. В застекленных дверях общежития Мамиш увидел себя: черная борода, щетина впивается в руку, когда засыпаешь. А чего злишься? Злость на себя, Р, на братьев матери, Хасая. «Разрешите познакомить вас…» На Гюльбалу надо было смотреть, не на меня! В глазах Мамиша вспыхивала злоба!.. «Что еще случилось?» — удивился, взглянув на него в эту минуту, Гая. Он стоял рядом — крепили трубу. И не трубу вовсе крепил Мамиш, а наглухо затыкал сытые наглые пасти своих родичей. «И это все твои друзья?!» Именно в такую минуту встретились взглядами Гая и Мамиш, и Гая вскрикнул удивленно: «Что еще случилось?» Мамиш, продолжая крепить трубу, качнул головой, мол, ничего, все в порядке. надо! надо! «Да нет, лучше меньше, но зато настоящие друзья!» И уже отброшен нож со сгустком теплой массы. «Ну как, сын Кочевницы?» И Гюльбала тут же, и течет, объединяя их всех, кровь. Родной дядя, как отец. с тебя и начнем! Должен же он открыться кому-то близкому! Стой и крепи, и кричать нельзя. Гая даже отпрянул: «Что еще?!» — «Ничего». Расим подскочил к Мамишу: «Дай я!» — «Уйди, я сам!» «Отдохни!» — кричит Гая Мамишу. Мамиш мотает головой. Закрепил трубу, можно начинать вращение. Гая — Араму. И загудел мотор, Арам к его равномерному рокоту прислушивается. сказать! сказать им!.. Гюльбала сам! — а где ты раньше был, Мамиш? Выспались, отдохнули, до начала смены еще минут двадцать, и каждый хочет использовать их в свое удовольствие: тут и морской воздух, дыши им, без лязга, грохота, металлических запахов с примесью гари, липкой глины. Шли с Гая по эстакаде. С ним всегда спокойно. Что бы ни предложил. Казалось ведь сверхъестественным: бурить с наклоном в три с лишним километра… Пришли к Араму, в Арменикенд, а там вроде обручения, Арам с невестой их знакомит. «Из племени Колумба!» Мамиш не понял, Гая потом объяснил: «Ее дядю Христофором зовут, вот и шутит Арам». Потом Гая вроде бы идею свою проверял, схему чертил; похожа на амираслановскую, только попроще: «Вот линия моря (у Амираслана таких волнистых линий нет), а вот морского дна. Здесь мы, а здесь нефтяной пласт. Прямым бурением его не возьмешь, надо наклонно, сбоку, вот так», — и выводит кривую линию. «Утвердят?» — спрашивает Расим. Гая смотрит на него удивленно: что за наивный вопрос?.. Идут с Гая по эстакаде. «Сказать?» Белеет в синеве, как отточенное лезвие, тонкий полумесяц. Гая чуток: у Мамиша большое горе. — Это жизнь, Мамиш, случается, и умирают люди. — А он не умер, Гая. — Как не умер?! Ну да, он будет жить в твоей памяти, в памяти близких. — Они постараются его забыть. — Как это? — Они сами во всем виноваты. И умолк. …сам выбросился! — как сам? — да, сам. — почему? вот и ответь! «Что же ты? — напишет мать. — Как ты мог?» — а сама? а ты сама?.. сбежали все! и ты, и Кязым!.. тоже мне герои! Хасай вырастил ее, помогал, когда училась, всех Бахтияровых на ноги поставил. «Что плохого сделал тебе дядя? И чего ты хочешь? Чтобы Хасай оставил Рену и вернулся к Хуснийэ-ханум?» скорее отрастет до земли хвост у верблюда… но как забыть о Теймуре? Али? И тариста вспомнил бы, да не знает про тариста Мамиш. а хромой, что мимо окна моего проходит, стучит палкой!.. это же он! он! Вдруг осенило Мамиша — это тот же самый человек, который утром повстречался Мамишу, с ненавистью глядя на него. Это его палка часто стучала по балконным доскам, когда он с «дарами» приходил к Хасаю и Хуснийэ, часто приходил. Думает, наверно, что пришло к Хасаю возмездие. Как же, придет!.. А мать напишет: «Что же ты сгубил своего родного дядю, старшего в нашем роду?!» Нет, она не напишет, не имеет права. К общежитию подкатил автобус за новой сменой. Месяц ярко серебрился, белея в синеве, как отточенное лезвие.
Вторая встреча со следователем состоялась позже, когда Мамиш вернулся из Морского. — Мамед, — говорит Мамишу Саттар, — вдова Гюльбалы сказала мне… — А чего вы не спросите, — перебил его Мамиш, — почему я пришел? — Я же вас пригласил. Послал вам повестку. — Никакой повестки я не получал, я еще домой не заходил… Так что она вам сказала? — Сказала, что Гюльбала любил другую. Мамиш смотрит хмуро. Все об Октае думает. — вот вам загадка, а вы отгадайте. — ?! — Смогли бы хоть как-то прояснить? — «то ли сын, то ли брат». — Кто это может быть? — «то ли отец, то ли дед». — ?! — Что вы от меня хотите услышать? — Мне важно установить истину. — В этом конкретном вопросе я вам не помощник. — А в каком? — помещу я в центр Хасая и выведу линии, а на остриях будут: «Алик», «Теймур», «красные тридцатки». — «Дэли Идрис». — ?! — «Гюльбала». — Ну вот, вы и сами знаете! — Я о деле хотел узнать. — В момент смерти рядом с покойным никого не было. Доказано и ваше алиби, и алиби всех членов семьи. Не было совершено насилия, нет прямых виновных, и поэтому следствие заканчивается. — Все, значит?! — нет фактов?.. есть самоубийство, а нет убийства? — А вы думали иначе? — разве не совершено преступление? — Я хотел уяснить для себя. — Следствию вы не очень помогли. В общих чертах причины и без вас были ясны: неустроенность жизни, неприятие жены, конфликт с отцом и так далее. — Вы на меня возлагали надежды? — Если откровенно, то да, возлагал. — вы возбуждаете дело, состоится показательный суд, вход неограниченный, большие помещения у нас есть, трансляция по радио, телевидению, это ваш праздник, вы к нему давно готовились, я сижу на почетном месте, общественный и семейный, так сказать, обвинитель, прилетает мать… Хасай ее воспитал, был вроде отца родного, сидит, весь осунулся, как его жалко!.. я предан проклятию! «да выйдет тебе боком материнское молоко». но нет, не может, не может она против сына!.. новые линии, новые факты, кое-кто из вчерашних свидетелей сидит сегодня рядом с Хасаем… позор на весь город! — республику! — на весь мир позор! имущество конфисковано, обширный инфаркт, семьи разорены, а дальше? дальше что? — в газетах пишут! ваш пример! — но вы сами знаете столько же, сколько знаю я! — о Хасае? — при чем тут Хасай? — ?! — надо же быть слепым, чтобы не видеть! — Я сказал все, что знал. Тупик. Саттар молчит. Саттар думает: «Неужели я ошибся в нем? Ах как жаль!.. Многого ты хочешь, Саттар!.. Но ведь такое время!.. Мамиш, Мамиш, ай Мамиш!..» Обыкновенный тупик: вперед, налево, снова вперед, направо, а там — глухая стена. — но вы обо мне еще услышите! будет вам и убийство!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — рассказ о том, как Мамиш пошел к Хасаю и Р одна в доме. Идет, идет… И Р — одна в доме. Обо всех подумал Мамиш — о Хасае, о Р. И об Октае думал. А вдруг и он дома? Как же при Октае? Он ведь любит Мамиша, очень привязан к нему, об этом Мамиш подумал? Идет, идет…
Именно к нему обращался Октай с неожиданными вопросами. «Что такое осень?» — спрашивал Октай. Хасай настораживался, Гюльбала недоумевал, а Мамиш, готовясь к тому, что ответ должен быть оригинальным, не спешил. И Мамиш в детстве, бывало, слушает и слушает ашхабадскую бабушку… А она рассказывала небылицы, но Мамишу, видите ли, хотелось узнать, как в животе петуха (а он шел в Стамбул заполучить свою золотую монету, отданную на хранение бекскому сыну-обманщику) умещались и рыжая лиса (она потом спасет петуха от гусака), и лютый волк (а он спасет от ишака), и речушка, жаждущая увидеть Мраморное море (она погасит пожар, в огне которого должен был сгореть петух). Див спорил с Плешивым — кто кого перехитрит; вырвет из головы самый длинный волос: «Смотри!» А Плешивый выдергивал волос из конского хвоста, и его волос оказывался длиннее. «Откуда взялся конь?» — спрашивал Мамиш, а бабушка уже о новых хитростях-небылицах рассказывает: Див из головы вошь тащит, а Плешивый — лягушку, будто она по голове его меж волос ходит: «Ну, так у кого больше?» Див злится, потому что никак не выиграет спор. «Я сейчас такой здесь ветер устрою!..» И стало кидать Плешивого из угла в угол, еле в себя пришел. «Ну ладно, теперь моя очередь, — как ни в чем не бывало говорит Плешивый. — Закрой-ка все щели, а то выдует тебя отсюда, духа твоего не останется…» Див, ясное дело, испугался… Бороться с Дивом — что есть проще? Он страшный в гневе, но он же наивен, как дитя; да и Плешивому везло: конь с густым хвостом объявился, подвернулась под руку лягушка… А Октай пристал со своей осенью: — Так что же, а? Мамиш ждет, он терпеливее, и Октай, ерзая в кресле, говорит: — Это гранат на ветке, а ветка висит на стене! — Ну, учудил!.. — говорит Хасай. Очень ему не нравятся эти вопросы-ответы сына. Что-то чудное в них, странное. «А что? Очень интересно!» — думает Мамиш. — Ну как по-азербайджански гранат? — спрашивает Гюльбала у Октая. Ему, как и Хасаю, тоже не по себе от туманных вопросов Октая, и он (а ведь Рене нравятся, кажется, эти заумности сына) спешит исправить неловкость. — Нар, — выручает сына Рена. — А как ветка? Лицо Рены залила краска, она мучительно вспоминает, но так и не может вспомнить. Не знает и Октай. Ой как стыдно Хасаю. А Октай — хоть бы что, никак не уймется. — А что такое лето? — спрашивает он у Мамиша. — Это гроздь винограда, и каждая ягодка зовет: «Съешь меня!» Но от шутливого ответа Хасая Октай никнет. — Нет, — говорит он, — не то! — и выбегает из комнаты. И никто не скажет, что же такое лето. Может, шайтана на помощь призвать? Если что найти надо было, бабушка завязывала узелок. «Вот мы и поймали шайтана за хвост!» И странно: потерянное тут же находилось. «Что за чушь!» — удивляется Мамиш.
Идет, идет… И Р одна в доме. И больше никого. Мамиш приходил сюда всегда с Гюльбалой, и, ясно, не потому, что Хуснийэ-ханум разгневается, узнает ведь; или потому, что дядя приревнует; так честнее и перед собой, и перед дядей; они ведь с дядей поговорили, как мужчина с мужчиной: Хасай спрашивал тогда его, вроде бы не посягал на любовь племянника; а потом: «Знакомьтесь!..» И Р одна в доме. Тонкие губы побелели, лицо такое некрасивое, искаженное! А как же? Гюльбалу вспомнила! И та, и эта — Р? И Мамиш с ходу: — Ну как? Ни рыба — ни мясо? Она смотрит с недоумением. «Не затем ведь шел сюда! Чего морочишь ей голову?!» нет, и затем! — Мне Гюльбала все рассказал! «Тогда Рена была осунувшаяся, бледная…» Сразу, с ходу. Щеки вспыхнули, и в глазах вопрос: «Не понимаю. О чем рассказал?» Молчание затянулось. ну вот и выдала себя! — О чем именно? И Мамиш слышанной где-то фразой: — Снял пелену с ваших тайн! Губы стали почти не видны. Надо ее опередить: — О вашей любви рассказал. Да, все рассказал! — злорадство какое в голосе. А она будто этого и ждала. — Бедный Гюльбала, — вздохнула. — Разве можно делиться своими бредовыми мечтами, да еще с таким человеком наивным! «Неужели Гюльбала?» И вдруг облегчение. скажи, скажи еще! не молчи! — Нет, это правда! — говорит он. — И ты поверил? Почему-то легко на душе, будто чудо какое. говори же! — …Он был влюблен, а я жалела его, не говорила Хасаю, чтобы не навлечь гнев. — И записку показал! — Надо хоть факт один. — Он же порвал ее при мне! — Значит, была! И стало вдруг тоскливо-тоскливо Мамишу. значит, правда! Но надо еще и еще, нельзя молчать. — Ну вот сама и призналась! Все до конца сказать. — Я знала, что ты доверчивый, но настолько! скажи, скажи еще! Еще, до конца: — И об Октае сказал! Лицо ее покрылось крупными пятнами, как в тот раз, когда Гюльбала вдруг заплакал. вот-вот! правда! И пустота в душе. — Сказал мне, и хватит! — И уже другая, на глазах сразу другая стала. — Скажешь еще кому, засмеют. А Хасай узнает, он сейчас придет, ох и худо тебе придется!.. — Грозишь? — Я ему, знаешь, что скажу?.. «И с нею, как со всеми!» — думает, а в ушах слова Хуснийэ: «Я бы на вашем месте!.. Да будь я на вашем месте!..» — …тебе и самому нетрудно понять, что я скажу. И он поверит! Разве ты не видел, как он на тебя смотрит, когда мы рядом?.. ах, как красиво ты говоришь! как нежно, как мелодично!.. Мамиш смотрел на нее странно, и ей стало вдруг безразлично — зачем она его уговаривает? Оправдывается?.. — Ну и что? Допустим, поверит тебе. Бросит меня? Я без всех вас проживу! — Надоело? ты ли — и та, и эта? — Да! — И Хасай? — Да! Да! И ты, и он, и все вы! — Гюльбала тебе уже не надоест! — Чего добиваешься ты? — Мы оба собирали в пучок, и я собирал, и ты собирала! Р стало не по себе: «О чем он?» — Поди проспись! — Думаешь, я выпил? — Что тебе нужно? Чего ты хочешь? А Хасай шел домой, к Рене, от всех и всего подальше. Он был полон ею, и никто ему не нужен. Особенно после истории с Нигяр. Раньше стрелял глазами, ловил и не отпускал хотя бы в мыслях, а теперь никого, кроме нее, Рены. Прозвенел звонок. «Хасай!» Но то ли до звонка, то ли вместе с ним, то ли после: — А я его люблю! Запомни! И никто мне не нужен! Да, люблю! «Вот оно!» И такая тоска. Это же ясно, и сейчас, и раньше еще, когда в саду Революции… Как будто слышал Хасай, а может, и не слышал; звонок, а потом тут же — щелк ключом, это он всегда так: коротко звонком и ключ в дверь…
Стоило Хасаю, придя домой, застать здесь Гюльбалу с Мамишем, как он тут же — взгляд на Рену, а потом на Мамиша; как-никак он их познакомил; и если на лице Рены он читал радость, мрачнел, ах, как мрачнел Хасай!.. Ловил их взгляды, отыскивал в них тайный смысл. А потом, с улыбкой проводив гостей, обрушивал на Рену упреки, устраивал допрос, обвинял, оскорблял, распалялся в гневе. Но Рене удавалось, главным образом, лаской доказать свою невиновность, убедить, что ревность его беспричинна, а упреки беспочвенны, ведь она любит его, глупого! Большого и глупого! «Он? Он? — допытывался Хасай. — Это он первый?» Рена краснела. «Я же объясняла! Говорила! Не он! Не он! Не знала я! Глупа была! Я же говорила! Я не хотела! И не знала, как получилось!» — «Он? Это он?» — «Я же рассказывала!..» Но Хасай не мог вспомнить, ведь не рассказывала! Чего он мучает ее? Бросить ему: «Где и с кем? А в доме твоем! Где дед похоронен!» И когда снова в воскресный день в этой же квартире на третьем этаже раздавался переливчатый звонок, специально привезенный издалека Хасаем, и к ним вваливалась молодежь, а чаще всего Гюльбала и Мамиш, Рена, помня прошлые скандалы, напускала на себя строгость, даже неприветливость. Это тоже оборачивалось против нее — гости уходили, и Хасай вскипал: «Так ли встречают людей?! Ты должна веселиться, радоваться, вести себя так, чтоб приятно всем было! Еще подумают, что плохо тебе у меня, что жизнь со мной — хуже каторги! Особенно Мамиш». — «Да, хуже! Ты же сумасшедший! — кричала Рена. — Когда я с ними весела, ты ревнуешь, когда я строга, ты снова за свое! Как мне прикажешь поступать?» — «Не с гостями, а с Мамишем!» — «Опять о нем!» И тогда наступал черед Хасая успокаивать Рену, и мир снова витал в их доме. Сцены как сцены, а Хасаю доставляло наслаждение посидеть с молодыми, беседовать с ними, как равный с равными. Он сбрасывал сразу лет двадцать. И нравилось ему именно при молодежи, если даже это сын или племянник, заводить разговоры о любви, о женщинах, чтобы и самому покрасоваться и чтоб отношения молодых, особенно Мамиша и Рены, еще раз проверить, хотя Рена и сумела убедить его в полном равнодушии к Мамишу, но женщина есть женщина, думал Хасай. «Как можно сравнить тебя с Мамишем? Я же с ним еще раньше порвала! Теперь-то понимаю, что из-за тебя! К тебе тянулась, дурень ты мой!» «Почему не женишься? — спросил как-то у Мамиша. — Вот и Гюльбала обзавелся семьей». Что-то дерзкое, вызывающее виделось Хасаю в том, что племянник упорно остается один. Чего ждет? На что надеется?!
Мамиш и Рена стояли в коридоре, когда Хасай щелкнул ключом и открыл дверь. На Мамиша взглянул, на Рену и помрачнел. Дорогого племянника никто не звал и не ждал сегодня, мало ли какие у Хасая могут быть дела?! Ну и нравы!.. И возбужденный вид Рены не понравился Хасаю. На лице его менялись краски от багрово-малиновой до серовато-пепельной, и все мерещится — Рена и Мамиш… Ну нет! «Я ее!..» Да, да! Именно готовность к измене прочел Хасай в ее взгляде, в том, как густо покраснела. Так же, это было давно, но Хасай помнит, краснела Рена, когда она на той самой бывшей Балаханской бывала с Хасаем в коммунальной квартире, в комнате, снятой для встреч, если при этом неожиданно звонили в дверь или шаги соседа приближались к их комнате. Прочел и отогнал. «Ну вот, только дал себе слово не спешить с выводами, — это он по дороге себя убеждал, — а уже готов взорваться. Не в комнате же они! (Как будто это имеет значение.) И Мамиш не похож на уходящего, он только что пришел (это существенно?)». И все же, как это случалось не раз, больно кольнуло в груди. Страх вытеснил все другое. «Надо показаться врачу». Ночью хватается за сердце: «Остановилось! Не бьется!» Или застучит быстро-быстро и замрет, будто навсегда. Хасай понимает, что в такие мгновения надо — так ему говорил знакомый врач — лежать тихо, не поддаваться панике, и все пройдет. «Но не бьется!» И Хасай вскакивал, садился, шарил рукой по груди. Рена просыпалась, но не подавала виду, пусть успокоится, Хасай мнительный очень, его легко убедить, уложить при малейшем недомогании. Вот и сейчас Хасай не имеет права выдавать незваному гостю, пусть даже и сыну сестры, что у него болит сердце. Но боль, нежданно возникнув, тут же и прошла. И это наполнило Хасая маленькой радостью, показалось: гору на гору перетащит, не устанет. И гнев остыл, ушел с болью. Мамиш — это было видно сразу — только недавно пришел, и не чужой ведь, сын родной сестры, племянник его, парень бесхитростный, друг-брат Гюльбалы, в некотором роде замена ему. И Рена — ну что ей в нем, в Мамише? — Какими судьбами? — спросил. — Чего в коридоре стоишь, проходи в комнату. И Мамиш… Мамиш сказал, что в микрорайоне товарищ из его бригады живет, заболел, пришел проведать, заодно и завернул к дяде, а его дома нет. И умолк. ты подонок! ты взяточник! ты негодный человек! ты! ты! И никто не слышал, как Мамиш плюнул себе в душу. Плюнул, а потом срезал рукой воздух, прошел в комнату и все же решился, выпалил: — Выдумал я про товарища! — ???!! — Пришел поговорить откровенно. Будто бросился с эстакады в море, пошел ко дну, а потом вынырнул, оглянулся и, широко размахивая руками, рванул вперед. — О чем? Мамиш сказал и поперхнулся, голос дрогнул. Гулко застучало сердце. Стрела была выпущена. И неведомо как завершится разговор. Мамиш пытался унять дрожь в голосе, но не мог. Встал. Хасай обнаружит его робость и примет за слабость. — Рена! — И тут же при Мамише снял брюки, бросил на диван, чтоб потом повесить вместе с пиджаком в шкаф, надел пижаму. В дверях появилась Рена. — Готова еда? — И Мамишу: — Начинай, кого ждешь? — Серьезный разговор. — Тем лучше… Не жди, рассказывай. — Повесил брюки на вешалку в шкаф. — Ну вот, я готов! — Сел, закурил сигарету, прищурился, внимательно посмотрел на Мамиша: «Послушаем, с чем ты пришел…» — Наша жизнь — сплошная ложь! — Ну, зачем же так? Давай попроще. — Жизнь нашей семьи. — В чем именно? — Во всем! — И кто в этом виноват? — Ты прежде всего! И в смерти Гюльбалы тоже ты виноват! «Вот она, неблагодарность!» Он ее ждал!! — Рена, ты слышишь, что говорит этот… мерзавец! Рена — ни звука, вся внимание. И не помнит, как подошла к плите, газ зажгла. Спички словно и не брала. — Ай да сын Кочевницы!.. Хасай знал, что когда-нибудь этот Мамиш… «Ждал я, ждал!..» Мамиш молчит. — Уж не Хуснийэ ли прислала тебя? — При чем тут Хуснийэ? она такая же, как ты! — Так вот, пойди и скажи Хуснийэ-ханум, пославшей тебя ко мне, что я ни на что не посмотрю, приду и на сей раз до смерти ее изобью! Пойди и скажи, а с тобой мы потом поговорим! — Меня никто не посылал. Ложь… — Что ты заладил одно и то же?! Ложь да ложь!.. — перебил Мамиша Хасай. — Гюльбала, думаешь, случайно выпал? — Кто ж его вытолкнул? Уж не ты ли?! может, и я… — Или Рена виновата? Может быть, она? — Да! — Ну, Мамиш, и с этим ты посмел прийти ко мне?! — И ты, и Рена! В комнату ворвалась Рена. — Клевета! Все выдумал! В бреду сочинил Гюльбала! — Вены на шее раздулись, голубые-голубые, а на лице багровые пятна. Пошла на Мамиша. — Выдумал, да! Завидуете Хасаю! Они твои враги, Хасай! Я говорила тебе! Заживо в могилу хотят тебя! — Что ты! Что ты! — растерялся Хасай, забыв о Мамише. — Успокойся, пожалуйста!.. Успокойся… — Он мельком бросил взгляд на Мамиша и прочел в его глазах злорадство. «Простить не может!» — Что ты сказал Рене? Что?! Рену обидеть?! Да я с тобой знаешь что сделаю! До смерти не оправишься! — Пусть сама расскажет! — Что ты мелешь? — О любви своей! — Да я тебя… — поискал глазами, схватил хрустальную пепельницу на ковровой скатерти. — Чего не открывали? — влетел в комнату Октай. — Я целый час звоню! То ли услышал, то ли понял, что ругают Мамиша, или лицо матери напугало его, Октай сообразил, что это из-за Мамиша так кричал отец и мать на себя не похожа. Вспыхнуло в нем, загорелось что-то внутри, и он кинулся на Мамиша, даже больно ущипнул, и Хасай как держал пепельницу, так и остался стоять — бросит, может попасть в ребенка или напугать его… Видел однажды Октая таким взвинченным, долго не могли успокоить, подскочила температура. Хасай и Рена поссорились, и Октай бросился вот так, как теперь, защищать мать. — Уведи мальчика! — крикнул Хасай Рене. Та пыталась оттащить Октая, и он, брыкаясь и вырываясь из рук, все хотел ударить Мамиша в лицо, да рука не доставала. — Дорого ты заплатишь! — говорила Рена, уводя Октая. — Лучше о своей матери подумай, о чести ее позаботься!.. «Улыбаешься не мне… Вся облеплена комарами. «Свет моих очей!..» — А ты, а Гюльбала… а Октай, ты думаешь… И вдруг глухой то ли звон стекла, то ли стон; пепельница полетела в Мамиша, он вмиг увернулся, и тяжелый хрусталь ударился в висящую на стене за Мамишем раму — портрет Хасая на настенном ковре. Стекло разбилось, и осколки посыпались на диван. — Если я не задушу тебя этими вот руками!.. Мерзавец без роду и племени! это ты! ты! — Да я твою чернорабочую душу!.. И лепет Мамиша: — А гордился, что сам… Трамвай! Автобиография! — Собачий сын! «Еще хватит удар! — Хасай был бледен и не соображал, что делает. — Только б сердце выдержало!» Кто знает, чем завершилось бы все это, в руках Хасая что-то блеснуло, если бы не тот же мелодичный звонок… — Джафар-муэллим!.. Рена, быстро! А что быстро? — С дивана! Осколки!.. А с тобой мы потом! Поваляешься еще у меня в ногах! я свое слово сказал, и с меня довольно, нам говорить уже не придется! Рена тут же, вмиг собрала в совок осколки. «Совсем не та, и не было той, только эта». То ли слышал он, то ли нет: «Подлый!» Хасай пошел открывать, и Мамиш за ним, чтобы уйти. Навсегда. Не видеть ни Хасая, ни Р, никого! — Добро пожаловать в наш дом, Джафар-муэллим! Высокий, в широких роговых очках, сильный мужчина, довольный собой и миром. Протянул руку Хасаю и, бросив внимательный взгляд на Мамиша, пробасил: — Племянник твой? — Да… А почему вы один, без Сеяры-ханум? — Не смогла прийти, просила извинить… Знаю, знаю, даже робу его надевал. Хасай не понял, о чем это гость. А Мамиш хотел поменяться местами с Джафаром-муэллимом — тому ближе к комнате, а ему, Мамишу, к двери, выскочить и бежать. Но Джафар-муэллим и ему руку. — Куда уходите, оставайтесь с нами. — Нет, нет, у него срочное дело. — Дело не уйдет, пусть остается. — Джафар не привык, чтоб ему перечили. Взял Мамиша под руку и чуть ли не силой увлек в комнату. — Мы с твоим племянником знакомы! — А я и не знал. — Я работал у него на буровой! Помнишь? — Мамишу. — Ну вот. — Хасаю. А тот, между прочим, удивлен: как это Джафар работал у Мамиша? — Да, в его робе работается хорошо!.. А я к тебе ненадолго, тоже спешу, пришел, во-первых, выразить соболезнование, говорил тебе, что специально приду посидеть, побеседовать. Хасай и Рена обменялись взглядами и промолчали. — Но, — продолжал тем временем Джафар-муэллим, — нам не к лицу долгий траур. И об этом больше не будем! Прошли, сели. На диване на ковровом ворсе поблескивали кусочки стекла. Не успела Рена как следует подчистить. — Кто это тебя так изувечил? Вмятина на фотографии под глазом, отчего Хасай косит. — Да так, случайно вышло, Октай баловался. врешь и не краснеешь! — Бывает, бывает. Лишь бы стекло и разбивалось, — не жизнь, мол. Джафар любил афоризмы; не от него ли перенял Амираслан? Но надо менять тему. — Ну как? Ладишь с нашим рабочим классом? Не обижаешь? — Что вы, Джафар-муэллим, — улыбнулся Хасай. — а он, между прочим, до вашего прихода с ножом на меня лез! и зарезал бы! — ?! — честно говоря, струсил я. — Да. Рабочий класс — ведущая сила! Опора наша. И я очень рад, Хасай, что у тебя такой племянник! Все мы вышли из рабочего класса! Джафар действительно родился в семье рабочего в Черном городе. И сам после окончания нефтяного техникума в Балаханах года три работал на промыслах «Лениннефти». Так что никакой рисовки и Мамишу не надо ухмыляться. И Хасай кивал головой, не глядя на Мамиша, не то выдаст себя. Он во всем согласен с Джафаром-муэллимом. И с тем, что тот сказал, и с тем, что скажет. — Как Сеяра-ханум? Но Джафар еще не договорил. — Если бы знал, какое удовольствие я испытываю, когда беседую с простыми людьми, с нашими рабочими ребятами! И здравый смысл у них, и широта мышления, и глубина понимания высокой политики! — Вы правы, совершенно правы. Рена принесла закуску, зелень, поставила высокую литровую бутылку водки с латинскими буквами на этикетке. И перед Мамишем пришлось положить нож и вилку — воткнуть бы в глаз ему! — Вот этого не надо! — Рена даже вздрогнула, а Джафар-муэллим гладит бутылку. Гладит-поглаживает. — В другой раз. Хасай знал, что Джафар пьет только водку. Рена унесла, а Хасай промолчал. Не подашь — обидится, а подашь — «в другой раз». А то и упрекнул бы: «Неужели и мы будем пить на поминках?» получил свое? и как ты смел? сын ведь умер! Вышла заминка, но Джафар сделал вид, будто ничего особенного не произошло: — Да, романтическое место Морское! Ездил я туда, повез кубинскую делегацию. Сели в вертолет, здорово нас качало. А за спиной резиновые мешки на случай аварии, чтоб не утонуть. Смеялись кубинцы: к чему это? На полчаса полета. И не океан ведь! А я им: «Озеро, да пострашнее вашего океана!» Но инструкцию прочел на всякий случай, как надуть спасательный мешок. Пока надуешь — на дно пойдешь… Не был в Морском? — И добавил, пока Хасай отвечать собирался: — Непременно съезди! Легендарное Морское! Чудо техники! А Хасай действительно не был — не пришлось. — Очень понравилось гостям. Правильно ты поступил, что работаешь там. Отовсюду в республике видать! — Я его туда устроил. «Ну вот, началось…» — И сказал: «Поступай в институт, учись!» И прописал. Проявит усердие, еще помогу. — Очень хорошо делаешь, Хасай! Помощь рабочим — первейшая наша обязанность! «А сам-то ты прописан вообще где-нибудь?» — сказал бы ему Мамиш, если б знал, что Хуснийэ-ханум в одну из вспышек выписала Хасая из углового дома и живет он теперь, не ведая о том, без прописки: ни там не прописан, ни здесь, в микрорайоне, квартира ведь на Рену куплена!.. Хасаю взгрустнулось вдруг. «Сейчас именем Гюльбалы спекульнет!» И Хасай вспомнил сына. Оборвалась, сломалась ветвь Бахтияровых, его ветвь! Пока Октай подрастет, пока то да се, а тот был его первенец, его плоть! — Какого сына я потерял, Джафар! Какого сына!.. Клеветники всякое о нем говорят, очернить пытаются, но я знаю, я чувствую, это был настоящий человек! — Ничего не поделаешь, такова жизнь! — Еще, чего доброго, заплачет Хасай, а Джафар этого не любит, не выносит слез, особенно мужских. — Да, — перебивает он Хасая, — давно мы с тобой не сидели по-семейному. В последний раз… Когда мы в последний раз виделись? — Не помнишь? У меня же, вот здесь, но это было очень давно… Тогда, помню, смеялись мы… Ну да, я рассказывал об Амираслане. А было так: сидели у Хасая, и он рассказывал Джафару, и тот, кто рассказывает, хохочет, и тот, кто слушает. «Сижу я у себя, — рассказывает Хасай, — вдруг приходит ко мне молодой, хорошо одетый человек и говорит: «Я не скажу, кто меня послал, кто мой покровитель, если скажу, возражать не будете, сразу на вакантное место примете!» Я опешил, но виду не подал, думаю про себя: раз знает о вакансии, только вчера я ее получил, место теплое, значит, человек он сведущий. Давай, думаю, рискну, не буду расспрашивать, кто и что, а приму. Парень, вижу, смекалистый, с достоинством, на него можно положиться, не подведет. Пиши, говорю ему, заявление! Он встал, учтиво поклонился, руку мне жмет. Я, говорит, оправдаю ваше доверие! И подает уже написанное заявление. Я сбоку резолюцию: «Оформить». А спустя месяц приходит ко мне с конвертом… Рена, завари свежий чай. — «Не надо при ней», — думает Хасай. «А я предысторию эту не знал», — говорит ему Джафар. «Эх, Джафар, многого ты не знаешь!» «Что же дальше?» «А дальше приносит мне этот молодой человек конверт. «Что это?» — спрашиваю. Вижу, молчит, стесняется вроде. «Что это?» — спрашиваю снова. Пальцами чувствую, деньги! «Знаешь, как это называется? За такие вещи по головке не погладят!» Строго говорю ему, а он молчит, а я еще больше распаляюсь. «Это, — говорит он мне, — за доброе ваше отношение, за доверие». Решил я, что надо по-тихому уладить, по-умному. «Садись, — говорю ему. — За доброе отношение ко мне спасибо». Он сел, а я спрашиваю: «Жена есть?» — «Есть». Как в «Аршин мал алане». «Дети есть?» — «Есть». — «Эти деньги, — говорю ему, — я дарю тебе. Пойди и от моего имени купи жене, что ей захочется. Выпишу тебе специальный пропуск, пойди и приобрети, в нашем магазине. И детям от меня подарки купи». Как рак красный стоит. «Что ж, — сказал он, — пусть будет по-вашему». А потом вы, Джафар-муэллим, меня к себе вызвали и спросили: «Жена есть?..» И я тотчас понял, что вы и есть покровитель Амираслана». «Хохоту было, когда он рассказывал!..» — говорит Джафар. «Хохот хохотом, а многого вы не знаете, Джафар-муэллим, какая это птица, ваш Амираслан!» Хасай резолюцию-то наложил на заявление, да только завкадрами знала, что, если Хасай не полностью свою фамилию вывел под резолюцией, значит, день-другой повременить надо с приказом. И, как ушел Амираслан, стал наводить справки, кто он и чей человек. Тут же Хуснийэ позвонил: «Не знаешь такого? Амираслан Велибеков». — «Что-то знакомая фамилия». — «И мне тоже так кажется». — «Да это же брат жены Джафара-муэллима!» Вот это связи у Хуснийэ! Два-три телефонных звонка, и полная справка о человеке, его отце, его родственниках, его тайных связях — кто за кем ухаживает и кто с кем водится. «Ну да, конечно, Сеяра-то Велибекова!..» Остроумный парень Амираслан! Врал первое время Хасаю, мол, долго работал в Африке. «Как за колючей проволокой жили, — рассказывал. — В джунгли нельзя — звери, в саванну нельзя — змеи, в реку нельзя — крокодилы». «Да, Джафар-муэллим, вам и не снился такой работник!» Амираслан как-то сказал Хасаю, он знал, когда у шефа хорошее настроение. Утром лучше ему не попадаться, за ночь накапливалась желчь, во сне, что ли? А утром тяжесть на душе, в горле от желчи горит. Лучше первым не попадаться ему на работе. Какая сводка? И звонит. Главному по трамваям и троллейбусам: «Жалуются на вас! Часами болтают на остановках!» Потом главному по автобусам. Так вот, Амираслан знал, когда с Хасаем пошутить можно: «А знаете, в конверте-то ведь не деньги были!» — «А что?» — «Обыкновенная бумажка!.. На всякий случай!» Ну, до такого бы Хасай не додумался! Чтоб бумажки вместо денег!.. Вот и подвели пальцы Хасая, а он им очень и очень верил, этим пальцам, сколько через них этой самой бумаги прошло шуршащей!.. А может, врет Амираслан? Но с какой стати? Это он сказал, когда все же решил сделать первый подарок: бритву «филиппс-люкс» с плавающими лезвиями. Слово в слово помнит Хасай тот разговор с Джафаром, когда он рассказывал об Амираслане: «Но парень что надо ваш протеже. Культурный, работящий, знает, с кем и как разговаривать, учтивый… Люди иной раз думают: мол, хорошо живет человек, значит, не на зарплату». Вот бы сказать Джафару: «А это и не деньги были, липа!..» Очень на Амираслана разозлился Хасай, но не подал виду: «Ах ты наглец! Меня надуть?» Не будь здесь замешан Джафар-муэллим, проучил бы его, как вместо денег бумажку простую подсовывать! «Да вы же знаете, друзей у меня в районах видимо-невидимо, не мне вам рассказывать, Джафар-муэллим, люди меня уважают, посылают часто кто ягненка, кто сливки, ножом можно резать, кто фрукты, орех, фундук… А я все раздариваю соседям, родственникам, друзьям. Сколько сам съешь? И как не взять? У каждого с десяток овец, бараны, не примешь, обид не оберешься!» — Нет, забыл я, не у нас мы виделись! — сказал Хасай. — На поминках, третий день, кажется, по тестю Амираслана!.. «Опять Амираслан!..» — подумал Джафар, а Хасай уже о других поминках думает. — Да, Джафар-муэллим, жаль, что мы все чаще по горестным случаям видимся… — Ладно, давай о другом! — говорит Джафар. вот-вот! о другом расскажи! о хромом, что ходит к тебе! «Ты думаешь, откуда у него столько денег? Видал хромого? — это Гюльбала рассказывал Мамишу. — А когда отец в дорогу собирается, как по команде несут, на блюдечке». Но о блюдечке Мамиш слышал и другое, о прабабушке в их семье любили вспоминать, особенно Хасай, мол, она то ли на золотом, то ли на перламутровом подносе дары подносила, и кому бы — самой императрице! ты о хромом расскажи, а мы с Джафаром-муэллимом послушаем! — Плоть довольна, сейчас никто с голоду не умирает, на черный хлеб и белое масло у каждого найдется, но дух мечется и покоя ему нет. а ты все-таки расскажи! И уже Джафар-муэллим: — Усталый, утомленный вид у вас, Рена-ханум. — Тяжело у нас женщине, дом вконец изматывает. А где Октай? — В группу ушел. — Да, да, ходит он у нас в группу немецкую, к старой учительнице, и ей подмога к пенсии, и нам хорошо. Мамиш смотрит на руки Рены, на них выступили жилы, взбухли вены, пальцы неухоженные. «Неужели и та и эта — Р?» Рена поймала взгляд Мамиша, поспешно убрала руки. Но куда их спрячешь? Молодое лицо и старые руки. Посидев, вышла. Когда выходила, слегка наклонила голову, будто кто-то собирается ударить. Ушла торопливо, бочком. Раньше Мамиш не замечал за ней этой пугливости. а ты расплачься, Мамиш! и капнут твои слезы на ее старые руки!.. Джафар-муэллим давно приглядывался к Хасаю, хотя знал его еще с войны. А когда Амираслан рассказывал о нем, Джафар-муэллим и жена вдоволь повеселились, а что смешного, и сами не знают. И Джафар-муэллим все никак не соберется к Хасаю — на новое жилье его посмотреть и с новой женой познакомиться. Лет десять назад Хасаю крепко досталось бы за всю эту затею со старой и новой женой. Десять? Нет, чуть больше. А как круто изменилась карьера Джафара! До этого шел в гору, с промысла выдвинули в райком, несколько наград в годы войны получил, потом в горком направили, и по одному только заявлению совсем незнакомой женщины, Джафар как-то мельком ее видел, по злобе, а за что, и сам не знает, выдумавшей историю о его домоганиях, сняли и снова на промысел сменным инженером направили… Трудно понять Хасая: не разводится со старой и не женится на молодой, любимой. Причина была, конечно, да о ней не знал никто, кроме самих Хасая и Хуснийэ. Вздумал бы Хасай «опозорить» Хуснийэ — а развод для нее и есть позор на весь город, — Хуснийэ такое натворила бы, что Хасай провалился бы в глубокий колодец и никогда не выкарабкался оттуда. И самой Хуснийэ, конечно, достанется, но она пойдет на все, Хасай ее знает. Хуснийэ напомнила мужу о тех историях, что знал и Мамиш: «А что я теряю? Не я, а ты измывался над Дэли Идрисом! И они живы — и Идрис, и Ильдрым!» А потом перечень совместных акций, неведомых никому, кроме них, хотя Мамиш и мог слышать, как однажды Кязым сказал Тукезбан: «Твоего братца знаешь как прозвали? Бриллиант Хасай!» А Тукезбан заступилась за брата: «Это сапожник приклеил ему еще со времен войны». — «Но не отклеилось!» На все пошла Хуснийэ-ханум, когда Хасай обнародовал свои отношения с Реной и даже в гости стал ходить с нею. А сколько раз Хасай бил Хуснийэ за то, что не сдержала язык. Но она еще не выговорилась и это удерживало Хасая от окончательного разрыва. Именно потому, что Хасай проявил благоразумие, Хуснийэ укрепилась в убеждении, наполнявшем ее чувством гордости, что никакая Рена, да что там эта Рена, тысячи Рен не отнимут у нее Хасая. Первая все же она. И пусть пока Хасай с той. Пройдут годы, поулягутся страсти — не век же ему скакать верхом, — и он снова вернется сюда. Кто-то собственноушно слышал и тут же выложил Хуснийэ: «Хасай говорил: «Старшая моя жена!» И если она, Хуснийэ, старшая, Рена, выходит, младшая. А встрече с Мамишем Джафар-муэллим очень рад. А почему бы и нет? Только зря этот молодой человек так недружелюбно смотрит на него. Уж не ставит ли его на одну доску с Хасаем?! «Ну, это он зря!..» Джафар любил предаваться размышлениям, подолгу вглядываясь из окна своего кабинета в морские дали. Смотрит молча и думает, пока не раздастся глуховатый звонок телефона. «Аскеров слушает!» Телефоны разнятся по цвету и по звонку: красный, зеленый, вишневый, шоколадный, белый; и звонки тоже, но нюансы эти различает только Джафар; может, и помощник тоже, он работает у Джафара давно; секретарша, как зазвонит телефон, а Джафара нет, вбегает и не знает, какой звонит. «Вы прежде всего эту трубку поднимайте», — Джафар показывает ей шоколадный телефон с глуховатым звонком. Джафара бы очень обидело, если бы Мамиш уравнял его с Хасаем, будто с одной бахчи арбузы. И, глядя на Мамиша сквозь толстые стекла роговых очков, мысленно говорил ему: скороспело судишь, все гораздо сложнее, чем тебе кажется. А посиди на моем месте (так его и пустят!). И нельзя знать, как бы ты поступил, окажись на месте своего дяди. А что? Разве не так? И со скобками и без них. А ты попробуй узнай (как сообразить Мамишу, что Джафар-муэллим с ним по душам беседует?), каких страстей раб твой Хасай? (Оказывается, и философские пласты бурить надо — и все Мамишу да Мамишу: и для Гюльбалы, и для Р, и для Джафара-муэллима, и для Гая — бурить и бурить!..) Потолкуем давай (пока телефон на столе молчит) о Хасае. Одну минутку! «Аскеров слушает!.. Да… нет». Хорошо, что не надо спешить. Так вот. И снова телефон. Но, к счастью, здесь у Хасая телефона нет и Джафар может вволю беседовать с Мамишем. Как общественная личность, дядя твой, я согласен, вреден, может быть. Это ясно? (Только им двоим, Мамишу и Джафару, если они заговорят без Хасая. Но ни в коем случае не в кабинете! «Аскеров слушает!» А именно здесь, в микрорайоне.) А как отдельно взятый человек, так сказать, Робинзон, по-своему он находчив, энергичен. И родственные связи для него, к примеру, ты, племянник, превыше любых иных. «Джафар-муэллим, можно слово?» — «Ну, конечно». — «Давайте вернемся к связям общественным, производственным, деловым…» Ну, вот и обиделся Джафар-муэллим. «Вот вы говорите: «Если даже по ту сторону окажется брат». Что это? Дуло против дула?» Нет, любо потолковать с Джафаром-муэллимом после плотного ужина и если при этом прекрасная погода. Потолковать, гуляя по бульвару, поблизости от гостиницы «Интурист», в новых районах набережной. Ищешь в Хасае слабинки, продолжает Джафар-муэллим, и начинаешь распутывать, и ниточка или рвется неожиданно (ведь гнилая, как не рваться?), или приводит к такому твоему другу, что ахнешь только (и в этом Джафар-муэллим, как всегда, прав). Ты с Хасаем борешься в открытую, и вдруг но вы же в гостях у него! едите с ним, пьете и тут же толкуете о борьбе?! сбоку или сзади тебе наносят (он этого, правда, еще ни разу не испытывал) неожиданный удар; оказывается, человек, которого ты считаешь нужным изобличить, муж дочери некоего большого человека (предположим, и. о.), или его двоюродная сестра замужем за таким деятелем, которого и увидеть-то можно издали, разве что в праздники; тут гляди в оба! Можно ли (любит Джафар-муэллим риторические вопросы!) с легкостью вырвать корни старого дуба (голыми руками — нет, а с бульдозером — да), которому сотни лет или все полтыщи, семеро не обхватят такой дуб (и Джафар-муэллим видел такие дубы, Мамиш тоже как-то ездил к родственнице Хуснийэ-ханум в Закаталы и даже сфотографировался на память возле такого дуба)? Вот и пойми, что предлагает Мамишу Джафар-муэллим. Джафар осмотрелся, и этот его взгляд был замечен Хасаем. «Пусть глядит, — подумал Хасай, — пусть видит, что со мной можно дружить, будет мне щитом, стану ему мечом». Неплохо живут. Вся квартира увешана и застлана коврами, кроме, конечно, потолка, и то потому, что не удержатся там. Рена после замечания Джафара ушла, переоделась, в ушах серьги, на пальцах кольца, и рука тотчас заиграла; кого теперь удивишь хрусталем, сервизами и прочими теле-магами? Рена хороша, не сравнишь даже с молодой Хуснийэ. Джафар раньше, чем с Хасаем, был знаком с Хуснийэ, может, поэтому долго не принимал приглашения Хасая, чтоб та не обиделась. Перед войной и в годы войны он часто слышал Хуснийэ на митингах: о дисциплине, о подростках, которых надо организовать, о массовых воскресниках, о сборе металла — сколько медных ручек с дверей было снято, сколько казанов и подносов сдано. Говорила она горячо по поручению женотдела. Мамиш изучающе, как показалось Хасаю, смотрел на Джафара. «Еще ляпнет глупость!» И тут же заговорил ни с того ни с сего: — Да, Джафар-муэллим, ваш опыт, ваши стратегические способности… — «Ты» здесь неуместно прозвучало бы. — Но без вас, — перебил его Джафар, — без тех, кто делает каждодневную работу на своем посту, вряд ли мы добились бы успеха. давай и ты, чего молчишь? — Что вы, Джафар-муэллим! Если бы не ваши своевременные указания и решения!.. И что это он вдруг? Или что-то было сказано и он пропустил? Мамиш как-то странно смотрит, неудобно стало Джафару, и он, как ему показалось, перевел слова Хасая в шутку: — Ну, я должен сказать, что наша наука не отрицает роли личности в истории. «Ах, Джафар-муэллим, многого вы не знаете!..» Вот взять бы ему, Хасаю, да сказать: «Знаете, что мне сегодня Амираслан ляпнул? Я спешил домой, от всех и от всего подальше, к Рене, в свою крепость, где только я и Рена, и вот на тебе — Мамиш собственной персоной явился!.. Но я не о нем, я об Амираслане! Я ему вас хвалю, а он вдруг возьми да буркни: «Мямля Джафар-муэллим!» Я опешил. А он, будто я не расслышал, резко так повторяет: «Да, мямля! — И поясняет: — Народ движется, а он застрял на первом заме и ни шагу вперед! Двигаться надо всем!» — «И тебе?» — спрашиваю. «А как же?» — отвечает. «На мое место?» — «На ваше? — и расхохотался. — Кому нужно ваше место? Мне оно уже не нужно!» Люблю его за эту откровенность, кровь не застаивается, играет, когда с ним беседуешь. «От ступени к ступени — это не по мне! Нужны качественные рывки! Отсюда меня, к примеру, сперва в замы, потом на практическую работу в главк, потом завом, а там, глядишь…» — «Министром?» — «От зава — к министру, ну нет, маловато, давай повыше!» — «На место Джафара-муэллима, что ли?» — «А хотя бы!» — «Ай-ай-ай! — говорю ему. — Выживать своего родича!..» — «Почему выживать? — удивляется он. — Когда вы перестанете мыслить этими устаревшими категориями? Не выживать, а вытолкнуть его повыше и на его место сесть!» — «Ах вон оно что! — говорю. — Надо мной, значит!» — «Если вы будете сидеть сложа руки… Вы должны будоражить, беспокоить, о себе напоминать, не давать передыху: «Месячник безопасности!», «Неделя взаимной вежливости!», «Ни секунды простоя!» Напоминайте, выводите из сонного состояния!» А мне интересно, что он о себе думает. «Ну, а дальше вы куда?» — «Дальше? Движению нет предела!!!» «Ого! — подумал я. — Мы с тобой, Джафар-муэллим, дети! Вот оно подрастает, поколение!..» Надо же чтоб так совпало! Когда Джафар-муэллим ехал сюда, он думал о том, какой сон приснился ему минувшей ночью. Там тоже Амираслан фигурировал. Вернее, не во сне, а в разгадке его участвовал. Потому и завел речь с Хасаем о всяких передвижках именно сегодня. А сон у Джафара был странный. Джафар-муэллим рассказал о нем во время завтрака. Во второй этаж двухэтажного дома, стоящего на берегу быстротечной реки, врезалась машина, запряженная конем; конь сломал перила балкона, подался всем корпусом вперед и почти повис над рекой; Джафар будто на козлах стоит за конем, но перед машиной, застрявшей в комнате. Стоит и рыбу удит; вернее, поймал на крючок, да вытащить не может — удочка слаба, гнется в дугу, вот-вот сломается. Но Джафару жаль расставаться с добычей; именно эта самая рыба, которую он поймал, рванулась и вынудила его врезаться машиной в дом, и конь повис над рекой; если рыба резко подастся вперед, и конь, и Джафар-муэллим, и машина полетят в реку; но очень уж не хочется ему отпускать рыбу — такую большую, серебристую; он подтягивает ее слегка, сдерживает, чтоб не уплыла, удочка гнется, и конь, как статуя, стоит, не шелохнется. — Абсурд какой-то! — рассказал и сам же ответил. — Нет, с большим смыслом! — сказал Амираслан, приходивший иногда завтракать к своей сестре, чтобы жену не обременять. А Джафар, когда проснулся, еще лежал минуту-другую с закрытыми глазами, ломал голову: что бы сие означало? Вспоминал разговоры и думы последних дней, хотя бы вчерашнего: о рыбной ловле не говорили, коня не вспоминали, о реке и не мечталось, когда за окном целое море, гляди и любуйся; да и удочку Джафар, вот в чем загадка, ни разу в руках не держал! Говорили, правда, об осетрине, которую ни за какие деньги не достанешь. — А я вот что думаю, Джафар. — Сеяра стала вдруг серьезной. — Рыба серебристая. Рыба — удача. Серебро — к новому известию. А вода — это ясность. Ты ее поймал, удачу, и держишь, это очень даже хорошо, а известие будет ясным, новое повышение! — Ну, скажешь тоже! Просто я устал! — Нет, Джафар, бывают вещие сны! — не соглашалась Сеяра. — И сон этот не из простых. Вот только не пойму, что бы это означало: машина, запряженная конем! Конь, как статуя, — хорошо, памятники славы все с конем, машина-фургон не знаю, и то, что они врезались в дом, тоже непонятно. Но главное я сказала: засиделся ты, пора двигаться. — Вот-вот! — заметил Амираслан. — А куда? И без того высокий пост, — заметил Джафар. «Мямля!» — подумал про себя Амираслан и возразил Джафару: — Бывает выше! — Что ты имеешь в виду? — Одним из трех! — Куда хватил! — улыбнулся Джафар. — А что? — Лицо у Амираслана круглое, довольное. Он сказал то, над чем нет-нет да и задумывался Джафар. — Почему бы не стать? — продолжал Амираслан. — Солидный опыт работы есть? Есть! Республика знает? Знает! Один из них болеет, и неизвестно, какая у него болезнь, так что Сеяра права. — Амираслан страсть как любил собирать вести о больших людях, на каждого папку завел, вписывал новости: кто за кем и кому кем доводится. Вот почему и с Хасаем сегодня говорил о передвижках. День близился к концу, а сон требовал разгадки. — Чует мое сердце, что-то у вас на языке вертится! Угадал? Джафар дружелюбно посмотрел на Мамиша. На него же настороженно уставился Хасай. И Р, почувствовал Мамиш, сжалась вся на кухне в ожидании нового удара. Гость, сузив глаза, улыбался Мамишу. — Он всегда такой, Джафар-муэллим, сидит и молчит, не беспокойтесь. — А чего мне беспокоиться? Я птицу узнаю по полету. — И опять смотрит на Мамиша, непременно услышать его хочет. — Ну? — Вы правы. — Вот я и говорю, от вас ни слова не слышали. уж так и ничего? — Взглядом скажешь больше. — Ну, это не всегда! Вот вы, например, и не подозреваете, о чем я только что думал. Или какие мысли в голове Хасая роятся. — Вы совершенно правы! а вы, оказывается, и не просты! — После всего, что случилось… — Мамиш умолк. «Стоит ли?» Все молчали, ожидая, что он скажет, а Мамиш и не думал продолжать. — А что случилось? — Джафар недоуменно посмотрел на Хасая. — Я же сказал, не обращайте внимания, — успокоил гостя Хасай. — А все же? — допытывался Джафар. — Случилась смерть. — Ах, вот вы о чем!.. — Джафар вдруг остыл. — На каждом шагу подстерегает человека. — Да, одно к одному, одно к другому… И тесть его. Уж не это ли, я думал, потрясло моего сына? — А что тесть? — Как что?! — изумился Хасай. — Скандал ведь!.. — Это который? — Насчет кадров-то, по сигналам! — Так это… — сказал и осекся Джафар. — Это он и есть?! — Ну да, это тесть моего сына! — Как же я забыл! Конечно, ты говорил мне, просил даже сватом пойти, да не смог я. «Как хорошо, что не пошел тогда!..» — Да, вы заболели неожиданно… Бедная невестка! Там отец, здесь муж… Но я их не оставлю, помогу непременно. — Да, хлестко на пленуме о нем говорили, яркая речь была, ничего не скажешь, давно таких речей не слышал. Газету потом из-под полы, киоскеры наживались… Из рук хватали! — Ну, ел, ну, копил, так остановись же! — негодовал Хасай. — Куда столько? Нет же, дорвался человек, остановиться не может! «Вот где! вот где!» — Хуснийэ тычет пальцами, а потом по слогам читает, заучивает, прекрасная память у нее. — Соседи наши тоже, читал? — А как же, Джафар-муэллим!.. Я вот тут себе записал, на память. — Хасай с шумом отодвинул стул, вытащил из ящика записную книжку. — Вот: «Теперь мало кто бравирует количеством дач и бриллиантов!» Видали? Или: «Предпочитают иметь репутацию человека скромного, живущего на трудовые доходы»… — И закрыл книжку. — Соседи наши, Джафар-муэллим, молодцы, но первыми все-таки мы начали! — Ну да, мы. — Я так думаю: надо чистить и чистить! и с вас начать! Хасай и Джафар вдруг оба, посмотрели на Мамиша. А он что? Он молчит. — Это ты правильно говоришь, Хасай, что верно, то верно. Джафар тогда слушал внимательно, а потом целую неделю изучал фразу за фразой, конспектировал. Оказывается, и Хасай кое-что себе записывает, не ожидал Джафар!.. — А как же? Слова-то какие замечательные! «Как хорошо, что я не пошел сватать!.. Сейчас все учитывается». Как у Амираслана. — Охо! Мы тут сидим, а меня внизу машина ждет! Уже десятый час, а машину просил прислать к половине девятого. — Грузно поднялся. — Рано еще, куда вы? Я думал, в нарды поиграем… — Ах, блаженное время!.. — вздохнул Джафар. «До нард ли?» — Пошлю Рену, чтоб шофера пригласила. — Нет, время уже, — сказал твердо. Рена стояла у порога, вытирая мокрые руки. Обычные заботы, что с нее возьмешь! — Хорошие у вас руки, спасибо за теплоту! — И Хасаю: — И тебе спасибо, познакомил меня с племянником. Только молчал он, но ничего, по дороге мы с ним поговорим по душам, все у него выведаю! — И улыбается. Вышли. Выходя, Мамиш бросил взгляд на Хасая. Зрачки его глаз вращались, как ротор. Что здесь будет твориться?.. Хасай должен сказать что-то напоследок Мамишу. И сказал: — Дурь, — знак рукой: мол, выкинь из головы.
— Куда вас отвезти? — спросил Джафар, как только они вышли из подъезда. — Я люблю ходить пешком. — Я тоже. так вам и поверили! — Но не получается. подумают, что машины лишили! — Уже час ждем тебя! — окликнул из машины звонкий голосок. — Видал? — Мол, прошелся бы пешком, да не дают.
ГЛАВА ПЯТАЯ — рассказ о том, как Мамиша опередили («У дурной вести быстрые ноги»), как на него напали («Если б знать, где упадешь, подстелил бы перинку»), угостили звонкими оплеухами («Не поднимай камень, который не под силу»), но Мамиш не сдается, Мамиш упорствует («Две ноги сунул в один башмак — и ни шагу назад!»), Мамиш контратакует, Мамиш тянется рукой к отпиленному бивню мамонта. Мамиш… А зря не согласился он сесть в машину Джафара-муэллима!.. Ему, видите ли, пешком нравится ходить! Как только Джафар-муэллим и Мамиш вышли, Хасай, чтобы вытащить из сердца занозу, тяжелой пощечиной обжег щеку Рены. Даже качнуло ее, а заноза торчит. Хасай выскочил на улицу, открыл ворота гаража, выкатил машину и к Аге. Посадил Агу и к Гейбату, а потом с обоими братьями к старому своему дому, но не совсем к воротам, а кварталом выше, чтоб никто не увидел, не растрепал: «А Хасай все ходит к своей Хуснийэ!..» А Мамиш был еще в пути: дядя на колесах, а он пеший. Хоть и несказанно изумил Хуснийэ нежданный визит братьев Хасая (сам он не пришел, остался сидеть в машине), она все же подавила возмущение, потому что, как доложили Ага и Гейбат, приход их вызван вопиющим поступком Мамиша, который осмелился ворваться к Хасаю и оскорбить его. Если разговоры пойдут, пятно на всех, скандал на всю республику, позор перед знакомыми. «Что сказал? На Гюльбалу напраслину возвел! Будто тот ему сказал, что Хасай взятки берет! И у Хуснийэ своя доля с каждой взятки. Ему, Гюльбале, тоже перепадает!» Хуснийэ и слова вымолвить не могла. «Он бы, конечно, не осмелился так вот и сказать Хасаю, но именно этот яд источали его слова!.. Хасай даже подумал, что ты его натравила из-за этой, будь она неладна (так нужно для дела), Рены». О любви ни слова: ни Хасай братьям, ни братья Хуснийэ. Хасай оскорблен как глава семьи, венцом которой является она, Хуснийэ. Мыслимое ли дело, чтобы она не заступилась за своего законного мужа-кормильца? Чтобы сын Кочевницы так обнаглел!.. На кого руку поднял? Чуть ли не на отца! Тот, что в Ашхабаде, не в счет. Ай да Мамиш! Отрастил верблюд крылья, с орлом тягаться вздумал! Она Мамишу — пусть только явится, — она ему такую свадьбу сыграет!.. И Мамиш явился. На балконе, где на перилах выжжено Р, его торжественно встретили Хуснийэ и дяди, почтительно проводили в комнату и заперли дверь. — Что ты по дороге рассказал Джафару?! — спросила Хуснийэ-ханум. вот что вас напугало! — Джафару? А кто это? Ах Джафару-муэллиму! Забыл и вспомнил, потому что опустили «муэллим», а без приставки этой имя звучало как чужое, незнакомое. — Говори! — пригрозил Гейбат. — Он на колесах, а я пеший. — Что-что? — переспросила Хуснийэ. Братья недоуменно переглянулись. — Хватит дурачка разыгрывать! — Это Ага сказал. — Позор какой! Кто ты такой, чтоб портить кровь Хасаю?! Ты и мизинца его не стоишь! — Хуснийэ не стерпела, бросилась в бой, нарушив тем самым уговор: выведать все у Мамиша, и то, что сказал, и то, что подумал. — И вы с ними?! Вам ведь радоваться! внук у вас! — Клянусь честью, помутился у Мамиша разум! — Это все Ага в одну точку бьет: что с дурака возьмешь? Спятил, не иначе. — Что за чепуху мелешь? И тут Хуснийэ осенило. Но, к удивлению Мамиша, она вдруг запричитала: — Пепел на твою седую голову, Хасай! Человек, которого ты называешь племянником и чье имя даже в собачьем роду не значится, топчет твое доброе имя!.. Причитает и плачет: — Почему я не умерла раньше тебя, мой Гюльбала? На кого ты меня оставил? Слезы Хуснийэ были никак не предусмотрены. — Мы еще не умерли… — это излюбленное бахтияровское, — чтоб кому-то позволить пятнать главу рода! А взбесившегося образумим не словом, а кулаками! — Чего же вы ждете? Образумьте его! Честно говоря, надеялся на нее Мамиш, ведь соперницы. И братья, думал, племянника не тронут, сестра им не простит. Да и что он такое сказал, еще ведь впереди то, что скажет им. «Надо бы выбраться отсюда». Но Гейбат пригнул его книзу. — Сядь! Мамиш оттолкнул дядю. — Драться? Да я тебя, как цыпленка! Сиди, щенок! Слегка коснулся подбородка, будто срезал воздух, а из глаз посыпались искры. — Руку на меня! — Мамиш провел пальцами по губам, увидел на них кровь и вскочил. Пнул ногой Агу, увильнул от удара Гейбата и к выходу. Ага схватил его за ногу. Мамиш упал. Падая, задел кровать, прижался к стенке. Протянул руку, чтобы взять что-нибудь тяжелое, задел будильник. Часы звякнули коротко, свалились на пол, и в ту же минуту Гейбат прыгнул к Мамишу на одной ноге. Мамиш увидел лишь кулак с арбуз величиной. Почувствовал, что из носу пошла кровь — след ее на кулаке Гейбата. «И отброшен с липкой массой нож». И голос Хасая: «Вымоет кто-нибудь этот нож?!» И бежит к нему женщина, и смотрит на Мамиша мальчик, чем-то похожий на Гейбата. От обиды зажглась огнем гортань, проступили слезы. — Осторожней, вы! — шепнула Хуснийэ. — В тюрьму вас упечь!.. Молодец Рена! — И передразнил: — «Она на вас глаза пялит!» Хуснийэ подскочила к Мамишу, чтобы глаза ему выцарапать, но Ага остановил: — Он же сумасшедший, не видишь? Стукнет! — Еще? — спросил Гейбат, а Мамиш вскочил, схватил стул, кинул в него, но попал в шкаф. До бивня рука не дотянулась, схватил будильник, метнул в Гейбата, снова не попал. И тут же спину обожгло — Гейбат ударил его массивной палкой с резиновым набалдашником. И Ага по голове со всей силой. — А это, — сказал тихо, — за тюрьму. Придушим, и следа не останется. — Поплатитесь! зверье! — Я вас выведу! — Выводи! Выводи! И снова удары, никак не увернуться. Огрел раза два Гейбата, но рука будто о скалу, что ей, скале? Повалили на кровать, Ага — за ноги, Хуснийэ — за руку, другую придавил к железному краю кровати Гейбат, и перед глазами Мамиша снова замаячила огромная его рука, она закрыла все лицо, вдавила голову в подушку. — Всех вас!.. — Жаль, что племянник, заставил бы мать поплакать! От удара по лицу потемнело в глазах. Придушат, им ничего не стоит. Умолк, отвернулся. Першило в горле. Видя, что Мамиш затих, Гейбат отошел, выпрямился. — Давно бы! Если еще что услышу, язык вырву! Я таких перевидал много, голову, как цыпленку, сверну! Мамиш молча смотрит на Гейбата. — Смотри и запоминай!.. Хуснийэ-ханум, если осмелится хоть словом!.. — Я ему осмелюсь! В это самое время вошел Хасай. Он долго ждал в машине и, видя, что братья не возвращаются, решил идти сам, как бы чего не натворили, особенно Гейбат. Увидев Мамиша лежащим на кровати, сперва перепугался, а потом возгордился: вот какие они у него, братья… В огонь и в воду за него пойдут! Заботило одно — заставить Мамиша молчать, чтоб разговор не вышел за стены их дома. Потом придумают, как его наказать. И разберутся, что правда, что ложь. Зря ударил он Рену. Зря! Чтобы Гюльбала, его сын?! Чего только не делает с человеком ревность? Ведь, кажется, как мужчина с мужчиной договорились! И сама же ушла от него! «Ни рыба — ни мясо». Придумал и подло соврал! От Кязыма только такой и уродится! Как он мог считать его своим, Бахтияровым?! От этого племянника всего можно ждать. Так вот, Мамиш! Получил свое? Это только начало!.. — Надоумили его, вижу. Теперь, прежде чем рот открыть, подумает. И ушли. Дым табачный. И тихо на балконе. Даже лампа тускло горит. Если бы не распухший нос и не кровь, прилипшая к щеке, будто и не было их. Встал, умылся, подошел к зеркалу. Не беда, сойдет. Не жаловаться же в суд, мол, дяди избили. А неплохо бы! Нет, не годится. Надо прежде всего отобрать у Хасая красный билет. Нельзя, чтоб оставался у него, никак нельзя. «А у Дива душа хранилась в стеклянной бутылочке. И кто ту бутылочку возьмет, с тем Диву не сладить». Поднял часы. Будильник четко отсчитывал секунды. Отстукивает свое и на боку, и циферблатом вниз, и когда падает. До чего живучий. Холодит горячую ладонь. И бег секунд успокаивает. Уже два ночи. Поставил рядом с бивнем. Скоро начнет светать. Достал из холодильника бутылку пива. «А у Дива… в этой самой бутылке!» В холодильнике пусто: пяток яиц, брынза. Завтра сделает яичницу. На берегу, в городе питался нерегулярно — и некогда как-то, и неохота. Не то что на острове: и вкусно, и дешево. А здесь ломай себе голову, где и когда. И с кем. Какие шашлыки бывали у Гейбата! Раз-раз-раз — и шкура отброшена вместе с ножом. «Вымыл бы кто этот нож!» Отобрать, отобрать!.. Из бутылки сначала пошел легкий дымок, потом пена через край полилась. Холодная струя остудила горло, налил еще. На дне осталось немного, два-три глотка, выпил прямо из бутылки. Разлилась по телу прохлада, мысль заработала четко. Они еще пожалеют! Не раздеваясь, прилег. И вдруг боль в руке, той самой, которую Гейбат придавил к железному краю. В кармане брюк что за бумажка? Полез, а это визитная карточки Джафара-муэллима. Прощаясь, дал. Помялась карточка, стала как тряпка. Если бы Джафар-муэллим знал, во что она превратится! И почему?! Имя, фамилия на русском и английском, без «муэллима», и два номера, оба служебные. И адрес, тоже служебный. Сказать ему? Но как быстро простила Хуснийэ-ханум Рену. И горе отодвинулось. Пора уже идти. И Мамиш пошел. И Р дома одна. Если бы Хасай тоже был дома, начать было бы трудней. И Хасай спешил подальше от всех! От Амираслана! От всяких накачек, звонков, забот!.. А тут Мамиш! Без спросу! Если бы не Джафар-муэллим? Как-никак спаситель Мамиша. Погиб, спасая честь? А чью? Погиб, мстя? Но за что? И за кого? Гюльбалу? Или за себя? «Всех женю! И начну с вас, с Гюльбалы и Мамиша!» И начал. «Схватишься за горло бутылки, и Див тут как тут, только успей разбить бутылку!» А во сне кругом песок — как разбить? Бутылку о песок, а она набок валится и ничего с нею не делается. Песок и песок, а Див уже тут, рядом, вот-вот достанет рукою до тебя. Черт знает что! Сказки какие-то.
ГЛАВА ШЕСТАЯ — рассказ о том, как Мамиш весь день был на ногах и его носило по городу — нырнул в центре и вылез на окраине, заблудился на узких улицах и в тупиках Крепости, ходил по Баилову, а вести о нем доходили из Арменикенда, и в Черном городе побывал и во дворе мечети Тазапир, и посмотрим, чем завершились его скитания. В кабинете у Хасая висит карта города, на ней ясно: где Крепость и где Баилов. Даже мечеть обозначена в виде минарета. Ну, и Черный город тоже. И Арменикенд. У каждого свое лицо, своя история, свой запах даже. Мамишу бы спать и спать, да только тщетно бутылкой об песок — надоело, встал рано. И быстро покинул дом. Так осторожно, будто братья Хасая сидели в засаде, поджидая его. Конечно, Хуснийэ узнает, что Мамиш ушел рано. Спускаясь, глянул на ее балкон. И когда она только спит? За стеклом сверкнули глаза Хуснийэ. По спине Мамиша мурашки побежали. А потом она пальцем поманила его. Шайтан нашептывал Мамишу: вернись, повали старуху, избей… Это же дьявол!.. Но не стал слушать он нашептываний шайтана, спустился и вышел на улицу. Никого! Даже того мужчины нет, который подозрительно смотрел на Мамиша, провожая его взглядом. Если б на карте, что висит в кабинете Хасая, прочертили путь Мамиша — а он разрешил бы испортить карту ради такого дела, все-таки интересно знать, куда это носит сына Кочевницы, а кочевье в душе, в крови Мамиша, — так вот, если б и прочертили, ничего бы не поняли: ни тот, кто чертит, ни тот, кто за городской транспорт отвечает, даже за подземный. Тем более что вначале маршрут Мамиша не уместился на карте, а вышел за черту города. Но прежде Мамиш двинулся в сторону Сабунчинского вокзала, где жил Гая. Вошел в огромный двор, над которым нависли длинные балконы — квадратные, застекленные. Из одного конца двора просматривался другой. И все окна и двери отворялись во двор. Крикнул снизу: — Дашдемир! — Рабочую кличку Гая кто знает? На крик отозвался мальчик, босой, черный от загара, как уголь, с курчавыми волосами. — Вам Гая нужен? Вот тебе и не знают! Мальчик внимательно смотрел на Мамиша. Такой здоровый дядя, а подбородок у него покраснел и разбух, под глазами синяки. Сам Гейбат постарался, знаешь его, он работает тут неподалеку, только рано еще, спит, наверное. Как и следовало ожидать, Гая с семьей на даче. Что ему жариться в городе? Мамиш знал дорогу туда и тут же обогнул памятник Самеду Вургуну, прошел мимо городского вокзала, прозванного в свое время Тифлисским, и к электричке, на бывший Сабунчинский вокзал. Взял билет на Бузовны. А у Хасая карта удивительная, почти волшебная. И Мамиш на той карте вроде лампочки. Он ходит, и свет двигается, маршрут прочерчивает. Долго стоял и ждал у карты Хасай: лампочка горела, но не двигалась. А потом вышла за пределы карты — значит, уехал Мамиш за город, а куда и зачем, вот и ломай голову. Мамиш приехал в Бузовны… Вниз и вниз — к морю, к даче Гая. А Гая там с песком воюет… «Все наступает и наступает!..» Удивительно, на дюнах, где они служили — Сергей, Расим и он, — собирают песок, чтоб морю не отдать, берегут его, а здесь… А здесь песок наступает и наступает на сады, на дома, на виноградники. И никак от него не защититься. И злющий какой, полчища несметные, мириады… Гая втыкал в землю доски — щиты. День-два, и песок заносит их, сыплет и сыплет — не удержишь, шагает и шагает на сады. Мамиш Гая как-то сказал: «Люблю я песок! Жаркий, мягкий, чистый!.. Искупался, ознобно, а ты грудью на песок, и сразу теплынь по телу… Хорошо!» — «Это, — огрызнулся Гая, — пляжное отношение к песку. А повоюешь с ним, как я… На зубах хрустит, никак не уймешь его, жмет и жмет, все на своем пути заметает… Мириады песчинок, тьма-тьмущая, желтая масса так и прет!..» — Брось с песком воевать! — А с кем же мне воевать, как не с песком? — говорит Гая. И удивленно смотрит на Мамиша. — Кто это тебя так, а? А Мамиш молчит, всю дорогу, пока он ехал к Гая, видел, как тот, разгневанный, с ходу стал одеваться: «Как? На тебя руку подняли? Дяди? Да мы их в момент!..» Чтоб Гая да не заступился? И вот они идут, а куда? Ясное дело, говорит Гая, всех ребят позовем и… К дядьям? Драться? Зачем же, пожимает плечами Гая. Даже не в милицию, а в райком, к первому секретарю! На бюро часто вызывали знатного мастера, когда дела буровой обсуждались, и не только. Именно туда, и всей бригадой, потому что рабочий класс оскорблен в лице Мамиша!.. А Мамиш молчит. — Так кто это тебя? А? — Хасай! — быть этого не может! — это дяди меня! — Гейбат, Ага? — а что? не ожидал? шашлыки его застилают тебе глаза? — за что?! Вот и выворачивайся наизнанку! Только начни — и уже каждый раз сначала. А в глазах: «Ну и интриган!..» — «Ну и кляузник!» — «Ну и…» — «На своего дядю-то!..» «Дошло до нас, — пишет Тукезбан, — что ты Хасая осрамить вздумал…» — Скажешь ты наконец, кто это тебя разукрасил? — Да так… И сам не пойму. — Не знаешь, кто синяк поставил? — Упал я… Темно было… — …и скользко? Да? — Откуда знаешь?! — Расскажи кому другому! Подрался? Говори, не темни, если надо, постоим за тебя! отдуваться-то потом мне! «за недоказанностью…» — И что я тебя разговорами? Завтракал? После чая, отведав сочный черный тут, шелковицу, Мамиш вздремнул в тени инжирового дерева, на паласе. Жена, две дочери и два сына Гая, десять недоуменных черных глаз, удивительно похожих, точно тутовые ягодки с одной ветки, разглядывали Мамиша, такого большого и здорового парня, которого не побоялся кто-то обидеть; один человек с ним не справился бы, это ясно даже самому младшему, Поладу, их, напавших, было много, а это уже нечестно. — Что же привело тебя сюда? — снова пристал Гая. — Не рад, что ли? — Да нет, молодец, что пришел! Мы сейчас на пляж! море не опротивело? — Я ненадолго. — Такую дорогу одолел, и не искупаться? — В другой раз. — Марджан, — Гая повернулся к жене. — А что, если мы завтра? Мамиш не сообразил, а той сразу ясно. — С удовольствием уступят половину. А понимать, собственно, и нечего: очередной барашек, купленный в складчину с соседями. — И соберем всех… Марджан, предупреди их. И Марджан Поладу: — Беги к соседям. — Не пойму, о чем вы? — Вот тебе задание, раз своей охотой прибыл: устраиваем завтра пир, собираем всех наших. Давно вы у меня не были, а лето в разгаре. Перед последним штурмом неплохо бы собраться! «Вот и хорошо, голову забивать не надо. Пусть их!.. А из-за Октая ты еще помучаешься!..» — Но как ты с такой физиономией по городу колесить будешь? Хорошо, что еще голова цела! У вас, между прочим, на крыльце всегда очень скользко. — Вот, вот, там и поскользнулся! — В родном доме падать не больно. как сказать! — Это точно! — И тебе надо от горя отойти. только заикнулся и такая буря поднялась! а если обо всем, что было? А Кязым пишет: «Какого черта ввязался? Тоже мне! Молчал, молчал, а тут — нате! Герой! Борец!..» — Успели, — крикнула Марджан. — Полад договорился. — Завтра днем и начнем. Шампуры надо почистить, давно не жарили. И снова электричка. Лампочка на карте Хасая загорелась и двигается, вот бы проследить, куда Мамиша носит, а Хасая вызвали на совещание. В городе у вокзала Мамиш сел в троллейбус и в другой конец города. Проехал мимо высотного дома, где работает Джафар-муэллим и у которого сидит сейчас Хасай, вдоль бульвара, миновал «Азнефть» и — на Баилов, к Сергею. Маленькое их окно смотрело прямо на улицу, шумную и жаркую. Главное богатство комнатки — просторный аквариум с золотыми рыбками, хвосты веером. Рыбки лениво плыли между водорослями. Сергей удивленно уставился на Мамиша: что за фонарь под глазом?! Чего рассказывать? Поскользнулся в своем же дворе, сам виноват; надо знать, где падать. — Праздник какой или просто так собираемся? — А без повода не можешь? В прозрачной воде двигались золотые рыбки, щедро освещенные розовым светом. Тяжелые хвосты тянули вниз, но рыбы натужно стремились кверху — поймать ртом воздух. Сергей куда-то записал адрес Расима и не мог найти. Кажется, в Черном городе. Но Черный город — это огромный город в Баку. Может, Селим знает? И снова в троллейбус, в Крепость, к Селиму. Вошел со стороны Девичьей башни. Очищенная теперь от прилипавших к ней дряхлых домиков, башня казалась еще выше. На площадке у башни стояли негры в ярких цветных рубашках, и до ушей Мамиша донеслась чужая речь — гид, нарядно одетая девушка в огромных темных очках, рассказывала историю башни, стены которой некогда омывались морем. Бросались ведь, спасая свою честь, отсюда в бушующие волны. Хуснийэ бы с Хасаем и Р сюда. И пусть разыгрывают свои восточные драмы. «Старшая моя жена», — говорит Хасай… Пестрая толпа по широким ступеням поднялась наверх и остановилась, а Мамиш прошел дальше, затем повернул влево, снова наверх, еще налево. Мамиш однажды приходил в Крепость к Селиму, но со стороны сада Революции, через вновь открытые ворота, десятки лет стоявшие заколоченными. А теперь стоило войти в другие ворота, как сместились ориентиры. Идет — будто тупик, а чуть пройдешь, открывается новая улица. Плутал, плутал, да так и не отыскал дом Селима, спросил, как добраться до сада Революции, подошел к знакомым воротам и начал все сызнова. Здесь (нашел!) в нос ударила сырость, по узкому тупику поднялся вверх и очутился в маленьком полутемном дворе. В глубине дома комната Селима, пригнулся и прошел в низкие двери. На улице солнце щедро заливало светом город, а здесь горит электрическая лампочка. У входа медный поднос, а на нем тоже медный кувшин, весь испещренный вязью и узорами. Имя Селима выгравировано на кувшине рядом с именем деда — по-арабски и кириллицей, — начищенная медь сверкала, как луч закатного солнца, отражала свет лампы. Мать Селима сказала, что сын скоро придет. Низкорослая, с изъеденным оспой лицом и впалыми щеками. Шесть детей вырастила, а младший — Селим. Только сел на табуретку Мамиш, и Селим тут как тут. — Мне тоже налей чаю, — сказал матери. — А кто тебя так разукрасил? Поскользнулся?! Ну, ты это брось! Кого другого, а меня не проведешь!.. дяди постарались! Мать Селима, Баладжа-ханум, сидевшая в углу на паласе, дремала, а тут зашевелилась, поправила черный платок, упрятала под него седые волосы. «За что же дяди невзлюбили такого племянника?» — спросит. «За то, что племянник невзлюбил их!» — отзовется Селим. «А разве можно против родни идти, перечить?» — удивится. И не ответили ни Селим, ни Мамиш, а мать качает головой: дядя есть дядя, старший в семье, и с ним не считаться грех. «Пускай с нами и Расим пойдет», — говорит Селим, разучившийся драться, — Гюльбала его отвадил от этого. А Расим — силач, разряд по боксу имеет. Новый адрес Расима Селим не знал. Жил раньше в Черном городе, но собирался переезжать. Мамиш записал старый адрес, вернее, переписал на клочок бумаги из школьной тетради, сложенной вдвое, в мазутных пятнах. Баладжа-ханум, собравшись в комок, сидела молча, казалось, вздремнула. Но сетка морщин на ее лице в любую минуту могла зашевелиться. Из Крепости, именуемой Внутренним городом, Мамиш поехал в Черный город: сначала на метро, потом автобусом: за то и за другое Хасай в ответе; его люди возят Мамиша, а он, видите ли, отобрать хочет у Хасая его красный билет! Когда Мамиш выходил из автобуса, взглянул на часы у входа на завод — час дня. Меж оград двух заводов пролегла узкая асфальтированная тропа. Солнце, будто облюбовав именно эту дорогу, нещадно жгло. Мамиш вспомнил черного, как уголь, мальчика во дворе Гая; такое солнце испепелить может!.. В нос ударил едкий тошнотворный запах — химия!.. В ушах то грохот, то шипение пара… Пока одолел узкий перешеек, зажатый с двух сторон заводами, в горле запершило, саднить начало. А когда нашел дом, выяснилось, что зря притащился сюда Мамиш. Расим переехал. И живет он теперь неподалеку от Мамиша, во дворе мечети Тазапир; и улица известна Мамишу, и дом; номер квартиры неизвестен, но каждый скажет, где живут Гаджи-заде; это сказала молодая женщина, родственница Расима, с такими же налитыми огнем щеками. В комнате заплакал ребенок, и Мамиш простился и ушел.
И снова узкая, обжигаемая солнцем тропа, но идти было легче — не вверх, а вниз. Расим живет рядом с ним, а Мамиш и не знал… К Расиму он успеет, надо еще за Арамом, в Арменикенд. Из Черного города — до вокзала, а оттуда на трамвае. Двадцать плюс двадцать пять, около часа. В два часа Мамиш был уже на балконе Арама, открытом городу и его ветрам. Двор — как сад, зеленый, прохладный, а балкон длинный и широкий, с множеством дверей из квартир, из конца в конец уставлен горшками с цветами, кустами, даже лимонными деревьями; не иначе, как Арам рассадил и расставил. — Никуда тебя не отпустим! — пристал Арам. — Мать сварила борщ, и водка есть — тутовка. отчего про синяки не спросишь? — А не хочешь, могу коньяк армянский, трехзвездочный, или азербайджанский. Хотя ваш, — но тут же поправился: — наш коньяк, — как-никак Арам бакинец, — не уступает и французскому! а ты сначала спроси! Спина взмокла от ходьбы и жары. — Снимай рубашку, лезь под кран! Мамиш вымылся, сел за стол. Вспомнил застолье у дяди и как Джафар-муэллим гладил бутылку. Когда это было? Неужели вчера?.. — Не пьешь? Ну, тогда и я не буду. Нет, я рюмку под борщ пропущу, грех не выпить! — Налил и выпил. надо же, и не спросишь! Глянул искоса в зеркало, а может, сошел синяк? Куда там, красуется во весь глаз. Да еще зеркало кривит, во все лицо синяк размазало. И то ломает лицо, то вытягивает. — А чего Гая не пригласил, когда домой ехали? Сюрприз? От шашлыка кто откажется? На даче, у моря… Но так неожиданно.
Снова на трамвай. Был пятый час. Долго шел пешком. Проходя мимо пятиэтажного дома, в сквере увидел портрет Хуснийэ-ханум. Как не остановиться? Добрый взгляд, улыбается, волосы гладко уложены, никаких украшений ни на шее, ни в ушах. Скромно, с достоинством; не шутка ведь, выставлена на обозрение. Такой же портрет на брошюре; пучеглазый располневший журналист, говорят, сердце у него пошаливает, задумал создать портреты знаменитых людей района, дошла очередь и до Хуснийэ-ханум; «Мать нашего района». «А ты почитай, вслух почитай!» — говорит Хуснийэ Мамишу, и Мамиш читает о том, какая она «энергичная и боевая», как организует людей на субботники, денно и нощно ходит по дворам, думает об экономии воды в жаркие месяцы. «Все-все правильно!» Мамиш тоже знает, что правильно; и то, что организует школьников в помощь старым пенсионерам; даже дерево лично посадила на пришкольном участке; ни одного придуманного факта — все, до буковки, верно! Вот и двор мечети Тазапир. Но вошел сюда не со стороны Мирза Фатали, а с улицы Льва Толстого. Когда шел по Мирза Фатали, взглянул через решетку на ступени, ведущие в мечеть. Закутанные в черные чадры женщины с протянутыми руками, и в мечети народу полно. «Развели тут!..» «Я обет дал! — Это Хасай. — У нас контроль вовсю подкапывается!.. Не за себя беспокоюсь, за других бы краснеть не пришлось!» Миновало, и Хасай поручил Машаллаху, старшему сыну Гейбата, раздать прямо здесь на ступенях половину бараньей туши. Не верует, а все же на всякий случай, вдруг заблуждается! Хуснийэ немало ходила сюда во время войны; вернее, не сама ходила — узнают, несдобровать! — а посылала взамен себя старуху с их улицы, умерла, бедняжка, гадать-привораживать умела, да не смогла Хасая удержать возле Хуснийэ. Посылала с «жертвами», чтоб раздать, дабы Хасая миновала смерть; и миновала; и после давала обеты: чтобы всегда был рядом; чтобы не сглазили; и так далее; и помогло; не во всем, правда; но все же он рядом и его не сглазили; уйдет — вернется. Не успел Мамиш спросить о Гаджи-заде, как тут же показали, в какую дверь. И Расим дома, повезло. Пальцы сжались в кулак, в глазах искры. — Кто это тебя? И уже рубашку натягивает, будто тревога объявлена. Только поспевай за ним, как в армии. — Сиди, ничего особенного! — Кто?! — Да ладно, все это случайно! Вкусен чай у Расима. Жил он сейчас у двоюродной сестры, семья у нее большая, и заработок Расима — в общий котел; детей много, и все в жару в городе, хотя здесь, во дворе мечети, — райский уголок. Зять Расима, худой, высокий, с продолговатой головой на тонкой шее, устроил во дворе в уголке у своей квартиры нечто вроде курятника: высокой железной сеткой отгородил участочек, поместил в нем белых инкубаторных куриц и для белых курочек одного рыжего петуха; с какой гордостью, вытянув шею, петух смотрел на Мамиша, сколько высокомерия в его осанке и высоко поднятой краснобородой головке. Мамиш не сдержал улыбки. Тихо, но внятно произнес строку о петухе, запомнившуюся с детства: — Ай да петух с кровавым гребнем!.. Петух вздрогнул, во взгляде его появилась настороженность. Петух — из бывалых, немало куриной крови повидал; не успеет облюбовать по сердцу, как ееуже нет и попахивает паленым. — Ай петух с глазами-бусами! — вспомнил еще строку. Петух встрепенулся, широко замахал крыльями, раздул грудь, зашагал гордо. А тут вдруг мелодичный голос моллы зовет с минарета правоверных к вечерней молитве. Мамиш вздрогнул, вспомнил бабушку Мелек-ханум, в эти часы она молилась. «Кого родила ты женщина? Один Хасай, другой Ага, третий Гейбат!» — «А Тукезбан? А Теймур?..» Но только запел речитативом молла, как тут же закукарекал петух. — Всегда так, — усмехнулся Расим, накинув на плечи пиджак. Стало холодно в одной майке-сетке. — Как начнет молла звать к азану, петух тут же кукарекать. Даже если он с курицей, отскочит, шею вытянет и следом за моллой. — Святой петух, значит, — заметил Мамиш. Расим удивленно посмотрел на Мамиша. — А кто тебе сказал, что мы так называем его?! — Проще простого догадаться! Кукарекал, будто соревновался с моллой. «Грех так говорить!» — это бабушка Мелек-ханум. А если бы этого Святого петуха увидала? Петух впал в такой грех, добром не кончит, это уж точно. «А ты сразу — грех!» Молла пел-заливался вдохновенно. Достоин был похвалы и рыжий петух — не щадил себя. А что до чая во дворе мечети Тазапир, то цены ему не было: под цвет гребня петуха, ароматный. Домой возвращаться не хотелось. — Может, заночуешь? — спросил Расим. — А то на ночь глядя, чего доброго, синяков прибавишь. Расим поверил. Раз человек говорит, что поскользнулся, так оно и есть, как же иначе?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ — рассказ о том, как дяди связали руки-ноги Мамишу, а в рот запихали платок, чтоб и слышать никто не слышал, и знать никто не знал. Окна и двери квартиры Хуснийэ-ханум закрыты наглухо, а во дворе тишина такая, что слышно, как капает из крана вода. Хуснийэ утром человека следом за Мамишем послала, а тот, проводив его до Сабунчинского вокзала и посадив на электричку, вернулся. По логике Хуснийэ, выходило, что Мамиш ни о чем не помышляет. «Какого-то Дашдемира спросил, а мальчик ему: «Вам Гая нужен?» Что за бред? А я у мальчика потом спрашиваю: «Кто такой Гая?» А тот дикий какой-то ни слова не сказал, отбежал за угол». Стала Хуснийэ набирать номер телефона, чтоб у Хасая спросить: «Что за Гая?» Две цифры набрала и вспомнила, Гюльбала покойный рассказывал, это же мастер Мамиша!.. Хуснийэ застыла, стоит, трубку даже положить на рычаг забыла. Что же ты, Гюльбала, со мной сделал? И слезы катятся, катятся. На кого ты меня оставил? И зачем мне жить без тебя на свете? Встать бы тебе из могилы, ответить Мамишу!.. Как он твоим именем, подлый, спекулирует!.. В окно ворвался крик с улицы, и она, будто одряхлев сразу, усталая, опустилась на стул, положила трубку и еще долго сидела, старея и кляня судьбу, пока тот же назойливый крик с улицы не поднял ее и не подвел к окну: кому там не терпится, будто режут кого там? Улица жила обычной летней жизнью, а кричавший как сквозь землю провалился. Слезы унесли, смыли горечь, и она уступила свои владения злобе. До чего обнаглел Мамиш! Вчера ночью она подняла по тревоге одного из своих доверенных, и утром чуть свет тот увязался за Мамишем. Затем после стольких лет ссоры пошла к Аге домой. Ее приход всполошил всю семью. Чернобровая жена Аги — «Ух какая, не стареет!» — заволновалась, растерянно забегала по квартире, не зная, куда усадить Хуснийэ-ханум, чем угостить. И в душе благодарна ей: «Очень хорошо, спасибо ей, сидит у нас на шее этот Али, избавимся от его присутствия!» А Хуснийэ, наполнив комнату жаром своих слов и наэлектризовав сыновей Аги, которые, как стояли у окна, так и застыли, что-то шепнула на ухо Аге и тут же выскочила, не дав опомниться ни жене, а она уже мыла рис, чтобы ставить на плиту плов, ни самому Аге. Потом, схватив машину, помчалась к Гейбату, и у него в доме повторилось в точности то же, что произошло несколько минут назад у Аги, за исключением того разве, что жена Гейбата кормила пузатого младенца, пятого их сына, Ширбалу, и тот ни с того ни с сего вдруг разорался так неистово на весь квартал, будто его в розовую мякоть щеки оса укусила или вместо молока из материнской груди пошла одна горечь.
А наутро, как только Мамиш вышел, спеша в Бузовны к Гая, Гейбат преградил ему дорогу. А как же? Вдруг задумал неладное. — Куда ты собрался? — спросил Гейбат, деланно зевая. — На шашлык! — Почему так дерзко? — Это Ага появился. — Мы же твои родные дяди. Зачем это все тебе? — Ага говорил миролюбиво. — Как шпики! — Хочешь, чтоб твоему дяде было плохо? Чем он тебя обидел? — Ага будто не слышал того, что сказал Мамиш. — Может, нам чего не известно? Можешь на ухо мне шепнуть. Мамиш попытался пройти. — Сиди дома, — сказал Гейбат. — Когда раскаешься, скажешь, что выдумал все, попросишь прощения, посадим тебя в такси и отвезем куда твоей душе угодно! Хоть в Москву!.. Куда лезешь? Я же тебе сказал! Какой непонятливый! — Пропусти. Ага бросил сигарету под ноги и зло растер. — Не выводи нас из себя, мы же контуженые, ты знаешь! Сказал тебе Гейбат — сиди дома! Значит, сиди! — По-доброму говорю, отойдите, не то худо вам будет. — Еще грозишь! Быстро же забыл наш хлеб! Только хотел легонько оттолкнуть Агу, как Гейбат подсунул под ноги Мамишу свою палку, тот споткнулся и плашмя на асфальт. Ага навис над Мамишем, Гейбат подскочил и в подбородок племяннику кулаком. Затащили Мамиша в комнату, связали. — Мы тебя отлупим, и Тукезбан нам спасибо скажет! Мамиш вырывался, пришлось Гейбату удар почувствительнее нанести, заткнуть его кричащий и грозящий рот («Здесь же нет глухих!») платком, пусть остынет, угомонится. Тогда прижмут, как дитятю, к груди, не бросят же его, сына родной сестры, какой бы непутевой она ни была. А пока пусть полежит, кровать-то своя! Уже десять утра.
Пускай Мамиш лежит-полеживает, а я расскажу о станции Бузовны, где по уговору должны были встретиться всей бригадой и идти к Гая. Собрались, а Мамиша нет. Сначала Расим пришел, нет чтобы ему за Мамишем зайти, но зять спешил на работу и Расим пошел с ним, тем более по пути им; потом Арам, за ним Сергей и Селим. Собрались, ждут Мамиша, а его нет и быть не может. У Гая костер вовсю полыхает, горящие угли накаливает, мясо почти все на вертела нанизано. Где же они? Пошел к ним навстречу Гая. А уже около одиннадцати. А вид у него, думает Гая, какой был! И пришел вчера непонятно зачем! Определенно избили, а он — «споткнулся». И поняли друзья, что беда с Мамишем, и понять это нетрудно; что делать, тоже яснее ясного — конечно же, поскорее к нему домой! И пошли. Вернее, поехали. Тут не до шашлыка, если даже мясо нанизано и угли полыхают. Вот он, угловой дом. Вошли во двор, на второй этаж. Что здесь вообще творится?! Это ты, Мамиш?! А эти кто? Ах, это же дяди! Вместе пировали, обнимались, тосты говорили!.. Давайте еще раз знакомиться!.. Они с миром, а тех будто подменили — в темном переулке лучше не попадаться! Гая протянул руку, чтобы вытащить кляп изо рта Мамиша, но Гейбат не позволил: не лезь, мол! Нас пятеро, а вас двое, не боитесь разве?! Гая не сказал этого, и без слов ясно. Но кому ясно, а кому и нет. Гейбата не напугаешь, может и с тремя справиться. — Слушай, ты! Великий представитель! Шашлык мой уплетал? Люля-кебаб мой ел? Ах ты умник! А как я вас хвалил? А какие я песни вам пел?.. Но вы все такие, еще ни одного порядочного среди вас не встретил! — Да вы еще и отсталый элемент! Ай-ай-ай! — Это Арам, щупленький холмик перед высоченной горой; Гейбат пока соображал, что ответить, как Ага Араму: — И ты нас учить будешь?! То-то мне приснилось, что я алфавит твой учу!.. А когда Гая снова полез кляп вытаскивать, Гейбат дал волю рукам. Такой большой дядя, а сдержаться не может! Да разве можно на Гая руку поднимать?! Это все равно что по скале дубасить: ударишь — самому больно станет. Гейбат это понял, смекнул, что голыми руками здесь никого не возьмешь, поднял над головой палку, и все отскочили назад. Комната не очень большая, но дом родной и стены раздвинутся, если надо. Тут-то и началось!.. В сутолоке Гая вытащил-таки кляп, но трудно было разобрать слова Мамиша, потому что говорили и кричали все, кого вместила комната; не слыхали никогда эти стены такой многоголосицы, а когда строили, и в голову мастерам не могло прийти, что настанет день, когда столько мужчин и столько слов, внятных и невнятных, вберет в себя комната объемом 5×5×5; Расим в центре этого куба был, решил уладить миром спор, но Ага — когда дерутся, не лезь в середку — со всего размаху ударил его. Откуда было знать Аге, что Расим — спортсмен-боксер, разряд имеет? А у Расима до сего дня, бывает же такое на Кавказе, дела складывались так, что ни разу он не воспользовался своим искусством ни до, ни после получения разряда и рад был безмерно этому; гены генами, традиции традициями, а не пришлось. Ах, как жаль, что вынудили его нарушить закон «гостеприходства» и показать кое-какие боксерские штучки из самых элементарных: он, кажется, не дотронулся даже до Аги, а тот, будто мячик, отлетел и на Гейбата, чуть с ног его не свалил. Дядьев двое, это известно, а их пятеро; отняли у Гейбата палку. И сами кулаки их попробовали, и дядьев угостили, даже помощи Арама не понадобилось.
Но пусть они дерутся, а я расскажу вам. О ком? О Хуснийэ-ханум, конечно. Когда Гая с товарищами поднимался по лестнице, сначала не разглядела, кто идет, очки надела. Это же друзья Мамиша! И, учуяв, поняла, что драка будет, потому что Мамиш лежит со связанными руками и ногами, а Гейбат не любит, когда кто-нибудь в его дела нос сует, палки ему в колеса вставляет. И, как только до ее слуха донеслись ругань и удары кулаков, а может быть, и чуть раньше, она подняла крик, хотя никто ее услышать не мог, и тотчас позвонила в милицию: «Спасайте! — Вот еще, не узнали ее. — Как кто?! Это Хуснийэ-ханум! Да, да! Бахтиярова! Немедленно выезжайте!» А чего выезжать, когда рядом? Ее первейший долг — сигнализировать: «Кровь, понимаете, кровь льется!» И вскоре прибыли три милиционера, подоспели причем в тот момент, когда Ага на полу сидит, у Гейбата шишка над глазом, Гая в разорванной рубашке, у Сергея и Селима лица в царапинах — комната не очень большая, даже если только размахивать руками, непременно попадешь. Лишь Расим и Арам выглядели более или менее нормально, хотя глаза Расима излучали недоумение, но это всегдашнее их выражение, а Арам побелел, как полотно. На кровати Мамиш, руки и ноги связаны, и это на пользу им, друзьям Мамиша: пусть видят! Хуснийэ-ханум как взорвалась!.. И не нашлось никого, чтоб перекричать ее. И так набросилась, на кого бы вы думали — на Гейбата и Агу!.. — Какой позор! Кто дал вам право бесчинствовать? Варварство! Бескультурье! Как можно измываться над родным племянником?! Дикость какая! Произвол! Мамиш так и лежал с открытым ртом — то ли думал, что кляп еще не вынули, то ли от удивления разинул. — Вы ответите за это беззаконие!.. Хуснийэ-ханум распалялась, подогревала себя, и гнев ее — хотите, верьте, хотите, нет — был естественным, и возмущение, с места не сойти, искренним. Недобрым словом и Хасая вскользь помянула, а потом дошла очередь и до «шайки Мамиша». — Хулиганы! Стыд какой! Вместо того чтобы образумить и усовестить, вы, молодые ребята, деретесь с инвалидами войны! У Гейбата нет ноги, Ага весь в следах от пуль! Вас пятеро, а их двое! Никого не пощадила, всем грозила расправой по закону, хотя Мамиш тут ни при чем, его-то за что? Говорила и развязывала петли на руках и ногах, даже потерла их, чтоб следы разгладить. Много разговоров вызвало на улице странное шествие — колонна людей, занявшая все неширокое пространство от тротуара до тротуара, причем людей избитых, с синяками-шишками и кровавыми подтеками на лицах. Впереди милиционер с Хуснийэ-ханум, следом Расим и Арам, за ними дяди, еще милиционер, и после Гая, Мамиша и толпы ротозеев замыкающий милиционер. Неясно, кто бил, а кто бит; и не только глазеющие не могли это определить — над этим ломали головы и в отделении милиции, составляя протокол: «В четверг, 29 июня с. г. по неотложному сигналу, телефонному звонку, общественницы нашего района Хуснийэ-ханум Бахтияровой оперативная группа сержанта милиции Агаева, милиционеров Бабаева и Вагабова (А, Б, В…) в 11 ч. 30 м. срочно направилась в дом 59/15 по улице…» И в это время в милицию нагрянул Хасай. Когда Хуснийэ-ханум сообщила в милицию о драке, она позвонила тут же Хасаю на работу, пожалев при этом, что у нее нет прямой телесвязи с ним или хотя бы настроенных на одну волну с ним карманных приемников. Хасая на месте не оказалось; позвонила в микрорайон, но трубку подняла — да провалиться ей в преисподнюю — Рена! По пути в милицию Хуснийэ-ханум попросила соседского парня немедленно разыскать Хасая и сообщить о случившемся. И деньги ему дала, чтоб машину взял и мчался к Хасаю на работу или домой, пусть предупредят его — станет она произносить вслух имя этой Рены, — пусть он скачет в милицию выручать братьев. Вот и нагрянул и тут же с ходу, будто договаривался с Хуснийэ, обрушился на них: — Как вы смели?! А потом на Мамиша глянул. — Ты тоже хорош! Парни подобрались, насторожились: что будет дальше? Мамиш с трудом узнал дядю: за одни лишь сутки, прошедшие после их разговора, во взгляде Хасая затаилась боль. Глаза усталые, и в них мука. Съедает и съедает себя. И лишь одна дума: Октай! «Что же ты, смерти моей хочешь?» Внутри Мамиша что-то дрогнуло. Весь мир подарил бы Хасай Мамишу, если бы тот сказал: «Все я выдумал, соврал, из-за Р это, я же, знаешь, никак не могу свыкнуться с мыслью, оттого и не женюсь!..» И сейчас еще не поздно раскаяться. И Хасай понял бы Мамиша, как не понять? Ведь увел из-под самого носа! Хотя и не хотел, видит бог! Она сама. Он наклонился к Мамишу, тесно здесь, а сказать надо так, чтоб никто не услышал, не понял: — Скажи, что оговорился, растопчу обидчиков! Шепнул или нет, но Мамиш расслышал, и даже больше того, что он сказал. Но Мамиш, упрямец, молчит, а глаза говорят: «Нет! Все правда!» Лицо Хасая сделалось серым. — Тогда пеняй на себя! — И к заместителю начальника: — Вот что! Надо наказать всех! И на работу сообщить, чтоб меры приняли! Всех наказали чтоб! И братьев моих, и этих молодцов, присвоивших себе звание образцовой бригады! Я сам тоже позвоню их начальнику! Распустились! Стыд и срам! А что? Правильно говорит! До запятой все верно. Братья молчали: Хасаю виднее, как поступать и что говорить; раз решил, что надо всех наказать, так тому и быть. Допрос уперся в тупик. Хасай, которого заместитель начальника Гумматов (А, Б, В, Г…), конечно, знал хорошо, сказал свое слово и ушел; слово справедливое, но не протокольное; Хуснийэ-ханум толком ничего путного сообщить не могла и тоже покинула милицию вслед за Хасаем — не переносит запаха сургуча и свежей краски, хотя ремонт здесь был весной; она свое дело сделала, сообщила, предотвратила и ушла. С чего все началось? Значит, так: Мамиш оттолкнул своего дядю Агу; нет, еще раньше племянник оскорбил старшего дядю. А за что и по какому праву? Ах, и вчера его били, Мамиша!.. За что все-таки? А? Гая переглянулся с Расимом: вот тебе и поскользнулся! Гумматов держит перо, чернила высыхают, и бумаге не терпится. А Мамиш молчит. — взяточник мой дядя! — ай-ай-ай!.. такого человека!.. — бабник! Смешок А, смех Б, хохот В. Ухмыльнулся и Гумматов. — а доказательства есть? Какие тут доказательства? — разве не видите, — переминается Гейбат, а потом садится на скамейку, раз не догадываются предложить ему сесть, — разве не видите, что конь копытом по голове его стукнул? — а вас не спрашивают, — это А. — и садиться вам не положено, — это Б. — не мешайте составлять протокол, — это В. И А, и Б, и В заручились одобрительным кивком Гумматова, а он с таким запутанным делом встречается впервые; ясно, что и ребята эти отличные, работяги, по глазам видно, все как на подбор, как же друга своего не защитить? Мамиш молчит. — Так за что же вас? — окунул еще раз перо в чернила, и Ага ему сует шариковую ручку; на ракету похожа; Ага без подарков не может, а Гумматов простой ручкой любит писать, макает и пишет. И Гая Мамишу: — Говори, чего молчишь? — Не бойся! — Сергей ему. Голос будто сверху, с вышки: «Чего раззевался?!» чего пристали? И Арам: — Что же ты?! не твоего ума дело! У Расима удивленные глаза. — Не дрейфь! катитесь вы все!.. — Ну вот что, — заговорил Гумматов. — Хасай Гюльбалаевич, в общем-то, прав! Двустороннее (чуть не сказал «воспаление»!) хулиганство! Кто кому и что сказал — разбирать нам некогда, у милиции есть дела поважнее! Это дяди, а это их племянник, пусть разбираются в своих семейных делах сами! Но драка! — покачал головой. — Но оскорбления! — еще раз покачал головой. — Этого, ясное дело, мы не позволим. Особенно теперь! Газеты читаете? (Все слушают, никто не отвечает.) То-то! Не станет же Гумматов рассказывать им о недавнем совещании в министерстве, где, кстати, его включили в группу по составлению резолюции и одна его фраза даже попала в газету. — Не позволим никому! «Ай да Мамиш! — мигает Гейбат Аге. — Ай да племянник!..» И Гюльбала будто смотрит на Мамиша: «Что же ты? — И далекое-далекое: — «Чего же ты молчал, там бы и сказал!» с бритвой осторожнее, не задень тела! Одной рукой Гюльбала тянет шелковую рубашку, а другой держит бритву, разрезает полосками шелк. Мамиш затаил дыхание. осторожно бритвой води! А Гюльбала не спешит; молча наблюдает за его движениями Мамиш. хватит, что ли? пока кровь не пролил! Но Гюльбала повернул того к стенке и разрезает рубашку со спины, с лопаток; лишь раз то ли вздрогнул тот, то ли мурашки по спине пошли. задел, что ли, что за человек ты? оставь хоть спину! И спина исполосована и шелковая рубашка полосками треплется на ветру, как ленты бескозырки. Гумматов молча закончил составление протокола, прерванное приходом Хасая: «…Братья Ага и Гейбат Бахтияровы учинили противозаконную расправу над племянником, сыном своей сестры Магомедом Байрамовым, а последний, в свою очередь, позвал на помощь дружков из бригады, которые, а именно: Дашдемир Гамбар-оглы, Арам Аллахвердян, Сергей Анисимов, Расим Гамзаев и Селим Аждаров, учинили недозволенный дебош, избили инвалидов войны, вышеупомянутых братьев Бахтияровых…» Милиция просила, в частности, нефтепромысловое управление «принять меры общественного воздействия на членов бригады коммунистического труда вплоть до лишения их (хотел премии, да раздумал) в порядке наказания этого высокого звания». Прочел, подумал и между «порядком» и «наказанием» вставил еще слово: «временного»; еще раз перечитал и остался доволен протоколом — и палочка, как говорится, цела, и шашлык не сгорел. Дядей отпустили. Куда идти? Ясно, куда, на работу. Дня два не будут людям на глаза показываться, помощники и у того, и у другого есть. Потом, задержав немного, выпустили Мамиша и его товарищей. И тут вдруг Саттар. — Арам?! Смотрит, а рядом Мамиш. — А, и вы здесь… Мамиш удивлен: откуда Саттар Арама знает? Арам мнется, неудобно, дойдет до Христофора, невесте потом объясняй. — Да вот дрались… Сам узнаешь!.. — и быстро уводит ребят, а Мамиш уходить не хочет. Стоят, смотрят друг на друга. — Ну вот, мы еще раз с вами встретились. Не рады? Какая уж, к черту, радость? Но почему-то повеяло на Мамиша таким теплом, будто знает он Саттара давным-давно. — Мамиш, чего ж ты? — нетерпеливо зовет его Селим. — Надо идти. А Саттар Мамиша не задерживает. Только руку ему крепко-крепко жмет. — Я думаю, это у нас не последняя встреча… Нет, нет, я вовсе не о деле! Непременно!.. Ребята ушли, а Саттар — в милицию; он уходил по заданию и снова что-то важное мимо прошло. Читает протокол, другим следователем составленный, и ничего понять не может: за что они Мамиша? Поди, свяжи то и это дело; случайность? «Мамиш, Мамиш…» У Саттара последнее время часто так, с опозданием; так и жизнь пройдет, ничего толком не сделаешь. Арам торопит ребят. А куда им спешить?.. Да и Гая не может идти так по улице, тенниска разорвана; он одевает рубашку Расима, Расим остается в шелковой майке, которая вполне может сойти за безрукавку. Что же дальше? Ребята молчат. — Так нам и надо, дуракам! — Это только Гая мог за всех. — Хорошо ты нам отплатил, молодец! покричи, покричи, полегчает. — Вы меня спасли, не будь вас… Не надо сердиться, Гая. — Ну и учудил ты, Мамиш! — Такой поворот, чисто сергеевский, Мамиш приемлет. много чего ты понимаешь. — Чего-чего, а этого, — Арам не может успокоиться, давно не был в такой передряге, да еще в милицию попал, — я от тебя не ожидал! а чего ожидал, и сам не знаешь. — Я и сам не пойму, как вышло. — Ах дураки! — Что, сами теперь будем драться? Тут поблизости, во дворе мечети, можем побоксовать! — Да, а как шашлык? — решил Селим их как-то отвлечь. — Без меня! — отрезал Арам. — И без меня! — сказал Сергей. — Тогда и я. — Расим. — Ну нет! Чтоб еще и шашлык пропадал!.. — та же злость в глазах, но сдерживается Гая, и не поймешь, в гости зовет или задание какое дает. А в Бузовнах второй костер прогорел и Полад дважды бегал на станцию. Третий разожгли. Как все мясо упрячешь в холодильник? Из того, что не вошло в холодильник, можно по шампуру на каждого, вот и стали жарить. Ждали пятерых, а их шестеро на микроавтобусе прикатило. И пришлось остывший костер снова разжигать, Полад это любит.
Шестым был Али-Алик, а с ним и НОВАЯ ГЛАВА — рассказ о том, как Мамиш и его товарищи ловят машину, чтоб поехать в Бузовны, и встречают на углу Коммунистической и Полухина только что возвратившегося из далекой поездки Али, который уже побывал в угловом доме, но ни Мамиша, ни Хуснийэ-ханум не застал, не торчать же у ворот, зашагал к центру, и навстречу Мамиш; бросился на него, обнял, не отпускает, о Гюльбале думает; и кажется ему, что и Мамиш осиротел, они же всегда вместе, и братья, и друзья. Невозможно поверить, что нет Гюльбалы. Чего он только не перевидел, не перечувствовал за это время; оба взволнованы, замерли, единые в своем горе. Об Али знал лишь Гая, как-то Мамиш ему рассказал. И Гая, и ребята смотрят, терпеливо ждут. «Вот письмо тебе от матери». До письма ли Мамишу? Сложил и в карман. У Али какое-то лицо незнакомое. Али не Али, другой человек словно. «Ну?» Молчит, глаза подернуты влагой. «Говори же!» — Нашел. — Быть не может! Как это нашел! — Вот так и нашел! До самого Оймякона доехал! — А где это? — спросил Расим. — На Индигирке. — Полюс холода. — Арам все знает. — Рассказывай. У Али глаза были раньше какие-то вялые, а теперь внутри что-то вспыхивает. — Говори же! — Вернулся, чтобы переехать. Навсегда. — А как же мы?! — «Бегут, бегут из углового дома… Некогда мощный корабль!.. И Гюльбала, и Тукезбан, и Али…» — Разбегаетесь? — Что это ты? — не понял Али. с тонущего корабля?! Притормозил микроавтобус: «Подвезти?» А потом, когда влезли, говорит им: — Вижу, все такси мимо — компания большая, а ехать вам куда-то надо, вот и развернулся, думаю, всех возьму. — Говори же! — Сразу узнала меня. Столпились вокруг муж ее, дети, это же мои братья, сестра, представляешь себе! В микроавтобусе трясло, шофер гнал, чтоб успеть и по своим делам. — Если бы не Хуснийэ!.. — Ну да, что-что, а это она очень даже умеет! — соглашается Мамиш. а Гюльбала? а моя мать? что же ты о них не скажешь? — И к матери во мне что-то проснулось будто. Не сказал никто, а я почувствовал, что это она. Только с языком будет трудно. — Что ты выдумываешь? — возмутился Сергей. — Поживешь там, быстро научишься. — Вовремя ты нам встретился, твоя помощь во как понадобится. — Моя? — удивился Али. — Именно твоя! Гая смотрит на Мамиша: «Дошло?» И только тут Али замечает: избитые же они! Ну да, ему же сказали, только переступил порог. И Мелахет была очень раздражена, хотя с чего бы? Ей, как уедет Али, забот станет меньше. И смысл сказанного Мамишем, когда садились в автобус, прояснился: «Если твои узнают, что ты с нами, несдобровать тебе!» Мать боялась, не отпускала его: «А вдруг снова обманут?!» Пусть только посмеют! Неплохо бы попортить кровь кое-кому здесь. А Гая с Мамиша глаз не сводит: «Понял?» Мамиш отвернулся. тебе что? и вам всем тоже! Из-под колес клубится серо-белая пыль, не успевает влететь в машину. Уговорить шофера отведать шашлык не удалось — спешил, а тут еще ждать надо, когда угли раскраснеются; легче зажечь новый костер, чем разжечь старый. «О чем это Гая с Арамом? Одного моего слова достаточно! В горкоме… — услышал Мамиш. — При чем тут горком?» И Гая, и Арам смотрят на Мамиша, недоумевают. — Не в микроавтобус лезть, — говорит Арам, — а туда идти надо было. В горком!.. Ну да, ведь совсем рядом были, когда встретили Али, сто шагов ходу. идут, идут, так быстро, что Али еле поспевает. — твоя помощь нам понадобится, — говорит Али Гая и смотрит на Мамиша. мол, дошло или нет? — ты Али в это дело не впутывай! — но ведь такой факт! — без него! ему ехать надо! я сам скажу! с удостоверением Морского тут же выписали пропуска. — а он со мной, — говорит Гая милиционеру, показывая на Али, что за вид у них, удивляется милиционер, но вопросов не задает — ведь они с Морского, секретарь горкома, смуглая, в круглых очках, внимательно слушает Гая. Как и тогда слушала, а Гая рассказывал. «Молодцы, что пришли!» — хвалила она за наклонное бурение. Гая рассказывает… но почему она улыбается, как и тогда? — молодцы, что пришли! — восклицает по-азербайджански. Тогда она тоже сначала по-азербайджански, а потом перешла на русский, чтобы всем понятно было. Мамиш хочет прервать Гая: «постой, ты не о том!..» а секретарь уже помощника вызывает, от улыбки ни следа, и помощнику: — секретаря парткома! И Хасая Бахтиярова! — не надо, я сам! постойте! Гая возмущен, Арам удивлен, ребята изумлены, Али побледнел, слова сказать не может. — ну уж нет! — говорит секретарь. — завтра с утра чтоб явились! и Хуснийэ-ханум Бахтиярову тоже! — ее не надо! — просит Али. — она помогла мне! секретарь смотрит на Гая: — вы что, не понимаете, куда пришли?! и уже не остановить, помощнику: — вот ее телефон. А в первый раз, когда встали, чтобы прощаться, поднялась, жмет им руки поочередно. Зазвонил телефон. — Одну минутку!.. Да, да, у меня… Да, да, Дашдемир Гамбар-оглы будет выступать!.. — И смотрит на Гая, шепчет, прикрыв рукой трубку: — Это первый!.. — Вся сосредоточена. — Да, да, непременно!.. — положила трубку. — Ну вот, вы слышали… Непременно скажете, товарищ Дашдемир, о том, какую борьбу мы ведем в республике! И первый об этом просил, чтоб сказали! — Обязательно скажу! И пригласила всех на торжественное собрание — шутка ли! Миллиард тонн нефти дала родная земля Мамиша с того времени, как здесь вырыли первый нефтяной колодец!.. Миллиард тонн! Ликуют, радуются, их Гая на трибуне! И на него смотрит весь огромный зал, смотрят, повернув головы, большие люди, старые потомственные рабочие, гвардия отцов и дедов, седоусые, в орденах… И Мамиш с ребятами впились в него глазами. А как интересно рассказывает Гая!.. Мамиш вспоминает Морское, первое свое рабочее утро. Он проснулся, когда солнце еще было на той половине земного шара. Над морем стоял туман, серый, редкий, охлаждающий горло; туман быстро исчезал: море будто глотало его. Горизонт алел. Из-за моря выполз красный ломоть солнца, на водную гладь пролилось пламя. Солнце медленно, уверенно поднималось, росло, округлилось, и вот уже трудно смотреть на него — оно больно слепит глаза. Умылось в море и, чистое, глянуло на буровые. Петляя и разворачиваясь, раскинула эстакада далеко-далеко свои ветви-рукава. И на отдельных мощных основаниях, будто стражи моря, величаво возвышались стальные вышки… А вечером, когда возвращался после первого своего рабочего дня, помнит, никогда не забудет: слева — заходящее солнце, красноводое море, черные на фоне солнца буровые; справа — гигантские серебристые резервуары-нефтехранилища, островерхие вышки, темнеющее, чернеющее море; над головой — прозрачное, беззвездное пока небо и движущийся вместе с грузовиком, начинающий уже желтеть полумесяц. Ликуют ребята, горд Мамиш, что и его доля — в этом миллиарде. А во втором отделении — квартет «Гая». Чуть ли не по заказу Гая!
Гая и Арам смотрят на Мамиша: — Ну, что ты нам скажешь?! И все затаили дыхание. — Тяжело мне, Гая. — Ему бы там, в милиции ответить! Мамиш молчит. А что он им скажет? — Пойми, Гая! — А мне понимать нечего! Ты обязан! Селим головой качает, тоскливо на душе, надо бы разозлиться на Мамиша, да не может. Ветер принес сладковатый запах нефти. Жарко. За холмом голубеет море. Искупаться бы… — Избить, что ли, и нам Мамиша? — говорит Селим. — А может, пойдем купнемся? И на чай не остались, и на море не пошли. Тошно на Мамиша смотреть. В электричке Али об Индигирке рассказывает, а Мамиш о письме вспомнил, развернул его. «Как же вы, а? Не удержали Гюльбалу?» — писала мать… Мамиш посылал ей телеграмму. «Знаю, тяжело тебе, Мамиш, один ты там, но ты меня поймешь и не осудишь». может, Р права? улыбка твоя не мне, а другому? «Весной будущего года приеду, пора оформлять пенсию». это Р со зла, в отместку мне! «Рано или поздно должна была прийти беда, нелепо у вас!» «у вас!..» конечно, бегут, бегут!.. «На дереве яблоко…» Забыла дописать или некогда было. Может, смысл какой? Фраза эта напоминала строку старинной песни: «На дереве яблоко соком налилось, сорву, унесу в дар любимому…» Спрятал письмо. За окном сиреневое небо. — Ну вот и доехали! Расстались молча, Арам направо, Сергей с Селимом налево, а Расиму с Мамишем и Али по пути — прямо. Вот и угловой дом. Всю дорогу молчали, а тут Расим только рукой махнул. — Эх ты!.. И снова расстались: Расиму вверх, Али налево, Мамишу — за железные ворота. А о драке, пока они у Гая были, уже говорят, ведь люди-то все видят, не скроешь. Милиционер — жене, она — соседке, та еще кому-то; а тут еще и Б, и В, и Г… И до Джафара-муэллима дошло, и до Амираслана. Кто о чем думает, не наша с вами забота, а вот Амираслан даже схему разговора с Мамишем в уме прочертил. Особенно ему нравилась в будущем диалоге первая фраза, которой он сразит Мамиша: «Странная ситуация получается — чужой защищает дядю от его же собственного племянника! Ты что же, хочешь выставить себя на посмешище? Чтоб Сергей и Арам злорадствовали?! Вот, мол, какие у них нравы?! Если хочешь знать… — говорит лишь Амираслан, а Мамиш думает: при чем тут весы, о которых тот толкует, мол, еще неизвестно, сколько Хасай и вообще Бахтияровы отдают обществу, и сколько общество за это платит им. — Да, да, взвесь и ты увидишь, что…» И дальше Амираслан говорит о нации, о том, что… Нет, здесь Мамиш непременно возразит: «К одной нации мы с тобой не принадлежим!» Вот это новости! «Кто я, каждый тебе скажет, а вот кто ты, на этот вопрос затруднится ответить даже твой родной отец». и завтрашний день, закрутилось, загудело, никак не остановить, все в сборе у секретаря горкома: и Гая, и ребята, и Хасай, еще и еще люди. — ну, так кто начнет? — секретарь смотрит на Гая. Гая на Мамиша, а у него пересохло в горле. И не помнит, как пришел сюда, видит только Хасая, он согнулся весь, сразу постарел, «как же ты, Мамиш, а? мало мне горя с Гюльбалой, а тут еще ты? возьми нож, иди, вот тебе моя грудь». И снова речь заводит Гая. «не то, не то он говорит!..» — разрешите! — порывается сказать Хасай. — вам еще слова не давали! — дайте и мне сказать! — это Хуснийэ-ханум. — не мешайте, Бахтиярова! — постой! — Мамиш прерывает Гая, а тот уже все, кончил. Хасай вскочил, чтобы что-то сказать, и вдруг стал оседать как-то нелепо. — притворство! — кричит кто-то. — да нет, ему плохо… Хуснийэ-ханум рвет на себе волосы, протягивает руки к Мамишу. — изверг! убийца! и Гюльбалу убил! разорил наш дом!.. А дальше что?
А дальше ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, самая необычная в азербайджанской литературе за всю ее историю от дастана «Деде-Коркут» до романа «Мамиш». Саттара ночью разбудили: — Мамиш, повесился! дали телеграмму Тукезбан: «Мамиш при смерти». телеграмму Кязыму: «Мамиш трагически погиб». а потом Саттар расследовал: сначала задушили, затем повесили: мол, Мамиш сам. и Саттар, только он, и никто больше, говорит о Мамише: «он сказал лишь малую долю того, что знал!.. нет, не без корней он, не перекати-поле, он связан с этой землей, которую любил, с родным городом, таким прекрасным!.. Мамиш в каждом из нас, и каждый из нас в Мамише». и рассказывает о Мамише, о тех, кому он был обязан в этой жизни, такие подробности, будто не о нем говорит, а о самом себе, и больно не только тем, кто здесь, кто пришел, но и тем, кого уже нет, огромный зал, и люди, люди, люди, много людей, и тех, кто жил рядом, и тех, кто уехал, и тех, кто не знал, но слышал. прилетела мать, прилетел отец со всей семьей, дочери стоят рядом, похожие на Мамиша глазами. Амираслан о чем-то шепчет Сеяре, а та головой качает, и загоревший, как уголь, мальчик из двора Гая стоит без майки, его не пускали, а он юркнул, и уже никак его не выгонишь, а у выхода милиционеры, те, которые их допрашивали, стоят, и Гая со всей семьей, а где же Октай? Шираслан? ах да, они же на него в обиде!.. и тот, и другой, но какие могут быть обиды, когда его нет? и Р здесь нет, ее мать Варвара-ханум пришла, сидит строгая, в очках, и вдова Гюльбалы… а эти кто? это же его однокурсники с транспарантом, а что там написано, не разглядишь, далеко стоят; мать Селима пришла, не поленилась, сеть морщин на ее лице неподвижна, губ и вовсе не видать; и Селим, и Арам, и Сергей. бросишь яблоко — на землю не упадет. и Саттар рассказывает, и такие подробности… Мамиш открывает дверь в комнату бабушки, матери своей матери, она тогда все время лежала в постели, болела, ему говорили, чтоб ее не беспокоил, не приходил сюда, а он подходит, и ручка, до которой Мамиш еле дотягивается, из гладкого синего стекла, прохладная и приятная. щелкнет певуче дверь, и бабушка понимает, что это, конечно же, Мамиш, а он чувствует: рада она его приходу, охала, стонала, спросит о чем-то, а он: «угу». — «не угу, а да». молчит Мамиш. «повтори, как отвечать надо». — «а у меня горло болит». — «всегда у тебя горло болит… и Теймур постоянно с больным горлом ходил». вставала, кряхтя — «буду лечить», — опускала палец в керосин, «открой-ка рот!» и пальцем этим придавливала гланду, и Мамиш молчит, терпит. «не угу, а да, думать, прежде чем говорить, надо сначала постучаться, а потом уже входить, старший сказал — надо слушаться старших». та, другая бабушка, никогда ничего не читала, и очков у нее не было, всегда рассказывала ему сказки, и откуда она знала их? Мамиш потом все книжки перечитал и нигде не встретил того Дива, которого Плешивый надвое разрезал, а эта все время читает. «сказок ты не знаешь?» а она охает: «мама твоя бессребреница разве не сказка, неведомо где ее носит, ищет золото, а у самой и колечка золотого нет. а Теймур — вот тебе и сказка!» какая же это сказка? «а руки-то, руки у тебя!.. — ужасается бабушка. — сначала пойди вымой, а потом приходи». и соседке Мамиш обязан, где она, неужели так состарилась, что не узнать? позвала его однажды и бутерброд с колбасой протягивает, смотрит, проверяет, съест он колбасу или нет, она ведь свиная, а свинину есть ох какой великий грех, говорила бабушка, и в семье не ели. Мамиш смотрит на колбасу, розовая с белыми кружочками, и думает: есть или не есть? съест — и перевернется мир, стены рухнут, а не съест, подумает, что боюсь, но ведь они едят и ничего!.. «а ты попробуй, покажи, какой смелый». взял и стал есть. и ничего вокруг не случается, и даже вкусно, очень вкусно пахнет. пришел домой, думает, а вдруг запах от него. Дивы ведь это чувствуют, бабушка, конечно, не Див… нет, не учуяли, и стал он есть, и ничего с ним… зато помогло в армии, земляки его не едят, а он ничего, и даже очень вкусно, а те мучаются, понимают, что глупо, но, как поднесут ко рту, бледнеют, вот-вот плохо станет, отворачиваются, чтоб другие не видели… «ах, какого человека убили!..» — сокрушается Расим. «он ваш, и частица ваша в нем!» — говорит Саттар. а Хасай уже не вспомнит тот день, когда повел мальчиков, Гюльбалу и Мамиша, сфотографировать; и придумал — один курит, другой огонь подносит, спичку зажигает. в тот день у них на улице человека убили. «из одной они шайки», — слышит Мамиш. а Хасай объясняет им: «главное — не связываться с жуликами, хулиганами, бандитами… и прирезать могут, и в пропасть толкнуть, и веревку на шею»… а потом и фотограф: «бери, в рот папиросу!» — «не хочу!» — отказывается Гюльбала. «тогда ты бери!» — Мамишу, «я тоже не хочу!», но взял все-таки: он курит, а Гюльбала спичку ему подносит. и Саттар рассказывает о Тукезбан. она, может, не помнит, но Мамиш запомнил, в сердце его жило: мать сильная и вдруг почему-то губы вздрагивают и слезы катятся. Мамиш в ужасе глядит, как мать плачет… а причина пустяк, что-то обидное сказала Хуснийэ, но что, спроси ее, не вспомнит, не ответит, а для Мамиша это на всю жизнь: мать плачет, хочет что-то сказать ему, но не может, слезы мешают, и текут, и текут слезы у Тукезбан, у его единственной, той, что вдохнула в Мамиша жизнь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ и последняя — ЭПИЛОГ, похожий на ПРОЛОГ, то есть такое окончание, которое может сойти за начало. Мамиш спешит. «Надо, непременно надо!» Вдруг остановился, поднял голову и неотрывно смотрит на низко бегущие хмурые облака, гонимые северным ветром. Случайная крупная холодная капля обожгла висок, а тучи бегут и бегут. И впечатление такое, что угловой дом, похожий на старый, но все еще крепкий корабль, стремительно несется по вспыльчивому Каспию и отвисшие клочья туч цепляются за телевизионные антенны. Мамиш спешит. Не угонишься за ним. Идет и идет. Ветер сорвал с петель оконную раму, осколки стекла посыпались на улицу. Лето, а какой злой ветер!.. Запахло шашлыком. Шашлык и вправду ждать не любит. Он вкусен, когда только что снят с красноглазых углей, обжигает пальцы. Но запах этот обманчив: то ли барашек на вертеле, то ли осла клеймят.
1975
ПОВЕСТИ
НЕ НАЗВАЛСЯ
1
Ах, что за девушка!.. Брови изогнуты, как лук, глаза черные, как ночь, носик, словно орешек индийский, кожа бела, как самаркандская бумага, груди круглые, как дыньки, так и выкатиться хотят из рубашки, кто взглянет — голову потеряет.С высоты он крошечная точка, а может, совсем не виден, смотря какая высота. А вблизи внушительный и таинственный, жуть берет от широкой черной полосы по бортам. Рядом, на заднее сиденье, опустился молодой мужчина моего возраста, но в отличие от меня, усатого, — с густой черной бородой… Мои б усы к его бороде… Кажется, из родственников покойницы. Усаживаясь, пристально и с неведомым значением посмотрел на меня. Автобус медленно и долго полз по узким, извилистым переулкам старой Москвы, потом повернул на широкий и прямой как стрела проспект и прибавил скорость. — Торопится как! — шепнул сосед. Борода, коснувшаяся моего уха, была мягкой, как шелк. Я вздрогнул и согласно кивнул головой. Немного помолчав, бородач заговорил о крематории: — Сжигание трупа и современно и культурно, простое захоронение, если хотите, признак отсталости. Умирающих много, а земли мало. Даже в крематории нет мест… Он привел примеры из древности, рассказал, что еще задолго до нашей эры высококультурные греки сжигали умерших, поговорил об эпохе Гомера, о народных традициях захоронения в Индии, вспомнил о старых кладбищах Парижа и о перенесении костей покойников в парижские катакомбы, о ключах от ниш с прахом близких, которые испанцы носят на груди вместе с крестом. — Вы историк? — почти с уверенностью спросил я. Чуть отодвинувшись, он уставился на меня своими черными, будто маслины, глазами и, помедлив, сказал: — Нет, я не историк. — И умолк. Почти обиделся, как мне показалось. Но ни он не проронил ни слова, ни я. Из высокой трубы крематория валилгустой серый дым. Время здесь заранее распределено, на каждого отпущено пятнадцать минут. Подошла наша очередь. Дополнительно зажегся яркий свет. Мы подняли гроб на специальный постамент. Заиграла записанная на пленку траурная музыка. — Бах, — шепнул бородач. Гроб медленно опускался в подземелье, а за ним автоматически закрывались железные двери постамента, пока вовсе не сомкнулись. Похороны кончились, смолкла печальная мелодия, погас дополнительный свет. Наступила очередь следующего. Выходя, я невольно задержался, — с затянутого траурной лентой портрета на меня смотрело знакомое еще с детства лицо некогда большого человека. А с портрета он и теперь смотрит с уверенностью и силой. На улице бородач крепко схватил меня за локоть и, показав на дым, сказал: «Вот и все!» Чувствовалось облегчение, и автобус мчался беззаботно, точно полупустой. Снова рядом оказался родственник с глазами-маслинами, ставший таким симпатичным, да, жаль, не оставлявший тему крематория. — Раньше, — говорил он, — родственникам разрешали следить за кремацией, чтобы удостоверились и сомнений чтоб никаких не было. Труп, попадая в печь, вскакивал, будто живой, потому что от жара резко сокращаются спинные мышцы… — Вы… — прервал я его, думая спросить, не из судебной ли он экспертизы, но нашел слово поспокойней: — Не юрист ли вы? Как и в прошлый раз, он пристально взглянул на меня и, не торопясь, ответил: — Нет, я не юрист. И даже не из судебной экспертизы!.. — Помедлил немного и продолжил, явно недовольный тем, что его прервали: — Теперь, как вы могли заметить, все делается за железной непрозрачной дверью. Потому что нет смысла. Он умолк, думая, что я спрошу, почему смысла нет, и, не дождавшись моего вопроса, добавил: — В течение года родственники могут получить пепел. Хочешь — насыпь в золотой кубок и храни дома, а хочешь — развей в поле, высыпь в реку, смотря какое завещание. Можно и похоронить в специальной стене в крематории и в семейной нише повесить фотографию. Я подумал о тех, кто работает внизу, и мой сосед тут же сказал: — Однажды я проник в подвальный этаж крематория. Хотите, расскажу, что я там увидел? — Он победно улыбнулся. — И все-таки кто вы по профессии?! — с нетерпением спросил я. Собеседник мой долго сверлил меня взглядом и затем с расстановкой произнес: — Гипнотизер. Поспешно, сам не знаю почему, я выпалил: — Гипноз на меня абсолютно не действует! — Глаза у вас черные, — шепнул он, — из вас мог бы получиться неплохой гипнотизер. Никогда не поздно этим заняться. — Прекрасная профессия, — польстил я ему. — Нужная людям. Не успел я спросить: «В каком смысле?» — как он опередил меня: — В смысле лечения гипнозом. Я взглянул в окно и, не скрою, обрадовался, что за поворотом — наш дом. Помянуть усопшую пришло много народу. Каждый с трудом втискивался на свое место за столом, уставленным закусками и бутылками. Уж сам не знаю, как случилось, но рядом со мной оказалась жена гипнотизера. Мы познакомились с нею перед выносом гроба. Она оставалась дома, чтобы помочь накрывать на стол. Было тесно. Жена гипнотизера сидела так близко от меня, что я не мог даже пошевелиться. К тому же прибывали новые гости, и приходилось снова тесниться. Тело ее словно прилипло к моему. Она казалась порой величественно спокойной или игривой и кокетливой. И то, и другое было приятно, будоражило воображение, вызывало любопытство. Гипнотизер, сидевший напротив нас, окидывал всех внимательным взором и поглаживал рукой свою шелковистую бороду. Иногда его взгляд останавливался на нас, мне делалось слегка не по себе, а жена, занятая только собой, чувствовала себя независимо. И это действовало на меня успокаивающе. Я старался не терять рассудка, тем более что надо мной жужжали мысли гипнотизера: «На поминках флирт неприличен». Премудрое дело — поминки. Нужно и покойника помянуть, и близких не ранить лишними воспоминаниями. Но и безучастным не следует оставаться. Мне хотелось задобрить гипнотизера, чтобы отогнать рой витавших над моей головой колючих фраз, полных недоверия к такому неплохому симпатичному порядочному человеку, как я. И вдруг гипнотизер достал из бокового кармана записную книжку, открыл, полистал ее и на моем родном языке просто и внятно прочел: — Сен хошума гелирсен. — Ты мне нравишься. Я даже поперхнулся от неожиданности. От услышанной родной речи грудь залило жаром. — У вас настоящее бакинское произношение! — А мы любим азербайджанцев, — сказала гипнотизерова жена и, еще ближе придвинувшись ко мне, заученно произнесла: — Мен сени севирем. — Ее «я тебя люблю» прозвучало без чувства, она сказала, как школьница, вызубрившая урок, и произношение было много хуже. Гипнотизер был удовлетворен тем, что поразил меня, и, пока он прятал свою записную книжку, я спросил у его жены, — так бы поступил всякий на моем месте: — Кто вас научил? Оттопырила выразительную нижнюю губу, она чуть припухлая, глаза смеются, в них столько слов, а сама молчит. — Он молодой? — Я никого кругом не вижу, будто одни мы сидим. — Вы меня ревнуете? — улыбается. Я налил себе рюмку водки. И она тихо, чтоб слышал только я, шепчет: — Ревнуйте! — Протягивает мне рюмку: — И мне налейте! Я наполнил. — За нашу дружбу, — произнесла она и потянулась к моей рюмке, но вовремя спохватилась и отдернула руку, плеснув немного водки на скатерть, и, глядя на меня, выпила. Выпил и я, не сводя с нее глаз. — Я рада, что познакомилась с вами, — шепнула она мне. — А вы? — Очень! — прямой вопрос требовал и прямого ответа. И я действительно был рад. Что-то происходило во мне,-я жил в предчувствии чего-то ранее неизведанного, ликовал, был готов к подвигам ради своей соседки, очень красивой, просто чудо! Женщину украшает мужское поклонение, а тут двое неотступно следили за ней — он, ее законный, и я. Одному было все известно, другого влекла новизна. Наши мысли-взгляды скрестились. Гипнотизер, казалось, внутренне усмехается надо мной, еле сдерживается, чтоб не расхохотаться. Мне даже послышалось: «А вот и не выйдешь из гипноза!» Я удивленно взглянул на бородача, чувствуя, что губы мои кривит жалкая улыбка, и вновь мне почудилось: «А вот и поддашься!»Из народного сказания
2
Искусный волшебник был, все колдовские чары знал — как отвратить, как заворожить, как иссушить…Гости постепенно расходились, буднично вспоминая о завтрашних понедельничных делах. Оставались лишь близкие. Я не хотел уходить и продолжал сидеть — по-соседски. На смену закускам пришел чай. Жена гипнотизера обыкновенные чашки ставила на стол так грациозно, хоть стой и любуйся!.. А потом она снова сидела со мной. Возможно, гипнотизер сам стремился испытать судьбу. Преследуемый его взглядом, я положил руку на спинку стула моей соседки. Нестерпимо захотелось шепнуть ей нечто теплое и ласковое, кажется, я даже что-то сказал, забыв обо всем на свете и унесенный потоком чувств, но тут слуха моего коснулись слова и будто кто-то помимо моей воли резко повернул мою голову в сторону говорившего: «Караульный переулок…» — Как вы сказали? — почти испуганно спросил я. — Мы жили в Караульном переулке, — ответила дочь умершей, обращаясь при этом не ко мне, а к гипнотизеру, будто не я, а он задал вопрос. — Так это же рядом с нашим старым домом, — сказал я. — Там еще на углу керосиновая лавка. — Да? — тут она повернулась ко мне, будто впервые меня видела. Глаза у нее были усталые, но спокойные, в них отражался свет изумрудных серег; ее мать болела давно и неизлечимо, как я помню, уже год была прикована к постели, лечилась сама, мучала окружающих, и ее уход из жизни воспринимался дочерью как нечто неотвратимое; а что до моей соседки, внучки покойницы… — Вы жили на Старой Почтовой? — Сейчас она по-другому называется, — ответил не я, а гипнотизер, и никто, даже я сам, этому не удивился. — С покойной мамой я и мой брат, отец вашей милой соседки, — она кивнула в сторону жены гипнотизера, — жили там, в Караульном переулке. Но это было очень давно, задолго до того, как вы появились на свет. — Это естественно, но вы могли знать моих родителей, во всяком случае, мать. — Возможно, возможно… Я хорошо помню красавицу тюрчанку. — Так уж не говорят, это устарело, — пояснил гипнотизер. — А я привыкла по-старому, мне так легче. — Но гость может обидеться. А у меня иные мысли: — Может быть, вы говорите о моей маме? И она была в молодости очень красивой. — Каждому человеку его мать кажется красавицей, — вставил снова гипнотизер или кто-то другой, я не уловил. А хозяйка тем временем продолжала: — Мой брат был влюблен в эту красивую тюрчанку, он часами простаивал на углу в надежде увидеть ее, буквально бредил ею. — А я-то думаю, откуда у меня такая особенная симпатия к южанам! — Южане понятие растяжимое! — заметил я. — Ну… к азербайджанцам! — уточнила она, к моему удовольствию. — От отца, оказывается, в генах перешло!.. — Жена гипнотизера одарила меня таким нежным взглядом, что мне даже неудобно стало: муж ведь смотрит! — Тебе не только это передалось, — мрачно проговорил гипнотизер. Взгляд ее определенно был перехвачен, не иначе. — Ты прав, не только это. Как и он, я решительна в любви: кого полюблю — осчастливлю, а кто меня полюбит — счастье познает! — При этом она — казалось бы, уж больше некуда — еще ближе придвинулась ко мне, задев грудью мое плечо. Жаркая волна прошла по сердцу, но гипнотизер взглянул на меня и словно пальцем погасил горящую свечу — я очнулся. — Интересно, — произнес я некстати и непонятно к чему: я не слушал, о ком шла речь за столом, мне достаточно было того, что происходило в моей душе, но последующие слова хозяйки дома окончательно меня разбудили: — Ты погубишь себя, забудь ее, муж узнает — беды не оберешься!.. Нет, не ко мне относились эти предупреждения: так, оказывается, отговаривали безумца, влюбленного в тюрчанку-азербайджанку, отца моей соседки. — На Алексея наши уговоры не имели воздействия. Он был как в угаре, полоумный какой-то. Что же, наши состояния совпадали, и потому я слушал не без интереса. — Он во что бы то ни стало хотел познакомиться с тюрчанкой. Но это же сущее сумасбродство, говорили мы ему. Куда там! Лишь одно у него на уме было — познакомиться! Однажды под видом монтера Алексей пришел к ним в дом и стал искать якобы неисправность в проводке. Тогда от сильных северных ветров… Как-то называется у них этот ветер… — Хазри, — выпалил гипнотизер. — Да, — задумчиво произнесла хозяйка, — провода часто рвались. — Как рвутся и теперь, — добавил бородач, держа меня в поле своего внимания. Он был прав: действительно рвутся, особенно в нашем старом дворе. — Будто это и не провода, а тонкие струны саза. И на меня смотрит. Поначалу слушала внимательно и жена гипнотизера, но потом, я это почувствовал, интерес ее стал гаснуть. — Прошел с мотком проволоки и плоскогубцами в руках почти по всему дому и только тут увидел девушку. «Свет горит?» — спросил он ее. Тюрчанка плохо знала русский язык, но понять брата было нетрудно, и она кивнула головой: «Яныр, яныр». «Горит», значит. Толстая коса упала ей на грудь, а шелковый платок сполз на плечи. Хозяйка будто устремилась увлечь не только меня, но и свою племянницу. И заставила-таки мою соседку задать вопрос, в котором все же было больше нетерпения и раздражения, чем интереса: — Ты так рассказываешь, будто сама присутствовала при этом! Гипнотизер почему-то улыбнулся, а тетя, недоуменно посмотрев на племянницу, ничего ей-не ответила и пошла по тропе дальше: — Когда брат впервые увидел ее на улице, он удивился, что тюрчанка ходит без чадры. И теперь решил похвалить ее. «Ходишь без чадры, это хорошо!» — сказал он ей, а она жестами и мимикой показала, что бросила чадру и топтала ее ногами. В это время на балконе показался муж тюрчанки. Он что-то спросил у нее, а потом зло обратился к брату: «Что нужно?!» — «Не тебя нужно!» — ответил Алексей и пошел к лестнице. — И это все? — недовольно спросила моя соседка. — А я-то думала… — Не докончив, она встала, чтобы выйти, но вдруг, ойкнув, села и, положив свою руку на мою, проговорила: — Загадывайте желание — вы сидите между тезками! Я, честно говоря, не запомнил имя другой своей соседки, когда нас знакомили. — Вы сидите между двумя Линами, очаровательными женщинами со столь редкими именами, что вам, конечно, очень трудно запомнить… — Гипнотизер многозначительно улыбнулся. «Ну что же, пусть дальше читает мои мысли», — подумал я. О том, каковы мои желания, было проще простого догадаться. — Загадывайте, обязательно исполнится! — прошептала моя Лина. — Но только желание должно быть сильным, и никому ни слова! — Незаметно опершись на мое плечо, она поднялась и танцующей походкой направилась к двери. Мои мысли потекли вслед за нею, но тут до слуха моего, как из далекого мира, донеслось: — Подождите, еще не то будет! Я обернулся к гипнотизеру. И теткины слова догнали Лину у двери: — Ну и драка была между братом и мужем тюрчанки!.. Лина остановилась. — Не стой там, — сказала ей тетя, — сядь и слушай! Лина присела у порога, не сводя с меня глаз. — Не успел твой отец, — это она Лине сказала, — выйти на улицу, как услышал за спиной быстрые шаги, обернулся, а за ним муж тюрчанки несется вверх по переулку, а в руке блестит что-то. — Нож? — поспешно спросила Лина. — А ты что думала? Самый настоящий кинжал! При восточном муже с его женой сладкие речи заведешь — добра не жди! У мужа кинжал, а у «монтера» что? Хорошо еще, не растерялся, швырнул в усача моток проволоки и крепче сжал в руке плоскогубцы. Это было в трех-пяти шагах от нашего дома, я стояла в воротах, затаив дыхание от страха, и ждала, что будет. Вдруг муж тюрчанки возьми да резко брось нож в акацию, что росла на нашей улице. Нож с глухим стуком вонзился в ствол; как сейчас помню дрожащую рукоятку… Пришлось бросить плоскогубцы и брату. Соперники кинулись один на другого, я бросилась было к ним, но брат оттолкнул меня. Пыхтя от злости, схватились они, но ни один не мог одолеть другого, только слышно было, как трещит на брате шелковая косоворотка с моей вышивкой. — Что же дальше? — спросила Лина неожиданно умолкнувшую тетю. — А ничего! Попыхтели, покряхтели и разошлись! Лина была явно разочарована. — Поножовщины тебе захотелось, крови? — Это гипнотизер ее подзадоривал. — Осталась бы тогда без отца, — добавила тетя, — а я — без брата… О чем это я — тебя и вовсе бы не было тогда. — А вдруг бы он в схватке тюрчанкой завладел? — И тогда бы не вы появились на свет, а другая, — сказал я, — а нам бы всем этого очень не хотелось! — И мне. — Голос ее затих, и, помолчи мгновение тетя, я перетянул бы Лину на свою сторону, она снова сидела бы рядом со мной. — После той стычки Алексей ни разу не взглянул в сторону тюрчанки. — Испугался? — Как бы не так! Отец твой сказал, и тебе бы хорошо запомнить это, да и не только тебе: «Не к лицу мужчине, говорит, заигрывать с чужой женой!» «Уж не меня ли она имеет в виду?!» Посмотрел на гипнотизера. «Ага, намекает!..» Но как примитивно! А я ведь могу обидеться. Лина уловила это, поймала взгляд и незаметно подморгнула: мол, нас это не касается, это все о прошлом. Она высоко подняла свои белые крепкие руки, чтоб поправить волосы, и так нежно при этом смотрела на меня, что я готов был унестись с нею хоть на край света. Я даже почувствовал на горячей шее холод ее упругих рук. Но разговор принял неожиданное направление. — Да, этого никто не ожидал! Оказалось, что вовсе не муж и жена они, а брат и сестра! — Везение какое! — обрадовалась Лина. — Вот это да!.. И ушла, отдалилась Лина на время от меня. Мои мысли унеслись в далекие родные края за судьбой моей землячки, чтобы возвратиться снова к Лине, а Лину захватила история странной любви отца. Переменилась тема разговора, но страсти продолжали кружить над нами, потому что был я со своими неодолимыми желаниями, был гипнотизер с неистощимым запасом помех, была его жена, и на ней скрещивались наши взгляды; нити, которыми он пытался меня опутать, рвались, и неясно было, уж во всяком случае мне, случайному гостю этих поминок, — то ли плакать, то ли радоваться, то ли глазом одним смеяться, а другим не сдерживать слез, чтоб текли и текли… Ведь вот какие настроения — не отвратишь, не предугадаешь. Премудрое дело — поминки! И та, чье горе было сильнее всего, сама нашла успокаивающий бальзам для своих ран — воспоминания далекой юности, где себя жалеешь больше и забываешь о настоящем.Из народного сказания
3
Беспробудно проплакала она три дня и три ночи. От горьких слез вся подушка истлела…— Брат в счастливом волнении сообщил мне: «Оля, она — его сестра, понимаешь, сестра!» Радость его сердила меня. «Ну что с того?» — сказала я ему. Еле избежал опасности, а тут радуется. К тому же подруга моя давно любит его, тает, как свеча, а он… И я решила противостоять этой безумной страсти. «Будет по-моему», — подумала я. Как-то отправились мы втроем, я с подругой и Алексей, купаться в море. А надо вам сказать, что раньше от центра старого бакинского бульвара в море на деревянных сваях уходила эстакада, и в конце ее была купальня. — Не сваи, Ольга Васильевна, были деревянные, а сама купальня. И настил под водой был деревянный. — Но гипнотизера никто не слушал, и она пропустила мимо ушей его уточнение. — Для купания были отведены специальные места, имелись и душевые с морской водой, чтобы можно было после купания смыть с себя мазутные пятна. Так и лип к телу мазут, никак не отмывался. Но все равно бакинцы любили там купаться. По пути мы зашли на базар, купили хлеб, помидоры… Крупные такие, красные, сладкие с кислинкой… и по сей день больше всего люблю бакинские помидоры. Когда ешь их после купания, они кажутся чуть солоноватыми от морской соли на губах… Помню, весь день мы провели вместе, — продолжала она. — В то время для мужчин и женщин в море были отгорожены изолированные участки для купания, и только смельчаки заплывали в открытое море. Я посоветовала брату и подруге последовать их примеру, а сама оставалась в купальне. Долго они не выходили из воды, заплыли очень далеко, я даже беспокоиться начала. По-моему, в тот день подруга моя привлекла внимание брата, во всяком случае, день этот не мог пройти бесследно, так мне казалось, когда мы возвращались. Подруга моя так и льнула к брату, и он смотрел на нее как-то по-новому. В то лето… События стали отдаляться от меня. Я взглянул на Лину. У нее явно пропадал интерес к тому, что рассказывалось. Она возвращалась ко мне, и я уже не знал, о каком лете идет речь, — я был в своем лете, я был вместе с Линой, и я видел себя с нею на берегу моря, и мы купались… Но события неожиданно развернулись так, что снова приковали наше внимание. — В то лето, как и в прежние годы, мы отдыхали на, Северном Кавказе. Мы с мамой выехали раньше, чтобы снять комнату, Алексей должен был приехать позже. Получили от него телеграмму, и я пошла его встречать. Подходит поезд, и кто, вы думаете, выходит? Моя подруга! Увидев меня, она бросилась ко мне на шею и со слезами стала говорить: «Как я несчастна, если бы ты знала!..» Я ничего не понимаю, стою у вагона и вижу Алексея, но он кладет у ног чемодан, не обращая на меня внимания, поворачивается ко мне спиной и подает руку выходящей из вагона незнакомой женщине, помогая ей сойти. Я внимательно смотрю на женщину и крайне изумляюсь: боже, это же тюрчанка! Наша соседка! «Как? — удивляюсь я. — Тут что-то не то!» Ну да, именно она! — Пережитая заново встреча эта кажется ей удивительной, и она улыбается. — Я, естественно, ничего понять не могу. Если брат приехал с нею, то при чем тут моя подруга? Я к ней — с вопросом, а она только шепчет: «Потом, потом!» Мы пошли к дому — я и моя подруга немного впереди, а брат с тюрчанкой позади… Алексей тащил огромный деревянный чемодан своей попутчицы, а я — чемодан подруги. Я, конечно, пытаюсь выяснить, что все это значит, а у нее лишь одно на языке: «потом» да «потом». У калитки Алексей бросает на траву свою ношу и, не говоря нам ни слова, берет свою попутчицу за руку, и как ни в чем не бывало они уходят в лес тут же за дорогой. И только дома подруга рассказала. Алексей пригласил ее поехать вместе с ним, родители ей разрешили, а в вагоне он увидел тюрчанку, которая ехала в Москву на совещание женщин Востока, и с той минуты забыл о существовании моей подруги. — Не может этого быть! — Я даже встал. — Мыслимое ли дело, чтобы наша девушка, да так запросто, да еще тогда!.. Нет, здесь что-то не так! — Это же любовь, неужели вам не ясно? — прервала меня Лина. — Взрыв! Огонь! Пламя! — Она подошла ко мне, усадила, сама села рядом, тесно придвинувшись ко мне, и обратилась к тете: — Интересно, были они близки? А меня от близости Лины куда-то унесло, захлестнуло горячей волной, но гипнотизер бросил спасательный круг и вытащил меня из воды: — А вот и узнаешь, насколько были близки! — Но возможно ли?.. — робко возразил я. — И очень даже возможно! Хотите, — сказал он мне, — я познакомлю вас потом кое с кем! Я удивленно посмотрел на гипнотизера. — Тогда слушайте продолжение! — приказал он. — Покойная мама возмутилась: «Я этого не допущу! Что все это значит? Как можно так терять голову? Немедленно позовите его! Позер!..» Мы с подругой помчались в лес. Они сидели на опушке, так что искать их долго не пришлось. Мы притаились. Что будет дальше? Они увлеченно о чем-то говорили. О чем? Он не знает тюркского, она почти не знает русского. Мы ждали хотя бы поцелуев. Ничего! Все это было так не похоже на Алексея! Настоящая платоническая любовь! — Ну, это другое дело, — сказал я. — Подруга моя хоть и успокоилась немного, но больше ни одного дня не осталась у нас и в ту же ночь вернулась в Баку. — А по-моему, они все остались ночевать! — прервала тетю Лина. — Разве? — Да, мама мне рассказывала эту историю. Речь шла, оказывается, о матери Лины!.. — Память у меня стала совсем никудышная!.. Мама… — Тетя потерла лоб. — Да, покойная мама решила никого не отпускать, мы оставили у нас и твою маму, и Ламию. — Ламию?! — Моему удивлению не было предела. — Что с вами, молодой человек? — Вы же говорили, что не знаете ее имени! — Я? Не может этого быть! Разве я могу забыть такое имя? — Вы же говорили… — Бывает такое, — сказал гипнотизер. — Забыла, а теперь вдруг вспомнила. — Он улыбался, явно довольный моим замешательством. — Да, девушку звали Ламией. Почему это вас так взволновало? — Это имя нашей соседки, она была подругой моей матери. Гипнотизер не без злорадства заметил: — «Как тесен мир», сказал поэт… — А в глазах его я прочел: «Еще не то услышишь!» И добавил: — Я же говорил вам, что могу кое с кем вас познакомить. — С кем? — спрашиваю. — С Ламией? «Ну вот я и поймал тебя! — подумал я. — Ламии ведь давно нет в живых». — Разумеется, не с нею. Почему вы задаете мне такой вопрос? Вы же взрослый человек! Разве Ламия жива? Я сказал в переносном смысле. — А именно? — Ну, скажем, с ее братом! «Быстро же соображает, черт! — подумал я. — Раз мне известно о Ламии, значит, если мыслить логически…» Но не успел я додумать, как гипнотизер торжественна произнес: — Дурсун! Я обомлел. Но хозяйка вовсе не удивилась, а лишь горестно вздохнула, словно давно забытое всколыхнулось с этим внезапно произнесенным здесь именем. Она повторила как бы про себя: «Дурсун!!!» — Да, все заночевали у нас, а наутро проводили тюрчанку в Москву, и мы остались — Алексей, подруга моя, мама и я. А потом все улеглось. И уже осенью того года Алексей и твоя мать поженились. — А как же Ламия? — Никак. Уехала. И больше они не встретились. — Но вы же говорили, что ваш брат любил ее! — Вскорости родилась моя племянница-красавица, отец в ней души не чаял. — Такой вариант меня не устраивает! — возмутилась Лина, встав рядом со мной. Будто ее кровно обидели или оскорбили. — И хотя вместо меня могла появиться на свет другая, но как можно допустить, чтобы так банально закончилась история любви моего отца?! Я не верю! Мы с Линой стояли рядом, единые в своем протесте. Гипнотизер был явно сбит с толку, никак не ожидал, что жена будет заодно со мной. Лина крепко сжимала мой локоть. Нас надо было разлучить во что бы то ни стало. Но это было почти невозможно. — Любовь имеет продолжение! — сказал гипнотизер. — Нет! Любовь брата вспыхнула и сгорела, как спичка! — возразила тетя. — Рассказ мой окончен. И об этом хватит. — А кровь мне подсказывает иное. — Лина повернула лицо ко мне, прикрыла глаза ресницами, которые чуть-чуть вздрагивали, и, понизив голос, медленно заговорила: — Я чувствую, что по жилам моим течет отцовская кровь, как от нее разливается тепло по всему телу… А может, и не отцовская любовь говорит во мне, а это шумят голоса моих далеких предков… Что передалось мне от них? Вот он, полудикий мой предок… Раз я существую, один конец ниточки у меня, а другой тянется и теряется там, у него, одетого в шкуру мамонта, и в руке у него каменная булава, он охраняет свой очаг, свою подругу… Может быть, и мне присуща эта страсть?! — Наверняка ты видишь, как он сражается с мамонтом! — перебил ее муж. Она открыла глаза. — Нет, чего не вижу, того не вижу. А только с предком своим я разговаривала. И он сказал мне: «Слушай, что кровь подсказывает, не ошибешься!..» И еще он сказал; «Замечтаешься днем — закрой глаза и говори мне, а замечтаешься ночью — говори звездам!» Лина как-то странно посмотрела на меня и вышла, накинув на плечи платок. Я слышал, как она открыла дверь на балкон. Мне показалось, что она шепнула мне: «И ты выходи!» Но когда шепнула, я не уловил, просто в голове звучал ее голос. Гипнотизер заметил, что я собираюсь выйти, и, пытаясь задержать меня, воскликнул: — И раньше была любовь! Но остановить меня было невозможно. — Не было ничего! — столь же решительно отрезала хозяйка. В ее голосе было раздражение. Но не против же меня! Или Лины. Тетя просто устала — дни такие мучительно долгие, то ли сон, то ли явь, что пережито сегодня.Из народного сказания
4
Да повешу я на грудь твой крест, моя христианочка!..Оригинально расположены балконы в этом доме; не один над другим, а в шахматном порядке. Над головой — небо… Ярко горели звезды. Странно — Лины на балконе не было. Хотел вернуться и разыскать ее, но вдруг услышал шепот. Как бы ни было темно, на маленьком балконе я не мог не увидеть ее. Но здесь ее не было. Я опять услышал шепот. Но ведь и ослышаться я не мог — это был ее голос. Что за наваждение? Словно с неба, со звезд доносился этот шепот. Я огляделся, и — ужас! — Лина смотрела на меня с балкона верхнего этажа! Ну и отчаянная! Она поднялась с теткиного на чужой балкон по соединявшей их узкой декоративной лестнице. — Лезь! — шепнула она мне. И сказала так повелительно, что я подавил в себе страх и взялся рукой за тоненькие холодные перила. Лестница ходуном заходила под тяжестью моего тела, чуть не оторвалась от стены. Как только я влез, она схватила меня и, притянув к себе, шепнула: «Не бойся! Нас никто не видит… Это балкон Лины, соседки. Она у нас!» Я вспомнил о тезках и загаданном желании. Голос ее ласкал мое ухо. Она еще что-то говорила, но я не слышал, только яркие звезды горели над нами… А потом сквозь щелочку я увидел, как гипнотизер вышел на балкон. Он оглянулся по сторонам, но, не увидев нас, удивленно сжал губы, — я заметил это по бородке: она ножичком вытянулась вперед. Гипнотизер вернулся, но тотчас вышел и взволнованно посмотрел вниз. Я еле удержал смех: уж не думает ли, что мы выпрыгнули? Но не успел я заглушить мысль, как он быстро поднял голову и стал всматриваться в наш балкон. Глядел, глядел, почесывая бороду, но так и не смог поймать ускользающую мысль. И мы молчали, прижавшись друг к другу. Словно одна душа и одна плоть. Благовоспитанность явно подчинялась дикой страсти. Ему и в голову не приходило, что мы — этажом выше. Он беспомощно развел руками и ушел в комнату. Мы услышали его недоуменный голос — он спрашивал о нас. Спустя минуту гипнотизер снова появился на балконе, но, так и не поняв, где мы, вернулся и закрыл балконную дверь изнутри. И как только щелкнул шпингалет, мы очнулись. Звезды казались погасшими. Как быть? Мы стали искать выход. Трезвые, мудрые. Над нашими головами зажегся свет. Это вернулась домой Лина. Но свет, к счастью, погас. А вдруг бы она открыла дверь на балкон? Ну и что? Разве и пошутить нельзя? А что, если постучаться к ней и попросить открыть дверь, впустить к себе? Мол, решили разыграть. Но Лина не согласилась: неудобно перед соседями — такие шутки на поминках. Сказала и поцеловала меня. Еще и еще. Стало жарко. И звезды снова загорелись, такие яркие… А потом вдруг Лина сказала: «Сойдем!» Она была проворна, как кошка. Спускаться было намного труднее, чем подниматься. А что оставалось делать? Не ночевать же на чужом балконе? Холодея от ужаса и проклиная звезды, я стал спускаться. Невольно вспомнил слова гипнотизера, сказанные будто месяц назад: «Вот и все!» Мы стояли рядом, опершись на перила, и глядели вниз. «Сейчас он выйдет, — сказала мне Лина, — ты молчи! Ни слова!» И действительно — дверь на балкон с шумом распахнулась. — Вы?! Взгляд гипнотизера выражал полную растерянность. — Мы. — Но вас не было на балконе! И дверь была заперта. — Действительно. Зачем ты ее запер? — Но здесь никого не было! — А где ж, по-твоему, мы были? — Об этом я и хочу вас спросить! — Ты же выходил на балкон и видел нас. — Я выходил, но вас-то здесь не было! — Туман в глазах! — Не было! Никого здесь не было! — Значит, мы можем быть невидимками. — Сейчас не до шуток! — У нас есть крылья — мы ненадолго улетали и снова прилетели. — Говори правду! — Мы, как летучие мышки, повисли вниз головой. — Ложь! — А не кажется ли тебе, что ты на минутку ослеп? На балкон вышла тетя. — А говорил, их нет на балконе. — Ничего не понимаю… — В его притихшем голосе я уловил недоверие к самому себе. Борода гипнотизера вздрогнула. Лина, поеживаясь, закуталась в шаль. — Озябла я… Лина, а за нею мы все вернулись в комнату. Взгляд мой упал на краешек неба. Звезды горели ярко и близко, как на юге. Поминки подошли к концу. Все разошлись, Лина прошла на кухню следом за тетей — надо было перемыть гору посуды. Собрался и я идти в свою комнату в этом же подъезде, — я снимал ее, когда приезжал в командировки. Как ни пытался гипнотизер взглянуть в мои глаза, я удачно отводил их. А ему надо было непременно узнать нечто важное для себя. Не могли же в самом деле мы испариться? Но я был далек от его притягательной силы самое меньшее на один этаж — несколько шатких ступенек. Я ни о чем не думал, чтобы не дать гипнотизеру уловить ничего из того, что было, и того, что будет. А будет свидание. Непременно. Завтра. И звезды ярко гореть будут. Гипнотизеру казалось, что меня можно задержать старым разговором. И потому, как только я собрался уходить, он целиком захватил в кулак свою бороду, вот-вот оторвет, и, на миг перехватив мой взгляд, закинул удочку: — Трагичной была смерть Ламии! Но меня отдаляла целая вечность от недавно услышанной истории: были подъем и спуск по декоративной лесенке, готовой оторваться от стенки; не столько легкий подъем, когда ждала Лина и я даже не заметил, как взлетел, сколько жуткий спуск с трезвыми чувствами, когда предстояла иная встреча. Слова застряли — «смерть Ламии», и я сначала даже не понял, о ком идет речь. И смертей — реальной и в страхе моем — было предостаточно, чтобы увлечь меня рассказом о новой. В памяти стали смутно оживать рассказы моей матери о Ламии, но от усталости голова не могла ничего удержать, я зевнул, и это было непростительной ошибкой, — легко прочесть мысли человека, когда он зевает. Я заторопился к двери, но гипнотизер бросил вдогонку: — Очень трагичная история! Меня неодолимо клонило ко сну. Я устал. И никаких историй мне не надо. Я повернулся и в упор посмотрел на гипнотизера: — Очень приятно было… — Но он не дал мне договорить: «С вами познакомиться» — и неучтиво перебил: — От красавицы Ламии остался лишь пепел! Уж не пугает ли он меня? Я вспомнил разговоры о крематории, и озноб пробежал по спине. Я почувствовал, что, если задержусь хоть на миг, во мне проснется малярия, не покидающая меня с детства и дающая иногда о себе знать. Такая нежданная гостья, что меня всего трясет. Начинаясь в пятках, озноб волнами катится через тело и выходит из макушки, чтобы снова начать бег от пятки. Лихорадит, пока не надоест. То никак не согреешься под грудой одеял, а то — хоть голым лежи — жарко! Озноб меня напугал, и я решительно направился к двери. — Но выяснять будете вы сами! Я задержал шаг и недоуменно повел плечами: — О чем? — О трагичной смерти! Не слечь бы в командировке! Видя мое замешательство, но не улавливая его малярийную причину, гипнотизер добавил: — Как вернетесь к себе домой, разузнаете! Хочет отдалить меня от Лины!.. — Это очень важно для вас! Я быстро вышел. Будто кто-то толкал меня в спину.Из народного сказания
Поздно ночью раздался долгий телефонный звонок. Я вскочил и, полусонный, подбежал к телефону. Было похоже на междугородный. Я кричал в трубку, кажется, и в Баку кричали, но ни я их не слышал, ни они меня. Телефонистка сказала: «Линия испорчена», и нас разъединили. Перед глазами, между закрытыми веками и зрачками, танцевали радужные нолики, округлялись, как на рекламе, ширились и лопались, снова ширились, чтобы затем стать точкой, исчезнуть и вновь возникнуть. Кто же звонил так поздно? Телефона своего я никому не сообщал — ни матери, ни брату, ни на работе. Просто не пришлось. А может, говорил и запамятовал? Нет, никто не знает. Нашел я эту комнату еще в зимний свой приезд, но жил тогда здесь два-три дня и даже номера телефона толком не запомнил. Значит, срочное дело, раз в такой поздний час позвонили. Но кто? Беспокойство разрасталось кругами, а потом неуклюжие фигуры стали громоздиться в сонном мозгу. Вспомнился страх, испытанный при спуске с балкона. А вдруг бы сорвался? Ступеньки были почти игрушечные. Если бы рухнули… С седьмого этажа!.. «Жертва любви Нектов». Или «Некто-заде». Не зря ведь гипнотизер говорил, что Ламия стала жертвой любви. Простое совпадение!.. Все чудесно: завтра закончу дела в пять, и мы снова пошепчемся при звездах. И не обязательно на чужом балконе. Важно только, чтоб звезды ярко горели. Но кто звонил?
5
Я с края по обочине пойду, а широкая дорога пусть вам останется…Высокие дубовые двери метро были сняты, и ничто не мешало потоку людей беспрепятственно вливаться в подземный дворец. Но в этот ранний час, к тому же в понедельник, никому не до красот поистине уникальной станции. Некогда. Будто внутри расположился мощный всасыватель, и лавина заполняет бездонную пустоту. Взгляды серьезны, а шаги решительны. Все спешат на работу, и время точно распределено по минутам — учтен и пеший ход, и пересадка, и ничто не в состоянии нарушить выверенный практикой график. Мне как будто спешить не к чему, я командировочный, но всеобщий ритм захватил и меня, и поток несет мое тело, как щепку. В руке — тяжелый портфель, во взгляде — решимость. Втиснулся с трудом в вагон, и спина припечаталась к плотно закрытым дверям. Чую лопатками их жесткость. Портфель тянет руку вниз, будто все повисли на мне. Кто-то, чувствую, ударился о бок моего портфеля и недовольно смотрит на меня. Выбрался-таки, вспотевший, на улицу! Рука свободная спешит помочь руке уставшей, и, пока добираюсь до министерства, устают обе. Первый поклон — секретарше. Брюнетке с черными, как у негритянки, вьющимися волосами. Всегда встречает меня приветливо, хотя знаю, что строга. И не всякого впустит к шефу, бережет его покой и время. А у заместителя министра всегда толкутся в приемной люди: только начни принимать, и времени решать дела не останется, утечет, как вода между пальцев. Прошел за письменный стол, открыл портфель и у самых ее ног, так, чтобы никто не глазел из посторонних, вынул и положил сувенир и на ухо, как старой знакомой, шепнул: «Пламенный привет!» Она раскраснелась: «Ой, ну что вы беспокоитесь!.. Спасибо». Приезжать из солнечного края без сувениров — по меньшей мере бескультурье. Это — дань уважения, и ничего более. Причем не от одного меня, есть и другие дары, например от нашего шефа. Поболтав минуту-другую о том о сем, вошел к заместителю. Человек он знающий, опытный, не раз выручал нас. Его ученики занимали ответственные должности. К примеру, наш директор. Передал горячие приветы и добрые пожелания от бакинцев, и прежде всего от вечно признательного ему ученика, и перешел к делу. Но не успел и рта раскрыть, как Пал Палыч тут же уловил суть моей просьбы, взял наши официальные прошения, наложил резолюции, вызвал секретаршу и поручил подготовить письма в адрес проектного института и опытного завода, и я не смел больше отнимать у него время. Быстро, по-деловому, без волокиты. Это и есть стиль. Секретарша, она же и помощница, — прелесть. И текст составит, и подскажет, к кому идти. А дело наше было запутанное. Заблудились, как говорится, в трех соснах. И виновных нет. Было бы несправедливо кого-либо обвинять: ни завод, ни институт, ни тем более министерство. Одним словом, выразил признательность и направился к машинистке. Не первый раз мне печатала. И даже в обеденный перерыв. Моим бумагам и на сей раз повезло. Снова к заму. Подписал, в канцелярии приложили печать, отметили исходящий номер, и — на улицу. Портфель полегчал, но не очень. Не люблю таскать грузы. Конечно, грех было называть грузом целебный ароматный напиток, не просто расширяющий сосуды, но придающий самой жизни новые краски, если уметь, конечно, им пользоваться. Из министерства поехал в проектный институт. С ними еще год назад мы заключили договор, перевели кучу денег, чтобы они помогли нам заменить старую поточную линию на более совершенную и перспективную. Идея была отличная, проект составлен и одобрен, в планах нового года мы заявили продукцию на основе уже усовершенствованной системы, но дело не двигалось, и к работе еще не приступали. А все потому, что чертежи были всего-навсего в одном-единственном экземпляре, а нам нужно было четыре. Руководитель лаборатории проектного института встретил меня, мало сказать — тепло или горячо: по-братски. Обнялись и расцеловались, а узнав, зачем я приехал, сразу сник. Махнул рукой, сидит кислый, настроение неважнецкое. А что поделаешь? Стали внедрять новую систему на опытном заводе, всплыли десятки недостатков, комиссия составила акт, работы приостановлены, сейчас устраняют неполадки, в чертежи вносятся изменения. В конце года можно будет приехать и забрать сколько угодно экземпляров чертежей. Конечно, можно было бы снять копии со старого экземпляра, который у нас есть, но чертежей не один и не два листа — четыре толстых тома, каждый в десять фунтов! Часть оборудования нами была закуплена, для приобретения остальной было дано распоряжение — письмо Пал Палыча у меня в кармане! Я сказал об этом руководителю лаборатории, а он ответил: «Прекрасно. Оборудование вам понадобится в конце года». Но мы же демонтировали старую линию, чтобы начать сборку новой! Работа не доведена до конца! Нельзя ли, дорогой Костя, недочеты исправить собственными силами? Самим! Руководитель развел руками и вздохнул. Рад, мол, помочь, да не могу: у комиссии есть акт, пока к работе приступать нельзя. Единственное, что он смог сделать для меня, и то по дружбе, — так это ознакомить с актом на ста страницах. Недостатки были указаны крупные, однако мы смогли бы своими силами и своим провинциальным умишком устранить их в процессе сборки новой линии. Ведь в экспериментальных условиях новая система прошла испытание, получила высокую оценку! А теперь жди до конца года. А у нас времени нет, ибо план нового года утвержден и мы — как удержишься? — растрезвонили о новой крупной реорганизации… Заметки, интервью… «Как сообщил нам директор Нияз Ниязбекович Ниязов…» Вырезай — и в рамку! Вся задержка за дополнительными старыми чертежами. Выручай, Костя! А что Костя может сделать? Он мне друг, брат, но акт есть акт! Из института направился на завод. Портфель заметно похудел. Мне дали твердое слово, что оборудование пошлют на этой неделе. И на том спасибо. Я пообедал в заводской столовой: люблю сосиски, хотя их теперь мало кто любит, в целлофане. Надо было позвонить на наш завод, посоветоваться, как быть. Если бы удалось выписать существенные недостатки, указанные в акте, да заполучить новые экземпляры, мы пошли бы на риск, продолжили бы работу. Ведь идея осталась в силе!.. В третьем часу, прежде чем звонить по автомату, зашел в кондитерский магазин. И как раз торговали индийским и цейлонским чаем. Опустевший портфель снова разбух. И с автоматом мне повезло. Почти никого. Позвонил в Баку, директора на месте не оказалось, говорил с заместителем Мир-Мехти, неизвестно за что прозванным Святым. Но ничего путного из его советов мне уразуметь не удалось. Святой твердил лишь одно: возвращайся, посоветуемся, найдем нужным — снова пошлем… Глазок автомата показывал ноль, я не опустил следующую пятнадцатикопеечную, и разговор наш прервался. Возвращаться не хотелось. Бестолковый телефонный разговор заметно испортил мне настроение. Я вышел из кабины и вдруг вспомнил о вчерашнем телефонном звонке. Кто же это мог быть? Дурные предчувствия стали одолевать, волнение перешло в беспокойство. Кто-то словно подсказал: «Позвони матери!» Я наполнил ладоньпятнадцатикопеечными монетами, пришлось стать в очередь — народ набежал. Медленно тянулось время. А я разволновался не на шутку. Я думал о матери. Когда я уезжал, она жаловалась на сердце… Воображение рисовало мрачные картины, бог знает что мне мерещилось!.. Подошла моя очередь. В трубке я почему-то услышал голос брата, а не матери. В груди похолодело. «Почему он у нас, а не у себя дома?!» «Асаф? Ты?! А где мама?» «Мама… — и умолк. — А что случилось?» «Где мама?» — крикнул я в трубку. «Почему кричишь, что случилось?» «Беспокоюсь!» «Слава богу! — взорвался брат. — Ты человек или кто? Вчера весь день о тебе говорили. То и дело мама о тебе спрашивала…» «А что с мамой?» «Ничего… Почему ты не звонил?» «Вот и звоню». «Не мог сразу позвонить?» «Но что случилось, Асаф?» «Ничего… Мама весь день тебя вспоминала, даже велела, чтобы я узнал номер твоего телефона. Я обзвонил всех…» «И узнал?» «А как же? Узнаешь!..» «Кто сказал?» «Мать же беспокоится!» «Но что случилось?» «А что еще должно случиться?» — он умолк. «Алло! Алло! Асаф! Почему ты молчишь? — Подряд я опустил в автомат три монеты. — Алло!» «Не кричи, я слышу тебя». «Ты не договорил. Что же все-таки случилось?» «Я же тебе говорю, ничего! Ты не беспокойся, заканчивай свои дела и возвращайся… Ей-богу, ничего не случилось», — старался он меня успокоить. А я все больше волновался, чувствуя, что брат от меня что-то скрывает. Но что? «Скажешь ты, наконец?» «Вчера мама все о тебе говорила». «А скоро она придет?» — спросил я, чтобы услышать нечто конкретное. «Не знаю… — сказал он уклончиво. — По-моему, придет поздно. — Он явно уходил от прямого ответа. — Больше не звони. Я скажу, что мы с тобой поговорили…» Ничего себе — успокоил, называется! «Может, завтра мне выехать?» «Как хочешь…» «Ты что-то скрываешь, а у меня сердце разрывается от беспокойства!» «Я же тебе говорю, что ничего не случилось, ничего!» В общем, говорили долго, но ничего толком я не узнал. Наверняка что-то случилось. Тянул, уклонялся. И почему она должна поздно приходить домой? Где ей задерживаться? Почему мне больше не звонить? Ничего не понимаю! Дверь кабины отворилась. — Товарищ, ну сколько можно попусту разговаривать? Имейте совесть! — на меня сердито смотрел старик. С седой бородкой. Молодому бы я ответил, а что со старого человека возьмешь? Я вышел и, поставив свой портфель на стул, вытер пот со лба. Голова разболелась. Нет, определенно что-то случилось, скрывают от меня. И сомнений быть не может! Был пятый час.Из народного сказания
6
Как осилите вы те высокие горы? Те высокие, остроконечные горы? Те высокие, снежноголовые горы?..Очнулся я у кассы Аэрофлота, и народу — никого. Я машинально спросил, есть ли билеты. — На завтра? — Нет, на сегодня. Не знаю, как эти слова вырвались у меня, но я сказал так решительно, что кассирша не смогла отказать мне, все же нашла один билет. На вечерний рейс. Было без пяти пять. Я взял такси, заехал домой, быстро собрал вещи и на этой же машине поехал на аэродром. Меня словно торопили. И лишь в самолете я вспомнил о свидании. Не суждено, значит. Закрыв глаза, я впал в забытье. Гул моторов клонил ко сну. Вдруг я вздрогнул: ключи! У меня в кармане остались ключи от квартиры! И расплатиться забыл. Надо дать телеграмму. Заплачу в следующий свой приезд. И командировочное удостоверение пошлю по почте, чтоб отметили и прислали. Впереди плакал ребенок, и матери никак не удавалось его успокоить. Она вся извелась, волосы прилипли к ее потному лбу, щеки пылали. С чего бы ему плакать? Уж не заключен ли какой смысл в его слезах? Вот и сосед мой, здоровенный верзила, обросший жесткой щетиной, — чуть что, качнет или тряхнет, душа в пятки и с губ срывается молитва: «О аллах, сохрани нас, рабов верных! Да ослепнет тот, кто не верует в твою мощь!» Бесили меня его глупые причитания. Сидит, крепко прижав к груди черный плоский чемоданчик, расстаться с ним боится. Уж не набит ли деньгами? Приехал, распродал свои цветы, набил чемоданчик и трясется над ним. И я набит мрачными предчувствиями, и мне не легче. Время от времени сосед причитает: «О аллах!..» Уж не знак ли чего? Когда самолет пошел на посадку и зажглось табло, в глазах соседа забегал испуг. «Не бойся, — я ему, — аллах милостив!» А он смотрит на меня недоуменно, смысл моих слов до него не доходит, и от щетины лицо его кажется неумытым, покрытым засохшей глиной. Чем ближе к цели, тем, странно, спокойнее становилось на душе. А когда увидел огни города, и вовсе успокоился, уверенный в том, что ничего с моими не случилось, что мать жива и здорова и что зря я поторопился. Надо же было так глупо сорваться!.. Не обижайся, милая, загорятся над нами яркие звезды!.. А каков гипнотизер! Далеко меня забросил, и не дотянешься!.. Была полночь, когда я постучался в окно. Вскоре в комнате зажегся свет, и немного погодя отворилась дверь. Я вздрогнул — у порога стоял Асаф. — А говорил, что приедешь завтра… — он зевнул. — Где мама? Я был так взволнован, что брат удивленно заморгал глазами, а потом вдруг понял мое состояние и заспешил улыбнуться: — Все в порядке, успокойся, она у Дурсун-киши. — У Дурсун-киши?! И так поздно? — Я оторопел. — Что ты от каждого слова вздрагиваешь? Пройдя в комнату, Асаф лег на диван и натянул на голову одеяло. — Ты же видишь, что я взволнован! — Я поставил портфель на пол и сел на краешек дивана. — Завтра свадьба Ламии. Как ужаленный я подскочил: — Ламии?! — Я впился глазами в брата, Асаф аж привстал на диване. — Что ты кричишь? Спятил, что ли? Ламию не знаешь? Свадьба внучки Дурсун-киши, маму пригласили, чтоб помогла испечь сладости и сварить плов. Внутри заклокотало от смеха. Такой хохот разобрал, что еле остановился. Брат подозрительно смотрел на меня. «А я-то думал!.. Ну и память!» Я и забыл, что внучку Дурсун-киши зовут Ламией, в честь сестры деда. А мать, уходя к ним, велела брату ночевать у нас, она не любила, когда дом пустовал. Смех сменился гневом: — Какой же ты бессердечный, Асаф! Ты не мог мне сказать об этом, когда я сегодня звонил тебе? — А с чего ты таким неженкой стал? Что ни скажу тебе — все не так! То кричишь, то хохочешь! Нервы тебе подлечить надо, видно, работаешь много. — Асаф натянул на голову одеяло и повернулся к стене. «Да, ты прав, — подумал я. — Но если бы ты знал, до чего странно устроен мир! Прошлой ночью я тоже гулял то ли на свадьбе, то ли на поминках. И звезды ярко горели, и о Дурсуне говорили, и Ламию вспоминали…» Брат спал, а я сидел на краешке дивана, приходил в себя, успокаивался. …Утром я сел в свой недавно купленный красный «Запорожец», отвез Асафа на работу, а сам поехал прямо на завод. На заводе сначала вроде остались довольны моей командировкой. Директор наш, Нияз-муэллим, даже растрогался, когда я рассказал о встрече с его учителем. «Пал Палыч — исключительный человек! Второго такого не было и нет на свете!» — сказал он. Но последующие мои известия попортили ему настроение: «Напрасно ты вернулся. Ведь мы дали слово. Мы не можем приостанавливать работу. Мы вложили в это дело уйму денег, это же народные деньги, пойми! Что это вдруг ни с того ни с сего так много недостатков обнаружено в системе, которая прошла испытание. Хоть бы акт привез!.. Нет, не вовремя ты вернулся. И кто тебе подал такую глупейшую мысль?!» Я молчал — Святой сидел тут же, рядом. При этих словах он взглянул на меня, тут же опустил глаза и ничего не сказал. Дверь отворилась: секретарша Шахназ-ханум принесла чай в маленьком грушевидном стаканчике. Нияз-муэллим попросил, чтобы она принесла еще два: мне и Святому — Мир-Мехти. Посмотрев на часы, он сказал нам: «С двенадцати до двух у меня лекция, потом совещание в министерстве. В пять соберемся и еще раз посоветуемся». Чай остался недопитым, мы вышли. В пять Нияз-муэллим — на самом деле, по документам, его зовут Князем (с чего папаша так назвал своего сына, и не дознаешься теперь!..) — не явился, позвонил и сообщил, чтоб не ждали: совещание продолжалось. Историю о Князе-Ниязе рассказала мне мама. Отец его был дружен с моим дедом, они жили на одной улице. После того как я рассказал о его имени сослуживцам, мы все стали называть шефа Князем: «Князь велел», «Князь сегодня добрый», «С чего это Князь заважничал?», «Ай да Князь!» — и так далее. Я выскочил из здания заводоуправления, словно за мной гнались. Забыв, что обещал беречь «Запорожца», в считанные минуты доехал домой. Открыл дверь и бросился к стенному шкафу. В старых домах такие шкафы занимают целую стену и поднимаются на четырехметровую высоту под самый потолок. В шкафу мать хранила тюфяки, ковры, стеганые одеяла, огромные подушки, шерсть для новых одеял, паласы. Чего там только не было!.. В детстве мы с Асафом прятались за тюфяками. Взобрался я на верхнюю полку не без причины — мне казалось, что именно здесь находится материнский «архив». А тут вошла мама, и так невысокая, а сверху и вовсе маленькая, откинула голову, ситцевая косынка сползла, узелок на шее как заячьи уши. — Где ты, сынок? — спрашивает, а сама видит, где я. — Что ты там делаешь? — то ли удивляется, то ли недовольна. — Здравствуй, во-первых. А ей не терпится узнать, с чего это меня потянуло на верхнюю полку. «Ага, думаю, что-то здесь припрятано! И потому мать волнуется!..» — Ты знаешь, сколько здесь пыли, — говорю ей, а она и без меня это знает. — Что я могу поделать, — жалуется. — Высоко, руки не доходят. Но уж раз ты залез туда, — предлагает мне, — я тебе подам ведро и тряпку, и устроишь у себя дома субботник. Мог ли я возразить? К тому же я уже был весь в пыли и пот лился с меня ручьем. Появилось ведро, тряпка, я вытер верхнюю полку, перешел на среднюю и тут-то натолкнулся на сверток, который искал: «Архив!» — Держи! — крикнул я маме и кинул ей сверток. — Ай-ай! Где ты нашел эти фотографии?! Дай-ка очки надену. Она рассматривала фотографии, разложенные на столе. — Для чего они тебе понадобились? А я и сам не знаю. Честно говоря, влез я в шкаф, будто кто-то меня подтолкнул. Это я сейчас причину ищу. Во всяком случае, когда спешил домой, и в мыслях не было уборкой заниматься. А тут вдруг столько фотографий малознакомых мне родичей. Рассматривать их — только время терять. — Хочу над ними поколдовать или самому околдоваться. — А, поняла… — сказала мама, хотя я сам не понял, что сорвалось с языка. Вдруг мама изумилась: — Ааа… Ведь это же Ламия! Я возвращался в прошлое, во времена, когда меня еще не было на свете, без особой охоты. Я взял у мамы фотографию. Мне улыбалась Ламия. Улыбалась слегка удивленно, а может быть, в ее глазах я прочел упрек — ей не понравился мой взгляд, что ли? — Это она фотографировалась в Москве… Несчастная Ламия! Ее поездка в Москву… — и запнулась. — А что с ней случилось в пути? — В пути? А что должно было случиться? — Откуда я знаю? Ты же говоришь: «Ее поездка…» А что дальше? — Нет, ничего в пути не было. Беда приключилась позже. Словно сожалея о сказанном, она отвернулась и стала торопливо перемешивать фотографии на столе, будто ища что-то. — Ты не договорила. — О чем? — Ты же сказала: беда. Она уклонилась и, как будто разговаривая сама с собой, прошептала: — Тут должна быть еще одна фотография, куда же она делась? — Алексея? — Алексея? Кто тебе назвал это имя? — Ты сама, — соврал я. — Я?! — А кто же? — Я никогда не произносила этого имени! — Если бы ты не сказала, откуда бы я узнал? Мама внимательно посмотрела на меня, а потом с тем же недоумением перевела взгляд на фотографию Ламии. Уж не глаза ли Ламии подсказали мне это имя? — Да, тебя поистине заколдовали… И не поймешь: то ли шутишь, то ли всерьез говоришь. — Расскажи об их любви! — О какой любви? — возмутилась она. — В своем ли ты уме? — Если я опять скажу, что ты сама только что говорила об этом, снова не поверишь. Мама поправила на глазах очки и приблизила лицо к моему. Я не выдержал ее взгляда и расхохотался, а она покачала головой, затем спокойно, как бы выбирая слова, произнесла: — Никакой любви между ними не было. Были знакомы — и больше ничего. Но и это не одобрялось в те времена. Но Ламия все делала, словно кому-то назло, из чувства протеста. Умолкнув, она некоторое время изучала меня и с той же невозмутимостью, спокойно спросила: — Почему это тебя интересует? — А тебе жалко рассказать историю Ламии? — Ну что ж, раз ты просишь, я могу рассказать. И она начала шествовать по дорогам прошлого, временами с опаской поглядывая на меня, такого странного сегодня, и, боясь, как бы чего я не выкинул, рассказывала бесстрастно. Говорила она о том, что родители Ламии батумские азербайджанцы, и, когда начались революционные события, отец-коммерсант сбежал в Турцию, а Дурсун еще в годы войны покинул подростком дом, скитался по Кавказу и поселился в Баку, по соседству; рассказывала, как Ламия искала брата, вспомнила о женском движении, то да се, в общем, говорила о многом, но ничего о том, что меня волновало и интересовало. И кто меня за язык тянул? Она рассказывает, а я о другом думаю. Думаю, что зря сорвался и прилетел. Что там меня ждут и волнуются. Что не состоялось свидание. И что завтра упреки Князя придется выслушивать. Глупо все вышло, что и говорить!.. Ну и мама у меня! Она так плавно расписывала прошлые события, будто на одном из Князевых собраний выступала. Мать уловила мой отсутствующий взгляд: — Сам просил рассказать, а совсем меня не слушаешь. — Напраслину возводишь на любимого сына, уважаемая Салтанат-ханум! Я не пропустил ни одного твоего слова и могу все пересказать. Только ты не увлекайся деталями, давай ближе к цели! Но мать опять за свое — о борьбе Ламии за женские права, о насмешках и издевательствах тупых и отсталых мужчин, о хождениях Ламии по дворам, работе на фабрике и в пригородных деревнях, о мужьях и братьях, подолгу простаивавших перед женским клубом имени Али Байрамова и выслеживавших своих жен и сестер. И когда она начала рассказывать об убийствах женщин, осмелившихся снять чадру, я почувствовал, что она приближается к цели, но мама вдруг опять увлеклась, утратила нить и заплутала на дорогах истории. — Погоди! — перебил я ее. — При чем тут пасха или новруз-байрам? Какое мне дело до крашеных яиц или пахлавы? А мать, оказывается, стояла у самой цели. — Как это при чем? — возмутилась она. — Только праздники нас и отличали! А во всем мы были как одна семья! Они нам по-соседски — крашеные яйца, а мы им — халву. Вот и вся разница! — Ну а дальше что? Рассказывай, что потом было! — Это была страшная ночь. Сразу же после новруз-байрама. И сейчас, как вспомню, сердце болит. Сказали, что девушка одна себя сожгла. Мы выскочили на улицу. Наверху, в Караульном переулке, перед керосиновой лавкой ярко пылал факел. Облила себя керосином и подожгла. Спасти не удалось. Сгорела дотла, стала пеплом. Мать умолкла. — Это была она? — Сначала не опознали. Как узнаешь? Лишь утром стало известно, что это была Ламия. — Но почему такая нелепая гибель? — Осталось тайной, сама ли себя подожгла или сожгли. Правда, у нее было много завистников, и негодующих против смелой девушки было немало. Но кончить жизнь именно так у нее не было причины. — А может, это вовсе не Ламия была? Мать удивленно посмотрела на меня. — Ведь ты говоришь, что не узнали, кто себя сжег, захоронили лишь пепел, — добавил я. — Если бы так!.. Люди видели. Захоронишь пепел, расцветет цветок, заиграет волшебник на дудочке, и цветок снова превратится в красивую девушку. — А Алексей? — Сказку о пепле Алексей и рассказал на кладбище, когда хоронили пепел. Не о том узнать хотелось, а о чем — и сам не знаю. Получилось не по мне. Еще спросить? Может, о свадьбе Ламии?.. Но мать лучше не беспокоить. Особенно теперь. — Салтанат-ханум!.. — окликнули мать. «Вот и хорошо», — подумал я. Мать ушла, так и не убрав фотографии со стола. Я выскочил на балкон, чтоб не оставаться одному в комнате. И не встречаться с Ламией. Вовсе не улыбалась она. Тем более мне.Из народного сказания
7
Череп, молвив свое последнее слово, покатился — скатился в заброшенную могилу…Глаза раскраснелись. Лицо покрыла щетина, словно прилипшая грязь. От жара его глаз загорелся мотор. Я обернулся в ужасе, чтобы схватить его за глотку, и увидел, что его нет рядом со мной. Быстро взглянул на мотор — он не горел, а гудел спокойно и монотонно, ровно и исправно. А потом я вышел на улицу и увидел, что Ламия, сжав кулаки, идет прямо на бородатого мужчину, который пятится назад. Лица его я не вижу, но чувствую и знаю, что у него глаза красные от гнева. Чернеющая щетина — словно засохшая грязь. Ламия обрушивает на этого мужчину тяжелые слова, я это чувствую, но не слышу, будто уши заложило, а мужчина не осмеливается ей возразить. Вдруг в его руке за спиной я увидел нож. Лезвие блеснуло. Я понял его коварный замысел: пятясь назад, заманить Ламию в подвал, а там… И пятится он очень умело, будто всю жизнь, с рождения, только так и ходил по земле. Мужчина достиг керосиновой лавки, лишь коснулся сутулой спиной ее низкой двери, и вдруг оттуда хлынул густой маслянистый поток нефти. Исчезла Ламия, исчез и тот мужчина. А нефть низвергается вниз, заливает мостовую, лижет липким языком булыжник, достигает наших железных ворот, и никак не остановить поток. «Если вдруг высечется искра, — в страхе подумал я, — воспламенится нефтяная река, загорится улица, вспыхнут дома…» Надо кричать. Но я боюсь, что стоит раскрыть рот, как от крика родится искра, и потому я молчу. Уже нефть подступает к ногам, подошвы моих легких ботинок липнут к земле, клейкая нефть мешает бежать. С трудом отрываю ноги и вижу, что нефть стекает в наш двор, заливает подвалы. Я кое-как выбираюсь из этого жуткого нефтяного потопа и бегу в сторону моря. Добегаю до берега и только тут оглядываюсь назад и вижу, что в небе отражается огонь, горящий на земле. Пылает наша улица! И мама там! Она готовится к свадьбе Ламии! Можно убежать только по крышам! Но сможет ли мать прыгнуть на крышу соседнего дома? И вдруг вижу, что вдоль берега бежит в мою сторону пылающий факел. Это Ламия. Она горит, но огонь не задевает ее лица, оно как на фотографии. «Что ж ты стоишь? — кричит она. — Туши меня! Разве ты не видишь, что я горю?» Я бросаюсь к ней, пытаюсь руками сбить пламя, оно жжет руки. «Но тут же море», — радуюсь я и хватаю ее холодные почему-то пальцы и тяну к морю, чтоб облить водой, утопить огонь, но тотчас отскакиваю: море у берега сплошь в мазуте!.. Я боюсь, что от ее огня загорится и море. Отскакивая неуклюже вместе с горящей, но все еще живой Ламией, задеваю ногой камень, падаю больно на спину и вздрагиваю. Мама забыла задвинуть шторку на окне. В голову вонзился, как тонкий меч, жаркий солнечный луч.Из народного сказания
8
Я в черное оденусь, а розовое пусть будет вашим.Красный «Запорожец» был спрятан в тени большой акации. Я положил ладонь на капот и ощутил холод металла. На капоте остался след, похожий на лист то ли инжирового дерева, то ли чинары. Князь удивился: — Как? Ты еще здесь? — А где же мне быть? — Разве я не поручил тебе немедленно привезти акт? Ведь работа горит!.. Что случилось? Что за неуместная улыбка? — Я тоже горю, Нияз-муэллим. — Меньше бы пил… — Но тотчас пошел на попятную. — Я шучу, конечно, знаю, ты не из пьющих. Правда, наставлять тебя на путь истинный завещал мне еще твой Дед… Опять начнет свое: «Большие цели… Сияющие дали… Счастье творить… Союз практики и науки…» И я знаю, да что толку? И время, как резвый конь, мчится. Князь и не собирался поучать. Напротив, он меня несказанно обрадовал. Я готов был плясать от счастья! Вчера я отправил в Москву командировочное удостоверение, чтоб на заводе отметили и прислали, но кто мог предвидеть, что я сам окажусь там раньше своего письма?! Князь сказал, что издать новый приказ не может, потому что нельзя: контроль по головке не погладит. — Пиши заявление, выдам тебе из директорского фонда сотню, и скачи во весь опор! Князь большой знаток фольклора. О быстроте он сказал иначе: — Намыль бороду здесь, а брей там. Мол, чтоб и засохнуть борода не успела. И сам радуется: — Каков ваш директор? Поговорок у меня — как нефти в наших недрах. На сей раз я сдержал улыбку. Чтоб снова не дразнить. — Это, — он показал на канистру, — от наших шамхорских шефов, десять лет выдержки. Повезешь, может пригодиться. Но долго держать нельзя, съедает пластмассу. А это, — протянул мне плоскую коробку, — мой сувенир, передашь учителю. — Но я уже был у него. — Еще раз пойдешь. Не бойся, кинжал твой не иступится. И чтоб без акта не приезжал!Из народного сказания
Мать развела руками: — Ну и дела!.. — Не веришь, — сказал я, — сама позвони Князю. А она вздыхает: — Удивляюсь я вам. Кто б хоть сказал ему: «Князь, деньги-то народные!» — Подумаешь, не обеднеем. Я знаю, что у нее на уме: женитьба любимого сына, меня то есть. Она всегда против моих поездок. Чтоб я рядом был. Будто украдут меня в чужом городе. И потому успокаиваю: — Вот закончу срочные дела, тогда и о свадьбе подумаем, — и тянусь рукой к портфелю и канистре. Но не тут-то было! Черт меня дернул о свадьбе заговорить!.. — Как? Ты уезжаешь? Сегодня?! — Мать слово говорит, а Асаф вторит ей, поддакивает. — А свадьба внучки Дурсун-киши? Поедешь завтра! Дело подождет! Если б не приезжал из Москвы, была бы уважительная причина — человек в командировке! Но раз приехал, и все знают, надо идти. Не пойдешь — на всю жизнь обидишь Дурсуна-киши. Новая командировка? Но кто ей поверит? Жених к тому же был старым другом Асафа — вместе служили в армии, вместе институт кончали. Только я хотел возразить, проявить твердую волю и решимость — шутка ли, приказ самого Князя! — как неожиданно заявился и сам жених. Чуть не плачет. — Что с тобой, Полад? — спрашивает Асаф. А он: — Спасибо, — говорит, — за эстрадный квартет, да только мать невесты, моя будущая теща, заупрямилась, и ни в какую! «Свою единственную дочь, говорит, разрешу брать в дом жениха только под звуки восточных инструментов!» А где я возьму народных музыкантов за два часа до свадьбы?! И чуть ли не в ноги Асафу бросается: — Выручай! Асаф молчит, голову чешет. А Полад: — Я все обдумал, — говорит, — музыканты нам нужны максимум на полчаса! Эстрадный квартет посидит у нас, а мы с восточными музыкантами придем в дом невесты и исполним волю ее матери — встретим Ламию народной мелодией и с почестями доставим к нам домой. Да, тяжелая задача. Но друг в беде, и ему надо помочь. Сам не знаю, как не дал я рта раскрыть брату, опередил его: — Нужны музыканты — найдем! В этот предвечерний час музыкантов в городе можно найти в двух местах — рядом с филармонией и в сквере у вокзала. Я спросил, на каких условиях договариваться. Вместо жениха ответил Асаф: — Что спрашиваешь? Чем дешевле, тем лучше. — Тогда надо искать в привокзальном сквере — к филармонии ходят с толстым кошельком. — Что ты медлишь, покажи, на что способен! Полад подкрепил просьбу брата таким жалостливым взглядом, что я немедля выскочил на улицу. И стал я жертвой своего длинного языка. Вместо того чтобы немедленно лететь в Москву, куда, сами понимаете, я рвался, я направился к вокзальной площади. Вечерело. Глянул в одну сторону, в другую и у края тротуара заприметил бородача, — мне на них определенно везло. Еще час назад воображение рисовало захватывающие дух картины при ярких звездах, а теперь приходилось затевать торг. И снова с бородачом. Он, а рядом — двое. Решительно направился к ним. И с ходу выпалил первые попавшиеся слова: — Что-то я не вижу ваших инструментов. — Наши инструменты дома, — ответил за всех бородач. То ли пароль, то ли шутка — поди разбери! — В каком смысле? — В прямом. — Восточное трио? — Самое что ни на есть! Классика! — А именно? — С кларнетом. — Это мне подходит. Все трое встали. — Будете работать полчаса. Не успев встать, музыканты сели. — Не подойдет. Ты не наш клиент. Спокойствие стало покидать меня. Но не сдаваться же! — Посажу вас в такси, повезу в дом невесты, встретим ее восточной музыкой, проводим в дом жениха, всего два квартала, и вы свободны! Задумались. — И весь вечер — в вашем распоряжении. Тридцать рублей за полчаса. — Нет, не подойдет. — Назовите свою цену. — Еще столько же. — Имейте совесть! Если б была моя собственная свадьба, клянусь честью, и торговаться не стал бы! Но и это не мало. — Мы тебя слушали внимательно, и наш ответ ты слушал — мы сторгуемся. — Сегодня свадьба нашего близкого друга. Мы сложились с братом и хотим преподнести жениху музыкальный подарок. Были бы лишние деньги, разве стал бы я просить? Мы студенты… Кларнетист через силу зевнул. Отваливай, мол, что зря время теряешь? — Могу десятку из своего кармана прибавить. Насчет брата не знаю… — Сделал паузу, но ни один мускул на лице бородача не дрогнул. — Пойду из автомата позвоню. Бородач пожал плечами. Мол, мы тебя не задерживаем, иди куда хочешь. Я оставил их. Пусть без меня подумают. На мое счастье брат оказался дома: — О чем ты говоришь? Почти за такую же сумму я договорился с эстрадным квартетом. — Брат, конечно, прихвастнул. — Среди них известный певец, до утра играть и петь будут, а ты… Делать нечего, вернулся. — Не согласен брат. Кларнетист даже не посмотрел на меня. Решил сделать вид, что пойду искать других, позовут — вернусь, не позовут — сделаю круг, а там видно будет. Не позвали. Я завершил круг, чтобы снова начать нудную торговлю, как заговорил толстячок, сидевший рядом с кларнетистом: — А шабаш будет? — Как у всех, так и у нас! — Я почувствовал, что соглашаются или близки к этому, и осмелел, хотя понятия не имел, будут ли танцующим жертвовать деньги, которые, как правило, идут музыкантам, это их приработок, или не будут. Но мы уже ловили машину, чтоб музыканты могли заехать за своими инструментами, а в машине все тот же толстячок ругал последними словами тех, кто пытается отменить такой народный обычай, проверенный веками, как шабаш на свадьбе, и я поддакивал ему, говорил о верности традициям, о щедрости угощений… Но угощения трио не прельщали: голодных, мол, нет!
Звуки кларнета, зурны и барабана взорвали воздух, аж стекла в доме зазвенели. Улицу заполнило праздничное оживление, прохожие застыли, соседи высунулись из окон, вышли на балконы, народ плотно забился в ворота. Двигалось только шествие, сопровождавшее невесту. Трио было что надо: бородач-кларнетист задевал такие струны в душе, что хотелось пуститься в пляс. Глаза его из-под пляшущих бровей следили за кларнетом, который описывал круги в такт музыке. Все выдавало в нем истинного музыканта. Толстячок слился со своим барабаном в нечто округло-внушительное, зурна будоражила, оглушала публику. В толчее жених успел-таки выразить мне благодарность своим кивком головы. Свадебная процессия двинулась к дому жениха. Машина с привязанной впереди куклой еле ползла, и неизвестно, почему молодых посадили в машину — идти было всего две минуты. Из парикмахерской на углу выскочили брадобреи в белых халатах, какой-то человек с намыленным лицом — всем хотелось приобщиться к свадьбе, согреться чужим счастьем. Вошли во двор, посадили музыкантов; жених с невестой, плавно танцуя, сделали два круга по асфальту. Двор был полон гостей с жениховской стороны. Какая-то женщина прямо над моим ухом сказала: — А я была в красной фате на своей свадьбе. — Я тоже, — ответила ей другая и добавила: — Но теперь в моде белая. «Начались сплетни!» — подумал я. Жених усадил невесту и, в нарушение всяких обычаев, подошел к нам. Асаф упрекал приглашенного певца: — А где твой квартет? — Скоро придут. Электроорганист уже здесь. — Свадьба в разгаре, может быть, начнешь пока с одним органистом? — Он только в ансамбле играет. С другого конца двора бородач-кларнетист делал мне знаки, показывая на часы. Время нашего уговора истекло. Они играли больше получаса. Все надежды Асаф и жених возлагали на меня: они просили задержать трио. — Урежьте деньги с квартета и прибавьте трио, тогда будут играть, — сказал я, глядя на певца. Тот промолчал, а мой брат и жених согласно закивали. Я подошел к кларнетисту: — Жених просит, чтобы вы еще немного задержались. Ваше трио по душе и гостям невесты, и гостям жениха. — Это мы и без вас видим. Говори конкретную сумму. — Останетесь довольны. — А где обещанный шабаш? — встрял в разговор барабанщик. Я произнес несколько путаных фраз, переходя на многозначительный шепот, раза два употребил слово «шабаш» и кое-как уломал их. Брат уже звал меня… Все эти переговоры так заморочили мою голову, что я забыл и о себе, и о своих делах. Я с трудом пробирался среди танцующих. Удары барабана выталкивали людей в круг. Подойдя к брату, я увидел, что сидящий рядом за столом певец раскрывает рот только для того, чтоб набить его шашлыком, а у меня во рту еще кусочка хлеба не было. К тому же певец многозначительно переглядывался с электроорганистом и морщился от звуков зурны. Будто свадьба игралась специально для него или он был по крайней мере любимым братом жениха. — Дорогой мой, — возмутился я, — так же нельзя! Где провалились твои музыканты? Асаф поддержал меня: — Может быть, все-таки споешь? Певец указал рукой на электроорганиста: мол, что с него возьмешь? Но когда он той же рукой потянулся за новой палочкой люля-кебаба, я не стерпел: — Ты что, похудеть боишься? Прочисть горло, спой! — Скоро придут мои гитаристы. — А восточные песни совсем разучился петь? — я закивал в сторону трио. Он оторопел: — Мне?! С зурной?! — Какая разница? Лишь бы голос был хороший. Певец изобразил крайнее изумление и на моих глазах начал бледнеть. «Неужели я его так напугал? — подумал я. — Еще, чего доброго, в обморок упадет!..» Тут он учащенно задышал, лицо его стала заливать краска; казалось, вся кровь устремилась к голове, вот-вот лопнут вены на виске. «Час от часу не легче!.. Лучше помалкивать, неприятностей не оберешься, еще хватит инсульт…» Но тут он совершенно неожиданно для меня сказал: — Ну что ж, раз вы ставите такие условия, спою с вашим трио! Налейте водку, я убью в себе скуку! — и с презрением посмотрел на зурнача. Брат быстро наполнил стопку. Певец залпом выпил и пошел к музыкантам. Первый номер явно не удался — кларнетист не улавливал его эстрадного ритма. Но потом пошло лучше. Музыканты играли танцевальные мелодии, подыгрывали эстрадному певцу. Барабанщик, вертя своими большими глазами, поглядывал то на кларнетиста, то на певца, то на меня. При этом он иногда потирал большим и указательным пальцем, но его знак понимал только я — он все же надеялся на обещанный мной шабаш. Я отводил взгляд. Меня подозвал Дурсун-киши: — Я благодарен тебе, ты сегодня как волчок крутишься! Нашел с чем сравнить. Я было обиделся — ведь для его же внучки стараюсь!.. А он, не уловив моего состояния, добавил: — Как покрутишь, так и крутится… Кого крутят, кто крутит? При чем тут волчок?.. А вот спросить бы его, знает ли он Ольгу Васильевну! Дурсун-киши удивленно уставится на меня… «Ну, Олю!» — добавлю я. Вспомнит обо всем и языка лишится старик. «То-то!..» Но мне некогда — у ворот появились гитаристы и ударник, и мое трио тут же перестало играть. Назревал новый разговор, и он требовал моего присутствия. Квартет занял свое место во дворе, электроорганист и гитара-бас протянули в окно удлиненный шнур с тройником, и зазвучали эстрадные ритмы. Предводительствуемые бородачом, мы с братом вышли в тупичок. Заспешил к нам и жених. — Рассчитаемся! В тоне кларнетиста звучала угроза. — Посидите еще, поиграйте, куда вы так рано? Жениху полагалось быть гостеприимным. — Или мой кларнет, или его сундук! — Кларнетист имел в виду электроорганолу. — Ей-богу, напрасно уходите. Свадьба только разгорается, будет и шабаш… Кларнетист грубо оборвал меня: — Эти сказки мы уже слышали, вранье все! — Дорогой, нельзя ли повежливей? — не стерпел я, но жених слегка отстранил меня рукой и полез в карман. Сверх условленной суммы он отдал кларнетисту еще десятку. — Как? И это все?.. Ай, народ, ай, мусульмане, ай жених! Это же грабеж! — Тихо, чего ты расшумелся?! — Я грудью пошел на него, но жених спиной загородил меня и, не говоря ни слова, вытащил бумажник и припечатал ладонь кларнетиста еще одной десяткой. Высокие трели певца заполнили тупичок. И тут случилось то, чего я никак не ожидал: кларнетист спрятал деньги и с болью, будто ему нанесли смертельную обиду, выпалил: — Раз так, мы остаемся! Назло ему! — Он показал на меня. — Назло квартету! — Он указал в сторону двора. — Никому не дадим играть! Где сидели, там и сядем! Мой кларнет еще не умер, чтобы какой-то… — Он еще говорил, но голос его пропал в гуле во всю мощь звучавших инструментов. Только борода тряслась, выдавая рассерженность, и в глазах сверкало возмущение. Я мог вообразить что угодно, но только не это: трио само, добровольно, без дополнительной платы согласилось играть на свадьбе! Мы вернулись, народ зааплодировал — то ли трио, то ли певцу, взявшему высокую ноту. И началось такое, чего не видывала ни одна свадьба, — восточные инструменты перемешались с западными, гитара-бас стала конкурировать с зурной. Дурсун-киши вышел на середину двора и, торжественно вздернув руку, приготовился к танцу с матерью жениха. Умолкли на миг и трио, и квартет. — Играйте восточный танец! — сказал дед невесты и вытащил из кармана трешку. Оказывается, он слышал, как мы пререкались с барабанщиком насчет шабаша. Толстяк, увидев в его руке деньги, ударил невпопад а барабан, зурнач дунул изо всех щек в свою зурну, и лишь благоразумный кларнет, нащупав верную ноту, повел за собой трио, — полилась плавная мелодия танца. К трио незаметно подключился и квартет, в такт захлопали ладоши, Дурсун-киши и будущая свекровь его внучки Алтун-ханум пошли по танцевальному кругу. К ним потянулись деньги, и меж пальцев рук танцующих заторчали, мешая друг другу, но мирно уживаясь, на радость музыкантам, бумажки — зеленые, синие и даже одна красная. Почти каждый внес свою долю, хотя, как я слышал, Ламия возражала против шабаша. Танец кончился, Дурсун-киши протянул деньги барабанщику, а Алтун-ханум отдала свой сбор певцу, руководителю с квартетом. Шабаш больше не повторился, но он примирил трио с квартетом. Вот это свадьба! То попадаешь в Европу, то оказываешься в Азии, то будоражит Запад, то погружает в сонную негу Восток. Равной этой свадьбе не было и вряд ли когда-нибудь будет. Могло показаться, что именно так и задумано ее музыкальное сопровождение. Гнев кларнетиста одарил гуляющих на свадьбе неожиданной радостью. То врозь играли, то вместе. Но чаще восточное трио вело за собой эстрадный квартет. Что до меня, лучшей музыки, чем звуки электроорганолы, не слышал. Божественный инструмент! Ах, какие звуки! Будто из глубин вселенной, с неизвестной планеты. И как играл, бестия! Знал я его, электроорганиста. Звали его Ягненком — за курчавые волосы. Прежде он шлялся по улицам без определенных занятий, часто подолгу торчал на углу, вежливый такой, с каждым норовил поздороваться; постоит поболтает, потом куда-то исчез, все о нем забыли, и вот тебе, человеком стал, на редком инструменте играет!.. Вдруг я ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Резко повернулся и гляжу — на меня Ламия смотрит. И так она похожа на ту Ламию, другую, что сон вспомнился. Мурашки по спине пробежали. Глупые мысли! Снова с опаской поднял глаза, но Ламия уже отвела сбой взгляд и о чем-то увлеченно шепталась с Поладом. Свадьба разгорелась вовсю, я свой долг выполнил, и меня нестерпимо потянуло в Москву, захотелось немедленно увидеть Лину, услышать ее шепот. Глянул на часы — три часа ночи. Можно еще успеть на первый рейс. Но если только немедленно встану. Через силу поднялся, преодолевая чье-то сопротивление, незаметно прокрался к выходу и — прямо домой, за вещами. Я летел.
9
…Да прильну я к тебе, да обовьюсь вокруг тебя!.. Губы застонут, плечи заплачут, руки взлетят…Когда я вышел из лифта, глазам не поверил, протер их: у моей двери стояла Лина и звонила в пустую квартиру. Увидев меня, она ладонью закрыла мои уста и шепнула затем: «Молчи!» Открыл дверь, впустил Лину и в ту же минуту позвонил хозяину, чтоб узнать о его дальнейших планах на квартиру. Он, оказывается, и не подозревал о моем неожиданном отъезде, и я не стал ни о чем рассказывать. Радуясь встрече, я подхватил Лину, такую легкую, и закружил ее. Стены поплыли перед глазами. Я горел, как во сне, таком далеком и нереальном…Из народного сказания
— Куда ты сбежал? — Улетел в Баку. — Что за ерунда? — Почему? — Может, звонили, поэтому? — А ты откуда знаешь? — Как же мне не знать? Ведь я сама звонила тебе! — Ты?! — Ночью вдруг проснулась и так захотелось тебя услышать, что на цыпочках подошла к телефону и набрала номер. Как услышала твой голос, поверила, что ты — есть и балкон не приснился, и так хорошо мне стало… Но тут проснулся муж, и я повесила трубку. — Но я слышал, как в трубке говорили. — Что? — Сказали: «Линия испорчена». — Ну да, я повесила трубку, а мужу сказала, что звонил междугородный, а линия почему-то испорчена. — Сначала сказала, а потом повесила. — Нет, я положила трубку, а сказала потом. — Но я собственными ушами слышал: «Линия испорчена». И так забеспокоился, что позвонил домой в Баку. — И улетел в Баку? А я тут переживаю… Я и не предполагал, что ее чувства ко мне так глубоки. Какова она и каков я!.. И снова волчком завертелась земля, и кровь потекла густая, как нефть. И тяжелая-тяжелая…
— Если мы расстанемся, что ты сделаешь? — вдруг спросила она. — Почему мы должны расставаться? — А если? — Что, по-твоему, я должен сделать? — Ну… — задумалась. Вижу, слово ищет, и я ей на помощь: — Хочешь спросить, сожгу ли я себя? — Ну, допустим! Сожжешь ли? Сам же подсказал, самому же и смешно: — Ай да Лина!.. — Смеюсь, обнял ее за плечо, притягиваю к себе, чтобы поймать губы, но она вдруг вывернулась. Я даже обиделся. — И не заплачу! — сказал я. — Найдешь другую? — В голосе Лины прозвучал упрек. «Не будь дураком! — сказал я себе. — За что ты ее обижаешь? Она пришла, ничего ей от тебя не нужно, щедра, красива, вся создана для любви, для ласки, и ты к ней тянешься… Зазнаешься! Грубишь! Имеешь наглость еще обижаться!» — Извини меня, милая!.. Разве мы можем расстаться? Ведь мы созданы друг для друга! Знаешь… — Я поискал веское слово и неожиданно нашел его: — Знаешь, иногда я становлюсь февралем! — Находка обрадовала меня. — Что это такое? — Обида стала таять, в глазах загорелся интерес. — То есть недостает, — покрутил у своего виска, — кое-каких дней… Рассмеялась, и обиды как не бывало. — А ты думаешь, меня влечет к тебе только страсть? — Что же еще? — У меня есть своя идея. — Идея? Но к чему она тебе? Ты такая красивая… — Постой расточать похвалу. И послушай: я хочу тебя узнать. Но только я подступаюсь к тебе, как ты вмиг рассыпаешься. Как… — она поискала слово и нашла: — Как просо! Да, именно просо! С волчком сравнивали, с лодкой без парусов тоже, — это мать говорила, еще с чем-то, а вот с просом — впервые. Ну что ж, стерпим во имя любви. — Хочешь постичь мою тайну? — Можно сказать и так. Вот, к примеру, мой гипнотизер. Тайна его — в его глазах. Была у меня некогда первая любовь. Тайна его была в голосе. Самые простые и обыденные слова он произносил так вкрадчиво, что они звучали многозначительно, как открытие. — Умолкла. Но ненадолго: — Сказать о тебе? — Говори. — У тебя тайн нет. Вернее, собственной тайны нет. Твоя тайна у чужих. Разговор был похож на игру в поддавки: кто скорее останется ни с чем. — То есть? — А кому ты отдан — у того и тайна твоя. Что-то игра наша затягивается. — Я без остатка отдан тебе. — Тогда ищи свою тайну во мне! Если я скажу сама, то ты уйдешь вместе с нею, а этого я не хочу. А вообще-то, — добавила она после паузы, — я растворила твою тайну, как сахар в воде! — Потому-то ты и сладка! — «Пусть, — подумал, — банально, но зато удар завершающий!» — Вот тебе последняя моя шашка! — Ооо!.. Скромностью ты не отличаешься! — От первой любви ты обрела таинственность, от мужа — волшебство, а от меня… Ну, об этом я только что сказал. Нет, определенно я ей нравлюсь. Лина провела рукой по моей голове, и пальцы ее застревали в волосах — жестких, густых. И самому порой трудно расчесать… Не обязательно, чтоб шел дым, когда горишь. И вовсе неплохо гореть, когда возродился из пепла. Если, конечно, есть чему гореть у тебя…
— А сейчас, — сказала она, — я осторожно выйду и спущусь вниз. Мой муж скоро придет к тете. Вчера он внимательно посмотрел на меня и спросил: «Что-то не видно нашего гостя?» А я не знала, куда ты исчез, и мне в его словах услышалось: «Ну как, хорошо я упрятал его?» Обязательно спускайся вниз, чтоб он тебя увидел! И ушла. Свадьба, ночной полет, диалоги с Линой, круженье волчком, как сказал Дурсун-киши… Все слилось, смешалось, пошло на меня стеной. Опрокинул стакан за здоровье шамхорских шефов и повалился на постель, скошенный под самый корень. Разбудил меня телефонный звонок. Взял трубку, но на том конце провода повесили. Линины штучки мне уже были известны. «Спускайся, мол, гипнотизер уже пришел». Потянулся разок-другой, сделал стойку, встряхнулся. Нет, не про нашего братасказано: «Богатыри, не вы!..» Чем я не богатырь?
Гипнотизер многозначительно хихикнул: — Добро пожаловать! Давненько не встречались мы с вами! Или заплутались пути-дороги? — Далеко вы меня забросили, еле вырвался, сбежал. — Неужели? Как это у вас говорится: «В доме жениха свадьба, а в доме невесты и знать не знают об этом». Как мне не изумиться? Снова случайное совпадение?! Гипнотизер не дал мне опомниться: — И что вы увидели в своей далекой дали? Узнали о Дурсуне, о Ламии? Я почувствовал, что бледнею. А он вдруг взял да и расхохотался. Победный такой хохот. Захотелось остро кольнуть его, но он уловил мое желание и опередил меня: — И что сказала Ламия?! — То есть как Ламия?! — А вот так! Сами ведь говорите, что я забросил вас далеко. А что для вас дальше Баку? — Я выразился иносказательно. — Разумеется, никуда я вас не забросил. Но не хотите же вы сказать, что не видели Ламию? Поди возрази!.. Пожал плечами, не смея рта раскрыть и собираясь с мыслями, которые никак не собирались. А он улыбается, но и мне молчать никак нельзя. — Видел я ее, — говорю. — И я о том же. — Горела, а спасти ее не мог. — Водой нефть не погасишь! Это был почти нокаут. — Шучу, конечно, — сжалился он, — откуда могли вы увидеть ее? Она мертва, а вы живой, она молодая, а вы уже стареете. Ха-ха-ха… — Почему старею? Я, слава богу, еще в силе! — Но старше Ламии лет на десять! О какой Ламии говорит он? Тотчас сообразил: и о той, и об этой! Они почти ровесницы, а я и вправду старше, не на десять, конечно, гипнотизер загнул, а лет на восемь… Нет, пока он меня не доконал, надо нанести ответные удары. Пусть попыхтит! — А где же наша Лина-ханум? — В голосе моем слышались кое-какие богатырские нотки. — Или вы и ее забросили далеко, в одни со мной края? Не моргнув, встретил впрямую его встревоженный взгляд — два огромных черных зрачка. «Читай, — сказал про себя, — читай вдоволь, до конца!..» Побелел как полотно, поймав мой взгляд в свои гипнозовы сети, — оказывается, и вправду читал меня, как открытую книгу. Но постепенно мне становилось не по себе. Я почувствовал себя как муха, попавшая в паутину. Помню, в детстве: поймаешь муху, бросишь к пауку, и он моментально выскакивает из засады, набрасывается на жертву, начинает пеленать ее, как куколку. Пеленает, пеленает, а потом встанет поудобней и впивается… Жуткая картина… Зрачки мои были как мухи, и он пеленал их, пеленал, а у самого губы шепчут что-то таинственное. Вдруг нити разрываются — мухи улетели. И спасла меня Лина — она прошла между мной и своим мужем и порвала паутину. Как щит встала — спиной к мужу, лицом ко мне. — Где вы запропастились? — спросила она меня. — А разве мы не виделись? — сказал я. В ее глазах застыл ужас. — А разве, — я успокоил ее, — мы не встретились далеко-далеко, куда нас закинул ваш муж? Он как раз только что говорил об этом! Тотчас уловила — недаром жена такого мужа. — Ты всегда некстати! — Вмешательство Лины разозлило гипнотизера. — Ведь предупреждал тебя, когда входишь и видишь, я занят, работаю, — не мешай! — Здесь не работа, и гость наш не подопытный пациент! Хочешь продемонстрировать мастерство, пригласи к себе на работу! — А что, могу и пригласить! — Понял, что предложение жены в его пользу: и умение покажет, и узнает кое-что, и хоть на день нас разлучит. — Хоть завтра утром! — добавил он. — Нет, утром у меня дела. — Можно днем. — И днем я занят. Чтоб закрыть и вечер, предложил: — Хочу вечером пригласить вас быть моими гостями! — Нет уж, — ответила Лина, — сначала придете к нам домой! Ну и смелая! Страха никакого не ведает! Но я действительно хотел пригласить их в гости. — Есть тут один большой человек, от которого мои дела зависят. Я хотел с вашей помощью уговорить его. — Завершить дела, чтоб поскорее вернуться в Баку? Да? Что с женщины возьмешь? Одно слово — женщина: что на душе — тотчас выболтает! — Не для возвращения хочу завершить дела, а чтоб руки развязать. Погуляем потом, отдохнем, сколько можно траур носить? Хотя траур давно перерос в свадьбу… Не у всех, конечно, — я имел в виду бакинцев. — А гипноз? — спросил муж Лины. — А гипноз отложим на послезавтра. Согласились. Заключили договор. Тайные намерения остались у каждого в душе. Линин муж, видно, подумал, что, ускорив мои дела, ударом гипноза вышибает меня, как мяч, за пределы поля, и я опять окажусь в Баку. Лина подумала, что они помогут мне и она продолжит постигать мою тайну. А я подумал, что воспользуюсь первой частью намерений гипнотизера и перехитрю его во второй, то есть завершу дела, а что касается мяча, то посмотрим в субботу первую игру «Нефтчи» в Москве и тогда увидим, чья возьмет. И Линины мысли мне по душе: опять будут светить звезды, и опять я буду богатырем… Вошла тетя: — Здравствуйте, богатырь! — И к гипнотизеру: — И сегодня приснилась! — Кто? — спросил я. — Ваша землячка… С того дня каждую ночь снится. — С точки зрения науки, здесь ничего удивительного нет. — Это гипнотизер сказал. — Но сегодня ночью картина обновилась. Я увидела нашего гостя. — Это обо мне. — На сей раз не за Ламией следила, а за вами. — И что я делал? — Молились. — Молился? Но я ведь неверующий! — Не знаю… Но хорошо помню — вы совершали намаз. Стояли на коленях, припадали лбом к земле и поднимали руки к небу. — Может быть, зарядку делал, а вы решили, что это намаз? — Кто знает, может, и вправду зарядку делали, об этом я не подумала. Лина укрепила ее в этом убеждении: — Конечно же зарядку! Ты же сама как вошла, так и сказала: «Здравствуйте, богатырь!» — Разве? И это было вполне объяснимо с научной точки зрения. Я так во всеуслышание и сказал, чтоб знали: — Ну, конечно! Как сладко у нее это «че» получается.
Вышел их проводить. Слева я, справа гипнотизер, между нами Лина. А московский летний вечер — единственный в своем роде. Легкий ветерок приносит свежесть и прохладу, нигде не чувствуешь себя так хорошо, как здесь. У метро простились. До завтрашнего вечера. — Может, у тети заночуем? — спросила Лина. — Нет! — отрезал гипнотизер. А мужчина зря слово на ветер не бросает. Если даже и нет ветра, а просто ветерок. Скажет — отрежет. Вернее, пригвоздит.
Заведующий лабораторией был настолько удручен неведомыми мне неприятностями, что не сразу узнал меня: он долго невидяще смотрел на меня, а я не сводил глаз с его пунцовых щек. Костя принадлежит к разряду людей, подверженных быстрой смене настроений. Не так скажешь, не так посмотришь — и человек начинает меняться на глазах. Багровеет лицо, вот-вот сорвется с обиженно поджатых уст резкое, ранящее слово. Переждешь, смолчишь, и вдруг — поди объясни! — происходит чудо, человек преображается, слегка розовые щеки — просто признак здоровяка-жизнелюба. Нет, нельзя было даже заикаться с просьбой насчет акта — тут уж категорически откажет, а потом не отступится от своих слов. Я сделал вид, что не замечаю его удрученности, стер с лица удивление и как ни в чем не бывало сказал, что у меня к нему абсолютно никаких дел, зашел проститься, возвращаюсь в Баку. Слова мои, как легкие волны, задели чуть-чуть, но тут же скатились со скальной непробиваемости Костиного лица. Нет, его и так не возьмешь: надо найти такое слово, чтоб сразу завладеть вниманием, перейти в наступление, а потом, когда он вернется к своему прежнему доброму состоянию, упросить: авось согласится. — Есть для тебя сюрприз, Костя! — сказал я. — Что за сюрприз? — В голосе его я еще улавливал гнев. — И не один, а сразу два сюрприза! По правде говоря, я еще сам не знал, о каких сюрпризах толкую. Но чутьем улавливал, что это и есть то неожиданное слово, которое приведет Костю сначала в замешательство, а потом, чуть смело поднажмешь, — и в нужное мне состояние. Глаза его начали оттаивать. — Не понимаю, о чем вы? — А вот поймете! Сегодня вечером вы мой гость! Так сказать, вечерние сюрпризы!.. — Но лаборатория… Я не дал ему договорить: — Дорогой мой Костя, нельзя же так! Ей-богу, во многих городах я бывал, многих руководителей видел, но такого, как ты, который бы сгорал на работе, еще не встречал! Сколько можно? — Я был настолько искренен и вкладывал в свою тираду столько горячей верности, что Костя молча внимал мне, и ему нравился мой взрыв негодования. — Ты же губишь себя! Я обращался к нему то на «ты», то на «вы», и это была придуманная мной за годы работы тактическая уловка, своего рода маленькая находка, которой я дорожил: говоря ему «ты», я ставил себя в один ряд с ним, говоря «вы», подчеркивал его старшинство, — мол, я, конечно, понимаю, что мы равны, но все же вы — выше, это объективная реальность, и я выражаю вам свое уважение. Костя колебался. «Надо пригласить и его жену!» — подумал я и чуть было не разрушил всю затею. — Разумеется, я и супругу приглашаю… — Но тут же умолк, заметив, что при упоминании жены лицо Кости исказила гримаса: оказывается, из-за семейного скандала и испорчено у него настроение… Нужен был резкий переход. — Ровно в пять вечера я подъеду сюда на машине, будь готов, Костя! — И, не дав ему ни опомниться, ни возразить, вышел. Не мы одни жаждали заполучить копии чертежей — в сходном с нами положении находилось еще восемь заводов. И все теребили, все просили. Комплекты чертежей есть, но они придавлены актом. Что же, постараемся вернуться не только с копией акта, но хотя бы еще с одним комплектом чертежей, — очень хотелось заслужить благодарность нашего Князя. Хоть и зануда, а все-таки широкой натуры человек. Сел в такси, заехал на минутку к Пал Палычу, оттуда на Горького в магазин полуфабрикатов, где мне обещали оставить цыплят, — попросим Лину приготовить табака, наверняка она знает, как с парной птицей управиться. А в пять уже мчал машину домой — а в ней Костя. По дороге задумался об обещанных сюрпризах, тем более что Костя, садясь в машину, проговорил невзначай: «Ну что ж, поглядим на твои сюрпризы!..» «А что, — подумал я, — разве знакомство с гипнотизером не сюрприз? А канистра с дегустационным вином, которого нигде не сыщешь? Если хотите знать, то главный сюрприз — это сама Лина, хотя Косте достаточно и первых двух сюрпризов». Я направил дела так искусно, что и сам себе удивлялся. И самое забавное состояло в том, что и гипнотизер, и его жена, и я — каждый по-своему подвергал Костю психологической обработке во имя моих интересов. А причины ревностной службы моих друзей известны… Такое единство противоположных тактик, убежден, и Князю не приснилось бы. Я мог преспокойно отойти и даже оставить гостей, настолько четко работал механизм воздействия на Костю. Все темы были забыты, за исключением одной — автоматической системы. О чертежах гипнотизер говорил с такой убежденностью и страстью, словно всю жизнь носил в душе одну-единственную думу: заполучить их. Лина даже терпела ухаживания захмелевшего Кости, чтобы не воздвигать новых препятствий на пути к моей цели. Могло показаться со стороны, что самый крупный эксперт по автоматической системе — это наша Лина, а о гипнотизере и говорить не приходится — светило, да и только! Что Костя? По-моему, и аллах с русским богом вкупе не устояли бы против такого союза колдовства и красоты. О неодолимой силе подобного единения, помнится, даже в Коране или какой другой священной книге написано. Жена говорила, а муж с помощью колдовских волн всаживал слова Лины в самую душу Кости. Будто я воочию видел этот процесс: вылетают слова-гвоздики и прочно вбиваются острыми наконечниками в бедную голову Кости: попробуй устоять! Сразу охмелев после первой рюмки — такова особенность моего организма, — со следующих рюмок я стал постепенно трезветь, пока мои мысли не прояснились, очистились, как журчащий родник, и я, глянув на тройку, понял: Князь будет радоваться тому, каких полководцев он взрастил. Я вышел проводить гостей, остановил такси, сунул шоферу в верхний кармашек пиджака пятерку и наказал развезти моих друзей. Еще до начала пиршества, когда головы были трезвы, мы с Линой за жаркой цыплят договорились о встрече завтра днем. Чтобы не терять время и успеть завершить дела к приходу ко мне Лины, я к открытию института был уже у его ворот. Командировочное удостоверение пришло, я его заверил, получил экземпляр чертежей и набил портфель тяжелыми томами, понес акт в машбюро и разделил на несколько частей, чтоб быстро успели напечатать, и уже через час с лишним акт был готов. Довольный удачным течением дел и в предчувствии встречи с Линой, я горячо поблагодарил Костю, расцеловался с ним и только хотел проститься и уйти, как он необычно как-то посмотрел на меня, и в его взгляде я уловил нечто знакомое: уж не внушил ли ему что-нибудь гипнотизер?! — Друг, — сказал Костя, — а я тебя никуда не отпущу! — и улыбается. Неужели гипнотизер догадался? Но как? Я недоуменно заморгал. — Вчера ты мне приготовил сюрприз, сегодня увидишь мой! Долг, известно, красен платежом. — Костя, душа моя, какой долг? Какой сюрприз? — А вот и увидишь! — Но у меня срочные дела! — Никаких срочных дел у тебя быть не может — я их все уладил! — Но ты ведь на работе. — Это тоже работа! — И он в точности вернул мне мои же собственные слова, которыми я еще вчера так удачно склонил Костю. А он к тому же добавляет: — Такое случается раз в год! Считай, что тебе крупно повезло. Одним словом — сюрприз! Мы вышли, взяли машину, я предложил заехать ко мне: портфель надо было оставить, не тащить же его, такой тяжелый, с собой. Когда отъезжали от нашего дома, я увидел, как в мой подъезд вошла Лина. Хорошо, что она нас не увидела!.. Ничего, навестит тетю, помянут бабушку, а мы встретимся перед гипнозом. Как можно отказать Косте, когда он обещает сюрприз?
10
Уж не в тягость ли твоим плечам бедовая твоя голова? Готовься!..Доехали до старого, с железной крышей дома на окраине города и остановились. Костя не дал мне расплатиться, сказал, что сегодня расходы берет на себя. Около нас затормозила новая темно-вишневая «Волга», из нее вышел со вкусом одетый высокий грузный мужчина. Во взгляде его — уверенность и достоинство; казалось, он приехал на симпозиум выступить с докладом. Не очень гармонировал с его внушительным видом старый, с двумя замками портфель, — за таких важных лиц портфель носят другие… Вежливо уступая друг другу дорогу, мы вошли в покривившиеся старые двери деревянного дома. Уму непостижимо, как ухитрялись эти двери держаться на петлях… Спустившись по невидимым ступенькам, мы оказались в сыром полутемном коридоре, пройдя который, поднялись по лестнице и вошли, видимо, в какое-то учреждение. Своими расспросами я не хотел докучать Косте, — даже в машине счел неуместным поинтересоваться: скажет — хорошо, не скажет — ему виднее. А здесь, в присутствии незнакомого солидного мужчины, и подавно неудобно. Словом, закрыв эту дверь, прошли в другую и вдруг оказались в ослепительно освещенной просторной комнате. Мне даже не приснился бы такой зал: облицованные дорогим деревом стены, паркет блестит, как стекло. Хороша развалюха! Костя искоса посмотрел на меня, словно изучая мое состояние: «Ну как? Нравится?» Я скрыл удивление: такие люди вели здесь себя как завсегдатаи, запросто, и неуместно было в их присутствии изливать свои телячьи восторги. Как все, так и я. Костя положил свою сумку на стул и снял пиджак. Я в точности повторял его движения, чтобы ничем не выделяться. Мы протянули пиджаки пожилому гардеробщику, и он аккуратно повесил их на вешалки; Костя дал ему какую-то бумагу: то ли деньги, то ли записку — не углядел. Посреди комнаты стоял массивный стол на толстых резных ножках; на полсотню гостей; ни в какую дверь он не пролез бы, видимо, был сколочен тут же; вокруг стола стояли широкие полированные скамейки; в углу, на маленьком столике, накрытом белой скатертью, — высокий блестящий самовар, а рядом — холодильник. Костя открыл сумку, вытащил бутылку водки, две бутылки пива и кое-какую закуску и упрятал в холодильник. Похоже на столовую, нечто вроде наших получастных кухонь-ресторанчиков, где готовят хаш — густой горячий бульон из бараньих голов и ножек с чесноком, поедаемый ранним утром любителями крепко выпить и основательно, на целый день, подкрепиться. «Наверное, здесь собирается мужская компания, — решил я, — и пиджаки снимают оттого, что в комнате жарко». Вошло еще несколько человек из разряда солидных и уважаемых. Яркий свет, отражаясь в больших зеркалах, раздвигал комнату вширь, четко вырисовывал серьезные лица людей, готовящихся к какому-то важному событию. В сумке у Кости оставалось что-то еще. — Пойдем, — сказал он мне. Снова хотел было у него спросить, где мы, но промолчал и на сей раз: поддался течению, пусть себе уносит!.. Вошли в одну дверь зала и вышли из другой, оказавшись в помещении, которое трудно вообразить наяву: уж не во сне ли я вижу это чудо. В еще большем зале, чем тот, откуда мы пришли, — огромный бассейн, полный до краев прозрачной воды!.. Стены и дно выложены голубым кафелем, отчего вода отливала голубизной, точь-в-точь как голубые воды высокогорного озера Гёй-Гёль; а по стелющемуся над бассейном пару чувствовалось, что вода теплая; вдоль одной из стен стояли мягкие, отнюдь не «спортивные» кресла, и мы заняли два из них. — Раздевайся, — сказал мне Костя. — Но у меня нет плавок! — А зачем они тебе? — удивился он. — Разве мы не будем купаться в бассейне? Он расхохотался: — Да кто тебя пустит, грязного, в бассейн? Сейчас мы с тобой как следует попаримся в парной, потом вымоемся, а там поглядим, что дальше делать!.. Раздевайся! Не спеша, молча, каждый раздевался в своем кресле, будто исполнял магический ритуал. И Костя, и я, и другие. Остались в чем мать родила. — Иди за мной, — тихо сказал Костя. Голые тела шагали к двери. Отряд голых… Но кто они? Неужели это те, которые вошли сюда с нами?! Будто это другие люди — до того все стали неузнаваемы. И все на один манер, полное равенство. Солидность и степенность сошла со всех с одеждой и очками; ни тебе величавости осанки, ни довольства; тонкие хрупкие ноги, осторожно ступая, стыдливо несли толстые белые тела. Вошли один за другим в низкую дверь, держа в руках мыло и мочалку. Да это же настоящая баня! Да еще какая — люкс! Хочешь принять душ — к услугам твоим отдельные кабины… А шайки! Ах, какие шайки — желтые, белые тазики; вода кажется особенной, мягкой — держишь в руках эмалированный таз, а вода дрожит и отражает выложенные зеленой плиткой стены. Шум воды и нагота развязали языки — все заговорили, загалдели, загудели. Слова слились в монотонный банный гул, отражаемый от влажных стен и проглатываемый нашим слухом. Ну что ж, начал мыться. Тонкие ноги передвигались от кранов к мраморным скамьям осторожно, чтоб не уронить грузные, тяжелые тела. Кто-то протянул мне мочалку и попросил, чтоб я ему потер спину; я взял густо намыленную мочалку, и передо мной возникла чуть ли не полутонная туша белуги с очень нежной кожей, — я тер это бело-розовое тело неистово, пока оно не стало кроваво-красным, точно сгорело под солнцем Апшерона в августовский зной. В ответ он предложил свои услуги — потереть мою спину, я сначала отказывался, неудобно как-то, а потом согласился: хорошо тер он мне спину, ничего не скажешь. Оказывается, это было только прелюдией к купанию, — настоящая баня была за дверью, и все, быстро смыв с себя мыло, спешили туда — в парную. Парная что надо: ступенчатый полок из толстых брусьев, стены из дубовых бревен, ласкающий глаз ровный, доска к доске, потолок. Каждый, кто входил в парную, брал в руки березовый веник, поднимался по знакомым ступенькам и начинал лупить себя веником с головы до ног. В углу лежали огромные раскаленные камни, словно только что исторгнутые вулканом. Кто-то вылил на них ведро воды: показалось, что они живые, так зашевелились и зашипели камни, и такой поднялся пар, что чуть с ног меня не сбило горячей волной. Костя залез на самую верхнюю ступеньку, я же остался на нижней, но вскоре горячий воздух обжег дыхание, я не вытерпел, быстро сошел со ступеньки и, весь потный, задыхаясь, выскочил из парной. Через минуты две следом вышел Костя и, встав неподалеку, окатил водой из таза свое пышущее жаром тело, охая, бросил на меня жалостливый взгляд, будто я был разнесчастным человеком, обиженным судьбой и не понимающим истинную прелесть жизни. Все покинули парную, и ставшие еще обширнее красные тела сразу заполнили баню: от горячих тел воздух накалился, и я быстро сунулся под душ, закрыв глаза и подставив лицо навстречу ласковым прохладным струям. Стоял я под душем долго, и вдруг Костя схватил меня горячей рукой, тянет снова в парную. Я вначале упирался, но как гость вынужден был уступить, хотя, как и в первый раз, не поднялся выше первой ступеньки. Все пошли в парную по второму кругу. Пар плотно окутал тела. Были видны только головы немногих, сидевших на нижних ступенях. А когда люди задвигались, показалось, что головы плывут в пару без тел… «Нет, не могу!» — я снова не вытерпел и вышел. Следом — Костя. Он прошел дальше, к бассейну, я — за ним. И с ходу Костя — бултых, окунулся в голубые воды Гёй-Гёля. Я тоже прыгнул, и мы поплыли к другому берегу. Вытираясь, Костя моргнул мне: «Помирился я со своей ханум, и о тебе она позаботилась!» — и протянул мне полотенце. Завернулись в широкие махровые полотенца — вот что, оказывается, оставалось в сумке — и прошли в комнату, где стоял на резных ножках массивный стол. Встретивший нас пожилой мужчина заранее выложил на тарелки закуску и расставил бутылки, которые все, кроме меня, принесли с собой. Сели, опрокинули по рюмке, затем из фужеров выпили пива. Произнесли тост в честь бани, — видимо, такой здесь был ритуал. Поели, задымили папиросами-сигаретами. Второй тост был за здоровье всех, кто пришел; и это тоже считалось, как я понял, традиционным. И опять — в баню, в парную. Там все тотчас отрезвели, парная вышибла весь хмель, и мы, точно возрожденные, голодные, снова сели за стол. Очередной тост — за молодость желаний и умений! А последний произнес Костя: — За здоровье нашего банного вождя, настоящего мага, чародея и колдуна! — И, взглянув почему-то на меня, продолжал: — Войдя сюда утомленными стариками, мы уходим молодыми, и это говорит о могуществе нашего волшебника, да будет он жить век!.. За вас, Арвид Леонардович! Я понял его брошенный в мою сторону взгляд: это в ответ на мой сюрприз — мол, ты мне показал гипнотизера, а я тебе — чародея! Закипел самовар, налили чай. «Нет, — подумал я, — непременно расскажу Князю. Нам бы тоже отгрохать такую баню!.. А что? Собрать деньги и построить баню на кооперативных началах для кое-кого из наших, включая, конечно, и меня самого — за идею». Когда оделись и вышли, я, к своему удивлению, никого не узнавал. Это были совершенно незнакомые, чужие люди. В их внешности и движениях чувствовалась решимость, шагали они твердо и уверенно. Еще несколько минут назад мы были как одна душа, но кто же из них хотя бы тот, кому я тер спину?! Скрылись белужьи тела, такие нежные и робкие, спрятались хрупкие, тонкие ноги. Только сейчас я заприметил каменное здание, примыкающее к старому деревянному дому-развалюхе. Из его трубы слабой струйкой выходил и, подхваченный ветерком, срезался белый дым. «Вот и все!» — сказал Костя, широко и открыто мне улыбаясь. Мы обнялись, как братья, и расцеловались. Хоть голова была тяжелой и в ней шумело, я чувствовал себя легким, как птица, — взмахну крыльями-руками и полечу! Не помню, как я добрался домой и завалился спать, даже не раздеваясь. Проснулся будто от толчка. Слова-то какие сказал мне на прощание Костя: «Погубишь дело — отвратишь от идеи!» Это он о новой автоматической системе. А я ему в ответ: «Запишу, — сказал, — тебя в учителя свои и стану называть отныне «Костя-муэллим»!..» А про себя думаю: «Мало было у меня учителей, из дальних краев еще один выискался!..» Князь любит говорить: «Ашуг без учеников — не ашуг». Это он о себе. И еще любит говорить: «Ашуг без учителей — тоже не ашуг». А это уже обо мне. А если я желаю быть ашугом одной возлюбленной и вкушать яркие звезды на черной скатерти неба, тогда как, Нияз-муэллим? А что скажете вы, Костя-муэллим? Князь и Костя переглянулись и удивленно развели руками: мол, что с него возьмешь? Скажет же иногда такое, что и не сразу поймешь.Из народного сказания
11
Страсть зажгла душу, вспыхнуло вдохновение, и он вскинул над головой саз.Как и условились с гипнотизером, ранним утром я направился в клинику, где он работал. День выдался ясный, было безоблачно и на душе. У входа в клинику меня окликнули, гляжу — Лина. — Обманщик!.. Но глаза улыбались, и об обиде не могло быть и речи. — Понимаешь… Но она не дала договорить, тем более что я не успел придумать оправдания: все же она права, я вчера ее подвел, хотя и не виноват: не мог же отказать Косте?! — Оправдаешься потом! Я отпросилась на два часа, и часы эти — наши с тобой! — Но твой ведь ждет, неудобно. — Тогда пойди и скажи, что занят, придешь через два часа! Я буду ждать тебя у сквера. И ушла. Гипнотизер встретил меня перед корпусом, красивый, как молодой бог. Белый халат шел к его черной библейской бороде, густые сросшиеся брови и угольно-черные волосы четко обозначали высокий светлый лоб. А глаза!.. О них я уже говорил, могу сказать иначе: глубокие, как океан, и загадочные, как ночь. Пусть банально, но это так. Лина рассказывала, что в нем смешалось несколько кровей — немецкая, шведская, польская. И даже турецкая. И от каждой — по полтора-два процента. Он уловил мое замешательство. — Кажется, дела заставляют вас изрядно попотеть? — Да… С вашего разрешения, на два часа… Машинистки еще не успели… — Что со мной? Уж не лишаюсь ли я дара речи под его пристальным взглядом? Еще чего не хватало! Несколько раз, заметая следы, упорно повторял свою мысль о машинистках, которые «еще не успели». — Ничего, все образуется, пока они будут печатать, мы закончим. — И, взяв меня под локоть, чуть ли не втолкнул в корпус и, не успел я опомниться, накинул на плечи халат; опутывая неведомыми волнами, повел прямо в свой кабинет. И в это же самое время зазвонил телефон. Это была Лина, я узнал ее голос. — Пришел? — спросила она. — Да. — Он посмотрел на меня. — Сидит передо мной, и я сейчас начну. Душа ушла в пятки. «Сейчас начнет!» В трубке защебетал голос Лины: — Не забудь пригласить его вечером к нам! Увлечешься гипнозом и забудешь! Скажи ему сейчас и напиши наш адрес! — Хорошо. — Пиши, я жду! По-моему, последнее слово предназначалось больше мне: она ждала. Гипнотизер написал свой адрес и передал мне. — Ваша просьба, мадам, выполнена. — И повесил трубку. Переждав минуту, куда-то позвонил. Долго держал трубку, не касаясь ее ухом и как бы приглашая послушать и меня. Никто не отвечал. Уж не на работу ли Лины? Как только повесил трубку, телефон зазвонил. Мужской бас заполнил кабинет: — К вам невозможно дозвониться, срочно к главврачу. — Подождите меня минутку, — сказал он мне, — я сейчас. И вышел. Выходя, кинул на меня подозрительный взгляд и закрыл дверь; я услышал поворот ключа в замке, толкнул дверь — она была действительно заперта! «Капкан», — подумал я, и мне стало не по себе. Снова раздался звонок, я тут же поднял трубку. — Ушел? — Голос показался знакомым. — Да, — машинально ответил я и в тот же миг понял, что это Лина. — Выходи, я жду тебя! — Но он запер дверь снаружи! — На шкафу есть ключ, бери и открывай! Провел рукой по шкафу — вот он, ключ. Быстро открыл дверь, положил ключ на место, осторожно выглянул — никого! Выскочил в коридор и бегом — к выходу… Так, помнится, удирал из школы. Не успел разбежаться, пришлось резко затормозить — я не поверил глазам! У входа в корпус, потирая руки и довольно улыбаясь, стоял, поджидая меня, гипнотизер. — А я вот заждался вас… Что так замешкались? Крепко сжал мой локоть и, как провинившегося ученика, повел прежней дорогой к себе в кабинет. Да, будто учитель застукал озорника. Во мне заговорило давнее, уснувшее, пришла на помощь школьная уловка, и я притворился, что ничего особенного не произошло. — Вы ушли, и я решил, что задержитесь, вышел прогуляться. Он замедлил шаг и с укором покачал головой. — И дверь открыта. Как ему возразить мне? Ведь неудобно сказать, что он запер меня? Он сел в кресло и молча уставился на меня. — Когда вы покажете свое искусство? — Я обретал прежнюю форму, от замешательства не оставалось и следа. Гипнотизер ответил не сразу: — Сейчас позвонят, я жду. И в самом деле позвонили. Лицо гипнотизера просветлело. Но странно: подняв трубку, он не отозвался. Молчала и трубка. — Может, я плохо слышу? — сказал он мне. — Пожалуйста, послушайте и вы. — Трубка оказалась между нами, повиснув над столом. — Нет, и я не слышу, — ответил я, и в ту же минуту я почувствовал, как на том конце провода со злостью швырнули трубку. Что бы это означало? Если бы гипнотизер не расхохотался, я бы так и не сообразил, в чем дело. Ну и мастер!.. — Что же, вы блестяще продемонстрировали свое умение! — Разве? — Он хихикнул. — А гипноз? — Чего не видел, о том сказать не могу. — «Не очень уж гордись победой, друг! Это всего лишь временный успех!» Я хотел вложить в свою фразу именно этот смысл, и он дошел до собеседника. Лицо его стало суровым, и он напряженно сосредоточился на чем-то своем, неведомом мне. — Пойдемте! В душе зашевелился страх: на кой черт я согласился, чтоб меня гипнотизировали? Мало у меня забот, что ли? Но отступать уже было некуда. — Внутрь я вас пустить не смогу, можете смотреть через это окошко в двери. И только тут я понял: вовсе не меня он собирался подвергать воздействию гипноза, а лишь хотел показать мне свою работу. Что ж, смотреть — дело нехитрое. В кроватях лежали дети. Гипнотизер, встав посреди зала, обратил к ним сосредоточенное лицо. Я видел его странно блестевшие глаза и по движениям выразительных губ догадывался, что он что-то внушает детям. И дети стали засыпать. Но гипнотизер продолжал свой гипноз, что-то внушал и внушал спящим детям, и вот один из них, большеголовый и рыжеволосый, поднялся и полусонный подошел к стенке, опустил штаны и сел на стульчик, а потом встал и вернулся к кровати, лег и уснул. И так по очереди каждый вставал и проделывал то, что и рыжеволосый. Что сие означало, я понять не мог. — И все? — спросил я его, когда он вышел. Он не ответил, не слыша, казалось, моих слов, и, сосредоточенный, с заметной бледностью на лице, повел меня к другой двери. И я снова стал смотреть. На сей раз картина была иная: на невысоких табуретках сидели малыши, у некоторых были забинтованы руки, у других — ноги. На детских лицах застыли боль и страх. Будто только что из операционной. Я посмотрел на гипнотизера. В глазах его была решимость, борода то выдавалась вперед, то опускалась, губы четко повторяли рисунок фразы, весь облик повелевал и приказывал. И признаки боли постепенно стирались с детских лиц, исчезал страх, и вдруг забинтованные руки и ноги начинали шевелиться. Сначала в движениях детей чувствовалась неуверенность и скованность, затем ноги и руки, будто здоровые, стали сгибаться и разгибаться уверенно, без видимых усилий. Дети делали гимнастику, они улыбались и радовались, позабыв о боли. Вот это дело — обезболивающий гипноз! Гипноз, заставляющий забывать страдания и муки. Когда он вышел, я его не узнал — лицо было усталым и потухшим, а губы — обескровленными и засохшими. Еле волоча ноги, он побрел в свой кабинет, а я — за ним. — Что ж, — вздохнул он, садясь в кресло, — сегодняшними сеансами я доволен. Я поднялся, чтоб уйти. — Минутку! — попросил он меня задержаться. — Один звонок, и вы свободны! Набрал номер и, услышав голос, повесил трубку. Вне сомнений, он звонил Лине. — Нет, сегодня определенно мне везет. Вы не находите? «Издевается!.. — подумал я. — Ну и пусть радуется! А мы подождем до вечера».Из народного сказания
12
Из густой черной косы она отделила лишь три волоска, вместо саза прижала их меж упругих грудей и заиграла, глядя вслед улетающим журавлям, запела…Еле дождался вечера — не терпелось увидеть Лину. Вышел, остановил такси, достал из кармана бумажку, чтобы сказать шоферу, куда везти, и ахнул: бумажка была чистая! Я — в тот карман, в этот — тщетно! Адреса как не бывало… К тому же шофер включил счетчик, торопил. — Забыл адрес, я сейчас!.. Я в подъезд. Поднялся домой, пересчитал карманы — никаких следов! Спустился к тете Лины, позвонил в дверь — никого! Хоть реви, хоть на стенку лезь: когда наступает полоса невезения, сливай воду, как говорит мой брат Асаф. Вернулся к таксисту, заплатил полтинник и поднялся на свой этаж. И телефона не знал, чтоб позвонить! Ждут меня к семи, а уже половина восьмого. Присел и уставился на телефон — авось зазвонит. И что вы думаете? Такой оглушительный раздался звонок, что я вскочил. «Вы еще дома?!» «Понимаешь, вашего адреса у меня не оказалось». «Но вам ведь написали?» «В том-то и дело, что написал он, положил мне в карман, но, понимаешь ли, бумажка чистая!» «Ах!.. — взорвалась она и крикнула на мужа: — Вместо адреса ты положил ему в карман чистую бумажку!» «То есть как это чистую бумажку?! — в свою очередь возмутился муж, и я услышал в трубке его голос, обращенный ко мне: — Поищите как следует!» «Ей-богу, чистая!» «А я говорю вам, поищите как следует!» Тон был столь повелительный, что я положил трубку рядом с телефоном и снова полез в карман. Вот она, бумажка; хорошо, что не выкинул, будет вещественное доказательство моей невиновности!.. Развернул, и — что за чертовщина? — на бумажке четко был написан их адрес! Трубка на тумбочке кричала: «Ну как? Нашли?» Я вынужден был признать свою оплошность. «То-то! В другой раз будьте повнимательней!» Но трубка была уже в руке Лины: «Немедленно приезжайте!» Не успел положить трубку, как телефон снова зазвонил. Это была опять Лина: «Прочитайте-ка адрес!» Прочел. Все правильно. Снова взял канистру, в которой горючего оставалось еще на целую компанию, и выскочил на улицу ловить такси. По дороге купил букет роз у земляка, — спасибо им, круглый год снабжают цветами столицу, — и доехал наконец до желанного дома. Номер, подъезд, этаж… Позвонил. За дверью были слышны веселые голоса, компания была в самом разгаре. Уж не день ли рождения Лины? Или… еще продолжаются поминки? Но сколько можно поминать? В любом случае я был неплохо вооружен: в одной руке канистра, в другой — розы. Открыла дверь полная розовощекая девушка и, взяв из моих рук цветы, впустила в прихожую. — А это канистра с вином! — сказал я, отдавая ее в чьи-то руки. — Проходите, проходите!.. — пригласили меня, и я прошел в большую комнату, полную гостей. Из кухни доносились оживленные голоса, и я уловил Линин смех. Гости повставали, пропуская меня к голове стола, где мне было оставлено место. Следом за мной над головами поплыла канистра. Переходя из рук в руки, она вызывала восторги и шутки. — С таким горючим, — сказал кто-то, — любой мотор заработает! Что правда, то правда. Я оказался в микрокомпании, и соседи взяли меня под свое попечительство — налили водку, наполнили тарелку закуской. Слева от меня сидела белолицая красивая девушка с густой русой косой на спине, справа — мужчина с седыми усами и высокой седой шевелюрой. Народ был почти незнакомый, за исключением одного грузного мужчины с одутловатым лицом и пунцово-красными щеками, которого я встречал на поминках. Встретившись с ним взглядами, мы с некоторой грустинкой кивнули друг другу как старые знакомые. В его глазах я прочел то ли извинение, то ли оправдание: «Ничего, мол, не поделаешь. То на поминках мы, то на свадьбах!..» «Что-то Лина задерживается на кухне, — подумал я. — И встречать меня не вышла!» Не видно было и гипнотизера. Наверное, помогает Лине… Соседка слева со смешинкой в глазах взглядом кольнула меня, и тут в голове, как молния, блеснула-осветилась мысль: уж не сыграл ли гипнотизер со мной злую шутку?! Не спрятался ли он с Линой, чтоб проучить меня? Ему ведь ничего не стоило настроить ее против меня? Он мог ей сказать: «Вот видишь, какой он? Наглый лгун он — вот кто! — И передразнить: — «Чистая бумажка!..» Какой поклеп! Просто не хотел приезжать!» И у Лины достаточно оснований для обиды. И потом: охота гипнотизеру срамиться перед столькими людьми! Определенно упрятал он Лину, как пить дать!.. «Поглядим, что будет дальше», — подумал я, постепенно осваиваясь и входя в ритм веселья. Молния вспыхнула и погасла, и туман окутал меня. Девушка чуточку была похожа на Лину. Уж не двоюродная ли сестра? Но тогда почему ее не было на поминках? Дело не в этом: меня чем дальше, тем больше потрясала хитрость гипнотизера, — ведь надо же, посадил меня именно рядом с молодой красивой девушкой, чтобы отвлечь, отдалить от Лины! Но меня не проведешь, я буду предельно вежлив, и только! После нескольких беспорядочных тостов — компания никем не управлялась — я бросил клич. — Выпьем за любовь, ибо все мы — дети любви. Дружно зазвенели бокалы. Мужчина с седыми усами нахвалиться не мог «горючим», и я решил спросить у него о Лине. Хитро сощурив правый глаз, он промолчал и тут же, будто укоряя меня, спросил, почему я опоздал? Я сослался на такси, а он укоризненно покачал головой: — Вам, молодым изобретателям, все некогда, все спешите, и без такси вы вовсе пропали бы! — И предложил: — Давайте выпьем за успех ваших начинаний! «Значит, знает!» — подумал я и в свою очередь сказал: — Если бы не помощь хозяина дома и его супруги… Сосед недослышал меня, подхватил мою мысль и, встав, обратился ко всем сидящим: — Наш уважаемый гость предлагает выпить за здоровье хозяев, дай бог им здоровья, да будет всегда полон друзьями их дом, и, естественно, чтоб и мы среди них восседали, ели, пили! Я прервал его: — И с тем непременным условием, чтобы сами хозяева были всегда вместе со своими гостями! — Отличное добавление, к месту сказанное! — поддержал сосед и потянулся ко мне дрожащей рукой: — Будьте здоровы! Отсутствие Лины беспокоило меня. Решил спросить свою соседку: — Почему Лина не с нами? Она улыбнулась многозначительно: — А вы растягиваете одну рюмку на целых два тоста! Так не годится! Я выпил. — А все же где Лина? — Думайте о присутствующих! Или с нами вам неинтересно? Ничего себе фразочка! Приглашают, а сами уходят. Ей, видите ли, хочется, чтоб я не думал о Лине! Каков гипнотизер-то! Во время танцев я снова спросил у соседки о Лине: — Пили, ели, танцуем, а хозяйки все нет и нет. — А вам с нами скучно? Какая вам разница — она или я, ее двоюродная сестра? Это был открытый вызов! Такого коварства и вероломства я от гипнотизера не ожидал: подсунул мне своего человека, и как ловко она одурманивает меня! Я не сдержался: — Это козни гипнотизера! Она перестала танцевать и вмиг стала тяжелой, удивленно вскинула свои тонкие брови, но тут же снова, легкая как пушинка, закружилась сама и закружила меня, партнера. — Все вы одинаковые, стараетесь околдовать нас! Но я не из податливых! Хочет, бедняжка, возбудить во мне интерес, но меня не проведешь, эти тактические уловки гипнотизера я уже раскусил. И я пошел в открытое наступление: — Он просто спрятал ее от меня! — А меня выдвинул вперед, да? Ну вот, и сама призналась во всем! Зло взяло на Лину — пригласила и исчезла с мужем! Напарница у меня была чуткая, догадалась о моей обиде. — Вы так много думаете о моей сестре… А не боитесь ее мужа? — Немножко побаиваюсь. Когда остаюсь с ним наедине. Гипнотизер все же. — Танцевать и говорить было трудно, но прерывать танцы, когда играет музыка, тоже не хотелось. — А при вашей сестре не боюсь. При ней его гипноз не действует. Во всяком случае, до вчерашнего дня. Но сегодня он победил. Иначе я танцевал бы сейчас с нею. Грубо прозвучали мои слова, хотя я этого не хотел. Девушка обиделась и отяжелела в танце. Но обида длилась недолго, с новой волной танца тотчас растаяла, испарилась; это, конечно, от широты натуры, я убежден. И уже улыбка заиграла на ее губах: — Вы точно сказали о его гипнозе. И я догадывалась. Особенно, когда остаешься наедине, будто хочет влезть в душу. Танец кончился, и я хотел проводить ее к открытому широкому окну, чтобы кое-что разузнать, но в сутолоке она улизнула от меня. Стал искать глазами знакомого мужчину с малиновыми щеками, с которым мы были на поминках, но наперерез мне вышел и преградил дорогу худущий высокий юноша лет семнадцати. С застенчивой улыбкой, излучавшей свет, он пригнулся ко мне. — Простите, — сказал он, — я случайно услышал, как вы говорили о гипнозе. — Ну да. А что? — Я тоже очень интересуюсь проблемами гипноза. Еще бы! На то ты и родственник гипнотизера, чтоб гипнозом увлекаться!.. — В каком аспекте? — спросил я. — Тоже лечебном? — Нет, — ответил он, — в мифологическом. Это было ново. — Знаете, — продолжал он, преодолевая робость, — трудно найти человека, который бы не подвергался воздействию гипноза, вернее, его богов. И в этом смысле мы все ходим под гипнозом. Не по годам философствует юнец!.. С головой парень. — Интересно, — подбодрил я его. И он стал развивать свою идею: — Боги эти — близнецы-братья, и оба — дети ночи. Вначале на нас воздействует один, а затем мы переходим под покровительство другого. По выражению моего лица он уловил, что я ничего не понял. — По мифологии, — пояснил он, — один из братьев-близнецов каждую ночь сыплет из рога на землю сон, и мы засыпаем, а другой брат, бог смерти, погружает умерших в сон вечный. — Хорошо и доходчиво тырассказываешь, спасибо! А может, ты мне и растолкуешь, почему я не вижу твоего родственника гипнотизера?! Юноша опешил: — А у меня нет родственника гипнотизера. — Я говорю про гипнотизера-врача, хозяина этого дома. — Хозяин дома — мой отец, а он не врач и не гипнотизер, а физик. — То есть как?! Наш разговор привлек внимание гостей, нас внимательно слушали и седоусый мужчина, и тот, с малиновыми щеками, и сестра Лины. Гости как-то странно приутихли, не сводя с меня глаз. — А разве маму твою… — И осекся: у Лины ведь не было детей! — Маму мою зовут Светлана Осиповна. — Не Лина, значит… — сказал я машинально. — Нет, Лана, — ответила та, которую я считал сестрой. На лицах застыло недоумение. — Но постойте! — Я обратился к знакомому мужчине: — Разве мы с вами не были на поминках? Мужчину чуть удар не хватил. — Какие поминки? — Он замахал руками. — О господи!.. — Ой-ой! — Я больно стукнул ладонью себя по лбу. — Я перепутал адрес! Меня же в другом месте ждут!.. Сквозь взрыв хохота кто-то возмущенно бросил: — Дурацкая нумерация! Все путают корпус! — Да я же… Но отовсюду доносились дружелюбные возгласы: — И очень хорошо, что мы познакомились!.. — Вы наш гость, и мы вас никуда не отпустим! А кто-то настойчиво объяснял другому, и до слуха моего донеслось: — Он спрашивает о хозяевах, а я не понимаю, что за Лина? Вот так история!.. Меня окружили тесным кольцом, я хотел вырваться, но гости не унимались: — Раз пришли, оставайтесь до конца! — Милые, дорогие мои!.. — А все казались мне давнишними знакомыми. — Меня ведь ждут! — Недаром чуяло ваше сердце, что это — проделки гипнотизера! — Моя соседка потянула меня за рукав пиджака, чтоб я обратил внимание на ее слова. — Ай как нехорошо получилось! — убивался я. — Нет, я не могу оставаться, мне надо спешить! С трудом пробился сквозь тесное кольцо, будто вырываясь из крепких объятий, выскочил на площадку этажа и загрохотал по лестнице. — Гость, — услышал я вслед, — вы не назвали своего имени! Я выбежал на улицу. Из открытого окна до меня донесся смех. Я обернулся и замер — окно на всю свою высоту было облеплено и забито круглыми розовыми головами. — Вернись, гость!.. — Гипнотизер… Голоса потонули во взрыве хохота, будто волна толкнула меня в спину, и я пустился бежать. Только у метро я опомнился и пришел в себя. Куда бежишь? Что случилось? Не гонятся же за тобой?! Постой, передохни, успокойся!.. Был двенадцатый час. Доставая платок, чтоб вытереть потный лоб, я нащупал бумажку с адресом. Вернуться, что ли? Но какими глазами я взгляну на Лину? А когда вспомнил заполненное круглыми головами окно, и вовсе пропала охота возвращаться. Я сунул бумажку в боковой карман, и тут рука задела другую бумажку — чистый листок, так нелепо помешавший мне. Делать нечего, оскандалился я крепко, — сел в метро и поехал домой. У подъезда столкнулся лицом к лицу с тетей. Увидев меня, Ольга Васильевна вся раскачалась, как маятник. — Ай-йай-йай!.. Развлекаетесь, а бедная Линочка с мужем места себе не находят, извелись, ожидая вас!.. Приехали сюда, ждали, ждали, только что ушли… Лина очень на вас обижена! И в милицию, и в морг звонили! Это уж слишком! — Ай-йай-йай! Поди докажи ей, что адрес перепутал, — не поверит ведь! И сам бы не поверил — видишь, что перепутал, выходи, ищи, не маленький! Я молчал, и молчание мое было не в мою пользу. Ольга Васильевна стояла, заслонив собой вход в подъезд, и с укором качала головой: — Ай-йай-йай!.. Зло взяло на нее: и без того тошно, ноги от усталости подгибаются, а она стоит, преградив дорогу. — А вы видите наверху бога? — спросил я. — Бога? — Ее укор сменился настороженностью. — Да, бога! И в руке у него большущий рог! Она отступила чуть назад и в замешательстве, готовая к новым неожиданностям, осторожно спросила, будто побаиваясь меня: — А разве у бога есть рога? — Я говорю — рог! И держит его в руке! А почему бы и не быть рогу?! Бог чуть его пригнул, и каплет из рога на грешную землю сон — кап, кап, кап… Ольга Васильевна и вовсе отошла в сторону, освободив мне путь. — И не стыдно вам? Разве можно столько пить? — И снова за свое: — Ай-йай-йай! Я вышел из себя: — Это же бог гипноза! Поймите, мифология это!…Из народного сказания
13
Пусть скажет саз. Если словом поведаю — язык загорится.. . . . . . . . . .Из народного сказания
14
Горел, горел, черным фитильком стал…Вслед за мной из широкого окна катились-скатывались круглые, как колобки, головы… И я в страхе проснулся. И, проснувшись, не мог больше уснуть. Казалось, вот-вот усну, но сон не шел. И на живот лягу, и на бок повернусь, и на спине вытянусь — никак не удавалось найти удобное положение. Смех звенел в ушах, сверлил голову. И в сердце была боль… Гипнотизер жонглировал головами. Сразу пятью. Но одна выскользнула из его рук, покатилась и стукнулась о землю. Я вздрогнул и проснулся. Гулкое биение сердца отдавалось в ушах. Я перевернул подушку, чтобы почувствовать горящей щекой холодный верх наволочки. Будто в голове упрятали мотор. И никак не спастись от шума. На лбу выступил холодный пот. Я почувствовал, что бледнею. Сердце разрывалось, вот-вот перестанет стучать. Я лег на спину и начал делать глубокие вдохи и выдохи. Нет, еще одна такая ночь, и я, как говорит Асаф, отброшу копыта. И знать никто не будет!.. Пока хозяин сообразит, придет, и вовсе истлею… Гипнотизер шевелил губами и говорил непонятные слова. Захотелось схватить его за бороду; я выбросил вперед руку, но он ловко вывернулся. Со второй попытки шелковая борода оказалась у меня в кулаке, и я потащил ее к себе. Гипнотизер резко подался назад, и вдруг голова вместе с бородой оторвалась от тела и осталась в моей руке. И в третий раз я в ужасе проснулся. Сердце выскакивало из груди. Бежать! Надо бежать без оглядки из этого дома! Я заставил себя встать и скинуть с плеч близнецов-братьев, детей ночи. Уж не собрался ли один из них сдать меня другому на вечное хранение?.. Нет уж, нас голыми руками не возьмешь!.. Страх постепенно угасал, но еще не прошел окончательно. Я быстро собрал вещи, набил портфель томами, и на миг передо мной предстало довольное лицо Князя, я даже услышал его скупую похвалу. Князь вернул меня к реальности, а вскоре засветился краешек летнего неба. Я был готов. Деньги — под будильник, дверь — на замок, ключ — назад в квартиру через щелочку для газет. Пути к отступлению были отрезаны. Такси. В предрассветный час зеленый глазок горел очень уж ярко. — Домодедово! Скорей! — Все куда-то спешат!.. — Словоохотливый, по пассажиру истосковался. — А куда, и сами не знают. Я бросил на шофера удивленный взгляд, а он и не смотрит на меня, ему отвлекаться нельзя. — Имитация активной деятельности! Каково, а? «Имитация»! Начитался книжек! Для полного комплекта любителей поучать не хватало как раз таксиста, и он отыскался. — Жми! Успеть бы! Машина стремительно неслась к аэродрому. Хорошо, когда дорога впереди свободная.Тоже из народного сказания
Р а с с к а з а л земляк по-азербайджански, п е р е в е л автор на русский язык.
(Диалог с Серьезным Читателем, два монолога — Сердитого и Сердобольного Читателей и об одном случайном совпадении. — Волчок… Щепка… Имитация… Хвостовой отсек самолета… И так далее!.. Выстроены в ряд абсолютно серьезно. И потому молчу. — Любил ли Алексей Ламию, а Ламия Алексея? — Еще как!.. Ольга Васильевна это от ревности, а Салтанат-ханум в плену, так сказать… — …предрассудков? Кивнул головой: раз серьезно спрашивают, надо и серьезно отвечать, ничего не поделаешь. — А самосожжение? — Вы что?! Никакого самосожжения! Облили, благо рядом керосиновая лавка. Месть! Из тех, о которых Салтанат-ханум рассказывала… — А он, равнодушный, не хотел слушать! Шутка ли, какая шла борьба… — Снял серьезные очки и стал аккуратно вытирать стекла белоснежным платком. — Как можно?! Алексей? Ламия? Какая тут любовь?! Это черт знает что! Лину, эту акробатку!.. И Князя-Нияза, и Пал Палыча, и Костю!.. И его самого!.. И что за погремушки из народного сказания?! Вы что?! — ? — Глумленье над матерью?! Над чужим горем?! На поминках — флирт?.. Да я акробатку эту!.. — ! — Он добрый, он неплохой, неужели не видно, никому никакого вреда, никому не откажет, болеет за работу, а как беспокоится о матери, прилетел, не пожалел ни времени, ни себя, ну… оступился, запутался, но люди-то вокруг какие, и Дурсун, и мать, и брат, помогут, — камень обтесается, не то что живая плоть. Начинать сначала? Тем более что занавес, который я крепко держал руками за спиной, разрывался, — всем не терпелось заново сыграть свои роли. Поток есть поток, а щепка есть щепка. Потоп? Или я ослышался? При чем тут потоп?! Между прочим, совпадения заглавных букв читателей чисто случайное, — на азербайджанском языке они тоже начинаются на одну букву, вернее, дифтонг «дж»: «джидди» — «серьезный», «джинни» — «сердитый», «джаняндыран» — «сердобольный».)
1973
Перевод автора.
ПОВЕСТЬ О ЗОЛОТЕ
Не куй меня, мати, к каменной палате, прикуй меня, мати, к девичьей кровати. К о в о с т р о и т е л ь м., -ница ж. коварный, замышляющий зло человек. Золото самый ковкий металл.
Тяглистый или тягучий, растяжной, растяжимый, поддающийся, уступающий тяге, растяжке; упругий, что не рвется и не ломается при растяжке. Тягулить, таскать или красть. Тягун, тяжебник, сутяга, ябеда. Золото тягучее всех металлов.В л а д и м и р Д а л ь. Толковый словарь живого великорусского языка. Том II, с. 128 и том IV, с. 454.
ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АВТОРА
Каждый может вспомнить нечто свое — личное, семейное или служебное, — связанное с благородным металлом желтого цвета, очень тягучим и ковким. Написал я эту фразу, только смахивающую на крылатое изречение, и полетела с листа стрекоза, играя на солнце радужными крылышками. Долго я глядел за ее полетом, но тут зазвонил, как всегда некстати, телефон, и меня позвали будничные дела. А когда после стремительной поездки в шумном метро, быстрой ходьбы по гулкому Садовому кольцу, подъемов и спусков на скоростном лифте (вверх — перегрузки, вниз — невесомость!), хождений по длинным и узким коридорам, освещенным писклявыми лампами дневного света, я вернулся к своей тихой фразе и она попыталась снова взлететь, я оторвал ей крылышки: в наш век ЭВМ, НТР, ЖЗЛ, БСЭ и даже КЛЭ мало кому придет на ум штамповать афоризмы, потому что обо всем на свете, что кажется сногсшибательной или головоломной новостью, было уже сказано «в веках, бывших прежде нас». В стране Эльдорадо, о которой напоминает любимое место моих ежевечерних прогулок, — 4-й Эльдорадовский переулок (первые три я так и не отыскал), дома были обшиты золотыми листами, а желтые, красные и зеленые игрушки округлой формы, которыми забавлялись деревенские дети, были из золота, рубина и изумруда. Помню, в нашем бакинском дворе говорили о золоте в мешочке, спрятанном на высокой изразцовой печи в бекском доме: убегая, хозяева не успели или забыли его унести, а в дом из подвалов переселились бывшие слуги. Потом, многие годы спустя, когда печь переводили на газовое отопление, мешочек и нашелся, а его благородное содержимое выглянуло, заулыбалось, заблестело. И в газете «Вышка», которая выходила малым форматом и где в те годы я работал, курьером, петитом сообщалось об удивительной находке — среди обычных николаевских золотых монет в мешочке была обнаружена отлитая из чистого золота величиной с детский кулачок головка истукана, и находка эта датировалась эпохой Тимура Хромого, чуть ли не ему самому принадлежала. А еще помню, впервые увидел в годы войны пачку цветастых, как хвост павлина, царских ассигнаций в дрожащей руке высокого, прозванного Телеграфным столбом, бывшего купца. Он размахивал ими на нашей улице, а потом жег их, и я смотрел, как нехотя, чадя, долго горели они. «Мне предлагали золотыми монетами, — изрекал сокрушенно Телеграфный столб, — а я отвергал их, требовал бумажные ассигнации, потому что легче везти». И, экономя спички, подносил к догорающей ассигнации краешек следующей. Помню… Не успев ступить на бетонные плиты Багдадского аэродрома, обдавшего меня нестерпимым зноем, я уже знал от своей землячки Алтун-ханум Кызылбаш-кызы Гашдаш-заде, прожужжавшей мне уши в самолете, о знаменитых золотых базарах Багдада. И действительно поразился, придя на следующий день в сопровождении Алтун-ханум на золотой базар, как точно она его обрисовала. Витрины лавок горели от обилия золотых украшений, и свет их падал на улицу. Узкие улочки были крытыми, чтобы не пропустить горячие лучи солнца. Жесть, картон, войлок, фанера, доски, как и чем попало, а внизу — лавки, лавки, лавки — тонны золота, хоть увози на грузовиках. Я был удивлен, когда увидел, как хозяин одной из лавок небрежно мнет и бросает в плетеную корзину тонкие браслеты. — Что ты делаешь?! — вскричал я. Он равнодушно ответил, даже не взглянув на меня: — Из моды вышли, надо узоры обновить. А потом меня потрясли толпы паломников, не устающих глазеть на покрытые золотыми листами купола и минареты мавзолеев святых апостолов мусульманского мира. Зачарованно глядели они, исступленно прикладывались губами к златым вратам мавзолея, вымаливая путевку в рай. Вернувшись, я рассказываю о своих впечатлениях моему давнему другу — Екатерине Викторовне Голубевой и, как рассказчик, хочу произвести впечатление. Я замечаю, что на Екатерине Викторовне нет каких бы то ни было золотых знаков отличия, даже тоненького колечка. И к рассказу моему она равнодушна. Как не удивляться мне: в мире чуть ли не золотая лихорадка, цена на золото растет, его скупают, прячут, уши каленой иглой прокалывают, чтобы вдеть в них золотые серьги, а у меня в ушах, слава богу не проколотых, звучит голос Алтун-ханум, с упоением расписывающей красоты ювелирных изделий… Я даже видел на парижской улице женщину, на тощую ногу которой был надет золотой браслет, а Екатерина Викторовна, видите ли, равнодушна и даже презирает. — Никто не владел стольким золотом, как я, — говорит она. — ?! — Как-нибудь расскажу, — обещает она, и я, терпеливый, жду. Жду год, жду два… Глядя на движение звезд, Главный Звездочет одной восточной страны предсказывает, что очередной «мусульманский» год придет на Обезьяне. Это хорошо, если на Обезьяне: она — почти предок и зла не пожелает; правда, как увидел Звездочет, у нее был длинный хвост и она как будто висела вниз головой, и неизвестно, сколько висеть будет… Но обошлось. И вот уже Новый год, в ночь с 21-го на 22 марта, когда мусульмане отмечают новруз-байрам, Главный Звездочет объявил, что год пришел на Курице. Это тоже хорошо: курочка снесет яйца, вылупится цыпленок, а табака и Звездочет любит. Еще год проходит, и скачет Новый на Собаке. Звездочет ужасается: самые язвительные ругательства связаны на Востоке с именем собаки — и плохие соседи, как собаки, ругаются, и у врага сын собачий, и будь у собаки стыд, она бы штаны надела, и даже если дружишь с собакой, палку не бросай, и белая она или черная — собака останется собакой. Но тут я не выдержал — послал телеграмму Главному Звездочету: мол, лучше живая собака, чем мертвый лев, и если она даже лает, караван все-таки идет, к тому же собака — друг человека. Еще год, другой. Бывает же такое: то годами не видишь старых знакомых, а то чуть ли не каждый месяц встречаешься с ними. Смотрю, из парикмахерской выходят Алтун-ханум и ее коротышка муж. Высокая прическа впереди украшена седой прядью, а у мужа черные курчавые волосы, быстрые жесты и взгляды. Крупные зубы то и дело обнажаются в заливистом хохоте. Алтун-ханум и Арастун Афлатунович готовы к новой поездке. А еще через месяц узнаю: весельчак, возвращаясь из одной недальней южной страны, запихал в транзисторный приемник вместо батарей золотые монеты, и Алтун-ханум не смогла удержать… Прощай доброе имя, прощай теплое насиженное место старшего сотрудника. При встрече почему-то растерялся я, а не они. И только спросил: — На чем Новый год пришел? — На Баране, — говорит он, а в глазах его читаю: «На черте прискакал! На шайтане пожаловал!..» Алтун-ханум добавила: — И совпал с месяцем Путешествий. Они были, как всегда, точны, это подтвердил и Главный Звездочет: очередной «мусульманский» год прибыл в месяц Сафар, а в эту пору рекомендуется много путешествовать, дабы не застоялась кровь. Год Барана оказался почему-то очень благоприятным для меня. Именно тогда Екатерина Викторовна решила, что пришло время рассказывать. Мартовское солнце стало жарче — осесть сугробам; родилась фиалка — пробиться ей сквозь снег; на улицах лужи — отразиться в них плывущим белым облачкам и синему небу. Екатерина Викторовна вернулась в дни, когда ей было восемь лет, — в год 1941-й.* * *
Где я был, а где она была…* * *
— И то ли было это, то ли нет, я ли тогда была или приключилось это с другой… — Екатерина Викторовна начала рассказ о далеком времени, когда жила с матерью Марией и отцом Виктором в большом портовом городе на берегу Черного моря. Люблю я этот город. И люблю слушать, когда рассказывают о нем или о каком другом южном приморском городе. Я сразу ощутил тепло солнца, которого, увы, мне недостает, запахло морем. Четкие переходы света и тени — жаркое, слепящее глаза солнце и густая прохлада, как свернешь за угол и спрячешься в тени. — Но я бы, коль скоро мой рассказ станет повестью… — С чего вы взяли? А сам уже вспыхнувшее заглавие записываю: «История, рассказанная Екатериной Викторовной, другом нашего дома, в год Барана и в месяц Путешествий». — …начала бы ее так, чтоб вашу золотую тему продолжить: «Столбики золотых монет. Двадцатипятирублевые, десятки, пятерки. Орлом вверх. Были в жестяной коробке, теперь ровными столбцами высились на столе. С красноватым отливом, будто теплые». — Почти как стихи. — И стихи будут. — У вас неплохо получается. — Но сама я писать не буду. — Можно было б продолжить так: «От монет шел жар, и, казалось, они обжигают пальцы». — Уже было: повесть с чужими тетрадями. Но тетрадь у вас будет. Не моя, иначе придется вам ждать еще не один год, пока я не напишу, а моей матери. И не сейчас, а после того, как расскажу. — Начнете с монет? — Начну с теплого южного города. — …где некогда жила Катя. — …та, увы, уже никогда жить не будет. — Это как сказать, не загадывайте!..1
Жили в большом южном городе, где много солнца и пахнет то морем, то степью, Мария, ее муж и дочь Катя. Виктор работал инженером на судоремонтном заводе, а Мария пела в местной опере. Сразу попала сюда по распределению после окончания студии при Московской консерватории, правда не на первые роли, но иногда ей давали петь и ведущие партии. Приняли ее поначалу, как это часто случается, настороженно, а как ближе узнали — полюбили. Полюбили за мягкий нрав, за то, что не рвется в примы, не дерется за главные роли, безотказно выступает на шефских концертах, не гнушается и далеких поездок с тряской в грузовиках. Сидит молча в открытом кузове на скамейке-перекладине или держится рукой за гладкий железный верх кабины, и ветер треплет волосы, студит щеки. Как-то послали ее выступить в цехе судоремонтного завода. Здесь она познакомилась с высоким молодым парнем, и ее поначалу рассмешило сходство их фамилий: она — Голубкова, а он — Голубев. Виктор представил ее рабочим своего цеха, а после концерта проводил до самого дома: театр снимал для нее большую комнату, очень вытянутую в длину, с одним окном, и оттого полутемную, в старом коммунальном доме в двух кварталах от работы. Виктору и в голову не приходило, что он может полюбить артистку. Они казались далекими, недоступными, не созданными для долгой семейной жизни. Но Мария, то ли потому, что пела не со сцены, а здесь же, рядом, и до нее было рукой подать, одета была в обычную блузку с юбкой и держалась просто, то ли потому, что взгляд ее подкупил своей доверчивостью, открытостью, но Мария и усилий никаких не приложила, чтобы его неверные суждения о том мире, к какому она принадлежала, развеялись сами собой, да их и вовсе не было, Виктор на себя наговаривает, показалось ему; Мария шла рядом, говорила о маме и папе, которые панически боялись в этот голодный год отпускать ее одну из Москвы, и теперь что ни день пишут ей по очереди, а она не успевает им отвечать, но ответить надо непременно, и каждому найти слова, лишь ему адресованные; письма наивные, теплые, полные трогательных наставлений, и без них ей было бы тяжело; говорила и удивлялась в душе, что делится с человеком ей незнакомым, хотя, когда она его увидела и он представил ее, «дорогую гостью», рабочим, после концерта отвел ее в заводскую столовую, а потом подошел и спросил, может ли ее проводить, — у нее было такое чувство, что она давно знает этого высокого, с большой уютной ладонью Голубева Виктора. Мария сказала, что город ей очень нравится и зря о нем столько всяких небылиц насочиняли, и это было приятно Виктору, влюбленному в свой родной город, И он рассказывал о каштанах, тех, которые не едят, и они весело лопаются, когда созреют, и тех, которые вкусны, и нещадно трещат и взрываются, когда их бросишь на раскаленную сковородку; о станциях говорил, хотя какие это станции, особенно о шестой, где он жил, о пляже, о черешнях в их саду, и Мария внимала ему с таким интересом, будто речь шла о чем-то ей очень близком, и глаза ее под тонкими, как ниточка, бровями, как у Милицы Корьюс из «Большого вальса», говорили: «Я вам верю и, что ни скажете, не усомнюсь. А почему верю, и сама не знаю…» Раза два Виктор достал для Марии мешочек муки и колотый сахар. Потом принес трехлитровую бутыль подсолнечного масла и целый куб халвы. Иногда доставал ей талоны на обед в заводскую столовую. Тогда они обедали вместе. «Голубь голубку нашел!» — шутили на заводе, давая Виктору Голубеву с Марией Голубковой, сохранившей девичью фамилию, новую квартиру. Отец Виктора на свадьбу не пришел и мать не пустил. Демонстративно. — Я тебя познакомлю, ты только взглянешь на нее и поймешь, почему именно ее и только ее я выбрал! Но мать на следующий день после свадьбы пришла к ним домой, потом и Мария ездила на шестую станцию, и Дарья Дмитриевна учила ее готовить любимую еду Виктора: баклажанную икру по-гречески. Такой и запомнила Мария Дарью Дмитриевну: пекущую синенькие, разрезающую репчатый лук и чеснок, снимающую кожицу с большого красного помидора и заливающую всю эту перемешанную массу вкусным «семечковым», как она говорила, маслом. Старик был неумолим, хотя мать с каждым словом сына согласна была, да не встревала в разговор, понимая, что мужа не переубедить, за сердце держалась, которое и подвело ее, остановилось в последний день медового месяца сына. Юрий Юрьевич до жженья в горле сердился на себя, на жену Дашу, что сыновья выросли такие непутевые, упрямые, непослушные, замкнутые и непонятные какие-то; что один и что другой; Виктор покалечит жизнь, связанный и скрученный «залетной певичкой», Николай, старший, то ли холост, то ли женат, застрял в Ленинграде, как будто нельзя найти работу электрика поближе к родным местам; и за Дашу было обидно, что сразу свалилась, за тихую и верную Дашу, с которой прожито в согласии так много лет в этом удивительном, пахнущем одновременно и степью и морем городе. Они безвыездно прожили свою жизнь в этом большом, теперь пустом доме. Сердился, а ругать некого, виновных нет. Валить на Дашу за сыновей — грех, а самому себе признаться не хотел. Жил Юрий Юрьевич, сам бывший купец и родом из известного купеческого дома, в собственном каменном особняке с колоннами на шестой станции, держал жену и детей в строгости, приучил Виктора и Николая не лезть к нему с пустяковыми разговорами или расспросами, проявлять самостоятельность и в делах и в мыслях, и дети чтили отца, но теплоты к нему не испытывали, сокровенным не делились. Еще в студенческие годы Юрий Юрьевич прятал в своем доме одного из руководителей местного социал-демократического кружка, худощавого и низкорослого юриста, внутренне симпатизируя его отчаянной храбрости, — шутка ли, бежать из тюрьмы средь бела дня, — и это спасло Голубевых от преследований в жаркое послереволюционное время. Юрий Юрьевич порвал с прошлым, начисто прекратил все старые связи, вчерашний купец стал сегодня финансовым чиновником, попросту конторским бухгалтером, работал, так сказать, по специальности. У Виктора родилась дочь, которую назвали Катей, и дед принял внучку. «Дед Юр», — говорила ему Катя, и в семье все стали называть его, как придумала Катя, «Дедюр».* * *
Бомбы разорвались в их городе в первый же день войны. Дико, нелепо, страшно. Рвутся — и не защититься, никуда не уйти, не спрятаться от них. Виктор и прежде был для Марии каменной стеной, защищавшей от всех неурядиц, а теперь она боялась хоть на минуту остаться одна, без мужа. Неприятностей попросту не было раньше в ее жизни: муж провожал в театр, а после выступлений она была уверена, что, как только выйдет, у театрального подъезда ее будет ждать Виктор. Даже когда заболевала Катя, большую часть забот брал на себя он, и Мария в эти дни не пропускала спектаклей, чтобы не подводить театр. Передачи о событиях первых дней войны назывались Сводками Главного Командования Красной Армии. Люди на улицах собирались у столбов, на которых были установлены большие репродукторы, и слушали. Черный раструб репродуктора был почти ка уровне комнаты, где жили Мария и Виктор. Они ловили каждое слово Сводки. «…германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии»; «…после ожесточенных боев противник отбит с большими потерями». «…Констанца горит». «…Нефтебазы в Варшаве горят». «…Противнику нанесено значительное поражение, его остатки отбрасываются за р. Прут». И хотя через несколько дней в Сообщениях Совинформбюро, заменивших Сводки Главного Командования Красной Армии, появились вести о том, что немцы заняли Белосток, Гродно, Вильно, Каунас, что, «осуществляя планомерный отход, наши войска оставили Львов», верилось, что войне скоро придет конец.* * *
(Странно, но именно в эти дни начал жечь свои павлинохвостые ассигнации Телеграфный столб. Будто фокус показывал нам. — Мне предлагали золотыми монетами!.. Нехотя, долго, чадя горели ассигнации. — А я отвергал монеты, требовал бумажные, чтобы легче было везти!.. Мы галдели под его окном, предрешая скорую победу, и раскачивали скрипучие перила его лестницы. — Сколько раз говорить вам, щенки, не стойте под моим окном! — злился он. Отбежав ненадолго, мы снова подходили к его окну: здесь прохладно, навес и можно покачаться на перилах. — Вот я вас сейчас из шланга!.. — пискляво грозился Телеграфный столб. Нашел чем пугать — водой обольет!.. Мы ждали. Ровно в четыре часа, в самое пекло, он из шланга поливал двор и свою виноградную лозу под окном. — Брысь отсюда, щенки! Длинная палка — это уже серьезно…) В городе рвались бомбы. Загорелся поблизости дом, черная сажа большими хлопьями стала оседать на окна. Мария задыхалась. Катя была рядом, но Мария крепко держала ее за руку, боясь отпустить от себя.* * *
Год этот начался для Марии с недоброго предзнаменования, нагрянул с бедой. Дважды пришлось Марии трогаться в путь. В Москву. Но в конце января, уезжая в Москву, она не знала, что ей предстоит еще вторая поездка через неделю и дожидается, притаилась зловеще третья, страшная, последняя. Телеграмма грянула нежданно — от Клавы: «Немедленно выезжай, отец плох». Мария ехала, обманывая себя надеждой, что отец только плох, как и пишет Клава, но жив. Отца в живых не застала: Иван Голубков, скрипач симфонического оркестра, не знавший раньше никаких недомоганий, живший размеренной жизнью, по часам, без излишеств, умер из страха за свою жену, — ей вдруг стало плохо, она потеряла сознание, и вызвали «скорую помощь», чтобы ее взяли в больницу, и он, как сидел и смотрел на свою Надю, Надежду Филипповну, вдруг сник, плечи согнулись, голова упала на грудь. Тяжелую неделю провела Мария в Москве: похоронили отца, дважды в день, утром и вечером, подолгу сидела у кровати матери в больнице и уехала, когда мать стала поправляться, и настояла на том, чтобы Мария возвращалась, Виктору одному трудно. Спасибо Виталию, зятю Марии, недавно демобилизованному после финской войны, совсем молодому парню со светлым, как седина, хохолком, с которым Мария познакомилась, когда приезжала к родителям с годовалой Катей. Вся тяжесть по похоронам легла на его плечи, и он, как отца родного, хоронил своего тестя Ивана Ивановича. И с работы Клавы помогли: химический завод, где устроилась она по специальности после техникума, прислал автобус. Весь день над Иваном Голубковым играли скрипки его товарищей по оркестру — и вместе, и поодиночке. Когда Мария вернулась и ее встретили Виктор и Катя, не знала она, что в кармане мужа прячется новая телеграмма от Клавы, — состояние матери неожиданно ухудшилось, и Клава снова вызывала сестру. На сей раз с Марией поехал и Виктор, а Катю оставили у деда. Свояки еще в первое свое знакомство быстро нашли общий язык. А в этот свой приезд Виктор поначалу не узнал Виталия — тот отрастил некрасивые рыжие усы, чтоб казаться, подумал Виктор, ровесником Клавы; и в первое знакомство, как уловил Виктор, Виталия тяготило, что он моложе своей жены на восемь лет. Женя приставала к отцу, не понимая всего случившегося, Виталий брал ее на руки, она рвала его усы, смеялась так некстати громко, а он уводил ее быстро на кухню, и Виктор слушал, как Виталий, пытаясь придать грозное звучание голосу, нестрого укоряет дочь: — Нельзя так громко смеяться! Как не стыдно? Видишь, мама плачет, тетя плачет. — А я плакать не буду! — говорила Женя. — Не хочу плакать! Когда пришло время прощаться, у Марии с Клавой был разговор, от которого остался неприятный осадок, боль какая-то, и она долго не рассасывалась, не проходила… Ни с того ни с сего вдруг вырвалось у Клавы, когда они остались одни: Виталий с дочерью и Виктором пошел погулять. Вырвалось у Клавы то ли осуждение, то ли обида, то ли непонятная злость. — Тебе что? — сказала она. — Приехала и уедешь! У всех, как у людей, а я с чего начала, к тому и пришла! Пока был жив отец, помогал мне, а я при муже, как мужик, работаю! Виктор все время с тобой, и никаких у тебя забот. И заплакала. Мария промолчала. Клава тут же перестала плакать, глаза высохли. — Проклятье какое-то! То действительную Виталий служил, то Западную Украину освобождал, а оттуда — на финскую войну! Нашей Жене шесть лет, а я с ее отцом в общей сложности месяц и пожила. Любовь с увольнительными! Свидание на час и разлука на месяц! Все время в пилотке да стриженый! — Зачем ты так? — А вот затем! Взяли бы твоего Виктора, я бы посмотрела на тебя!.. И вот новая беда.* * *
За день до ухода на фронт Виктор поехал прощаться с отцом на шестую станцию. Мария осталась одна. Катю Виктор взял с собой. Хоть и притупились старые обиды, но свекор и невестка, как и прежде, относились друг к другу настороженно, — столько лет прошло, а он, неотходчивый, по-прежнему не одобрял ее легкомысленной, по его мнению, работы, а она побаивалась его иронических реплик. Виктор был неспокоен. Обычно здесь, в пригороде, в родном отцовском доме, где оставалась его комната, «комната Вити», как говорила мать, он отходил от городских житейских забот, отключался, блаженствовал после пляжа, сидя у настежь открытого в густой отцовский сад окна, гуляя перед домом, куда доносился шум моря, или проваливаясь в добродушное кресло-качалку с плетеной спинкой и издающее знакомый с того времени, как помнит себя Виктор, странный скрип, — то ли заговорить хочет, то ли встрече радуется, проваливаясь с книжкой в сафьяновом переплете, в которой рассказывается о королях и рыцарях времен далеких и таких нереальных. Все было на месте: и комнаты, и полки с книгами, и сад был по-прежнему густ, и кресло-качалка стояло на месте, и, когда входил в дом, в спину будто бил морской прибой, и высокие колонны торжественно молчали, но все уже было другое с того дня, как в городе разорвались бомбы. Тревожно и жутко… Виктор смотрел на Катю, пьющую чай из большого блюдечка, и думал: «Понимает ли она?» А ей передалось и волнение его, и беспокойство матери, когда она провожала, крепко схватив за руку. Даже дед был другим. Она уловила, что в его голосе появилась дрожь и глаза смотрят так, что не подойдешь, не бросишься с ходу на шею, как бывало. И борода торчала жестко, раньше не кололась, а теперь больно кольнула в щеку, когда Катя поцеловала деда. Виктор с Катей остались в комнате, а отец ненадолго отлучился, потом вернулся с большой жестяной коробкой в руках и сел к столу. — Иди, Катенька, нарви черешен, — сказал он внучке и, когда та вышла, положил грузную руку на крышку коробки. — Вот оно как получается, — сказал Юрий Юрьевич и в упор посмотрел на сына. — Долгие годы я молчал, и вас мучил, и сам терзался. Здесь отцовское наследство, которое я хранил. Золото. Шестьсот монет. Твои и Николая. Как видишь, хранил не зря. Время наступило суровое… — А что мне с ними делать? — Виктора ошарашило отцовское известие, и он запротестовал, толком еще не осмыслив всего того, что сказал отец. К чему оно, это золото? И именно теперь, когда все так неясно складывается, он — на войну, и неизвестно, как будет с Марией и Катей?.. — Я же иду на войну, и Коля, наверное, воюет уже. Припрячь наследство, а там видно будет. — Нет! — отрезал отец. И, как в детстве, Виктор почувствовал, что возразить не сумеет, сделает так, как повелевает отец. Дух протеста весь иссяк, когда Виктор отстоял свое право жениться на Марии. — Я все обдумал, — продолжил отец, — я знаю, как поступить! Я напишу Николаю, он найдет Марию и заберет, если захочет, свою долю. — Как же Мария с Катей? Я думал их на твое попечение оставить, вместе бы эвакуировались. — Я никуда не уеду, как жил здесь, так и останусь. Дом бросать нельзя и оставить не на кого. Дождусь здесь вашего возвращения, будет вам куда вернуться. А Марию с Катей здесь оставлять не безопасно, пусть уезжают. Золото им пригодится, хорошей подмогой будет, ведь твоя Мария неумелая, ни к чему не пригодная. А золото — это и хлеб, и жилье, поможет им выжить. — А ты? Как же ты? Оставь себе хоть часть! — Ты обо мне не беспокойся, я в своем доме, прокормлюсь как-нибудь, не волнуйся. И обязательно дождусь вас! Юрий Юрьевич понимал, что надо ободрить сына, вселить в него уверенность. — А если немцы сюда придут? — спросил Виктор. — Затаюсь, выживу! Как придут, так и уйдут. Даст бог, остановят их, а потом и прогонят. Он много перевидал в жизни и смерть не раз обманывал, выкрутится и сейчас. Особенно тяжело было в декабре восемнадцатого, когда здесь высадился десант и греческий офицер чуть не пристрелил его и отправил бы на тот свет, не приди на помощь сосед-грек. И в апреле девятнадцатого. Тогда, пока не разобрались, что он прятал большевика, спасли десятилетний Коля и восьмилетний Витя, они были рядом, испуганные и почему-то в рваных штанах, испачканные, и красные сжалились над ним. — А коробку возьми! Юрий Юрьевич завернул коробку в мешковину и перевязал веревкой. И Виктор с Катей ушли. Простились отец с сыном, думая каждый, что это — ненадолго, еще дважды Виктор навестит отца, забежит к нему, но именно это расставание запомнится ему, тяжелое расставание. До боли жаль было отца: он, молодой и сильный, никак не может помочь своему старому отцу, оставляет его одного, а отец, забыв свою неприязнь к Марии, хочет оградить их от беды. И он ушел с чувством какой-то вины перед отцом. И с нелепой коробкой под мышкой, и ему казалось, что люди в трамвае недобро смотрят на него: «А ну-ка, гражданин, покажите, что у вас там, в мешковине!..» А она была пыльная, ворсинки налипли на брюки, въелись в синюю ткань и никак не отряхивались, рука чесалась, на ней отпечатались узоры — багровый след от грубой мешковины. Но людям в трамвае было не до Виктора и его мешка — какой-то старик громко говорил соседу: «Скоро он выдохнется! Нефтебазы в Констанце и Варшаве горят! В Голландии взрывы на военных складах! В Югославии партизаны! Слышали? В районе Каллола финны сдались в плен!.. Помяните мои слова — скоро он выдохнется!» Бородка его тряслась, сосед, слушавший его, молчал. Но все понимали, что «он» — это немец. Увидев золото, которое вспыхнуло мгновенно, как только Виктор открыл коробку, Мария испугалась. Виктор, и сам ошарашенный увиденным, тотчас невольно хлопнул крышкой и прикрыл коробку краем мешковины. — Нет, нет! — запротестовала Мария. — Мне такая помощь не нужна! Отнеси, верни ему! — Этого я сделать не могу. Отец решился отдать то, что хранил всю жизнь, из желания примириться с тобой, загладить вину за все эти годы. — От такой помощи одни заботы. Что я с ним буду делать? — Доберешься до места, посмотришь, что к чему, обстановка подскажет. — Нет, нет! Ничего я не хочу брать! — Но ты должна сохранить и отдать Николаю его половину, это я обещал отцу твердо… Я очень тебя прошу, возьми! Мне будет спокойно, что хоть чем-то я вам помог. Мария смирилась с мыслью, что золото останется с нею. Только совсем не хотелось видеть эту облезлую жестяную коробку. Мария рывком достала из-под кровати чемодан, подняла коробку, которая неожиданно оказалась тяжелой, опустила ее в чемодан и ногой задвинула на место. Коробка была словно отвратительное пресмыкающееся. Марию всю передернуло, и она пошла мыть руки.* * *
Воинская часть Виктора пока оставалась в городе. Иногда ему удавалось ненадолго забежать домой. В городе усилились бомбежки. Особенно сильная была в ночь с тридцатого июня на первое июля. Было много разрушенных домов, разговоры велись о безопасных бомбоубежищах. Мария, не дожидаясь сигнала тревоги, каждый вечер спускалась с Катей в подвал дома, превращенный, как и все другие подвалы города, в бомбоубежище. Виктор с Марией оба участвовали в устройстве бомбоубежища, таскали мешки с песком, чтобы заложить окна, другие жильцы прямо в подвале сколачивали топчаны. Иногда Мария дежурила у входа, чтобы сюда не попали «подозрительные», как говорили люди, — все время ходили слухи о шпионах. Эвакуация шла давно. Большинство молодых артистов театра ушло на фронт, часть эвакуировалась вместе с консерваторией и преподавателями школы Столярского, где всю прошедшую зиму уже занималась Катя по классу скрипки, в Свердловск. Но Мария отгоняла от себя мысль об эвакуации, старалась не думать о ней: пока они с Катей дома, Виктор знает, где их найти. Но наступил день, когда Виктор пришел с билетами на пароход и разрешением на эвакуацию. Решено было, что Мария и Катя будут пробираться в Москву в родительский дом. Там сестра — вместе будет легче. Железные дороги были перерезаны, добираться надо кружным путем. Из вещей взяли самое необходимое. Не потому, что Мария боялась тяжести, — ей хотелось верить, что они скоро вернутся, война продлится недолго. А о том, что город сдадут врагу, она и в мыслях не держала. Мария убрала комнату, развесила в шкафу платья, прикрыла их простыней, чтоб не пылились, даже не сняла с кровати покрывало. Только закрыла ставни и задернула шторы, чтобы нещадное южное солнце не убило краски ковра, висевшего на стене, и не высушило пианино, привезенное сюда Виктором из отцовского дома, когда они поженились. Они были готовы, когда за ними пришел Виктор. Посидели — встали. С одной думой: вернуться, быть вместе. До порта добрались пешком. Виктор нес чемодан и свернутый трубкой коврик, с которым Мария и Катя спускались в бомбоубежище; коврик взяли для того, чтобы, как в подвале, подстелить, если придется ехать на палубе; в руках у Марии была небольшая сумка. Вышли сначала к театру, обложенному мешками и забитому досками, спустились по скверу, пройдя мимо цветочных клумб с темно-красными, бархатистыми каннами. У памятника Пушкину свернули на бульвар. По затененной каштанами аллее, где еще совсем недавно они прогуливались теплыми вечерами, даже не предполагая, что всему этому скоро придет конец, они дошли до памятника Ришелье. К фуникулеру стояла большая очередь, и они долго спускались по гигантской белой Потемкинской лестнице. Накануне всех потрясла весть: командир эскадрильи капитан Гастелло направил охваченный огнем самолет на скопление фашистских танков, автомашин и бензиновых цистерн, взорвался сам и взорвал десяток машин и цистерн. Порт был забит людьми до отказа. Мария и не подозревала, что в их городе так много людей. Большие ворота порта были закрыты, пропуска тщательно проверяли у входа. Хорошо, что вещей у них было мало, — каждому разрешалось взять только одно место. Те, у кого было много вещей, возвращались, создавая встречное течение. Задние ряды напирали, толпа росла; Мария крепко держала Катю за руку, стараясь в этой давке не потерять Виктора. Они прошли контроль и выбрались на причал; провожающих не пропускали, но Виктору все же удалось пройти. При посадке проверка шла еще строже. На причале тоже было много людей. Мария видела, как из открытых чемоданов и развороченных узлов выбрасываются лишние вещи, а необходимое впихивается, уминается в тот самый единственный чемодан, который разрешается взять с собой. Гора пустых чемоданов, сундучков, сумок, корзин росла. С Виктором они наскоро попрощались у трапа, Катя понесла коврик, а Мария — чемодан и сумку, их торопили. На палубе не было места, где можно было бы пристроиться. Они спустились в жаркий трюм и заняли место на нарах. Неожиданно где-то загрохотало. По лестницам бегом стали спускаться люди. Скоро весь пол трюма,свободный от нар, был занят. Корабль слегка потряхивало. Вверху что-то громыхало, казалось, на палубу бросают глыбы камня или с силой опускают многопудовые гири. Катя испуганно смотрела на маму. Чтобы успокоить дочь, Мария говорила, что на пароход грузят бочки. Никто не заметил, когда вышли в море. Мария расстелила на нарах коврик и уложила Катю. Утром следующего дня они поднялись на палубу, одуревшие от трюмной духоты. Они увидели весь свой караван, который сопровождали военные суда. На палубе Мария услышала о том, что в караване, который шел раньше, утонул пароход «Ленин». И еще говорили, что самое трудное впереди — нужно пройти минные поля у Севастополя. В Ялте была долгая стоянка — к ним подсадили спасенных с «Ленина». В Новороссийском порту встречающих было много. Стояли и те, которые эвакуировались неделей раньше, и те, которые прибыли из других мест. Точно никто не знал, какой пароход утонул. Одни говорили, что «Грузия», другие называли «Буденный», третьи — «Ворошилов». Как только Мария ступила на трап, она услышала: — Мария! Это был голос Виктора, но она подумала, что ей почудилось. Но голос слышала и Катя. Не успели они сделать несколько шагов по причалу, как сквозь толпу к ним пробился Виктор. Это был действительно он. Когда Мария увидела его родное лицо, она заплакала. Катя бросила свой коврик и повисла на шее у отца. Диктор сообщал: «…немцы столкнулись с исключительным упорством не только регулярных войск, но и гражданского населения». Часть Виктора только накануне прибыла с военным транспортом в Новороссийск. И только здесь он узнал, что их караван ожидается сегодня. Его отпустили до вечера. Он был еще в своем старом пиджаке: форму им обещали выдать днями. Репродуктор продолжал извещать: «…за истекшие сутки наши войска сдерживали наступление крупных мотомеханизированных частей противника». С Виктором они пришли на эвакопункт. Сдали одежду и вещи на дезинфекцию; помылись в бане и получили справку: без нее нельзя ступить ни шагу. Как хорошо, что они встретили Виктора! Без него, казалось Марии, они бы с Катей пропали. Правда, еще когда они были на пароходе, кто-то руководил ими. И на эвакопункт они шли вместе с группой, и в столовую прошли вместе. Какой-то седой высокий человек разделил их на более мелкие группы по предполагаемым маршрутам, и все вместе пришли на вокзал. Из Новороссийска кто ехал на юг — в Грузию, в Баку, кто на Волгу, к Уралу, кто в Среднюю Азию. Нет, все-таки очень, хорошо, что Виктор был рядом!.. Новороссийск встретил Марию ураганным ветром. Хоть и жили они в приморском городе, такого ветра она еще не видела. От пыли, поднятой ветром, над городом стоял туман. Песок бил в глаза, скрипел на зубах, забирался в нос. Ветер валил с ног. Если бы Виктор не держал Катю за руку, а Мария не пряталась за Виктора, им бы пришлось худо. Но ветер был сегодня помощником эвакуированных и горожан: в такую погоду город отдыхал от налетов. На вокзале Мария получила билеты на Сталинград — в Москву ближе всего было через Сталинград. Те несколько счастливых часов, которые им довелось провести вместе в ожидании эшелона, Катя сидела на коленях у отца, теребила ему волосы, разглаживала пальчиками брови, трогала щеки. Мария не мешала им, сидела, тесно прижавшись к руке Виктора. Подали эшелон. И во второй раз Виктор провожал семью. Когда поезд тронулся, он шел рядом с вагоном, потом убыстрил шаг, потом побежал… Встреча с мужем успокоила Марию, она верила, что увидит его скоро опять: ведь у Виктора язва желудка, как только врачи дознаются, обязательно отпустят его, он даже не успеет взять в руки винтовку, как война кончится. Катя крикнула: — Не оставляй нас одних, папа! Виктор не услышал, а у Марии сжалось сердце, на глаза навернулись слезы, Виктор растаял за пеленой. Тихо всхлипывала Катя, мама говорила, что все будет хорошо, что скоро они снова встретятся и будут вместе. Она не знала, что видит мужа в последний раз, что Виктор действительно не успеет взять в руки оружия: через несколько дней воинский состав попадет под сильную бомбежку и Виктор навсегда останется лежать в новороссийской земле. Но об этом Мария узнает не скоро. А услышав, не поверит.* * *
Не доезжая до Сталинграда, поезд остановился. Вокруг расстилалась степь. Солнце нещадно палило. Казалось, что земля жжется. Пока ехали, жара не была так ощутима. Но от долгого и непонятного ожидания крыши накалились и в вагонах нечем было дышать. Кто-то крикнул, что их состав без паровоза. Люди выпрыгивали из вагонов и убеждались, что действительно их отцепили. Рядом с колеей, на которой стоял эшелон, было семь-восемь путей. Значит, где-то неподалеку крупная станция. Но спросить, что за станция, было не у кого. Ожидание тянулось бесконечно. От жары некуда было спрятаться, от безветрия сохли губы, росла жажда. Люди покинули вагоны, жались к теневой стороне эшелона. Одна из пассажирок по измазанным мазутом шпалам пошла вперед, к видневшейся вдали будке. Вскоре она вернулась и сообщила, что до Сталинграда еще далеко, что стоят они на запасном пути, а когда за ними придет паровоз, стрелочник не знает. Оставалось только ждать. Весть это разозлила всех. Некоторые обрушились с упреками на девушку, видевшую стрелочника. А что она могла? Катя просила пить. Мучилась от жажды и Мария. Ждать было невыносимо, но и идти по такой жаре было бессмысленно. Вдруг раздался гудок. И все увидели идущий по одному из путей состав в сторону Сталинграда. Мария сама не знала, как это случилось: она бросилась навстречу поезду, перепрыгивая через рельсы, не слыша, как ее зовет Катя. Катя хотела побежать за мамой, но ее не пустили. Мария на ходу сдернула с головы платок и стала яростно размахивать рукой. Поезд все приближался. Она добежала до пути, по которому шел ей навстречу состав, и остановилась между рельсами. Паровоз дал протяжный гудок, потом еще один, прерывистый, но женщина с полотна дороги не сходила. Люди замерли. Мария в ту минуту не думала, что может погибнуть под колесами. Ею владела одна мысль, одно желание — остановить поезд, остановить во что бы то ни стало! И она знала, что остановит поезд. И это ее знание будто передалось машинисту, и он затормозил. Он не мог не остановить — перед ним была живая преграда. Поезд остановился совсем недалеко от Марии. Из паровоза выпрыгнул маленький, измазанный сажей машинист: — Дура ты, дура! Хочешь умереть — умирай, нечего из меня убийцу делать! Дура!.. Мария ничего не слышала. Стояла на том же месте совершенно белая. Только сейчас до ее сознания дошло, что могло произойти. В ушах у нее гудело, перед глазами пошли черные круги… Много раз еще, даже долгое время спустя, будет вставать перед ее глазами этот рычащий, грозно пыхтящий паровоз. От страха будет сжиматься сердце и холодная испарина выступать на лбу. Не успел поезд остановиться, как эвакуированные бросились к своим вагонам и, схватив вещи, ринулись к остановленному Марией составу. Старики, женщины, дети, с узлами, чемоданами, корзинками, бежали по путям, спеша поскорее влезть в поезд, даже не зная, куда он пойдет. А состав-то был не пассажирский, а товарный. Это люди только теперь рассмотрели. Но они влезали на открытые платформы, груженные лесом, втискивались в теплушки-хлевы, где везли коров, лошадей, бросали вещи в тамбуры запечатанных вагонов, садились на лестницы цистерн с нефтью. Катя, глядя на остальных, с трудом вытащила из вагона сумку и коврик, вытолкнула из тамбура чемодан и волоком, сама не зная как, тянула их по земле. Машинист и кондукторы вагонов тщетно пытались остановить лавину. — Куда вы? — кричал машинист. — Я не в город еду! На товарную станцию! Люди были глухи к его словам. В считанные минуты состав был занят. Мария окончательно пришла в себя, когда рядом с собой увидела Катю с вещами. — Что ты стоишь? — над ухом раздался голос машиниста. — Все уже сели, одна ты осталась! Он взял чемодан и пошел к тамбуру первого вагона. Катя потянула мать за ним. Он подсадил Катю, подтолкнул Марию к вагону, побежал к паровозу. И поезд двинулся к Сталинграду.* * *
Самое трудное ждало Марию впереди. Достать билеты из Сталинграда в Москву было невозможно… Товарный состав остановился. Отсюда в город шел трамвай. Мария и Катя сошли у городского вокзала. Над головой — все тот же голос диктора: «Утреннее сообщение десятого июля… отбили все атаки противника с большими для него потерями… решительные контратаки наших войск… наши войска сдерживают наступление крупных сил противника…» Будто речь о другой стране, далекой и нереальной. Сталинград был полон солнцем. Закрыть бы глаза, зажать бы уши, чтобы все, что было, оказалось только страшным сном; открыть бы глаза и увидеть свой южный, на берегу моря, город, такой же солнечный, такой же теплый. Но нет. На огромной площади скопилось столько народу, что некуда было ногой ступить. Перед зданием вокзала, у каменной ограды, на тротуарах, на мостовой — всюду были люди, люди, люди. Едящие, лежащие, спящие, громко разговаривающие. На скамейках, под скамейками, прямо на земле. С трудом отыскав место под колоннадой у здания вокзала, Мария посадила Катю на чемодан, положила ей на колени коврик с сумкой, а сама пошла внутрь. И откуда только в ней решимость появилась, и сама не знала. От чемодана болели руки, но она терпела: лишь бы добраться! Под гулкими сводами вокзала стояло гуденье от сотен голосов. Пробиться к кассовым окошкам было невозможно. Да и те, кто пробились, уходили ни с чем. Никаких билетов не было. Марию мотало от окошка к окошку, от начальника к начальнику, и уж совсем было она упала духом, как за одной из дверей появился лучик надежды. Мария в сотый раз рассказывала, что муж у нее на фронте, что пробирается она в Москву с дочкой, что родом она оттуда и там ее ждет сестра. Марию слушали, ей верили, но ничем помочь не могли. Неожиданно в разговор вмешалась телефонистка. Она подозвала к себе Марию и быстро ей шепнула: — Сейчас у меня будет разговор с Москвой. Если останется время, я соединю вас с сестрой, давайте номер! Скажете ей, чтоб прислала прямо сюда на вокзал телеграмму-вызов. На имя начальника вокзала. — Номер отключен, если есть другой, давайте скорее! Мария лихорадочно порылась в записной книжке и нашла: номер соседей из их подъезда, с пятого этажа, Колгановых! Ее соединили. Мария говорила с самим Колгановым и мучительно вспоминала его имя и отчество, которые вылетели из головы. — Это я, Мария, — кричала она в трубку, — сестра Клавы, Голубкова. Узнав, что ей нужен вызов и она рвется в Москву, Колганов сказал, что приезжать нет смысла, потому что сама Клава с заводом через три дня эвакуируется в Свердловск, уже упакованы у нее вещи, и советовал ей, Марии, ехать прямо в Свердловск. И, только повесив трубку, вспомнила: Георгий Исаевич! Рокочущий громкий голос Колганова напомнил ей свадьбу Клавы: именно Георгий Исаевич, в доме которого Клава познакомилась с Виталием, и выступал в роли свата. Результаты разговора были для Марии полной неожиданностью. Все ее планы рушились. Может, ехать в Свердловск, как советует Колганов? Там и театр… Но как об этом узнает Виктор? Ведь он будет писать в Москву. Телефонистка слышала весь разговор. Она старалась приободрить Марию, говоря, что, конечно, достать билет в Свердловск невозможно, но тут она может помочь. — Подождите окончания моей смены! — сказала телефонистка. — Я с дочкой у колоннады. — Найду вас, никуда не уходите! — и ободряюще кивнула Марии. Прямо на вокзале Мария купила горячие оладьи, которые продавала молодая бойкая женщина с толстыми ногами, и они с Катей тут же у входа, сидя на чемодане, поели. В голове гудело, ноги ныли. Ни о чем не думалось — просто не было сил. Дни были длинные-длинные, как один сплошной, без ночей и сна, день. Взгляд был прикован к двери, откуда должна была выйти телефонистка. На одну ее и надеялась Мария, ожидая наступления вечера. Телефонистка — она назвала себя Верой — нашла палку, вдела на нее чемодан и сумку, за один конец взялась сама, за другой — Мария, и они пошли. Катя волокла коврик по земле. Вера взяла у нее коврик. Она повела Марию с Катей к себе домой. Они долго шли сначала по центральным, потом по немощеным, похожим на сельские, улицам. Чувствовалась близость реки. Вера рассказала, что ее мать работает в речном пароходстве и с ее помощью Мария сможет подняться вверх по Волге. Они подошли к небольшому кирпичному домику: Мария облегченно вздохнула — наконец-то она нашла место, где они отдохнут. У нее горели пятки, ныла поясница, плечи и руки ломило. На Катю больно было смотреть: лицо у нее осунулось, она устала. Хозяйка дома готовилась в рейс. Она не удивилась и не рассердилась на дочь, что та привела чужих людей, видимо привычная к таким ее поступкам, и тут же стала думать, как им помочь. Сама она ходит на рейсовом теплоходе между Сталинградом и Астраханью. Можно, конечно, договориться с теми, кто поднимается вверх по Волге и заходит даже на Каму. Но сегодня это сделать не удастся. Только вернувшись из рейса, она сможет поговорить с нужными людьми. Но есть еще один выход. Сегодня утром вниз пошел пароход, который из Астрахани поднимется вверх по Каме. Поварихой на этом теплоходе работает крестная дочери. Она не откажется взять Марию и Катю. Но для того чтобы попасть на тот пароход, нужно сейчас же вместе с нею уходить в рейс, — их суда по графику встретятся в Астрахани. Так и не удалось отдохнуть Марии и Кате. И силы нашлись, к удивлению Марии. Сбросила усталость, и Катя тотчас встала, и они пошли с хозяйкой и ее дочерью на речной вокзал. По пристани пробирались с трудом — и здесь было много народу. У Кати слипались глаза, и она шла шатаясь. На дебаркадере люди сидели на вещах в ожидании посадки. У сходен они остановились, женщина велела им подождать, а сама поднялась на судно. Долго ее не было, но она сумела уговорить старшего помощника разрешить ей провести «племянницу с дочкой, эвакуированных с Украины», до Астрахани. Место, которое им отвели на палубе, все сокращалось и сокращалось. Мария привалилась спиной к стене, подсунула под голову Кати чемодан, накрыла девочку ковриком, чтобы не простудилась. Вытянуться и лечь самой было просто негде. Во тьме нельзя было различить ни реки, ни берегов. Только слышался плеск воды да слегка покачивало. Мария уснуть не могла, то забывалась в полудремоте, то просыпалась вздрагивая, когда голова ее сползала и ударялась о плечо соседа. Ее мучили какие-то непонятные видения, фигуры, которые росли и раздувались, она просыпалась и засыпала вновь, а неприятный сон не оставлял ее. К утру ее стало знобить. От реки поднимался молочный туман. Марии было так холодно, что казалось, никогда она не согреется. Солнце прогнало кошмарные сны, дало ей возможность ненадолго крепко уснуть, разогрело воздух. Она проснулась от голосов, и на залитой солнцем желтой горячей палубе, откуда открывался вид на ясное небо, жизнь показалась Марии не такой страшной, как накануне. Все образуется, подумалось ей.* * *
Пароход, который шел на Урал по Каме, отправлялся через два часа. Повариху им найти пока не удалось. Чтобы поесть, пошли на базар. Чего только не было на астраханском базаре!.. Такое изобилие Мария видела в последний раз. Здесь, на базаре, не чувствовалось еще дыхания войны. Или в преддверии страшного голода люди хотели запомнить все, что может родить земля. В корзинах, ящиках, просто на листьях виноград — янтарный, темно-красный, сине-сизый, черный, градинка к градинке, круглые и продолговатые. Холмы арбузов, каждый из которых будто раскрасил искусный мастер, обозначив дольки белыми и черными линиями, полные сахара; не успеешь коснуться ножом, как арбуз с треском лопнет и в зигзагообразную трещину выглянет красная сочная мякоть. Рядами были выстроены глиняные крынки, горшочки, эмалированные кастрюли, деревянные туески с медом, сливочным маслом, смальцем, сметаной, которую можно резать ножом, варенцом, колобки творога с отпечатавшимися на корке клеточками от марли… На базаре было столько мяса, будто люди напоследок порезали весь скот, всех телят и овец. Цыплята, куры, утки, индюшки, гуси — живые, ощипанные… Не было счета прижавшимся друг к другу синим баклажанам, помидорам, яблокам, грушам; стояли мешки с орехами, фасолью, фисташками, семечками… Тут же на примусе жарились куриные потроха, продавался румяный, пахучий, с блестящей розовой корочкой домашний хлеб. Но это еще что! Рядом с изобилием рыбных рядов меркло все то, что так поразило Марию. Будто из бедности попали в богатство. Казалось, сюда принесли всю выловленную рыбу Каспия и Волги. Царицы Каспия, проводящие блаженные дни в соленой воде, но мечущие икру в сладкой речной, — севрюги, осетры, белуги; предпочитающие сумрачное дно рек быстрому надводному течению — плоские, худощавые лещи и темнокожие толстые лини; золотые ленивые сазаны; верткая щука; серо-белые судаки и в небольших кадках — знаменитая волжская стерлядь; особое место было отведено сельди, — только что выловленная, посоленная вчера, посоленная месяц назад… Казалось, на астраханском базаре открыта выставка даров моря и реки. Но как спрятаться от грозного репродуктора, висящего над головой, черного, с широкой пастью: «…упорные бои на Псковском, Витебском и Новгород-Волынском направлениях»? Поели горячей жирной ухи, которую варили в котлах тут же, и, уже покидая рыбные ряды, встретили крестную Веры. В отличие от людей своей профессии, повариха, которую звали Маруся, была высокая, тощая, даже костлявая женщина. На морщинистой шее проступали толстые, с палец, жилы. Лицо у нее было обветрено, губы потрескались. О том, что достать билет на пароход и думать нечего, они знали и без нее. На то и крестная, чтобы помочь в трудную минуту. Маруся закурила папиросу, озабоченно оглядывая Марию и Катю. Она курила быстро, жадно затягиваясь. Как будто боялась, что кто-то не даст ей докурить. Бросила окурок, прокашлялась и подытожила: — Ну, Настя, устрою твоих знакомых. Принеси их вещи. Каюта моя хоть и тесная, да как-нибудь уместимся. «Племянница» молча обняла «тетку» и поцеловала ее. А она долго стояла на пристани, провожая глазами медленно разворачивающийся пароход, увозивший Марию и Катю, чужих, в сущности, людей, с которыми сблизилась за одни сутки. Кто знает, скольким она еще поможет за эту долгую войну, скольких еще будет провожать.* * *
По обеим сторонам широкой реки тянулись песчаные берега. Ни деревца, ни дома. Слева проплыл маленький островок, заросший камышом. Порывы ветра порой приносили горячее дыхание желтых песков. В маленькой каюте было душно, и до самого вечера они простояли на палубе. Сталинградская стоянка была ночью. Мария с Катей спали. Маруся вытерла влажной тряпкой пол, расстелила коврик эвакуированных, сверху бросила матрац, подушку и байковое одеяло. Мария легла на полу. Катю Маруся положила с собой. Наверху спала напарница Маруси. Катя разбрасывалась во сне, беспокойно ворочалась, и к утру Мария увидела дочь рядом с собой; наверно, свалилась. С тех пор они спали на полу. Здесь было просторнее. И спокойнее им вместе. Мария проснулась, когда пароход стоял в Камышине. Маруси и ее напарницы уже не было в каюте. Поеживаясь, Мария поднялась на палубу. Отсюда было видно, что трава на береговых склонах густо покрыта росой, блестевшей как изморозь. Мария вернулась в каюту и опять легла. И снова провалилась в сон. Усталость последних дней давала себя знать — Мария и Катя проснулись только в жаркий полдень. Пароход подходил к Саратову. Желтел вдалеке высокий холм. Мария свернула постель, и они поднялись на палубу. Слева отвесно возвышался над головой крутой берег. Из-за весенних оползней желтый песок осыпался, и обнажился разрез земли, слоистый, как пирог. Справа тянулся низкий зеленый берег. Изредка проплывали мимо деревушек с белыми церквами на пригорках. Старые камни желтоглавых церквей плыли в воде, как облака. Купола, словно стиснутые вместе два кулака, стояли стражами реки, нахлобучив золотые шлемы. Иногда они обгоняли караваны нефтеналивных судов и самоходных барж. Пароход обдавало сладковатым запахом нефти, от которого слегка подташнивало. На палубах барж и танкеров были установлены зенитки. На стоянках всегда можно было купить еду. Продавали молоко, хлеб, сметану, жареную рыбу. Мария и Катя ели прямо на причале. Они старались не быть в тягость Марусе. По мере того как они плыли вверх, холодало. Широкая река все несла и несла им навстречу воды, и не было видно конца их дороги. Но река не утомляла Марию, а приносила успокоение. Она воспринимала это плавание как передышку перед путями, которые ей еще предстоят. Названия городов, деревень, мест оседали в ее памяти. Хвалынск, Жигули, Сенгилей… Приносящие свои воды Волге Большой и Малый Иргиз, Самара, Сок, Уса, Черемшан… Она сожалела о том, что мало видела и знала раньше. Придется ли ей когда-нибудь еще побывать здесь? Место слияния Волги и Камы Мария не увидела — была ночь. Утром остановились в Сарапуле. Отсюда можно было поехать поездом в Свердловск. Но Мария по совету Маруси решила не менять первоначального маршрута. Они сойдут в Молотове, там долгая стоянка, и Маруся их проводит. Берега Камы резко отличаются от волжских: слева и справа темнели леса. Высоченные ели широко раскинули свои тяжелые мохнатые лапы. Если смотреть вдаль по реке, то берега казались синими. В этих местах явственно ощущалась близость осени. На рассвете прибыли в Молотов. Было холодно. Хоть они и одели теплые кофты и чулки, Мария и Катя не могли согреться. Забились в угол вокзального здания, сели в обнимку. Волнами сюда проникали звуки вальса. И странно — такие теплые, близкие, они не грели, от них становилось еще холоднее, и никак нельзя было унять дрожь. А потом — голос диктора, он проникал всюду, и все, кто мог, ловили его вести. Марию перестало знобить. Немногим больше месяца прошло с начала войны, а казалось — всегда была война. Митинги в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве… Их с Катей город не назвали, просто «и в других городах». Нет, непременно скоро кончится война: «Соглашение между СССР и Англией ускорит разгром германского фашизма». Жар поднимался к лицу от этих слов, рука, обнимавшая Катю за плечо, была горячей. Билеты в Свердловск купили легко. И опять их провожали, им везло. На этот раз прощались с Марусей. Когда уходили из каюты, Мария хотела подарить Марусе свой персидский коврик, но та наотрез отказалась. — Вам еще долго ехать, — сказала она. — И неизвестно, где спать будете. Может, придется отдать чужим людям. Она уже стала им своей.* * *
На вокзале в Свердловске Мария сдала чемодан и коврик в камеру хранения, после того как они с Катей прошли обработку в дезпункте. Комендант вокзала посоветовал им обратиться в эвакопункт при Уралмашзаводе, где регистрируются эвакуированные из Москвы. На улицу Стачек к Уралмашзаводу шел трамвай. В здании заводоуправления эвакопункту было отведено несколько комнат. В помещении, где шла регистрация эвакуированных, в ряд стояли столы. Мария пристроилась в очередь к столику, над которым была табличка: «Москва». — Клавдия Голубкова? — спросила регистраторша. — Такой у нас нет. — Извините, — поправилась Мария, вспомнив фамилию Виталия, — не Голубкова, а Мастерова! — Ну, тогда другое дело, как же, знаю такую. Мария обрадовалась, но в тот же миг внутри у нее что-то оборвалось от услышанной вести: — Но твоя сестра в Москве осталась, девушка! Это я знаю точно. — Регистраторша открыла толстую тетрадь, нашла нужную страницу. — Вот, смотри. Мария наклонилась и прочла: «Мастерова Клавдия Ивановна с дочерью семи лет. Отказалась ехать». И дата. — Она собиралась с нами ехать и в последнюю минуту раздумала. — Как же теперь быть? — растерялась Мария. — Думай не думай, а выход один: надо устраиваться на работу. Какая у тебя специальность? — Певица, пела в театре. При этих словах на Марию стали поглядывать даже из соседних очередей. — Да… С такой специальностью у нас тебе работа не найдется. Нам нужны токари, фрезеровщики и сверловщики. Придется переквалифицироваться. Мария сникла. — Ладно, что-нибудь придумаем. Получишь место в общежитии, будешь жить. — Я с дочерью. — Какого возраста? — Восемь лет. — Будет учиться. — Регистраторша что-то записала на листке и сказала: — Зайди через два часа, я тут переговорю. Только сейчас Мария поняла, что ей предлагают работу. — Но здесь наш театр, — сказала она, — и я найду своих. — Ну тогда ищи свой театр и нам не мешай! — почему-то обиделась регистраторша и зачеркнула запись. Мария и Катя вышли из заводоуправления и медленно побрели по улице. Надо где-нибудь посидеть, сосредоточиться. На трамвайной остановке кто-то позвал: — Мария! Оглянулась и к радости своей увидела школьную подругу Люду Козик, с которой не встречалась с тех пор, как Мария уехала из Москвы по распределению. — Машенька, тебя тоже сюда эвакуировали? Какая у тебя дочь большая и красивая. — Приехала, думала, Клава здесь, а она в Москве осталась. Даже не знаю, что и делать. — Поедем ко мне, мы уже устроены, дома обо всем поговорим. Вскоре после окончания школы Люда вышла замуж. А когда Мария кончила оперную студию при консерватории, у Люды уже был сын. Муж Люды был комбатом, и бывшие одноклассницы не без зависти говорили о нем. По дороге Люда рассказала, что она уже месяц в Свердловске, живут они в центре города. Муж Люды стал генералом. Комендант Свердловска — один из близких его друзей, и он, если надо, поможет и Марии. Люда с матерью и сыном жила в большой светлой комнате, в доме для семей комсостава; здесь раньше была гостиница, и поэтому умывальник с овальным зеркалом на мраморной стенке стоял прямо в комнате; в коридоре у каждой из дверей — столики с примусами и кастрюлями. На Люде нарядное шелковое платье, волосы аккуратно уложены, и вся она подтянутая, собранная, ни усталости в походке, быстрая и энергичная. Будто собралась пойти на концерт, но случайно попала в эту суматошную, гудящую и шумную гостиницу. Люде казалось невероятным то, что пережили Мария с Катей за их долгий путь. Она слушала Марию и с каждой ее фразой мрачнела. Мария уловила это, но уже не могла остановиться. Ей казалось, будто все приключилось не с ней и Катей, а с какими-то хорошо ей знакомыми, но чужими людьми. Море, утонувшие корабли, Новороссийск, день, когда она остановила поезд, волжские теплоходы и баржи, измазанные мазутом, Сталинград… Как будто прожит целый год и не месяц назад они выехали из дому. Мария раньше думала, что, как только они доберутся до Свердловска, все их беды кончатся. Но вот она в Свердловске, и сестры здесь нет. Но если бы Клава и встретила Марию, все равно ничего еще не было бы решено. И зря она так упрямо рвалась сюда. И театр здесь, но Марии от этого не легче. Только в Москве, думала Мария, она сумеет устроить свою жизнь. Только в Москву! Туда, где прошло детство и ничего не страшно. Там ее дом, там даже стены помогут. К тому нее дома Клава. Жизнь в любом другом месте — временная. А интуиция подсказывала Марии, что в сумятице войны ей поможет выстоять только чувство постоянства. И Виктор будет искать ее в Москве. Город этот казался ей самым надежным местом на всей земле. — Это безумие! — отговаривала ее Люда. Люде ее не понять. Марии уже казалось, что Люда и прежде не понимала ее. Не поймет теперь. — Куда ты едешь? — удивлялась Люда. — Немцы под Смоленском. Это же близко от Москвы!.. Уже несколько дней, как в сообщениях Совинформбюро появилось это новое Смоленское направление, и каждый раз, боясь не услышать о нем и понимая, что это может означать, Люда со страхом прислушивалась к голосу диктора. — Москву бомбят каждый день! — пугала она Марию и с ужасом понимала, что это правда. Мария ничего слышать не хотела: только в Москву! — Помоги мне, очень тебя прошу! Люда обиделась, но где-то в глубине души завидовала Марии, и, как ни странно, упорство школьной подруги успокаивающе подействовало на нее: к лицу ли преувеличивать опасность ей, генеральше, — от этого слова душа у нее таяла, она никак не могла свыкнуться со своим положением жены молодого генерала. — Что ж, раз ты просишь!.. — И тотчас преобразилась, к ней вернулась ее прежняя уверенность, раз подруга решила, она сделает все, что от нее зависит. Мария обняла Люду, и тетя эта показалась Кате такой красивой и родной. Люда оттаяла. — Надо спешить, вставай! Оставив Катю с сыном и матерью Люды, обе женщины отправились к коменданту. Люду к коменданту пропустили сразу — сама секретарша проводила их в кабинет. Они подождали, пока он освободится, а потом Люда рассказала, что их привело к нему. Комендант вначале и слышать не хотел о «неразумной затее», но Люда так пристала к нему, так обрисовала безвыходность положения Марии, что он наконец сдался. И опять провожали Марию. Комендант, снабдив их пропусками, посадил в воинский эшелон, отправлявшийся в Москву.* * *
В этот ранний час в вагоне все спали. На верхней, единственной свободной полке проводник расстелил матрац, задвинул под лавку чемоданы и коврик, дал комплект постельного белья и ушел. Мария долго и с наслаждением умывалась. Никто ее не торопил. Холодная вода как будто уносила усталость и раздражение последних дней. Мария не спеша вытерлась чистым вафельным полотенцем и глянула в зеркало. На нее смотрела молодая сероглазая женщина и, как казалось Марии, очень красивая. Она тщательно расчесала свои пушистые волосы, провела ладонью по лицу, ощутив нежную, гладкую кожу, и, довольная собой, вышла в коридор. Вагон уже проснулся. Весть о том, что с ними едет молодая женщина, успела распространиться. Пока Мария шла к своему купе, ей приветливо улыбались, с ней здоровались. Катя успела познакомиться с соседями и рассказать, откуда они с мамой едут, где были, что видели. Мария почувствовала, что ее появления ждали и что она понравилась. Их купе стало местом притяжения всего вагона. Каждый хотел оказать ей внимание, чем-то угостить, помочь. На столе появились яблоки, колбаса, домашние котлеты, крутые яйца, соленые огурцы, даже жареный гусь — все то, что положили матери в дорогу своим сыновьям — молодым командирам, только что окончившим то ли училище, то ли краткосрочные курсы. Хотя они совсем недавно покинули дом, или именно поэтому, эти мальчики скучали по дому. Став взрослыми, они ощущали потребность дарить кому-то слабому свое покровительство, силу, заботу. Каждый хотел что-то сделать для Кати и Марии, сказать о себе или просто поговорить. Присутствие женщины заставило их подтянуться, быть лучше, благороднее. Всеобщее внимание не раздражало Марию, а радовало ее. Они все были ей симпатичны, она любовалась ими, и только иногда мысль о том, что едут они туда, где Виктор, сгоняла улыбку с ее лица. Запомнить всех Мария не могла. Лишь одного, который назвался Виктором и ехал с ними в этом же купе, она запомнила хорошо. Он сидел рядом с Катей и подолгу смотрел на Марию. От его взгляда, который она чувствовала на своем лице, шее, руках, обдавало жаром. Когда же их взгляды встречались, парень тут же отводил глаза, густо краснел и о чем-то заговаривал с Катей. Марии была приятна эта игра и немножко смешна: она чувствовала себя такой взрослой по сравнению с этим двадцатилетним мальчиком. Густые волосы Марии под лучами солнца горели медью, и нежно-белая, как у всех рыжих, кожа розовела в отблеске лучей. Весь вагон, не сговариваясь, решил оберегать Марию даже друг от друга. Никто не мог и помыслить предъявить на нее свои права. Мария была для каждого сестрой, матерью, возлюбленной. Перед Москвой в купе принесли туго набитый мешок и положили на чемодан Марии. В мешке прощупывались консервные банки. — Это вам, — сказал кто-то. А другой добавил: — Нам это уже не пригодится. Мария поняла, что отказом обидит их, и только поблагодарила. Сколько раз потом она будет вспоминать этих ребят, собравших для нее мешок, в котором были спички и соль, так пригодившиеся ей в дополнение к получаемым по карточкам, копченая колбаса, консервы, даже нитки и иголки. Во всю длину перрона выстроились все те, кто ехал в поезде. Мария и Катя с вещами стояли у своего вагона, напротив строя молодых командиров, и в первый раз видели их всех вместе, таких знакомых и близких им. Раздалась команда, и весь эшелон прошагал мимо. Мария очнулась, когда увидела, что они с Катей одни на перроне. С трудом подняла вещи, направилась к пропускному пункту в здании вокзала. Проверка документов не заняла много времени: у пропускной в город народу было мало, зато к поездам тянулась длинная очередь. Не успели они выйти из высоких дверей, как к ним подбежали трое из их вагона. Виктор объяснил, что их отпустили, чтобы проводить Марию и Катю. Они сели в трамвай на Каланчевке и долго-долго ехали по Москве, пересекли Сретенку, спустились к Трубной, проехали Пушкинскую площадь, Арбатскую, свернули на Кропоткинскую улицу… И пошли знакомые с детства, очень родные названия. Левшинский, Зубовская, Теплый и, наконец, Олсуфьевский. Они дошли до самых дверей в квартиру. Поставили вещи. И тут ребята попрощались, Мария каждого обняла и поцеловала, пригласила заходить, когда будут в городе. Наконец-то!.. Знакомая, белая, как клавиша, кнопка звонка. Мария собралась с духом и позвонила. За дверью — тишина. Но кто-то стоит за дверью, прислушивается, Мария это чувствует. — Кто там? — отозвался тоненький голос племянницы. Наконец-то!.. — Это мы, Женечка, открой! Дверь открылась, Мария присела, крепко обняла племянницу, поцеловала ее и заплакала.2
Выдержки хватило именно до этого порога. За дверью кончился тяжелый длинный путь. Все позади. Мария в Москве, в отцовском доме, где она родилась, выросла. Она подняла и внесла в квартиру вещи, вдруг ставшие такими тяжелыми, будто в них напихали камни. Только сейчас Мария вспомнила о жестяной коробке. Казалось, золото зашевелилось, как живое, напоминая о себе. Мария содрогнулась, подумав о том, как она везде оставляла чемодан почти без присмотра. Она закрыла за собой входную дверь, и снаружи остались волнения, страхи, усталость. — Мне есть письма? — спросила у племянницы. — От папы, — добавила Катя. Женя помотала головой: — Нет, а от моего папы есть, — и пошла в большую комнату, принесла два письма. Мария только посмотрела дату: письма были месячной давности. Прошла в маленькую комнату — бывшую спальню родителей, постояла у высокой двуспальной кровати из светлого орехового дерева. Кровать занимала почти половину комнаты, но на ней спали родители, и ее не вынесли. Вообще сюда заходили редко. Клава жила в большой комнате, очень светлой, с двумя широкими окнами на солнечную сторону. Маленькая комната была полутемная, окно выходило в затененный тополями переулок. Мария внесла в эту комнату вещи, расстелила перед кроватью коврик, открыла настежь окно. Она покормила девочек, таких разных, — Женя толстушка, а Катя худая, осунувшаяся за дорогу, и занялась уборкой — руки соскучились по домашней работе. Комната казалась нежилой из-за серого одеяла, накинутого на незастеленную кровать. Мария вытряхнула во дворе одеяло, выбила подушки и положила их проветрить на подоконник, вытерла везде пыль, протерла влажной тряпкой пол, чтобы застелить кровать чистым бельем, выдвинула нижний ящик шкафа, где всегда у матери лежало белье. Скрип выдвигаемого ящика напомнил ей давнее, и она будто услышала голос матери: — Машенька, спой мне. И Мария пела. Любимую песню матери: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету…» Целая вечность прошла с того времени: отец играл на скрипке, она пела, а мама слушала, и Клава стояла у дверей, скрестив на груди руки. И Мария почему-то именно ее взгляд ощущала на себе. Мать от удовольствия вот-вот заплачет, отец смотрит куда-то вдаль, будто и не слышит ни ее, ни скрипку, а она сама играет, а на лице Клавы настороженность, напряжение, что-то держит, прячет на душе, чтоб никто не увидел, не узнал.* * *
— Приехали? — Брови Клавы взметнулись, на лице отразилось удивление. — А где твое «здравствуй» и «с приездом»? — сказала Мария и двинулась к сестре, чтоб обнять ее. Клава внесла в комнату запах лекарств, как в аптеке, и Катя не сдвинулась с места, не подошла, не поцеловала тетю, а та на нее и не взглянула, а, нехотя обняв Марию, прошла на кухню. Мария — за нею. — Ну вот, — услышала Катя голос матери. — Виктор тоже пошел воевать. В тоне, которым мать сказала это, Катя уловила обиду, — Мария напомнила сестре о недавнем ее раздражении зимой, когда они сидели после похорон здесь же, на кухне, на широких табуретках, и Клава неожиданно взорвалась, обрушилась с упреками на Марию. Напомнила, и самой стало неловко: к чему ворошить старое? До обид ли, когда беда — на всю страну? И, желая поскорее уйти от затронутого бессмысленного разговора, миролюбиво добавила: — Если бы ты знала, как мы в дороге намучились!.. Где мы только не были, чего только не видели!.. Катя украдкой заглянула на кухню. Неприветливость тети, которую Катя остро уловила, сковала ее всю, и она остерегалась подойти близко. В дороге, особенно в поезде, ей казалось, что, как только тетя увидит ее, непременно обнимет, расцелует, ведь они так долго ехали сюда, и отец уверял их, что им непременно надо жить в Москве, вместе. Тетя Клава стояла спиной к Кате и мыла руки, а Мария терпеливо ждала, когда та посочувствует им, хотя бы улыбнется. Женя потянула Катю в комнату, но она не ушла: ведь скажет же что-нибудь тетя, не может она так долго молчать, разве не видит, что мать ждет? — А откуда ты узнала, что я в Москве? Ведь Георгий Исаевич сказал тебе по телефону, что мы уезжаем! Могла приехать к закрытой двери. Чтоб тетя ее не видела, Катя прислонилась спиной к стенке и прослушала весь их разговор, и он врезался в память слово в слово. — В Свердловске я была, там мне и сказали, — ответила Мария. — На твоем месте я осталась бы там. Туда и театры из Москвы эвакуировались. — И наш тоже. — Тем более глупо было приезжать! Все отсюда бегут, а ты — сюда. — Но ты ведь осталась в Москве! И я хотела домой. И Виктор решил, что нам с тобой вдвоем будет легче. — Твой Виктор… — Клава запнулась, а Катя вся замерла: теткин тон был недружелюбный, и она могла сказать что-то обидное для них с мамой. — Да, я осталась! — вызывающе сказала Клава. — Не стала эвакуироваться с заводом! Спасибо Георгию Исаевичу, помог он мне устроиться на хорошую работу. И близко, и по специальности. Фармацевтом в академию. А что ты будешь здесь делать? — Еще не знаю. — Ну вот! А кто знать должен? Как в детстве отчитывает. — Чего ты сердишься, Клава? — Плясать мне, что ли? Прописка у тебя есть? Нет! А без нее и на работу не устроишься, и карточки не получишь. Если узнают, в двадцать четыре часа вышлют! — Хорошо, я завтра же с утра этим займусь. У меня документы в полном порядке. И еду я с собой привезла, хватит на первое время. — Нет, напрасно ты не осталась в Свердловске! Устроилась бы в театре… — Ты нам не рада? — При чем тут рада или не рада?! — возмутилась Клава, и Катя снова от страха съежилась. — Тебе бы лучше было! Ты же ничего не умеешь! Приучил тебя твой Виктор на всем готовом жить! Боится, что они с Катей станут ей обузой? — Деньги у меня есть, Клава. Клава недоверчиво покосилась на сестру. «Так тебе и поверили!» — говорил ее взгляд. — И работу я найду. — И все-таки, — уже без раздражения сказала она, — завтра непременно пойди к Георгию Исаевичу, от умного совета тебе хуже не будет. Идти больше не к кому, во всем подъезде только они да мы остались. — Давай лучше ужинать. У меня и хлеб есть, и сахар. — С тобой а правда не пропадешь. — Ну вот, а ты сердилась. Марию обрадовало, что сестра отошла, больше не дуется на нее. Но ужинать им пришлось впопыхах: каждый вечер, не дожидаясь объявления воздушной тревоги, все шли спать в метро. И продолжалось это до весны следующего года — Москву бомбили почти каждую ночь. Шли с вечера, стараясь занять место поудобнее у стенки, не на дороге и не на путях, которые накрывались специальными щитами, и люди сплошь занимали их, уходя в глубь туннеля. И снова коврик выручал Марию.* * *
Мария подумала, что она конечно же родилась под счастливой звездой: в домоуправлении она узнала, что ее вовсе и не выписывали из домовой книги — уехала по распределению, а выписать забыли. По справке о мобилизации мужа она сравнительно легко и быстро получила хлебные и продуктовые карточки, но только со второй половины сентября: себе пока иждивенческую, а Кате — детскую. Когда она, ликующая, вышла из подвала, где размещалось домоуправление, во дворе было многолюдно — художники разрисовывали их дом и двор. На стене уже красовались гигантские деревья и кусты, здание маскировали под сад, а на асфальтированной площадке двора рисовали что-то, видимо, сверху похожее на дом… Вскоре вся Москва стала такой раскрашенной. Мария легко взбежала по знакомым до каждой щербинки и вмятины десяти ступенькам и вошла домой. В квартире она была одна, девочки играли во дворе, смотрели, как размалевывают двор. Прописка есть, работу она тоже найдет, надо готовиться к зиме и ждать окончания войны. И неприятный осадок от вчерашнего разговора с Клавой растаял. Глупо обижаться. Не так она представляла себе встречу с сестрой: они говорили, как чужие. И Марию, сама не знает почему, раздражало, что Клава так часто упоминает имя Георгия Исаевича, через каждое слово — о нем: он помог, с ним надо посоветоваться, ему обязана; и что о Виталии ничего не сказала, вспомнила о нем, лишь говоря об аттестате от него, который еще не получила, и еле сводит концы с концами; и не спросила, как добрались, есть ли что от Виктора. Как была скрытной, так и осталась. Мария понимала, что эта привязанность Клавы к Колганову объяснима: многое он сделал для нее. Мама рассказывала, когда Мария приезжала на свадьбу Клавы. Виталий был приписан к части, где интендантом был Георгий Исаевич, и он, приятель отцаВиталия, с которым они вместе служили в армии в Саратове, часто приглашал парня к себе. Здесь и познакомилась Клава с Виталием. Зашла она как-то к жене Георгия Исаевича Гере Валентиновне, которой приготовила новый питательный крем для лица, и увидела вихрастого парня. И Георгия Исаевича — как он потом гордился на свадьбе! — осенило: вот Клаве и жених! А осенило потому, что на днях мать Клавы, Надежда Филипповна, поднялась к ним, и ее приход был неожиданностью для Георгия Исаевича, который чувствовал, что та и особенно ее муж-скрипач болезненно относятся к тому, что Клава все свободное время пропадает у них. Дверь в комнату жены была открыта, и Георгий Исаевич все слышал. Надежда Филипповна рассказывала, что Мария прислала письмо, собирается замуж, а вот старшая дочь, ей пошел уже двадцать седьмой, никак не устроит себе судьбу, а как помочь, сама не знает. Гера выслушала ее и промолчала, а та посидела еще и ушла. Они так и не поняли, почему Надежда Филипповна приходила к ним. Может быть, хотела разузнать, не делится ли Клава с ними своими сердечными тайнами, не скрывает ли что от родителей. А в Клаве скрытность эта есть, она даже не посоветовалась, когда выбирала профессию: поступила в техникум и поставила перед фактом. И после того как Надежда Филипповна ушла, Гера сказала мужу: — А как ее выдать? Легче мертвого воскресить! Клава вся в своего отца, с лошадиными зубами. Кому нужна уродина? А Мария, как кукла, каждому приглянется! Гера с мужем поселилась здесь сразу после Саратова, когда Маше было лет семь. Гера, как увидит Клаву одну, без Маши, спрашивала: — А где твоя красивая сестра? На младшую девочку заглядывались все соседи. Надо же — такие разные дети, и не скажешь, что одна мать родила!.. Гневом загорались глаза Клавы. «Вот еще! — думала Гера, понимая, что больно ранит девочку. — Маленькая, а как злится!» Но каждый раз не могла удержаться и ехидно спрашивала: — А где твоя красивая сестра? И ее забавляло, когда она видела, как Клава вспыхивает, готовая, как кошка, оцарапать ее. Она перестала дразнить Клаву, когда узнала, что та кончает фармацевтический техникум. Однажды она остановила девушку; Клава вся напряглась в ожидании хлестких слов, но услышала иное: Гера Валентиновна спросила ее, не может ли она приготовить мазь для лица по особому ее рецепту. И показала его. Клава прочла состав и тут же согласилась и через два дня принесла ей мазь. И между ними установились хорошие отношения. А потом Гера приблизила ее к себе: у Клавы были удивительно чуткие пальцы, тоже, наверно, перешедшие в наследство от отца-скрипача, — она не только приготовляла мазь, но и, к радости Геры, быстро усвоила секреты массажа лица, наблюдая за работой массажистки, когда приходила к Колгановым в гости. В своем подъезде Гера получила собственную массажистку, а на них такой спрос!.. И стала щедро одаривать Клаву, даже платила ей, и та, как выдастся время, пропадала у них. Георгий Исаевич загорелся нежданно родившейся мыслью поженить Клаву и Виталия, хотя поначалу эта затея показалась ему абсурдной. «Легче мертвого воскресить!..» — вспомнил он Герины слова. Но, кто знает, может, эта абсурдность и подхлестнула Колганова, разбудила в нем уже начавший дремать азарт: «А ну-ка покажи, на что способен, Георгий Исаевич, сотвори-ка чудо!..» А он, такой степенный и спокойный теперь, когда ему под пятьдесят, был в молодости заводилой и отчаянным забиякой. Геру, свою красавицу жену, увел, можно сказать, из-под венца. И день свадьбы был назначен, а он вскружил ей голову, и она, недотрога с постоянным брезгливым выражением глаз, к изумлению своему и окружающих, быстро покорилась и всю себя без остатка по-рабски вручила ему. Не посвящая в свою тайну Геру, — неизвестно, как она отнесется, еще, чего доброго, расстроит его планы, все же между Клавой и Виталием большая разница в летах, — и отбросив, как несущественную, мысль о возможной обиде саратовского приятеля, отца Виталия, Николая Мастерова, — сын не маленький, понимать должен, что к чему, отвечает за свои поступки, — сумел устроить им в своем доме ловушку, оставил Клаву и Виталия после совместно выпитого вина одних, да так, что никто сообразить не мог, что это тактический ход. Потом как-то поехали, захватив Виталия и Клаву, в лес по грибы, и Клава, видимо, даром время не теряла: оставшись одна с Виталием и понимая, что это ее последний шанс, в поисках рыжиков нашла себе смирного и покладистого мужа. Но до того были еще частые приходы Виталия к Клаве домой, и Надежда Филипповна, чувствуя какую-то вину перед дочерью, что родила ее такой неудачливой, оказывала парню внимание, ухаживала за ним, как за сыном, и Виталий был рад, что попал в домашнюю обстановку, где ему уютно и такие симпатичные люди, и, как только представлялась ему увольнительная, мчался к Голубковым, в семью, где царит удивительное чистосердечие, и он чувствует себя с Иваном Ивановичем, как с отцом родным. А после женитьбы, весть о которой свалилась на голову Мастеровым, как снег в летний день, были скандалы: приезжали родители Виталия, обвиняли растерянных Ивана Ивановича и Надежду Филипповну в том, что они позволили великовозрастной дочери окрутить их мальчика, а те и сами не могли понять, как это получилось, что Клава и Виталий поженились, и на помощь к ним пришел Георгий Исаевич: довольный в душе, он умело отбил атаки Мастеровых, обвинив их в бесстыдном посягательстве на молодую семью и домостроевских причудах. И нечего Марии обижаться на сестру, что та часто и с такой признательностью говорит о Георгии Исаевиче, предана ему всей душой… Мария открыла материнский шкаф, и на нее дохнуло запахами детства. Она разглядывала висящие платья матери, костюм отца. И вдруг в глубине мелькнуло что-то знакомое. Она быстро передвинула плечики и увидела свое платье, крепдешиновое, цветастое, которое она одевала в студенческие годы. Как же она забыла о нем? Почему не забрала с собой? Она вспомнила себя в этом платье. Именно в тот день, когда она его надела, ей были вручены стихи, вернее, акростих, начальные буквы которого составляли ее имя и фамилию — «Мария Голубкова»; первые и последние в ее жизни стихи, посвященные ей; стихи подарил ей худой очкастый парнишка с их улицы, Игорь Малышев, с которым она еще недавно училась в школе, в параллельных классах. В памяти Марии застряла лишь первая строка: «Мне ангельский твой лик явился…» Акростих, помнит она, был втиснут в онегинскую строфу. Через день встретила она «поэта» и вернула ему стихи. «Была я ангелом с крылышками, — сказала она парню, — прочла твои стихи, крылышки и отвалились с тоски. Может, напишешь что-нибудь получше, авось и крылья отрастут снова…» А потом он как-то увидел ее у метро, которое недавно открылось в Москве, и они пошли в парк. Игорь купил мороженое, потом катались на «чертовом колесе». Оно вращалось очень медленно, и, когда они оказались на самой верхней точке круга, Марии, хоть день был и жарким, стало вдруг до дрожи холодно в своем крепдешиновом платье. И страшно. Особенно в тот момент, когда люлька, в которой они сидели друг против друга, пошла вперед и вниз, — ощущение было такое, что она проваливается в пропасть, вот-вот люлька сорвется с шарнира, к которому прикреплена… Мария приложила платье к себе. Еще месяц назад оно было бы узко, а сейчас, верно, будет впору. Вытащила и пахнущее нафталином свое зимнее пальто. Надо будет перешить его на Катю, Клава поможет. Шкаф, как в детстве, казался бездонным… Как хорошо, что мама ничего не выбрасывала. Материнское зимнее пальто висело на Марии как на вешалке. И оно очень кстати, ведь приехали без ничего, в чем были. Только придется повозиться, чтоб было как раз. А может быть, до зимы война кончится? И она вернется к своим оставленным в южном городе платьям и пальто? И перешивать ничего не придется?.. Увы, уже месяц, как передавали по радио: шли бои на подступах к их городу. Клава увидела платье. — Откуда оно? Неужели сохранила и привезла? — Нет, нашла в шкафу. И это пальто тоже. — Она указала на свое и мамино. — Да? — удивилась Клава и покосилась на шкаф. — Может быть, и для меня что-нибудь найдется? Надеюсь, не все выпотрошишь. И снова — уколоть, съязвить. — Какая ты подозрительная, Клава. — А ты верь всем. — Иначе я бы не добралась сюда, пропала в дороге. Клава молча вышла из комнаты.* * *
Мария пошла в театр оперетты, но там пышнотелая круглолицая блондинка, администраторша театра, сказала, что вакантных мест нет. Мария оставила свой адрес: а вдруг понадобится? А в театральном обществе ее включили в шефскую бригаду и тут же, с ходу, повезли выступать перед ранеными. С непривычки, без подготовки Мария спела две грузинские песни на русском языке «Сулико» и «Светлячок», и пение ее было скорее любительское, нежели профессиональное. Марию встретили тепло, хотя пением своим она осталась недовольна и репертуар был для нее необычный. Возвращаясь домой и проходя мимо парка Горького, Мария увидела афишу — состоится митинг, посвященный обороне Москвы. Зашла, протиснулась к самой трибуне, очень хотелось поближе взглянуть на героя, о котором говорили все, на тезку мужа, Виктора Талалихина. Он представлялся могучим, а оказался такой молодой, почти юноша. Как Виктор. Не муж, а тот парень, с которым тогда ехали. И поэт Лебедев-Кумач прочел стихи о Викторе Талалихине. Марии показалось, что они воспевают какого-то другого, особенного, неземного героя, а не стоящего рядом обыкновенного парня, за внешне суровым обликом которого прячется застенчивая душа. Ему неудобно, и он тоже думает, что стихи эти не про него, что так, видимо, положено: ему — срезать крыло вражеского самолета, а поэту — слагать стихи. Выступали летчики, зенитчики, прожектористы. И они же принимали обращение к самим себе. Чтоб еще раз укрепиться в своей решимости, принять внутренний зов за наказ сограждан. И Мария голосовала за то, чтобы зенитчики «мощным шквалом огня», а прожектористы «лучами прожекторов» преграждали доступ к Москве «фашистскому воронью». Лишь однажды в театре оперетты о ней вспомнили, — по адресу пришла сама администраторша. Был теплый сентябрьский день, бабье лето. Мария собиралась ехать на Белорусский вокзал, где ей предстояло выступить с концертной бригадой прямо на перроне перед мобилизованными. Они пошли к трамвайной остановке, и по дороге администраторша, голос которой прерывался от быстрой ходьбы, тихо спросила: — Слышали? — И сообщила: — Скоро никому не разрешат въезжать. Администраторша имела в виду постановление исполкома, которое утром передавали по радио: запрещался въезд в Москву лиц, ранее эвакуированных, и выдача им продовольственных карточек, если кто и нарушит запрет о въезде. — Без паники! — строго сказала Мария, и та осеклась, вспомнив, как недавно в метро задержали человека за распространение слухов. Каждый день по радио предупреждали: провокаторам и распространителям ложных слухов и паники — никакой пощады. А слухи ходили разные — одного арестовали якобы за то, что он говорил, будто не так страшно, если немцы возьмут Москву; мол, и Наполеону сдавали, а войну выиграли; и что, мол, враг мирное население не трогает. А другой заверял, что Москву все равно не защитить, оказался, как потом выяснилось, диверсантом. Марию приглашали в театр оперетты заменить заболевшую актрису в «Сильве». Постановка была ответственная — весь сбор шел в фонд обороны. Мария прямо с Белорусского вокзала пошла пешком в театр, где была назначена репетиция, на короткое время вернулась домой к Кате и в шестом часу поехала снова к площади Маяковского; спектакли начинались в половине седьмого вечера. Часто на концерты, если погода была хорошая, Мария брала с собой девочек — Катю и Женю. В репертуаре у нее были те две грузинские песни, с которых началась ее шефская работа, русские народные, песни из кинофильмов. Особенно удавалась Марии песня из «Истребителей». «Любимый город может спать спокойно…» — пела она, и люди, затаив дыхание, слушали.* * *
Женя и Катя весь день проводили вместе. Женя должна была пойти в подготовительный класс, но школы не работали, и ее первой учительницей стала Катя. Она учила двоюродную сестру считать, заставляла писать буквы. А как устанут Катя «учить», а Женя «учиться», брали из застекленного книжного шкафа, который стоял в большой комнате, где жили Женя с матерью, широкие листы нотной бумаги, оставшиеся от деда, наточенную гору карандашей и подолгу рисовали. Ее было много, этой бумаги. Рисовали и складывали свои рисунки в шкаф, на нижнюю полку, и начинали рыться в книгах. В большинстве это были ноты. Катя любила рассматривать старинные партитуры опер, перелистывала их, снова прятала. Но некоторые книги, найденные Катей в шкафу, запомнились ей на всю жизнь. Это был томик Пушкина, «Три мушкетера», «Айвенго», «Детство Тёмы». Катя по одной брала книги из шкафа, читала, потом возвращала на прежнее место. Так она читала всю долгую, трудную зиму. А пока был теплый сентябрь и лишь изредка шел косой дождь.* * *
Немцы были близко, но Мария не ощущала этого, и ей казалось странным, что враг, как об этом писали в газете, намеревался еще 1 августа вступить в Москву. Порой бомбили днем. Из широкой горловины репродуктора на улице на миг позже, чем из маленького радио на стене кухни, доносилось: «Граждане, воздушная тревога!…» Доносилось заученно, размеренно, без паники. И было известно, что с неизбежностью последует успокаивающее: «Угроза воздушного нападения миновала, отбой…» По счастливой случайности, в их переулок пока не попала ни одна бомба, «тревога» и «отбой» воспринимались уже привычно. Но однажды утром, по дороге домой после ночевки в метро, им пришлось сделать крюк — улица была запружена народом, дружинницы огородили глубокую воронку от фугасной бомбы, в соседних домах вылетели стекла, говорили, что осколком убита женщина. Рабочие заделывали воронку, а пожарные неподалеку тушили полыхающий пожар, — тонкие струи на фоне пламени казались игрушечными. Мария почувствовала на лице жар пламени, хотя дом находился на той стороне широкой улицы. На асфальте набережной была разлита грязная лужа, выплеснутая бомбой, попавшей в реку.* * *
Марию записали в домовую пожарную команду, выдали телогрейку, брезентовые рукавицы. Дежурили по двое, по трое. Мария научилась передвигаться по крыше почти безбоязненно. В первые минуты дежурства в кромешной тьме ничего не было видно, лишь присмотревшись, она начинала различать контуры застывших многоэтажных домов с темными окнами. Дежурные следили, чтобы нигде не появилась хоть щелочка света. Черное небо висело над городом. Но вот громкоговоритель на чердаке предупреждал: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Голубые лучи прожекторов разрезали небо на куски, иногда в скрещении лучей высвечивалась яркая блестящая точка — самолет, мелькали вспышки, били зенитки. Чтобы отогнать страх, Мария вспоминала правила тушения зажигалок: щипцами схватить, сунуть в бочку с водой или в ящик с песком. Или же, размахнувшись, бросить на улицу… Так и не пришлось. В одну из ночей, когда особенно сильная бомбежка была в их районе, Марии казалось, упади сейчас бомба, она не сумеет не то что ее потушить, но не сможет сдвинуться с места. Светящаяся ракета, сброшенная с вражеского самолета, на миг высветила окружающие дома, и тут же раздался страшный грохот. Мария схватилась рукой за край щитка, на котором висел пожарный инвентарь. Казалось, что крыша уходит из-под ног, болью кольнуло в ушах. Пятисоткилограммовая фугаска попала в здание школы за два квартала от них, в Теплом переулке, пробила дом до самого подвала. Когда она сдавала дежурство, в домоуправлении Марии рассказали, что одна фугаска сегодня попала в парк Горького, а от взрывной волны на Никитском бульваре упал памятник Тимирязеву. А в Теплом переулке бомба, оказывается, не взорвалась.* * *
Так уж сложилось, что сестры питались отдельно. Клава вечером приносила продукты и хлеб, отоваренные днем, готовила обед на завтра. Свои продукты закрывала на ключ в нижнем отделении буфета, и ели они с Женей у себя в комнате при закрытых дверях. У Марии день строился в зависимости от выступлений и дежурств на крыше. Когда она бывала дома, Женя ела вместе с ними, а в дни, когда уходила, девочки обедали одни, без взрослых, — выносили на кухню все, что им оставили матери, сливали в одну кастрюлю и перемешивали, независимо от того, был ли то суп, щи, картошка, каша. Казалось им, что так вкуснее. И все делили пополам. Об этой их тайне никто не знал. Иногда Женя угощала Катю гематогеном, который приносила Клава. — А я вот ем шоколад! — А мой вкуснее! Как вкусно! — вздыхала Катя. — Очень вкусно! — облизывала губы Женя. Сестры виделись, лишь когда шли вечером в метро. Почти не разговаривали. Клава жила какой-то внутренне напряженной жизнью, сосредоточилась на чем-то своем. Часто пропадала у Колгановых. И писем нет — ни от Виктора, ни от Виталия. — Тебе что? — иногда говорила Клава Марии. — Кто из кожи лезет вон, чтобы как-нибудь просуществовать, из последних сил выбивается, а кому стоит пропеть две-три песенки, как его работа кончается. А крыша? А дежурства?.. Это Мария про себя, в душе. К чему? И о «двух-трех» песнях не говорила. Тоже не к чему. Поди спой перед безрукими. Перед безногими. Ослепшими и обожженными. Их надо видеть. И здесь нужна сила.* * *
В газетах часто печатались длинные списки награжденных орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии «за образцовое выполнение, — как выучила наизусть Мария, — боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество». Завидев эти указы, Мария рвалась к спискам и быстро пробегала их глазами: а вдруг?! Весь август со дня приезда в Москву она подолгу простаивала у газет. «Голубев», — шептала она, скользя глазами по столбцам. Вот награжденные орденом Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»… Странно, не встречалась нигде фамилия «Голубев». Лишь раз, в сентябре, наткнулась она на родную фамилию. Но то был Голубев Иван Иванович, младший лейтенант, и награждался он орденом Красной Звезды. «…ожесточенные бои на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря». «…оставили Кировоград и Первомайск». «…особенно упорные бои на юге». И невольно взгляд ловил сообщения о боях под Одессой. Одесса и Голубев. Появилось сначала Одесское направление. Оставили Днепропетровск, — было направление, и уже «оставили». Неужели и Одессу? И надолго ушло упоминание: «вели бои на всем фронте…» И вот: «в районе Одессы уничтожено 23 танка». И снова молчание. Вот еще: разгромлена на подступах кавалерийская часть; немецко-румынские войска атаковали участок обороны на Одесском направлении, и атаку отбили батареи, которыми командуют лейтенанты Таран и Лысый. И много дней — ни слова. Ни Одессы, ни Голубева. И фраза, от которой сразу тепло на душе: «Разгром румынских дивизий под Одессой». Неужели будет: «сдали»?.. И казалось странным, что она могла думать о скором туда возвращении. Та, другая, Мария была далекой, нереальной, чужой, Мария-певица, Мария, провожаемая мужем, встречаемая им у театрального подъезда, Мария на даче, Мария на пляже, — ни о чем не думающая, ни о чем не беспокоящаяся, Мария за каменной стеной. И она ли это, гуляющая по Дерибасовской? Пьющая сладкую вкусную газированную воду на углу в киоске у их дома. Покупающая Кате зажатое между двумя кругляшками вафель мороженое. Отводящая дочь в школу Столярского со скрипкой в футлярчике. Нет, это была другая Мария, далекая-далекая. Совсем чужая. Такая простая фамилия — Голубев, а ее нет. Попадаются сложные, впервые слышанные, необычные: сержант Спиченков, командир Журук, старший лейтенант Иркутов, майор Юкалов, лейтенант Азбукин, бойцы Пастич и Приведенцев, старшина Белогривов, красноармейцы Макозобов, Ахметов, Гулевых, командиры Слезкин и Загороднов, капитаны Картузов и Гусори, сержант Тацко, часть Эрастова… Старшина Шевчук огнем винтовки сбил «Мессершмитт-109». Капитан Коврижко поджег четыре танка, а младший лейтенант Геущенко — два. Рядовой Исмаилов в рукопашном бою заколол шестерых фрицев. Снова Эрастов. Ефрейтор Кошеленко, Немцевич, Чигрин, капитан Брюшков, младший политрук Косунбеков, старшина Ползычев, лейтенант Мачужинский, старший сержант Кривохиж, Гусев и Гусаков… А Голубева нет и нет. Люди, люди, люди. Новые и новые имена. И у каждого — своя боль, свой ожидающий, своя Мария.* * *
— Я не еду, — сказана Клава Марии, — можешь, и ты не ехать, у нас дети, их не с кем оставить. — Но я могу поехать, и я поеду! — Ты имеешь право, это Георгий Исаевич знает точно, и должна им воспользоваться! И какая от тебя польза? Держала ты в руке хоть лопату? Знаешь, как землю копать надо? Мария не стала пререкаться с сестрой, не было сил ни спорить, ни возражать. Она решила и непременно поедет. — Катя тебе в тягость не будет, она уже взрослая, и сама управится, — сказала Мария и стала готовиться: надела отцовскую телогрейку, теплые шаровары. — Дура! — зло сказала Клава. — Ну и калечь себя!Ехать на рытье траншей было недалеко — в Фили. Весь склон Поклонной горы к концу недели был изрыт траншеями. Лопата не слушалась, скользила по жухлой, мокрой траве, не хотела врезаться в землю. Дождь моросил, и не было просвета в небе. Особенно тяжело было поднимать полные землей лопаты со дна траншеи и забрасывать вверх. Но еще труднее было женщинам, устанавливавшим у шоссе надолбы против танков. К концу первого дня ладони у Марии покрылись кровавыми волдырями. Поясницу ломило, ноги гудели. Проработала она здесь три дня, а потом Марию с группой женщин перебросили на грузовике в район Химок, в Тушино. Ветер подул северный, резкий, злой, и Мария прятала лицо за чьей-то спиной, тоже в телогрейке, пахнущей сыростью. Голову она обвязала куском клеенки, и мокрые пряди липли ко лбу. Лучше устать, забыться, не думать. От Виктора по-прежнему не было писем. И не видеть раненых, перед которыми выступаешь. Их было все больше и больше. Мария никак не могла привыкнуть, присмотреться к виду увечий и крови. Дурнота поднималась к сердцу, и она с трудом удерживалась на ногах, особенно глядя на обожженные, слепые лица с оспинками черного пороха, голыми веками и надбровьями. О трудовом фронте Мария почти ничего не рассказала Кате. Две недели, проведенные на казарменном положении в Тушине, с сотнями других, таких же, как она, женщин, ничем не отличались от иных дней военного тыла в прифронтовом городе с частыми налетами, когда отрытая тобой траншея прячет тебя же от бомб и пулеметной очереди с бреющего полета; дней с постоянным чувством голода, с тяжелыми руками, которые кажутся не твоими, а чужими, будто существуют независимо от тебя. На следующий день после приезда Марии домой с трудового фронта начальник строительного отряда Иван Адамович Пташников всю ночь будет сидеть над рапортом, о котором Мария и не подозревала. Начальник напишет в нем, не называя имен, и о Марии в той части, где речь пойдет о вырытых в погонных метрах противотанковых рвах и проделанных ходах сообщения в метрах. В рапорте Ивана Адамовича будет сообщено и о сделанных эскарпах, и о проведении проволочных заграждений, и об установке надолб и ежей, и о пулеметных точках с колпаками, дзотах и дотах; о произведенной вырубке и завалке леса в гектарах; о том, что на работу затрачено столько-то человеко-дней и что имели место столько-то травматических случаев с временной утратой трудоспособности, один смертельный (убило упавшей елью) и два тяжелых случая, что снабжение продовольствием протекало нормально и фактическая стоимость питания одного человеко-дня составила 3 рубля 70 копеек при норме 5 рублей; что политико-массовая работа отряда проводилась ежедневно по батальонам (Мария работала в третьем батальоне); были проведены следующие мероприятия: выпущено три «Боевых листка», комиссары ежедневно утром, при выходе на работу зачитывали рабочим последние известия Информбюро. А известия были однотипные по форме, слух привык к ним, а сердце противилось, не верило, протестовало: «…наши войска вели бои с противником на всем фронте»; и далее: «На одном из участков Южного фронта…» Или: «На одном из участков Северо-Западного направления…»; рассказывалось о зверствах фашистов в захваченных районах; бои шли на подступах к Ленинграду; сдали Полтаву; лишь раз была упомянута Одесса; о бойцах, защищавших подступы к городу; читали письма пленных или убитых; особенно запомнилось Марии письмо-обращение сдавшихся в плен итальянских солдат Фрала Северино и Пьетро Марлини к своим однополчанам: «Мы, слава богу, живы и здоровы и надеемся после войны вернуться в свою Италию. Для нас война закончилась…» А для Марии с Катей как? Для Виктора? Из рапортов строительных отрядов сложится отчет Ленинградского райкома ВКП(б), где будет сказано о сооружении трех основных линий обороны и четырех укрепленных участков в дни, когда Мария была призвана на трудовой фронт. И лишь много месяцев спустя, когда фашистов отгонят из-под Москвы, тайна рапортов и отчета райкома обнародуется, и Мария прочтет в газете «Московский большевик», согревая озябшие руки в проходной хлебозавода: «В суровые, тяжелые октябрьские и ноябрьские дни, когда озверелые банды Гитлера рвались к сердцу Советского государства, десятки тысяч металлистов, ткачей, обувщиков, бухгалтеров, инженеров, техников, учителей вышли на поля и дороги Подмосковья… Люди, впервые взявшиеся за кирку и лопату, не считались с огромными трудностями, с энтузиазмом рыли противотанковые рвы, строили блиндажи и дзоты, делали завалы и т. д. И эти люди, мужественно и стойко преодолевавшие все невзгоды дождливой холодной осени, казалось, не впервые работали киркой, лопатой и топором, будто труд землекопа, бетонщика, плотника был их многолетней профессией…» И будут названы «профессор, убеленный сединами, маститый инженер, домашняя хозяйка, экономист, врач, учитель, рабочий, продавец»; и хотя Мария не найдет свою профессию певицы, ей будет казаться, что это именно о ней и написано. Но это было только начало. А что впереди?
* * *
Шестнадцатого октября Клава вернулась домой рано, вся в снегу. Хлопья тут же таяли. Накануне весь день валил мокрый снег, и на улицах была грязь из серой кашицы дождя и снега. Еще не было двенадцати, когда пришла Клава, встревоженная и растерянная. Разделась, не говоря ни слова; тут же побежала к Гере Валентиновне и, спустившись, рассказала, что никто сегодня не вышел на работу и зарплату почему-то не выдают. — Чушь! — не поверила Мария. — Быть этого не может. Клава промолчала. Прибежали девочки: они видели; как дворничиха тащила к себе огромный мешок не то с мукой, не то с рисом. Еще какие-то люди, утопая в грязи, несли из магазина, который был у них во дворе, ящики. Какой-то вихрь слухов пронесся по Москве. 18 октября пал Можайск. 19-го враг форсировал реку Рузу и занял Осташков. 20-го было официально объявлено о введении в Москве и прилегающих к городу районах со вчерашнего дня осадного положения. Кто-то, рассказывали, пытался бежать из Москвы на машине и даже с пулеметом. У Сокольников бойцы истребительного батальона сумели задержать его, и он был расстрелян на месте. Такая же участь ожидала каждого, кто попытается призывать к нарушению порядка и сеять провокационные слухи, шептунов и паникеров. В Театральном обществе никого не осталось, и Марии срочно надо было устроиться на работу. И она устроилась в термический цех механического завода. Сразу наступили холодные дни. Снег подморозило, скользко, он торчит бугорками, блестит, надо ходить мелкими шажками, чтобы не упасть. Стало известно, что паровое отопление так и не будет включено. Но хорошо, что они сообразили еще в сентябре — и снова посоветовал Колганов — купить на Усачевском рынке две железные печки. Сбережения Марии таяли с каждым днем. Человек, который продал им печи, вместе с сестрами пришел к ним, а на следующий день принес трубы, и жесть на пол и установил печки — одну в комнате Клавы, другую — у Марии. И без того в маленькой комнате было тесно, а с печкой и вовсе стало невмоготу — ни встать, ни сесть. За печки и за дрова заплатила Мария. И за установку, и за жесть, Мария сложила свою долю дров под кроватью и у стены за дверью. В сообщениях Совинформбюро появились направления Можайское и Малоярославецкое. Потом прибавилось Калининское. Затем Калининское исчезло, появилось Волоколамское. Далее Тульское. Четыре направления сразу — Можайское, Малоярославецкое, Волоколамское, Тульское!.. И все близко от Москвы, рядом. Затем исчезло — и это было страшно — Волоколамское, Малоярославецкое — и снова появилось Калининское. И сразу исчезло все — пошли безымянные «бои на всех фронтах»…* * *
Однажды днем в квартиру постучали. Девочки, бросив карандаши, побежали к двери, прислушались: Клава наказала им дверь никому не открывать. — Кто там? — спросила Катя. — Виктор, — ответили за дверью. — Папа! — крикнула Катя и открыла дверь. И тут же отпрянула: это был Витя, с которым они ехали в поезде. Он снял шинель, от которой пахло гарью, и прошел в маленькую комнату. Что ж, Катя рада и ему… Давно у них никого не было — все время одни да одни. Витя сидел недолго. Уходя, он выгрузил из карманов шинели кулек с сахаром и две банки консервов с надписью не по-русски. Он сказал, что скоро навестит их опять, пусть Катя передаст маме привет. Катя давно не видела так много сахара. Мария берегла сахар, получаемый по карточке, только к чаю, и то для Кати, а сама пила с сахарином. Единственным лакомством Кати была вареная свекла, которой ее угощала дворничиха — хозяйка немецкой овчарки. Катя иногда гуляла с собакой и за это получала свеклу из пайка Рекса. Овчарку весной должны были взять в армию. Катя и Женя взяли из пакета по куску колотого сахара и долго, с наслаждением сосали его, глядя друг на друга, улыбаясь.* * *
Как-то Мария с Катей вышли, и у трамвайной остановки Мария вспомнила, что забыла взять кошелек. Катя вернулась и застала тетю в маленькой комнате. Клава стояла у развороченного шкафа и рылась в нем; она густо покраснела, когда увидела Катю. — Что это? — крикнула она на племянницу, чтобы заглушить неловкость. Катя и сама впервые видела диковинную жестяную коробку на стуле. — Не знаю. Их чемодан был открыт. Клава быстро положила коробку в чемодан, но не успела закрыть, как пришла Мария. — Ты что в моем чемодане роешься? — изумилась Мария. — Я в шкаф полезла и вытащила чемодан, чтоб не мешал. Мария быстро подошла и закрыла чемодан. — Мама, а что в коробке? Мария поняла, что Клава видела коробку и ждет, что ответит Мария. Но коробка открывалась туго, и Клава вряд ли успела снять крышку, ведь Мария с дочерью недолго отсутствовали. Катин вопрос остался без ответа. В тот день они с матерью никуда не ушли.* * *
На их лестничной площадке обворовали квартиру. Однажды, придя с работы, Мария увидела, что дверь к соседям, которые были в эвакуации, открыта настежь, замок взломан. В дверях беседовали милиционер и домоуправ. Поодаль стояла дворничиха. Мария мгновенно вспомнила о золоте. Все внутри похолодело. Что, если бы воры забрались к ним? Она быстро вошла к себе, закрыла дверь, вытащила чемодан: жестяная коробка была на месте. Клава пришла с подробностями: воров не поймали, но акт составили; подумать только — среди бела дня обчистили, даже подушки унесли; наверно, кто-то из своих, знали, куда идти.* * *
«Как быть с золотом?» — в который раз вставал в эти дни перед Марией этот вопрос, и она не знала, что предпринять.Дров мало. Катя по ночам мерзнет, хотя зима по-настоящему еще не пришла. Они вдвоем никак не согреются. Мария половину своего хлебного пайка отдавала Кате, но та не могла наесться, и, когда случалось им говорить перед сном и даже засыпая, Катя неизменно рассказывала маме о белом хлебе и как мама его густо намазывала сливочным маслом, а она капризничала, не хотела есть. Чтоб масло не таяло, в масленку наливали холодную воду. — Вот бы мне сейчас этот хлеб!.. И о сладком чае рассказывала Катя. Вспоминала такое, что Мария удивлялась: как она могла об этом помнить, ведь была совсем несмышленышем! О том, как однажды Катя оттолкнула ее руку, не хотела есть гоголь-моголь, и стакан выскользнул из рук, упал, но не разбился, а Катя все равно не стала есть. — А какой он вкусный, гоголь-моголь, правда, мама? — спрашивала Катя. Как быть? К кому пойти с золотом? Как вдруг вытащить монету и показать кому-то? Вот она подходит к ювелиру… Но где он, этот ювелир? К Георгию Исаевичу пойти? Чтоб он помог? Но не спросит ли Георгий Исаевич: а откуда золото? Каждый спросить может. И падет тень на всю их семью: «Прятали!.. Скрывали!..» На Виктора падет тень… Пятно на всех!.. Может быть, отдать Клаве? И пусть она распоряжается. Но что скажет потом Мария Виктору и Николаю? И что станет с Клавой, если она увидит столько золота?! Мария несколько дней ходила сама не своя. Но однажды не выдержала, позвала Клаву и рассказала. — Золото?! — изумилась Клава. А когда увидела содержимое коробки, то неожиданно начала истерически кричать: — Мы голодаем! Мерзнем без дров! Работаем как проклятые! А ты прячешь миллионы! — Не кричи! — силой усадила ее на кровать. — И успокойся! Что ты предлагаешь? Клава вскочила и снова склонилась над коробкой. — Как что? Здесь же миллион! Надо купить муку, купить картошку! Запастись дровами, меду купить, сахар! Масло! Мало ли что надо еще купить?! Золото приковало к себе Клаву, она трогала рукой монеты, перебирала их, невнятно что-то бормоча, и непонятно было, то ли Марии она говорит что-то, то ли с золотом разговаривает. — Оставь их! Сядь и успокойся. — Нет, подумать только, какое богатство! — У нее в голове не укладывалось, что у них в квартире прятались миллионы. Мария не ожидала, что Клава так разволнуется, и уже жалела, что доверилась ей. Она отстранила Клаву и закрыла коробку. И только тут Клава отошла: — Ну ладно, я сяду. Я тебя слушаю, говори. — Я тебе все рассказала. И объяснила, что это мне не принадлежит. Это золото чужое. — Но половина — Виктора, значит, и твоя. — Ни одной монеты я не трону. Как они лежали здесь, так и пролежат. Мне ничего не нужно. Вернутся Виктор с Николаем, пусть и решают, что с ними делать. — Идиотка! — вырвалось у Клавы. — Неизвестно, кто вернется из этой бойни! — Все вернутся! Не смей! — Но я не понимаю, почему ты сказала мне? Сидела бы себе и помалкивала! — Я думала, ты дашь разумный совет. — Скажу тебе: положи под голову, а сама подыхай с дочкой? Этого совета ты ждешь от меня? — Не знаю. — И умолкла: нет, напрасно она поделилась с Клавой. — А ты какого ждешь от меня совета? — Не знаю, оно мне не принадлежит — только это я знаю. — Но если боишься сама и мне опасаешься довериться, — это страшно, я понимаю, по головке не погладят, — давай с Георгием Исаевичем посоветуемся, он поможет. Мария молчала. — Я же не предлагающее ему показать! Одну-две разменять поможет… Ну, ладно, не хочешь — не надо. — Взгляд Марии ей не понравился, и она отступила. — Пусть. Тебе ничего не нужно, ты проживешь, тебе, как всегда, повезет. Но я, твоя родная сестра, вправе на тебя обидеться. Иметь такие деньги и видеть, как сестра мучается… Но я не обижусь. Поможешь — спасибо, а нет… Но вот что я тебе скажу. Нельзя держать в коробке! В коробке легко могут выкрасть. Надо что-нибудь придумать. Чтоб понадежнее было. Знаешь что? Я придумала! Надо зашить в детское пальто! На перелицованное Катино пальто никто не польстится. В тот вечер они остались дома, не пошли на ночь в метро, глухие к предупреждению радио, зениткам и взрывам бомб. Клава, уложив Женю спать, принялась за работу. Столбики золотых монет. Двадцатипятирублевые, десятки, пятерки. Орлом вверх. Были в жестяной коробке, теперь ровными столбцами высились на столе. С красноватым отливом, будто теплые. Клава разложила монеты ряд за рядом на куске синего сатина, накрыла сверху другим куском и простегала, как одеяло, клетку за клеткой. Каждая монета спряталась в своем гнезде. Катя считала монеты, но так и не могла сосчитать их. Новые ряды монет легли на только что простеганную ткань, их снова накрыли сатином. Катя сегодня впервые за долгие месяцы войны была по-настоящему сыта: съела суп, приготовленный из мясных бульонных кубиков, затем копченую колбасу, нарезанную толстыми кружочками, очень вкусную. И ей запомнилось: брауншвейгская колбаса. Их угостила тетя: и колбасой, и кубиками Клава запаслась в первые дни войны — все магазины Москвы были тогда завалены этой самой брауншвейгской колбасой и мясными кубиками в плоских коробках, жестяных и золотистых. И запах бульона был Кате знаком — он и прежде распространялся по квартире, дразня Катю, когда Клава втайне готовила и, запершись в своей комнате, кормила дочь. Сытно пообедали, а потом пили чай с сушеной малиной, принесенной Клавой. «Неучтенный товар», — сказала она Марии. Целый мешочек сушеной малины, сладкой, и было приятно долго грызть ее зубами. От монет шел жар. Кате казалось, что монеты обжигают пальцы матери, но она терпит. А тетке хоть бы что, они переливаются в ее руках, она подолгу держит монеты, разглядывает, нехотя расстается с ними, отрывает от себя. Если дотронется Катя, наверно, останутся ожоги. Как тогда, когда ухватилась за горячий утюг, больно обожгло и кожа на пальцах потом вздулась. Мария отсылала раза два Катю спать, но та упрямо ждала окончания этого странного занятия. Простеганные куски сатина обрели форму ватника. Клава отпорола подкладку Катиного пальто, вдела в него ватник, приладила подкладку и уже вместе с ватником накрепко пришила ее к пальто. Далеко за полночь воткнула иголку в моток: — Ну вот, теперь можешь быть спокойной. — А потом, с усилием встряхнув его, кивнула Кате: — Надень! Пальто грузом навалилось на Катины плечи, потянуло ее книзу. — Ну как? По-моему, незаметно, — сказала Клава, довольная собственной работой. «Незаметно!» — разозлилась Катя на тетку. — Попробовала бы сама надеть. Всегда придумает такое, чтобы помучить меня!» И на маму обиделась: «Вздумалось ей пришивать к моему пальто этот ватник!..» Готова была расплакаться — было пальто, перешитое из маминого, в котором Катя чувствовала себя уютно, оно ей очень нравилось, в нем ей было тепло и на улице, и в туннеле метро, на деревянном настиле, где они с мамой спали, а теперь его нет, обманули, отняли, пальто стало чужим, и душно в нем, жарко. — Что стоишь как вкопанная? Походи, подвигайся! — Клава толкнула Катю в спину. Катя нехотя сделала два шага и остановилась. — Не буду я ходить. Я спать хочу… — А у самой вот-вот потекут слезы. Но ни за что не заплачет при тетке!.. Мария быстро сняла с дочери пальто и бросила на кровать. Металлическая сетка глухо отозвалась, пальто камнем провалилось в пуховую яму. На столе, рядом с лоскутами синего сатина, иголкой, воткнутой в моток, и ножницами, лежало одиннадцать монет. На одной из них Катя увидела профиль бородатого человека. Она хотела взять одну, чтобы разглядеть этого мужчину, да пока раздумывала и одолевала в себе робость, мать придвинула все одиннадцать монет к сестре: — Возьми, Клава. Это тебе. — Будто откупилась. — Мне? — Клава вспыхнула, обеими руками быстро собрала со стола монеты и порывисто обняла Марию, звучно поцеловала. За спиной мамы Катя увидела теткины кулаки. Короткие пальцы ее крепко сжимали монеты. — Задушишь, пусти! — Мария вырвалась из объятий сестры и почему-то испытала стыд перед дочерью, будто провинилась перед ней. В дверях появилась заспанная Женя. Щурясь и потирая ладонью глаза, она смотрела на Катю. «А я вот не спала!» — возликовала Катя, забыв про обиду и довольная тем, что видела то, о чем Женя не имеет никакого представления. — Сейчас же иди спать! — Клава бросилась к Жене и увела ее. И долго в ту ночь не могла уснуть Мария. Дочку жаль — такой груз. И затея такая ненужная, унизительная. И зря так быстро согласилась с Клавой, рассказала зря. Сколько сил ушло и времени. Позади целая жизнь, а впереди что? Тоска такая, что хоть вой. Влезла в душу зверьком, и никак не прогонишь. А Катя на всю жизнь запомнила теткины кулаки за спиной мамы, в которых были зажаты одиннадцать монет. И в ушах — голос матери: «Задушишь, пусти!..» В который раз за ночь радио заученно предупреждало: «Граждане, воздушная тревога!» Но ни одна бомба не взорвалась вблизи. Утром снова на завод. Встали с Катей в полутьме. Фитилек в пузырьке с керосином погас. Втащила одежду под одеяло, чтоб согреть ее, и не спеша, чтоб не впустить к себе холод, стала одеваться. Оделась, умылась, выпили с кусочком сахара и ломтиком черного хлеба по стакану кипятка из термоса, и ушла, оставив Катю одну. В метро глянула в стекло на свое отражение и ахнула: лицо было измазано сажей, — всегда она забывает, что фитиль нещадно коптит. Быстро стала вытирать со лба и подбородка сажу. Лучше спать в метро, здесь чисто, а от холода нигде все равно не спастись. Только на заводе, в термическом цехе, где работала Мария, было жарко, и жар этот обогревал ее, казалось, в пути, и она спешила, чтобы хоть малую его частичку донести до дому, отдать Кате.
3
Восьмого ноября Мария с трудом пробралась сквозь толпу женщин к газетной витрине на заводе. Снимки и сообщения о том, что на Красной площади был парад и состоялось торжественное заседание, подняли настроение Марии. Нет, Мария была права, что приехала в отцовский дом. Немцу в Москве не бывать. На лицах всех, кого в тот день видела на заводе и на улице Мария, возвращаясь домой, была радость. Воздух тяжелый, как лед. Он застревает в горле колючим комком. Пуховый платок, брови и ресницы покрыты инеем. Волоски в носу превратились в иголки. По снежной целине улицы, объезжая Садовое кольцо, которое у Крымского моста было перегорожено надолбами, проходили танки. Орудийные дула были покрыты изморозью.* * *
Как же складывался день Марии, когда она работала на механическом заводе? У кого спросить? Как узнать? Катя стояла у печки и на миг задумалась. Кажется, кто-то спросил о маме. Это был я. И я смотрел к ним в окно, в кругляшок на замерзшем стекле, отвоеванный дыханием Кати. Но она меня не видела, ведь я в году Барана и в месяце Путешествий. (А тогда? И снега не было, но ветры дули, и в окне, что некогда пробил в стене отец, выл злющий северный ветер. И налеты? Прилетал однажды — разведывательный!.. Я бегал по крыше, летел высоко-высоко, как точечка, палили зенитки, и ватой белели облачка с кулак на синем небе. Не попали — он летел очень высоко, до него не добраться, ему нравилось оглядывать с высоты богатый нефтью край. И быть почти уверенным, что скоро они приберут его к рукам, — ведь были очень близко, и Телеграфный столб, чисто побрившись опасной бритвой, поглаживал щеку и подкручивал усы. Он подозвал тебя, когда ты сошел с крыши. «Ну, кого побрить?» — спросил он, а у самого противная ухмылка. Потом я пролез к нему в окно и стащил бритву. Ай, как нехорошо!.. Мне надо было разрезать толстую книгу, оставшуюся от соседей немцев, и я случайно — ведь острие-то тонкое! — отломил лезвие. И вернул ему? Радостный, я подсунул ему бритву, которой уже не побреешься!.. Он подозревал тебя, а ты избегал встреч с ним…) Кругляшок на стекле снова затянуло узорами. Катя исчезла. Но я ее вижу… Холод, снег, мерзнет даже печка. Не плачь, Катя. Мама скоро придет и принесет с собой за пазухой кусочек тепла. Как в сказке. И печку затопит.* * *
Вот и она, Мария. Пришла, высыпала у печки принесенные с завода чурочки, разожгла одну зажигалкой, подаренной Кате молодым лейтенантом Виктором. И печка, соскучившаяся по долгожданному теплу, запылала. Женщины собирали чурки и щепки в термическом цеху и вокруг него, прятали в платки, карманы. Завернув «дрова» в старые кофты или платья, в конце смены они подсовывали свертки под ворота, а сами шли к проходной с пустыми руками. А охрана в проходной делала вид, что ничего не знает… Выйдя из проходной, все шли к воротам, брали каждая свой сверток. Быстро вскипел чайник. А потом сварилась картошка. Поели, погрелись у печки, а она, быстро накалившись, тут же начала остывать. И уже можно было подолгу держать руки на печке. И уже она остыла. И надо собираться ко сну: Катя одевала пальто, оно ложилось всей тяжестью на плечи, и они шли в метро. А утром Мария провожала полусонную Катю до дому, а сама возвращалась в метро. Туннель освобождался от деревянных щитов, и колеса вагонов грохотали по рельсам.* * *
Клаву как подменили. Исчезла постоянная угрюмость. Она привезла в дом дрова, купила на рынке муку, масло. И все спрятала у себя в комнате. Мария ни о чем не спросила: ясно, что сестра кому-то продала золото. А Катя боялась своего пальто. Ее словно привязали к нему, а оно ей говорило: «Ты моя рабыня!» И никому нельзя пожаловаться на ненавистное коричневое, в рубчик пальто. В Кате росла злость на тетю, которая на дню раза два приходила домой. За то, что пришила к пальто этот проклятый ватник, как будто в наказание; за то, что втайне кормила Женю и закрывала дверь в свою теплую комнату. «Ты моя рабыня! Сиди и сторожи меня!» — говорило пальто, и никуда от него не убежишь.* * *
Шла как-то Мария по Олсуфьевскому после работы, и вдруг навстречу идет Игорь. Игорь Малышев. Просто чудо, что ее «поэт» узнал Марию, ведь прошло столько лет! А он стоит и улыбается, радуясь встрече. — Ты ли это, Маша? И Марии услышалось: «Как ты изменилась, Маша!..» — Как видишь, — устало улыбнулась она. — Где ты? Как ты? Мария развела руками. — Как все… А как ты? — Обо мне успеется, ты о себе сначала расскажи! — Может, зайдешь к нам? — Непременно приду, только не сейчас, я спешу. Было морозно, и они спрятались в чужом подъезде. И Мария тут же, в своем родном переулке, рассказала Игорю, еще не зная, что он работает в райкоме, о Викторе, о Кате, о выступлениях в госпиталях, о трудовом фронте, о механическом заводе. А почему — и сама не знает. Но Игорь ведь не чужой!.. И чтобы сгладить впечатление от своих жалостливых слов, которые ей самой вдруг стали неприятны, попробовала отшутиться: — Хоть я и ангел, как писали некоторые поэты, но не питаюсь бесплотным духом, да и дочку кормить надо. Он снял очки, протер стекла, близорукие глаза улыбались. — Помнишь, значит… — А стихи были хорошие. — Правда? — по-детски обрадовался он. — «Мне ангельский твой лик явился…» — продекламировала Мария. — А что, разве плохо? — Знаешь, Маша, — переменил он разговор, — а я, кажется, могу помочь тебе. Пойдешь работать на хлебозавод? Там тоже нелегко, но близко от дома и будешь сыта. Приходи завтра ко мне в райком. Знаешь, он где? Там, где райком комсомола.Так Мария начала работать на хлебном заводе. Как сказала Клава, ей снова повезло. — Это же золотое дно! — сказала она, да тут же запнулась, глядя на Марию: дразнить ее она не собиралась, слово это просто у нее вырвалось. Но больше всего от новой работы Марии выгадали девочки — Катя и Женя.
* * *
Первый день на хлебозаводе утвердил ее в мысли, что все будет хорошо. С работой она справлялась, было тепло, даже жарко, и впервые целый день она была сыта. Завтра нужно будет сказать, чтобы девочки пришли. Она шла домой не спеша, не чувствуя мороза. Дома ее ждали гости — Витя с товарищем. Они сидели в комнате Клавы и разговаривали с ней. Дела под Москвой улучшились, и у ребят было приподнятое настроение. Катя сидела рядом с Витей, подчеркивая своим видом, что это их гость. Мария незамеченной прошла в свою комнату, быстро переоделась. Она была рада приходу людей, которые ей так помогли. Гости поднялись ей навстречу. Клава выкладывала на тарелку американскую тушенку из банки, толстыми ломтями резала хлеб; Витин товарищ из фляжки переливал в графин водку. Витя рассказывал, что они нашли в блиндаже, из которого их часть выбила немцев, пачку бланков, отпечатанных в фашистской типографии, — это были пропуска на беспрепятственное хождение по Москве в ночное время. — Расскажи еще о железной коробке, — прервал его товарищ. — Железной коробке? — изумленно переспросила Мария. — Да, мы ее обнаружили в том же блиндаже, а в ней медали, выпущенные Гитлером в честь взятия Москвы. Все расхохотались, а Мария грустно улыбалась: «Проклятая коробка!» Сварилась картошка. Разлили по рюмкам водку. Извинившись, Клава ненадолго отлучилась. Она поднялась к Колгановым за патефоном и пластинками. Клава расщедрилась — в комнате было жарко. Девочек разморило, у них горели щеки и уши; вскоре они заснули тут же, в комнате на тахте, под громкие звуки патефона. Неожиданно для Марии сестра попросила ее спеть. Клава не любила, когда Мария пела, а тут вдруг попросила сама, и Мария не смогла отказать. Но только затянула «Мой костер в тумане светит!..» — не выдержала и расплакалась. Пластинка сменяла пластинку. Клава танцевала с Витиным приятелем; потом поднялись Витя и Мария. Кончалась пластинка, подсаживались к столу, потом снова танцевали, уже в коридоре, потому что рядом с печкой, источавшей жар, танцевать было неудобно. Клава погасила в комнате лампу, чтобы не мешала девочкам, но было все видно и от горевшей печки и от света, который падал из коридора. Когда Мария меняла пластинку, Витя неожиданно обнял ее сзади и поцеловал в шею. Она с силой оттолкнула его, включила свет: — Хватит! Потанцевали! Пора и честь знать! — Ты что? — возмутилась Клава, входя в комнату. — Нет, нам действительно пора, — как бы очнувшись, проговорил Витя и пошел к вешалке. Мария растормошила Катю и, полусонную, потащила ее к себе. Не успела захлопнуться, дверь за гостями, как Клава взорвалась: — Ну что ты за человек! Подумаешь, ее поцеловали! Люди с добром к тебе пришли, еду принесли, на фронте были! А все не по тебе, сидишь на золоте, ни себе, ни другим! — Это золото тебе покоя не дает. Забудь про него! — Мария захлопнула дверь. Она легла к Кате, но долго не могла уснуть. Они тут пили с этими мальчишками, танцевали, а где ее Виктор, что с ним? Почему не дает о себе знать? Сколько еще протянется ее ожидание?..* * *
К обеденному перерыву Катя и Женя подходили к высокому забору хлебозавода, где к этому часу собиралось много детей. В заборе, в нескольких местах были щели в палец-два шириной. Женщины, работавшие на заводе, подзывали каждая своего и сквозь щель просовывали детям нарезанные в цеху ломти. Выносить с завода хлеб не разрешалось, но кормить детей охрана не запрещала. Горячий черный хлеб дымился на морозе. Ломоть обжигал Катину ладонь. Катя ела с наслаждением, стараясь не уронить ни комочка. Особенно она радовалась, когда доставалась горбушка. Женя пыхтела рядом. Запах горячего хлеба распространялся далеко вокруг. От аромата хлеба кружилась голова, и наесться было невозможно. Долго потом по дороге домой Катя принюхивалась к пальцам, сохранившим хлебный дух. Девочки иногда возвращались домой мимо Хамовников. Хамовнический плац был огорожен. Катя смотрела в щелку и видела, как на плацу маршируют красноармейцы. Они то ползли по снегу, то, вскинув ружье, шли строем, попарно или вчетвером, то держали винтовки наперевес… К плацу примыкала окружная железная дорога, и по ней отправлялись на фронт сформированные в Хамовниках части. Катя подолгу не отходила от забора, надеясь, что вдруг увидит папу. Стояла до тех пор, пока не замерзали ноги. Часто девочки ходили гулять на Девичку. Большая часть треугольного сада была тоже огорожена. За оградой прятались похожие на гигантских рыб аэростаты. По вечерам они всплывали в небо. Здесь же, на Девичьем поле, в маленьком деревянном бараке жили девушки, которые следили за аэростатами… Девушки были в валенках и полушубках, на ушанках горели звездочки… Они иногда несли аэростат по улице, придерживая его с четырех сторон канатами, чтобы он не улетел, и огромная рыбина подпрыгивала в такт девичьим шагам.* * *
В клубе хлебозавода был митинг. Над сценой алел транспарант: «Все для фронта, все для победы!» Подготовка к митингу шла уже несколько дней. Внизу, рядом со сценой, принимали подарки в фонд обороны. Сдавали кто что мог: шерстяные носки, теплое нижнее белье, телогрейки, кисеты с махоркой, рубашки. Некоторые сдавали тоненькие золотые сережки и кольца. Заместитель директора Матвей Цирюльников сдал на пять тысяч облигаций и часть компенсации за отпуск и, подведя итоги, назвал фамилии людей, отдавших на строительство танков или самолетов по сто тысяч рублей. Эти фамилии Мария уже слышала по радио. А потом он сообщил, что в дар стране в честь разгрома фашистов под Москвой собрано… цифры Мария пропустила, но в голове застряло: «золотой монетой». И Мария вдруг ясно осознала, как именно следует ей поступить. Нужно сдать золото! Но не сейчас, не при всех, чтобы можно было спокойно объяснить, откуда у нее столько. Голова у нее кипела: как она раньше до этого не додумалась?! Клава перестанет пить у нее кровь из-за этого проклятого золота! Дома она тут же рассказала все Кате. Она даже не думала, что дочь так обрадуется. — Мамочка, мы сейчас понесем? — Нет. Я завтра все выясню в завкоме, а потом вместе отнесем… Меня только волнует, как к этому отнесутся папа и дядя Коля. — А мы им все объясним. Они не будут сердиться. — И на это золото построят танк. — Знаешь, мамочка, давай сейчас отпорем! Мария подумала, что ватник надо сейчас же отпороть — это первый шаг к тому, что она решила сделать. Мария взяла ножницы и аккуратно, почти по самому краю, вырезала ватник, вывернув пальто наизнанку. Пальто, на радость Кате, стало легким. Они свернули ватник, и Катя просунула его в щель между стеной и кроватью, впихнув под поленья. Утром, проводив мать, Катя столкнулась с тетей в коридоре. И, чтобы разозлить тетю, радостно ей сообщила: — А мы сдаем золото в фонд обороны! Тетя промолчала, но Катя увидела, что удар достиг цели. Клава вышла из дому встревоженная. Так, во всяком случае, показалось Кате. Вечером в коридоре, придя с работы, Мария встретила только Женю. — А где же Катя? — встревожилась Мария. И Женя сказала, что «приходили тетя и дядя, ругали маму, а потом вместе с мамой и Катей уехали». Мария бросилась к себе в комнату, прямо в пальто взобралась на кровать и просунула руку в щель: ватник был на месте. Только она успела раздеться, как вернулись Клава и Катя. — Что случилось? Клава взорвалась: — Ты уже сдала, конечно! — Нет еще. Где вы были? — На Петровке! Дождались! Дочь твоя проболталась, вот и расхлебывайте! — Я никому не говорила! Я не маленькая! — Рассказывай, Клава! — Только я пришла с работы, как в дверь позвонили, — стала рассказывать Клава. — Я открыла. В дом вошли двое, мужчина и женщина. Предъявили мне удостоверение, но спросили тебя, Я ответила, что ты моя сестра. Женщина усмехнулась: «У вас золота нет, мы знаем. Золото прячет ваша сестра, и вам это хорошо известно». — А может быть, проболтались те, кому ты продала десять монет? — Эти монеты я и не думала продавать!.. Ты слушай дальше что было! Мужчина сказал, что «хватит разговоров, нам совершенно ясно, что вы укрываете сестру, одевайтесь, поедете с нами на Петровку». И Кате велели одеваться. Мы поехали. Там меня при Кате снова стали допрашивать. «Разве вы не знаете, — сказали мне, — что категорически запрещено держать дома золото?!» Говорили, что это пахнет для Виктора военным трибуналом. Предупредили, чтобы не пытались прятать золото или куда-нибудь относить. Они сами за ним придут. Говорили, что я должна предостеречь тебя от опрометчивых шагов. И главное, сказали они, никто не должен знать, что нас возили на Петровку. Я молчала. Ни «да» не сказала, ни «нет». Потом нас с Катей снова посадили в машину и высадили у Девички. Мария молча слушала Клаву, изредка поглядывала на Катю. Девочка упрямо опустила голову, но тете не возражала. — Что ж ты теперь собираешься делать? — То, что решила. Сдам в фонд обороны. — Сама во всем виновата, надо было слушать меня с самого начала! Они разошлись по своим комнатам.4
Ночью позвонили. Мария вздрогнула, прислушалась. Позвонили опять. Быстро накинув пальто, Мария подбежала к дверям. — Кто там? — С Петровки. Открывайте. Мария открыла. Вошли мужчина и женщина. «Они!» — подумала Мария. — Я вас слушаю. — Одевайтесь, поедете с нами. И возьмите с собой золото. Все монеты до единой! — Мужчина назвал точное количество. Марию ошарашила такая осведомленность. — Монеты мне не принадлежат. — И это мы знаем. — Я сама решила сдать золото в фонд обороны. — Об этом надо было думать раньше. — Но я… Мужчина не дал ей договорить: — Хватит! Нам некогда. Собирайтесь! — Но я добровольно отдаю. — «Добровольно»! Вам слава нужна! Аплодисменты! Чтобы в газете писали! Как же? Вы артистка! Вы без этого не можете! «И это знают!» Марию била дрожь. И тут заговорила женщина: — Товарищ майор, раз она чистосердечно призналась, так уж и быть, давайте примем у гражданки золото, дадим ей справку, что она добровольно сдала государству золото в таком-то количестве. — «Сдала»! Мы сами за ним пришли! Женщина тем временем открыла портфель, вынула лист бумаги, села к кухонному столу. — Несите золото! Мария, как в лихорадке, кинулась в комнату. Катя, обхватив колени, сидела на кровати. Она все слышала. В ее руках был ватник. Мария вынесла стеганку. Женщина писала долго, подписала сама, дала подписать мужчине, он вытащил из кармана коробку с печатью, подышал на резиновый круг и приложил к бумаге. Женщина протянула справку Марии и взяла у нее ватник и запихала в портфель, который неожиданно оказался таким вместительным. — Вот это называется разумный поступок! И ушли. Мария долго стояла, прислонившись к стенке. Вышла Катя в одной рубашке и обняла мать. И только сейчас из своей комнаты вышла Клава: — Ушли? Мария промолчала. — Ты отдала? Мария кивнула. — Так тебе и надо! Еще хорошо, что не засудили! Они опять разошлись по комнатам. Мария и Катя никак не могли согреться. Только к утру они ненадолго уснули.* * *
Ни утром, ни в последующие дни Клава не вспомнила о ночном визите. Дома она бывала редко: все свободное время с дочерью пропадала на пятом этаже у Колгановых. Мария спрятала полученную справку в жестяную коробку, которая, как удивилась Мария, уже не пугала. День заметно прибавился. После двенадцатичасовой смены усталость повисала на ногах Марии тяжелыми гирями.* * *
Мария слушала репродуктор, подолгу простаивала в проходной у щита, где вывешивались утренние и вечерние сообщения Совинформбюро, — то ли читала, то ли думала о Викторе. Когда же получит весть о нем? Ночью вдруг сядет и не спит. — Спи! — говорила Катя. Но мать ее не слышала. А потом вдруг скажет: — Это ты, Виктор? Кате становилось жутко, она накрывалась с головой и подолгу прислушивалась к звукам. Нет, мама больше не говорила, но и высунуться, посмотреть, спит ли она, Катя боялась. А потом привыкла к полуночным маминым: «Ты?..» А Мария действительно ночами, казалось, чувствовала присутствие рядом Виктора. Совсем рядом, с нею. То ли сон это, то ли явь. Сидит на кровати, гладит ее голову, нежные слова шепчет и шепчет. Она чувствовала его тяжелую руку, горячую и ласковую, на холодном плече, на шее, и, уткнувшись в нее, эту такую родную и близкую руку, с которой ничего не страшно и спокойно, как в детстве, засыпает. И снова вздрагивает: «Ты?..» Как-то Катя застала маму сидящей над тетрадью. Как только Катя вошла, она встревожилась, испуганно закрыла тетрадь, быстро убрала со стола и спрятала на коленях. Катя уловила, что для матери это какое-то таинственное занятие и что она не хотела бы, чтоб об этом узнали. Замешательство сменилось недовольством. Катя ни о чем не спросила и вышла, оставив мать одну. Испуг матери так врезался в память, что Катя перестала врываться неожиданно в комнату, находила способ, чтоб как-то узнала мама о ее приходе. Тетрадь не попадалась Кате, она даже поискала ее и не нашла. Но по ручке с чернильницей, которые оказывались не там, где их оставила Катя, догадывалась, что мама продолжает писать и тетрадь есть, только она тщательно прячет ее. У Марии было такое чувство, что все, с кем она работает на заводе, получают письма. И ниточка связи продолжается, голоса мужей и они сами — с ними. Все, но только не она. И это чувство было так осязаемо и так угнетало, что Мария с трудом удерживалась, чтоб не впасть в истерику. Она вскакивала и цеплялась за единственное реальное, что было рядом, — за Катю. И долго стояла не шелохнувшись, обняв Катю, набираясь от дочери сил, и все дальше уходил, оставлял страх. Однажды такое нахлынуло на нее, когда Кати не было дома. Мария вскочила, заметалась, подошла к окну, потом к углу, где обычно рисовала Катя, пошарила рукой по столу, взяла тетрадь; она оказалась чистой, обмакнула перо и вывела: «Мария, родная, крепись! Я буду тебе писать! Сегодня…» И всплыло в памяти прочитанное сегодня ею в газете. «Какие здесь люди, если бы ты знала!.. Чистое золото!.. Мой товарищ Хафиз Каримуллин уничтожил трех фрицев, а наш лейтенант Гель сбил из винтовки «Хейнкель-126». Я жив и здоров…» Почему именно эти фамилии, думаю я. Необычные — потому? Или долго вчитывалась? И именно их запомнила?.. Хафиз Каримуллин, где он? И Гель. Жив? Здоров?.. Записала и спрятала, стало легче. И пошли короткие записи — «письма». Виктор оказался на Керченском направлении: сначала на полуострове, потом «под давлением превосходящих сил» отошел на «новые позиции», сражался уже в районе города Керчь, затем «в восточной части» полуострова, а через несколько дней был в числе войск, которые по приказу Советского Главного Командования оставили Керченский полуостров. И фраза в «письме»: «Эвакуация проведена в полном порядке». Виктор переместился на Изюм-Барвенковское направление и сообщал, что «сбил из самозарядной винтовки немецкий самолет «фокке-вульф». И еще дважды Виктор «собьет» самолеты» И почему-то именно это представлялось Марии тем подвигом, на который способен Виктор и о котором, он непременно написал бы. Исчезло Изюм-Барвенковекое направление, и появился Севастопольский участок фронта. А с ним и новый адрес Виктора: «серьезные бои…», «упорные…», «ожесточенные…», «многократные атаки противника…», «ожесточенные атаки превосходящих сил противника…» Пал Севастополь. И Мария, услышав эту весть, расплакалась. И никто не узнал, как мучилась она в ночь с 3 на 4 июля 1942 года. И долго не шли письма.* * *
(Пал Севастополь… Я услышал об этом утром рано, сидя в телеге. И буйволы собирались везти нас в горы, к чабанам. Скоро заскрипят колеса, и начнутся ореховые рощи. Высоко в горах… А матери нельзя в горы, у нее больное сердце. Но она будет лечить чабанов. И запасаться на длинный год, чтоб прокормить меня и моего младшего брата, старую мать отца заготовленным впрок, пережаренным в масле мясом. И будут ночью звать ее к больным. Она будет ездить и ездить на коне все выше и выше в горы. Но ей нельзя! И все-таки она поедет. Пал Севастополь. А там отец. И мы долго не трогались в путь, мать не могла отойти от репродуктора, буйволы устали ждать. Где я, а где Катя…)* * *
Однажды к ним явился нежданный гость. Вернее, Мария все время ждала его, брата Виктора. Ждала, а последние дни забыла о нем. Катя сразу узнала Николая, хоть видела дядю только один раз, на даче у дедушки. Николай, уронив палку, поднял Катю на руки. Девочка крепко прижалась к колючей щеке дяди. И лицом, и голосом он очень походил на отца. И с ним в дом вошла сила — все они с мамой одни и одни, а рядом — Клава, молчаливая и затаившаяся… Вот мама обрадуется. Катя быстро наклонилась, взяла тяжелую палку с металлическим набалдашником и протянула дяде. Она помогла ему раздеться и побежала на кухню ставить чайник. Николай прошел в комнату, огляделся, увидел на комоде фотографию Виктора — на фотографии брат был совсем мальчишкой. Прихрамывая, он пошел на кухню, где Катя чистила картошку, и, вытянув ногу, примостился на табурете. — Вас ранили? Больно? — Было больно, а теперь уже ничего… Как вы тут живете с мамой, Катенька? — Мама работает на хлебозаводе, днем я хожу к ней обедать, она мне выносит вкусный горячий хлеб. И картошки у нас немного есть, нам дали две грядки прямо под нашими окнами, скоро посадим. Катя словно шелуху снимала с картошки — такой тонкий прозрачный слой срезал ее ножик. — Некоторые едят картошку прямо с кожурой, а мы с мамой не можем. Очень горько! Николай улыбнулся. — Принеси мой вещмешок. Он достал из мешка большую консервную банку, ловко вскрыл ее ножом и выложил содержимое в кастрюлю с картошкой. Единственная конфорка еле горела; казалось, дунешь — и газ больше не зажжется. — А от папы мы еще ни одного письма не получили, — сказала Катя. — Мама говорит, что вот-вот получим. Николай промолчал. Пришла Мария. Увидев гостя, она обняла его и заплакала. И у Николая покраснели глаза. Кате было неприятно, что мама плачет, и она отвернулась. «Радоваться надо, а она!..» — Мама, чайник закипел! Мария залила картошку кипятком и поставила на огонь, а чайник, чтобы не остыл, завернула в ватное одеяло. — Газа хватает только на одну конфорку, — вытирая глаза, сказала Мария. — Попробуешь зажечь вторую, и эта гаснет… Пошли в комнату. Катя собирала на стол. — Ты, может, приляжешь, Коля? — Я не устал. Мария открыла дверцу шкафа, как будто спряталась за ней. «Надо же ему сказать! Как он отнесется к этому?.. Стал инвалидом, а я и помочь ему не могу. Что делать?» Катя понимала, о чем думает мать. «Может, мне сказать? И пусть остается с нами! Мы с мамой будем его кормить». — Пойду посмотрю картошку. — Мария вышла на кухню, Катя — за ней. Николай потер раненую ногу. «Как я им сообщу? Они живут только этой надеждой». Разложили по тарелкам дымящуюся картошку. Ели молча. Быстро выпили чай. Катя думала: «Сейчас я скажу, скажу!» Но в тот вечер никто ни о чем не говорил: ни Мария о золоте, ни Николай о Викторе. Николаю постелили на полу, чуть ли не под кроватью. На следующий день Мария, встав рано утром, пошла на Усачевский рынок и обменяла свое любимое длинное панбархатное платье на тощую синюю курицу. Она варилась долго, и запах напоминал Кате жизнь на берегу моря, когда был рядом папа, и в ушах звучали мамины слова: «У него язва желудка, ему можно есть только белое мясо!» А у этой курицы никакого мяса, одни кости. Молчать не было сил. И первым начал Николай: — Меня мобилизовали в Ленинграде на второй день войны, но направили на юг. Сначала наша часть стояла в Мариуполе, потом в Новороссийске. — Виктор тоже был в Новороссийске. — Знаю, все знаю… — Ну? — Я его видел там. На следующий день после того как вы уехали. — Правда? — обрадовалась Мария. — А потом что было? — Нас погрузили на поезд. И нашу часть, и часть Виктора. Мы радовались, что будем рядом… — Николай помолчал. — Но не успели мы отъехать от Новороссийска, как наш эшелон попал под страшную бомбежку. Горели вагоны, бомбы рвались на путях. Негде было спрятаться, вокруг — голая степь, а самолеты все заходили и заходили… Страшнее той бомбежки я больше ничего не видел. Не знаю, как я вышел из этого ада! — А Виктор? — Он бежал сначала рядом со мной, потом упал… Я решил, что его оглушило… — А потом? — К вечеру за ранеными приехала дрезина. — А Виктор? — Виктор остался. — Где? Николай промолчал. Мария схватила его за руку: — Где?! — Его там же похоронили… Крик прервал слова Николая: — Нет! Ты лжешь! Это неправда! — Мария вскочила. Неизвестно когда появившаяся Клава погладила Марию по плечу. Мария с силой оттолкнула ее руку: — Ты думаешь, я не знаю, почему ты лжешь? — Мне тяжело так же, как и тебе. Но я говорю правду. Мария зарыдала. Катя ничего не понимала. «Почему дядя так говорит? Раз мама ему не верит, значит, папа жив. Не может быть, чтобы папа не вернулся». Увы, Катю это убеждение не оставляло всю войну, даже после того, как они получили похоронную. — В Москву я приехал только для того, чтобы увидеть вас. У меня больше никого нет. Я отвечаю за вас перед памятью брата. Ты всегда можешь на меня положиться. Пока из меня работник плохой, но окрепнет нога, и тогда я смогу вам помогать. — Мне твоя помощь не нужна! Ты уже помог мне своей неправдой! Николай повернулся к Клаве: — Успокой ее, Клава. Одно присутствие Клавы раздражало Марию. — Ты думаешь, я не знаю, почему ты явился? Мария выбежала из комнаты, тут же вернулась с железной коробкой и открыла ее перед ним: — Нет у меня золота! Ты напрасно приехал! Я его сдала! — Мария в упор смотрела на Николая. Сейчас все выяснится! Конечно же он обманул ее, чтобы получить целиком отцовское наследство. Он разозлится и этим выдаст себя. Но случилось неожиданное. Николай спокойно, даже равнодушно сказал: — И молодец, что сдала! Надо было давно сдать! Отец мне писал, а я ему ответил: «Сам себе жизнь отравил и на Виктора с Марией взвалил обузу!» Николай смотрел на изумленную Марию, и его вдруг пронзила догадка: Мария обвиняла его, пытаясь спрятаться от правды! От правды о том, что Виктора нет! Пусть лучше кричит, плачет, чем так вот стоит и не верит. Он стерпел бы и не такие обиды, только бы брат был жив. «Где взять силы? Как пережить такое?» Мария уже много раз видела Виктора раненым, обожженным, мысль об этом доставляла ей боль, но представить, что Виктора уже нет и не будет никогда, она не могла. — Мама, не стой так! — крикнула Катя. — Папа жив, он вернется!.. Мария опустилась на край кровати и прижала дочь к себе. — Да, обязательно вернется, Катенька. Мария не плакала, все внутри запеклось. Николай машинально достал со дна коробки бумагу и начал читать. — Что это? — удивился он. Клава заглянула через его плечо. — Расписка. — Какая расписка? — О том, что получили золото. — Кто получил? — Приезжали же двое с Петровки. — Такую справку и я написать могу! — А печать же есть! — Неизвестно, какого учреждения! — Мария, расскажи ему сама… И тут заговорила Катя: — Меня с тетей возили на машине, разозлились, что золота не было в пальто, а потом ночью пришли к нам, и мама отдала. — Катя сняла с вешалки свое пальто и показала дяде: — Вот сюда тетя зашила золото. — Но это не документ! Весь этот разговор Мария слышала как сквозь вату. И слова Николая: «Тебя обманули, Мария!» — будто ударили ее. Она побелела: «Как это обманули? Как много обманов! И Виктора нет…» Черные пятна закружились перед глазами, она хотела что-то сказать, объяснить… Дальше она ничего не помнит. Катя увидела, как у мамы вдруг зрачки поплыли, из горла вырвался хрип, она повалилась на бок… Николай и Катя бросились к Марии.* * *
Мария открыла глаза. В комнате был полумрак. У изголовья постели, на которой она лежала, стояла Катя. Опершись руками на палку и положив на них подбородок, в углу на стуле сидел Николай. — Катя, — тихо сказала она, — постели дяде. И снова закрыла глаза. …Утром она встала в привычное время, ноги ее не держали, не слушались. Николай сидел на том же стуле, что и вчера вечером, привалившись головой к стене. Как только Мария поднялась, он сразу открыл глаза.* * *
Николаю предстоял трудный день: пойти в комендатуру отметиться, получить дорожный аттестат и билет до Уфы, где находился госпитальный санаторий, в котором Николай долечит ногу. От бессонной ночи болела голова. Вчерашние разговоры, обморок Марии не давали ему покоя. А тут еще эта непонятная история с золотом. Если останется время, нужно выяснить; он нащупал в кармане странную справку. В том, что Мария отдала отцовское наследство, Николай не сомневался. Но были загадочны обстоятельства, при которых было взято золото. Он остановился, достал бумагу и начал ее внимательно рассматривать: на печати ясны были только ободки кругов. Вечер этого дня был тоже нелегким. Хорошо бы не начинать разговора о том, что ему сказали на Петровке, куда он все-таки доковылял на нестерпимо ноющей ноге, но перед отъездом нужно было предостеречь Марию. Обе сестры были на кухне. — Ты уж прости меня, Мария, что я снова говорю о золоте. Но вы вчера сами начали разговор о нем, а я кончу. Этой филькиной грамотой, — Николай положил на стол бумагу, — тебя обманули. Это я точно выяснил. Но главное не то, что у тебя забрали золото, черт с ним, а то, кто привел тех двоих к тебе. — Их никто не привел, они сами пришли! — вдруг закричала Клава. — Нет, Клава, сами они прийти не могли, кто-то им сказал. И сказал тот, кто знал. — Знали не только мы. — А кто еще? — Ребенок еще знал. Катя. А что она понимает? Сболтнула кому-нибудь! — Я никому не говорила, никому! — Было обидно, но Катя сдержалась. — Я одна никуда не хожу! — Не кричи! Без тебя тошно! — бросила ей тетка. — Я только тебе сказала! — Ну вот, слышите? — Мама собиралась сдать в фонд обороны! Вот что сказала я! Чтоб танк построили! — Как же, построят теперь!.. — сказал Николай. — Сдали бы если, построили бы. Но кто-то вам помешал… — И Катя удивилась тогда, что Николай, говоря ей, посмотрел не на нее, а на Клаву. — А что ты молчишь? — обратилась Клава к сестре. — Сама сдала, сама и отвечай! Николай молча зашел в комнату, выложил на стол продукты, полученные сегодня на дорогу. Нет смысла говорить о чем бы то ни было. Мария и так еле держится на ногах. — Завтра я уезжаю, Мария. Как устроюсь после госпиталя, напишу вам.* * *
Еще не совсем рассвело, когда они вышли. Мария и Катя проводили его до трамвайной остановки. Николай уехал. И больше они не встретятся. После госпиталя Николая снова направили на фронт. От него пришло вскоре письмо. Очень короткое. И больше ни слова. Где он погиб, когда, так и осталось неизвестным. Может, жив? Вряд ли. Николай непременно разыскал бы Катю. Единственная память о брате, о семье… Трамвай поехал, завернул влево, исчез, но Мария и Катя слышали его лязг еще долго.* * *
Все писали в Бугуруслан. И Мария послала туда запрос о Викторе Юрьевиче Голубеве, 1902 года рождения, уроженце города Одессы.* * *
Не поверила Николаю. Однажды ночью Катя услышала: — Порву, брошу! Сначала подумала, что мама говорит о справке, которую им выдали. Но потом, когда Мария, как и прежде, вдруг села ночью на кровать и спросила: «Ты?..» — Катя поняла, что мама говорит о тетради, которую прячет от нее. И решила, что тетрадь надо найти. Утром перерыла весь дом — нигде тетради не было. Но Мария не успела уничтожить тетрадь. Она отыскалась потом, в бельевом ящике шкафа, между простынями. И последние записи были короткие: «Николай тебя обманул, Мария, не верь ему. Я тебя видел сегодня во сне». «Письмо» Виктора. И вторая: «Это она! Это все она! Я прочел в ее глазах!..» Катя долго не могла понять: о чем эта запись? И кто «она»? Лишь после случившегося стал ясен смысл слов: «Я прочел в ее глазах».* * *
Клава в последнее время часто не ночевала дома: с Женей они целые дни проводили у Колгановых. Еще до приезда Николая Клава как-то взяла к ним и Катю — в первый и последний раз. Катя как будто попала во дворец. Полы в коридоре и комнатах сплошь устилали ковры. Ярко светили хрустальные люстры. Окна занавешивали темно-вишневые плюшевые шторы с кисточками. На серванте, на шкафу, на пианино стояли вазы, статуэтки и еще много блестевших при ярком свете вещей, названия которых Катя даже и не знала. В большой комнате на диване, широко расставив ноги в белых фетровых бурках, окантованных коричневой кожей, сидел толстый пожилой мужчина. Это был Георгий Исаевич. Рядом сидела его жена Гера Валентиновна в ярко-зеленом, с большими цветами, шелковом халате… У ног хозяйки лениво развалился огромный кот. Он даже не пошевелился при входе гостей, и только хвост его гладил ковер… Катя никогда в жизни не видела такого большого кота. Женя прошептала ей на ухо, что кот ест только сырое мясо и его лучше не злить. Клава подтолкнула Женю. Та подошла к хозяину дома, вытянула тонкую шею и поцеловала его в мясистую щеку. Мужчина протянул ей конфету. Клава, льстиво улыбаясь, сквозь зубы проговорила Кате: «Пойди поцелуй дядю, тебе тоже дадут конфету». Катя притворилась, что не слышит. Клава ущипнула ее за руку, но Катя упрямо выдернула локоть: «Я не люблю конфеты!» Мужчина хохотнул и, достав из кармана конфеты, протянул Кате. Катя взяла. Потом Гера Валентиновна увела Клаву в боковую комнату, и они долго находились там. Оттуда шел неприятный запах чего-то каленого, перемешанный с запахом камфоры. Так часто пахли руки Клавы, когда она спускалась домой от Колгановых. Уходя, Катя заглянула в ту боковую комнату и вздрогнула: на нее смотрело окаменевшее лицо Геры Валентиновны, покрытое белым как мел слоем застывшего крема. За неподвижной маской на Катю сердито блеснули живые глаза Геры Валентиновны. Тетя больше не брала ее к Колгановым, а от конфеты, которую ей протянул Георгий Исаевич, першило в горле.* * *
Сестры не стремились к встречам; Мария была даже довольна, что не видит Клаву; ее не оставляла головная боль, слова Николая об обмане изматывали ее. И ответа из Бугуруслана не было. К приходу Марии с работы Катя сварила картошку в мундире. Мария нарезала репчатый лук и картошку, посолила, полила подсолнечным маслом, и они стали есть. Катя куском черного хлеба насухо вытерла тарелку. Вкусно. Вдруг одновременно обе посмотрели на Катино пальто, думая об одном и том же… Щелкнул замок входной двери. Выходя в коридор, Мария столкнулась с Клавой. Они встретились взглядами, и тут Мария внезапно утвердилась в мысли, что Николай прав: ее обокрали! Обманули! — Иуда! — бросила она Клаве. Клава побагровела: — Голову потеряла?! — Нашла! Я думала, сестра у меня есть, а ты — зверь! Хуже зверя! — Я не желаю с тобой разговаривать. — Потому что нечем возразить! — Ты сошла с ума! — С такой сестрой сойдешь! За золото продала родную сестру! Таких, как ты!.. — Как ты смеешь? — завизжала Клава и тут же выскочила на площадку, оставив дверь открытой, побежала вверх. Не прошло и минуты, как она вернулась с Колгановым. — Привела адвоката? — Зачем вы так говорите? — солидно произнес Георгий Исаевич. — Вас сюда не звали. Что вы вмешиваетесь не в свои дела? — Нет, звали! Я позвала! С тобой опасно оставаться! — Не надо кричать, давайте спокойно поговорим, ведь вы сестры. — Я не желаю с вами разговаривать. Колганову никто не перечил прежде, просто не смел. — Ну что ж, — в его голосе появилась угроза, — сейчас не желаете, а потом в ногах валяться будете! — Никогда! Слышите! — бросила ему вдогонку Мария. — Благодетель! Скрипя своими белыми бурками, он вышел вслед за Клавой из квартиры.* * *
Беззвучно плакала, сидя на кровати, Мария. Катя потрясла ее за плечи: — Мамочка, не плачь! — Ей казалось, что и без того похудевшая мать тает как свечка с каждой слезой. — Как я ненавижу этого толстяка!.. Ты знаешь, мамочка, у них есть кот, и они с ним очень похожи. Мария сквозь слезы улыбнулась.* * *
Уже неделя, как работали школы. Катя ходила в школу в Теплом переулке, — ту бомбу, которая попала сюда, обезвредили, и занятия шли в одной половине школы. В коридоре установили перегородки. Через месяц Катю перевели в школу в Долгом переулке. Однажды, придя домой, Катя увидела на столе два конверта. Взяла верхний, надписанный рукой матери; мама иногда оставляла ей записки с напоминаниями: «Свари картошку» или «Подмети пол в квартире»… На сей раз это была не записка. Катя вынула из незаклеенного конверта письмо: «Дорогая моя девочка! Я больше не в силах. Тебя не оставят». Быстро взяла второе письмо. Оно было печатное: «Ваш муж Голубев Виктор Юрьевич пал смертью храбрых…» Катя выбежала из дому. Она бежала вдоль трамвайной линии. Перед ее глазами стояла картина, которую она видела несколько месяцев назад: на повороте у церкви под трамвай попал человек. Прямо у Кати на глазах!.. Себе она не отдавала ясного отчета, куда бежит. Она знала лишь о том, что мать ждет беда и она должна спасти маму! И эта беда могла случиться на трамвайных путях. Дорога тянулась, но нигде не было толпы. Она пересекла двор церкви и выбежала на улицу, ведущую к метро… Когда она увидела мост, сердце екнуло, и она ускорила бег. И вдруг она увидела мать. Та шла по Крымскому мосту навстречу Кате… — Мама! — крикнула Катя. Мария подняла голову, и они поспешили друг к другу.* * *
Виктор погиб, как извещалось, 14 июля 1941 года. В тот день в вечернем сообщении Совинформбюро говорилось об упорных боях на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном направлениях, рассказывалось об Энской части, которая защищала участок, где противник пытался прорвать оборону и был отброшен, о батарее лейтенанта Григорьева и лейтенанта Круглова. Может быть, гибель Виктора была заключена, в известии, что фашистские «мессершмитты» неоднократно бомбили прифронтовую железнодорожную станцию?..* * *
Только они открыли дверь в квартиру, как увидели в коридоре Клаву. Она будто специально ждала их. У Марии при виде сестры что-то внутри взорвалось: — Тебя еще терпит земля? Предательница! — Слышите? — торжествующе сказала Клава. И тут же из ее комнаты вышел мужчина в белом халате. — Почему вы так раздражительно говорите со своей сестрой? — Это не моя сестра, а зверь! Из комнаты Клавы вышел еще один человек в белом халате. — Вы все из ее шайки? — Ни о какой шайке мы не знаем. Мы из больницы и хотим вам помочь. — Если хотите помочь, уберите ее отсюда! — Но сестра просит, чтобы мы вас вылечили. — Я не больна. — Возможно. Но вы сейчас очень возбуждены, и мы должны проверить, действительно ли вы здоровы. Катя вспомнила, что у дома стояла машина «скорой помощи». — Что ж, — спокойно ответила Мария, — поедем… — И обратилась к Кате: — Ты свари картошку, а я скоро вернусь. — И первая вышла из квартиры. Мария вернулась часа через два. Замерзшая Катя ждала ее у подъезда. Обе за день очень устали, мать еле держалась на ногах. Они выпили чай с сахарином и сразу легли спать.* * *
Клава снова стала жить дома. Похоже было, что она не работает, — она почти не отлучалась из квартиры. Будто нарочно для того, чтобы быть постоянно на глазах у сестры. А Мария и Катя ее, казалось, не замечали. Гера Валентиновна часто приходила к ним в гости. По нескольку раз в день спускалась к Клаве. Приходя с работы, Георгий Исаевич первым делом навещал их квартиру. И каждый раз громко спрашивал: — Ну как? Спокойно? Если Женя, случалось, во время игры заходила в маленькую комнату, то тут же раздавался крик Клавы: — Выйди сейчас же! Когда сестры оказывались вдвоем на кухне, то Клава начинала ворчать: — К плите даже не подступишься! Мария молчала. Поднимаясь иногда наверх, Клава оставляла входную дверь открытой настежь. Но стоило закрыть дверь, как тут же Клава стучала кулаком снаружи: — Слепые, что ли? Не видите, что раздетая вышла?! Мария молчала. Достаточно было искорки, чтобы произошел взрыв.5
Катя готовила уроки, когда услышала визг Клавы: «Ии… и!» Девочка выскочила из комнаты и с размаху ткнулась головой в живот Клавы. Клава взвизгнула еще раз. С криком «Спасите!» она открыла дверь на лестницу. Лицо Марии было белое. Руки дрожали. Обняв мать, Катя повела ее в комнату. Соседи, как по сигналу,явились на зов Клавы. На этот раз муж и жена вместе. — Надо положить конец этому безобразию! — возмущался Георгий Исаевич. — Мы как свидетели… — вторила ему Гера Валентиновна. Катя даже не поняла, когда они успели вызвать «скорую помощь». Она увидела машину из окна комнаты — машина заворачивала в их двор. Катя вышла в коридор, а Мария закрыла комнату изнутри. Зашли двое в белых халатах. Катя стояла у своей двери и с удивлением смотрела на Клаву, у которой были растрепаны волосы и оторван воротник кофты. Женя в страхе плакала. Один из санитаров спросил, где больная. Колгановы указали на дверь. Санитар отстранил Катю и легко постучал. Никто не ответил. — А может быть, там никого нет? — спросил он. — Там, там она! — сказала Клава. Снова постучали. Молчание. — Стучать бесполезно, надо взломать замок! — не унимался Колганов. — Девочка, скажи, чтобы мама открыла, — попросили Катю. — Не открывай, мамочка! — крикнула она. — Как нехорошо, — упрекнули Катю. А она снова прижалась к двери. Клава сделала знак рукой, и все зашли к ней в комнату. Катя не слышала, о чем они совещаются. Только первую фразу санитара она услышала: «Ломать нельзя!» И это ее успокоило. Санитары и соседи ушли. Катя из окна кухни увидела, как отъезжает машина. Клава зашла к себе… Квартира, которая минуту назад кипела, как котел, погрузилась в тишину. Мария позвала Катю. Радуясь, Катя сказала, что все ушли. Мария открыла дверь: она тоже видела из окна комнаты, как отъехала машина. Немного погодя Мария вышла на кухню. Дитя и есть дитя! Их обманули: машину только отвели из-под окон, а санитары стояли под дверью на площадке. И когда Мария была на кухне, Клава тихо вышла из комнаты и открыла входную дверь. Санитары тут же ворвались на кухню. Катя загородила мать руками: «Не троньте ее!» Мария громко заплакала: «Не имеете права!» Выросший как из-под земли Георгий Исаевич оторвал Катю от Марии, силком потащил девочку в ее комнату и прихлопнул дверь. «Я сама пойду!» — сказала, вытирая слезы, Мария. Проходя мимо Клавы, она задержалась: — Таких, как ты, убивать надо! Скоро люди поймут, что ты змея! — Вот, слышите! — По лицу Клавы пошли красные пятна. Марию увели, накинув на плечи казенный серый тулуп.* * *
В тот вечер Мария не вернулась. И не только в тот вечер. Санитары оставили адрес больницы, и Катя поехала туда. Больница была далеко от дома. Она долго ехала сначала на одном трамвае, потом пересела на другой… Пошли маленькие деревянные домики в сугробах засыпанных снегом садов. Больница стояла на пригорке. К маме ее не пустили. Сказали, чтобы приехала через неделю. «Твоей маме в больнице хорошо, она поправляется». Хлебную карточку Марии не взяли, а до конца декабря еще оставалось много дней. Рано утром Катя шла к хлебному ларьку, покупала хлеб; пока добиралась до школы в Долгий переулок мимо Девички и Академии Фрунзе, весь хлеб съедала. Во время большой перемены в класс приносили горячий чай и маленький бублик с кусочком сахара; бублик Катя прятала для мамы. В классах все сидели в пальто. Но в школьной библиотеке топили чугунную печь, черная и длинная труба которой выходила в оконную форточку. После уроков Катя шла в библиотеку и находилась там до сумерек. Здесь она учила уроки, помогала библиотекарше менять книги, читала сама, а вечером шла домой. В маленькой комнате давно не топили, поэтому стена была всегда покрыта слоем изморози. Скоро в школе стало известно, что Катя живет одна, а мама ее в больнице. Теперь у Кати вырезали талоны на мясо и крупу, и она ходила в специальную столовую рядом со школой, где ей давали обед. Однажды, когда Катя вернулась из школы, у дверей их квартиры стояли две женщины. Они пришли с хлебозавода. Женщины дали Кате немного денег, собранных для нее, сказали, чтобы она приходила на хлебозавод, прямо к проходной, ее всегда там накормят. Катя пыталась их убедить, что мама вовсе не больна, что ее нужно забрать из больницы. На сей раз Катя видела маму. Но прежде к ней зашли те две женщины, а уже потом — Катя. Мария очень изменилась. Лицо ее было не нежно-розовое, как всегда, не белое, как в минуты волнения, а серое. Блестящие медные волосы потускнели, их пышность исчезла, они как-то истончились. В своем сером халате она почти сливалась со стеной, у которой стояла, — так была худа. От одежды Марии исходил незнакомый Кате запах, будто это был чужой человек. Мария повернула Катю так, чтобы девочка не видела других больных, находящихся в этой комнате свиданий. Катя положила в карман материнского халата несколько бубликов и завернутые в тетрадный лист кусочки сахара. При виде тетрадного листа Мария на мгновение вздрогнула, как показалось Кате. Сидевшая у двери высокая санитарка сказала: — Пора, товарищи, у больных обед. Приходите в следующий раз. Громадные на исхудавшем лице Марии глаза наполнились слезами. Она крепко прижала Катю к себе и прошептала: — Возьми меня отсюда. — Ты не волнуйся, мама, ты скоро выйдешь, — сказала Катя, твердо веря в то, что маму скоро выпустят. Пока Катя находилась у мамы, женщины с хлебозавода встретились с врачом и не скоро вышли от него. О чем они говорили, Катя не знает. Но когда Катя стала умолять их взять маму, те, хотя и говорили, как раньше: «Обязательно заберем!» — но уже добавляли: «Потерпи, ты уже не маленькая. Вот как подлечат маму…» — и тут же отводили глаза. И, уже прощаясь с Катей у трамвайной остановки, одна из женщин сказала: «Мама тяжело больна, девочка, ее нужно лечить». А вечером… Вечером, впервые за эти дни, Клава заговорила с Катей: — Бедная, бедная моя сестра!.. Катя стояла перед тетей и молчала. — Почему ты меня избегаешь? Голос тети был мягкий, ласковый. А Катя слышать ее не могла и стояла, крепко сжав зубы. — Ведь я же твоя тетя! Слышишь меня? Тетя, родная тетя! После школы приходи домой, нигде не задерживайся… Протянув руку, Клава дотронулась до Катиной головы, чтобы погладить ее, но неожиданно Катя увернулась и с силой укусила Клаву. Клава с криком вырвала руку и ударила Катю по лицу: — Змееныш! На руке остался багровый след.* * *
Однажды вечером, когда Клава ушла к Колгановым, Женя постучала в Катину комнату. Катя не отозвалась. — Это я, Женя! Знаешь, что я нашла? — Ничего я не хочу. Но Женя не унималась: — Выйди, покажу! Катя пошла с нею в большую комнату. Женя выдвинула ящик комода, и в ее руке Катя увидела огромную плитку шоколада в ярко-красной хрустящей бумажке со звездочками. Девочки и не заметили, как, отламывая по куску, съели всю плитку. Опомнились, лишь когда услышали звук поворачиваемого в замке ключа. Катя быстро ушла к себе в комнату.* * *
На Пироговке помещались военные госпитали. За чугунными решетками по аллеям ходили раненые, выздоравливающие. В суконных коричневых халатах поверх байковых пижам они подходили к ограде и подолгу смотрели на редких прохожих. Катя часами простаивала на противоположной стороне улицы, вглядываясь в худые лица. «А вдруг среди них окажется папа?» — думала Катя. Иногда она перебегала улицу и, взобравшись на каменное основание ограды, прижималась лицом к холодным прутьям. Мимо Кати в подъезд проходили люди, чаще всего женщины, а иногда и дети. Однажды Катя решилась. С трудом толкнув тяжелую входную дверь с огромной медной ручкой, она оказалась в полутемном вестибюле. Катя еще не знала, что будет делать, как вдруг услышала голос, гулко прозвучавший под высокими сводами: — Ну, что стоишь, раздевайся. Катя пригляделась в темноте после яркого снега улиц и увидела у рядов металлических вешалок женщину в телогрейке. Она протягивала Кате белый халат. Катя сняла пальто, размотала платок и с трудом натянула рваный халат; гардеробщица завязала тесемки у нее на спине. Катя сняла валенки и сунула ноги в шлепанцы. — Опять ты забыла принести из дома свои тапочки?.. Чтобы это было в последний раз! Гардеробщица подтолкнула Катю в спину. Осторожно ступая, Катя пересекла огромный вестибюль и, повернув налево, сквозь высокие двери вошла в длинный светлый коридор. За столом, у самого входа, сидела медсестра и что-то писала в толстой тетради. — Здравствуйте, — тихо сказала Катя. Та, мельком взглянув на Катю, ответила. Катя переступила порог первой палаты. В комнате в несколько рядов стояли кровати. В легком жужжании голосов выздоравливающих никто не услышал Катиных слов: «Добрый день!» Она вышла и, держась рукой за стенку, дошла до следующей палаты. Здесь стояли только четыре кровати. Раненые лежали с закрытыми глазами, а у одного толстая, в гипсе, нога была высоко подвязана. Катя тихо села На стул. За окном наступил синий сумрак, в коридоре запахло едой, а Катя все сидела. Привычно сжимался от голода желудок, но из тепла не хотелось уходить. В палату зашла няня, опустила черную штору на окне и велела Кате зажечь свет. Так Катя и ходила за няней из палаты в палату. Домой Катя ушла, когда разносили ужин: пшенный пудинг с киселем. Дуя на пальцы, вылезавшие из рваных варежек, Катя открыла ключом дверь, не зажигая света, чтобы не занавешивать окно, разделась и скользнула в ледяную постель, которая очень напоминала чью-то берлогу, а больше всего — вещевой склад: все, что было в шкафу, Катя сложила на одеяло, поверх набросила материнское пальто и никогда постель не убирала. С того дня Катя часто бывала в госпитале. Она сидела у кроватей тяжелораненых, давала им воду, выносила утки, собирала письма и по дороге домой опускала их в почтовый ящик, иногда раздавала еду. К Кате привыкли, и она знала, кто как себя чувствует, кто «тяжелый», кого скоро выпишут. Теперь из школы она бежала в госпиталь. С некоторых пор раненые прозвали ее «Мухой»: Катя читала им стихи и однажды рассказала, что еще до войны, в детском саду, она играла роль Мухи-цокотухи; на самом деле Катя выступала тогда сороконожкой, и ей было очень обидно, она мечтала о роли Мухи; признаться, что она была какой-то сороконожкой, она не могла. Только в послеоперационные палаты Катя никогда не заходила — туда никого не пускали. Но как-то и туда ей удалось заглянуть… В январе привезли двух танкистов с тяжелыми ранениями. Танкистам было по девятнадцать лет. Катя на всю жизнь запомнила их необычные имена — Махмуд и Алимджан. В коридоре стояла тишина. Все прислушивались к голосам, доносившимся со второго этажа, где были операционные. Первым оперировали Алимджана. Когда каталка остановилась у двери послеоперационной палаты, Кате показалось, что Алимджан приоткрыл глаза и слегка улыбнулся ей… Все успокоились и как-то пропустили момент, когда привезли Махмуда. Но часа через два из палаты, где лежали оперированные, раздался крик. По коридору уже неслись врачи и сестры. Из-за спин Катя увидела, как плачущий парень бился забинтованной головой о никелированную спинку кровати. Дверь закрыли, но голос был слышен во всем отделении: «Гады! Живодеры! Мясники!..» Это Махмуд, очнувшись после наркоза, узнал, что ему ампутировали обе ноги… В коридоре плакали приглядевшиеся к любым тяжелым случаям медсестры и няни, их утешали раненые.* * *
Однажды, только Катя успела одеть домашние тапочки, как ее окликнула высокая светловолосая женщина: — Сколько можно ждать? Пойдем! Женщина быстро пошла по коридору. Катя — за ней. — Текст с тобой? — спросила женщина. — Нет, у меня нет текста, — ответила Катя удивленно. — Ну, ничего! Они зашли в комнату дежурного врача. Присев к столу, женщина написала несколько фраз. — Садись и учи побыстрее, пожалуйста. А сама начала просматривать какие-то записи. Проверив Катю, женщина ловко переплела ей косички и велела снять халат. — А галстука у тебя нет? — спросила она. — Нет, — тихо сказала Катя. Женщина вынула из сумки новенький шелковый галстук и быстро повязала Кате на шею. В лекционной аудитории медицинского института, амфитеатром уходящей под самый потолок, — госпиталь помещался в этом здании, — собрались ходячие больные, врачи, сестры. За барьером на первой скамье сидели седой мужчина и молодая женщина — родители Махмуда. В кресле вкатили его самого: ноги, вернее, то, что раньше было ногами, аккуратно прикрыли одеялом. За ним вошел Алимджан с забинтованными руками. На трибуну взошла женщина, которая повязала Кате галстук. От имени Фрунзенского райкома она поздравила обоих танкистов с присвоением им звания Героя Советского Союза… Потом говорила Катя… Выступал отец Махмуда, пели и плясали тимуровцы… Почти все разошлись, когда Катя подошла к той женщине из райкома: — Возьмите галстук. Та не сразу поняла, о чем говорила Катя. Потом, устало улыбнувшись, спросила: — А у тебя дома есть галстук? Катя покачала головой. — Ну и носи на здоровье!* * *
Когда вечером Катя пришла домой, она услышала раздраженный теткин голос: «Домой приходит поздно, неизвестно где шляется… Время, сами знаете, трудное… Ничего нельзя оставлять, ворует. Еще свяжется с компанией испорченных детей… Может на Женю дурно повлиять…» Клава жаловалась, что ей самой живется плохо, они с дочкой голодают, и Катя куда-то спрятала извещение, ей пенсию за отца не оформляют. «Сестра неизвестно когда выздоровеет… Честно говоря, я не верю в ее выздоровление… Давайте сообща поможем Кате, устроим ее…» Куда устроить, Катя не расслышала. Она затопала по коридору, с шумом зашла в свою комнату. Женщины, которые беседовали с Клавой, были с хлебозавода. Они заглянули к Кате, услышав, что она пришла. Оставили ей буханку хлеба, немного денег. О шоколаде Клава не заговаривала. В отсутствие Кати Клава перерыла всю их комнату, нашла-таки извещение о смерти Виктора, съездила в больницу и получила справку; вызвала инспектора из районного отдела народного образования, и, когда инспектор — это была пожилая женщина — пришла к ним домой, показала снег на стене комнаты Кати, ее грязную постель, даже укушенную руку; инспектор сидела у них долго, но Катю так и не дождалась, к Клавиному удовольствию. Доводы Клавы были убедительными: девочка растет без присмотра, непослушна, дерзка, съедает чужие продукты, отец погиб, мать в больнице… Тетя подала заявление, что «снимает с себя ответственность за судьбу ребенка». У отдела народного образования были все основания выделить место в районном детском доме, — он находился в том же переулке, где они жили; даже нет необходимости девочке переходить в другую школу. Но Клава стала скандалить: — Я категорически возражаю! Целые дни будет по-прежнему дома! Я не могу допустить, чтобы она дурно влияла на мою дочь! И компания у нее будет старая. Из дома начнет вещи тащить, пойди уследи!.. И Кате выписали путевку в детский дом для детей погибших на войне, расположенный в Богородском, за Сокольниками. Клава путевку не взяла, сказала, чтобы отправили в Катину школу.* * *
Директор пришла в класс и при всех сказала, что Кате дали путевку в лесную школу. И добавила: пусть сейчас уйдет с уроков и подготовится, утром кто-нибудь из учителей ее проводит. В классе зашушукались. И тут директор проговорилась: — В детском доме Кате будет хорошо. Катя шла домой, обиженная на всех: и на девочек, и на учительницу, и на директора. «Это все Клава!» — думала Катя. «Детдом» звучал страшно. Как «приют». Как «больница». В доме она растерянно оглянулась, не зная, что взять. И ее мучила мысль о том, как разыщут ее мама и папа. Ведь Клава никогда не скажет им, куда она дела Катю! Катя вспомнила слова матери: «У девочки всегда должны быть чистыми волосы и уши». Вскипятила чайник, вымыла голову. Пришла из школы Женя, но Кате не хотелось с ней разговаривать. Она завязала голову, с ногами забралась на кровать и открыла мамину черную кожаную сумку… И тут в комнату, как хозяйка, вошла Клава. Она прикрыла дверцу шкафа, которую Катя оставила открытой, и сказала: — Ничего с собой брать не надо! Там все получишь!.. Будешь жить лучше, чем мы с Женей. — Она взяла в руки Катины валенки, помяла их рукой, пощупала изнутри. — Отдай свои валенки Жене, ее ботинки совсем развалились. Там тебе обязаны дать теплую обувь. — Берите, — Кате теперь ничего не надо. Проводить ее на следующее утро пришла библиотекарша. Клавы с Женей уже дома не было. Под вешалкой стояли черные боты Марии с кнопкой сбоку, а в них — парусиновые туфли на венском каблуке. Валенок уже не было. Катя молча обулась — ходить было неудобно, ее клонило вперед. Взяла портфель, в котором вместе с ее школьными учебниками и тетрадями была и та самая мамина тетрадь с недописанными страницами. Их встретила небольшого роста женщина с приветливыми карими глазами. Она ни о чем не расспрашивала Катю и даже не взглянула на бумаги, которые ей протянула библиотекарша. — Меня зовут Маргарита Сергеевна, — сказала женщина. Это была директор детского дома. Катю посмотрела докторша: перебрала ей волосы, послушала трубкой спину, заглянула в горло, потом повела в душевую. Катя встала под теплые струи… Она давно так не мылась… Воды было вдоволь… Горячая вода била по плечам, стекала по спине, унося постепенно холод из ее тела… Когда Катя вышла из душевой, ей дали байковый халат. Усатая, толстая кастелянша низким голосом сказала: — Меня зовут Полина Антоновна, — и выдала Кате нижнее белье, теплые чулки и пояс с резинками, показала полку под номером 55. — Это твоя полка, пометь все свои вещи номером пятьдесят пять. И сама будешь их чинить. По росту подобрала для Кати вельветовое платье. Дала Кате сравнительно новые, но ношеные валенки и ботинки. — А пальто? — У тебя же есть! — «Смотрите, какая жадная!» — хотела упрекнуть, да Катя заговорила: — Дайте мне другое, а это я не хочу. — Наши пальто лучше разве? Смотри, какое у тебя красивое пальто! — Пожалуйста, я вас очень прошу. А сама готова расплакаться, еле сдерживается. — Что ни девочка, то новые капризы, — вздохнула Полина Антоновна и выдала Кате пальто из грубошерстного серого сукна.* * *
Мария так и не узнала о том, что Катю отдали в детский дом. А жаль, для нее было бы большим облегчением узнать, что дочь теперь сыта и согрета… В ту же первую детдомовскую ночь Кати, когда ей снились пятерки, Мария умерла.НОВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ АВТОРА
Ну вот, кажется, все. (А Телеграфный столб? Как же с ним? Неужели не сказал? В День Победы… Дожил?! А как же? Такой здоровяк!.. Он устроил в День Победы большой костер из ассигнаций, — чего их зря держать? Высыпал целый мешок на середину двора, облил керосином и поджег. И ты смотрел то на костер, то на язычки пламени в его глазах? А откуда ты знаешь? Я и не то знаю!.. И племянник его — ведь когда-то родной брат Телеграфного столба сбежал в заморские края! — туристом приезжал, сокрушался, что не застал дядю в живых, над могилой его плакал… А как они были похожи: нынешний турист как тогдашний Телеграфный столб!..) (Раньше времени скобку закрыл! А что еще? А то, что племянник с тобой не по-нашему, а с акцентом, как иностранец, разговаривал… А теперь можешь скобку закрыть.) И за долгие годы я впервые закурил. Не во сне, а наяву. Мы сидели на узком московском балконе, я смотрел на Екатерину Викторовну, и казалось, знаю ее лучше, чем себя. — Вы нашли мне хорошее имя… Я взглянула на все со стороны и поняла, что все именно так и было. Хотя… Хотя есть неточности. — Я ждал похвал. Но и замечания принимаю. Люблю, когда выискивают, выкапывают. Не скоро, значит, расставаться с тем, что дорого. — Мы тоже ходили с мамой на Петровку. — Да? Я этого не знал. — Мы только спросили: «Приходили от вас люди по такому-то адресу?» Человек, к которому мы обратились, оказался любезным, он куда-то позвонил, и ему сказали, что нет, никого не посылали. — Обязательно впишу. — Да, еще! А откуда вы взяли, что — процитирую: «От его взгляда», — это вы о Вите, с которым мы ехали из Свердловска в Москву и который «подолгу, как пишете, смотрел на Марию», «ее обдавало жаром». И далее, там же: «Марии была приятна эта игра». — А разве нет? В свете последующего поцелуя… Признайтесь, что в вас говорит ревность за отца, я это понимаю, но я понимаю и Витю!.. Ладно, не сердитесь! Я это вычеркну. — И еще. Я не подумала, когда к нам пришел Витя, что это — отец. Он бы сразу узнал мой голос… Но мое ожидание вестей от отца вы передали верно. — Спасибо. — …хотя и не во всей полноте! В кино я вся подавалась вперед, искала глазами отца, мне казалось, что он вот-вот появится в кадре. Даже много лет спустя, уже в университете, дежуря в избирательном участке, я однажды наткнулась на фамилию: Голубев Виктор Юрьевич! И год рождения отцовский! От обиды я расплакалась: он жив! Жив и не подает вестей!.. И пошла утром чуть свет по адресу. Увы!.. И еще, — добавила Екатерина Викторовна. — Речь идет об истории замужества Клавы и о колгановском азарте, как вы пишете. Этого я знать не могла, но вы так уверенно воссоздали прошлое, что я, знаете, решила, что вы успели, пока я вам рассказывала, повидаться с самим Колгановым! Я не стал отпираться. Но и «да, повидался» не сказал. Только неопределенно хмыкнул: мол, для нас это дело пустяковое, только захотеть, а там и повидаться можно, и не с одним Колгановым. Встретиться с Колгановым нетрудно, и для встречи у меня заготовлено всего три вопроса. «Воспроизведите мне, — попрошу я Георгия Исаевича, — три диалога». «Какие?» — удивится он. «Не какие, а с кем, Георгий Исаевич». «Так с кем же?» «С Клавдией Ивановной». «А у меня с нею их было много, этих диалогов». «Всего лишь три, очень вас прошу. Первый — это когда вы узнали, что у Марии есть много золотых монет. Клава вошла и — прямо к вам. Геры Валентиновны не было дома. Кот прыгнул вам на колени, и вы недовольно сбросили его. Второй — это когда вы узнали, что Мария собирается их сдать в фонд обороны. Вы перед этим уже не раз настоятельно советовали Клавдии Ивановне воздействовать на Марию, даже предлагали припугнуть ее: мол, Катю могут и похитить с пальто, и… Помните? И третий…» «А третьего не было!» — прервет он меня. «Разве? — удивлюсь я. — Как жаль!..» Но пока я разговаривал с Георгием Исаевичем, спрятав в кармане пиджака рассчитанный на час беседы магнитофон, который я собираюсь приобрести, и обдумывая новые вопросы насчет тех двоих — сердобольной женщины и неуступчивого майора, — Екатерина Викторовна умчалась в новые эпизоды: — Кстати, я вам этого не говорила, откуда вы взяли Игоря с его акростихом, втиснутым в онегинскую строфу? — Разве не говорили? — Я, честно говоря, и не знала об этом! — Могу вычеркнуть, — обиделся я: не выдумал же, в самом деле! — Нет, нет, — запротестовала она, — пусть остается! Ясно, что только очень влиятельный человек мог устроить маму на хлебозавод в те годы! Помню, как удивлялись и тетя, и Колганов, когда узнали об этом. А у Геры Валентиновны аж маска на лице зашевелилась и растрескалась по морщинам. Но если бы я знала об Игоре раньше, я непременно разыскала бы его, и он бы спас маму. Но откуда было знать Екатерине Викторовне, что Игоря Малышева в самом начале июня 1942 года срочно направили на вновь восстановленный Волховский фронт в армейский политотдел в качестве представителя Совета военно-политической пропаганды и он, принимая участие в освобождении части 2-й Ударной армии, попавшей в окружение, пал в бою в первую годовщину начала войны? Не знала она и знать не могла. — Екатерина Викторовна, можно вас попросить пройтись со мной по тем старым вашим улицам? — И, конечно, зайти в наш двор, да? — Вы угадали. — По улицам — да, но во двор — ни при каких обстоятельствах! — Это почему же вы так решительно? — Не смогу! Тяжко встретиться с кем бы то ни было из третьего подъезда. — А тетя навещала вас в детском доме? Она молча покачала головой: «Нет». — Неужели так никого с тех пор и не видели? Она молчала. — А знаете, — кажется, удивил я ее, — а ведь к дому пристроили лифт по настоятельной просьбе жильцов и особенно пенсионера Колганова, так что теперь целыми днями могут дышать свежим воздухом в сквере. — Тем более возрастает возможность встречи… Нет, не хочу!* * *
Не холодно и не тепло. На нуле. С неба на землю что-то сыплется. И на дождь похоже — потому что мокрое, и на снег — потому что белесое. Снежно-дождевые капли, казалось, не только сыплются с неба, но и вихрятся у земли, танцуют. Потемневшие холмы осели и растеклись. То, что пряталось под снежными сугробами, оголилось, наружу вылезли щепки-доски, битое стекло, проржавевшие консервные банки. В воздухе — сырость, под ногами хлюпает, а сверху давят слои туманных туч. Пора оживления гриппозных вирусов. И ни зима, и ни весна. Март. Год Барана… Под козырьком подъезда в кресле на колесах сидит обрюзгшая женщина. Парализованную вывели (в такую-то погоду!) подышать свежим воздухом (а все-таки!). Лицо ее отекло, тело расплылось. Инсульт поразил нервные центры, атрофировал способность огорчаться. И волноваться тоже. На лице застыла блаженная улыбка. Она часто и подолгу смеется. Смеется беззвучно и до тех пор, пока из глаз не потекут слезы. И когда сердится на дочь — смеется, и когда любуется зятем — смеется. Она путает имена, вовсе забыла имена отца, матери, сестры. Даже дочь, случается, зовет другим именем. — Какой я тебе Виталий?! — краснеет и, учащенно дыша, злится человек. — Я Георгий Исаевич! Твой Виталька в сырой земле лежит, а я Георгий Исаевич! Женщина сидит в кресле и улыбается. Кажется, знает нечто такое, что неведомо другим и даже Колганову, хотя у них друг от друга и секретов не было. — Тьфу! — возмущается Колганов, что его приняли за мертвого, и отходит, внимательно вглядывается в нудный танец снежно-дождевых капель.* * *
Екатерина Викторовна очень любит московское метро. Оно ей кажется живым существом, раскинувшим свои руки по всему городу. Она предпочитает метро всем другим видам транспорта. Одни линии ей знакомы, как ее жизнь, другие — как ее новые знакомые. На этой старой станции «Парк культуры» она спала. Иногда она спускалась в туннель, спала на путях, накрытых деревянными щитами. Тесный сегодня вестибюль казался ей тогда огромным, и не у одной колонны они с мамой коротали ночь. На этой сходила по дороге в детский дом. Это — «Сокольники». А у той — ее университет: сначала бывшая, «Охотный ряд», а потом новая, «Университет». Но любимая ее станция похожа на ангар самолета. Здесь сейчас недалеко ее дом. И здесь же(ПОСЛЕДНЕЕ ПОЯВЛЕНИЕ АВТОРА)
неподалеку — любимое место моих прогулок, 4-й Эльдорадовский переулок. Но прежде чем пройтись с Екатериной Викторовной по улицам ее детства, я спросил у нее, возвращая тетрадь с «письмами» Виктора, две последние страницы которой были торопливо исписаны шариковой ручкой: — Ваш почерк? — Это я в одной книжке вычитала и заполнила чистые страницы тетради. Оказывается, если расплавить все добытое до сих пор, на протяжении шести тысяч лет, золото всего мира и отлить из него блок, то он будет размером с большой дачный дом. А золотое кольцо, которое носит Алтун-ханум — жена Арастуна Афлатуновича, может состоять частично из золота, которое когда-то сияло в ожерельях жен из гарема халифа багдадского. И не могу не сообщить терпеливым читателям и читательницам, что золото используется для самых различных целей — от золотого пера авторучки, чтоб не одну эпопею создать, до позолоченного кабеля, соединяющего космический корабль с космонавтом, выходящим в открытый космос. Ни то, ни другое, увы, не мой удел.1969
Перевод М. Гусейновой.
РАССКАЗЫ
ПЛАСТИЛИН
1962
Перевод И. Печенева.
АКВАРИУМ
Гурами подплывали к стеклу и замирали в неподвижности, чуть колыша свои тонкие длинные усы. Черноглазый мальчик давно не появлялся, и они не видели своих перламутровых отражений в бездонных колодцах. Они застывали подолгу и все смотрели, смотрели, даже их длинные усики переставали двигаться. Черных блестящих глаз все не было, глаза исчезли. Рыбкам еду дали очень поздно; это был сухой корм, невкусный, жесткий, как песок. Гурами ели вяло, без охоты. То же самое повторилось на второй день, и на третий. Минуло пять дней, десять.Прошел месяц. От сухого корма вода сделалась мутной, водоросли разрослись, от них в аквариуме стало тесно. По вечерам электрическая лампа за аквариумом не зажигалась. Вода становилась все грязнее. Красный меченосец с саблевидным хвостом не выдержал, выпрыгнул из воды и шлепнулся на широкий подоконник, забился, забился, потом притих. На следующий день его розовотелая подруга всплыла брюшком кверху. Тернеции с потускневшими полосками легли на песок. Уснули пестрые гуппи и быстрые моллиенезии. А гурами… Самка, поблекшая, уже потерявшая свою красу, запуталась в водорослях у самого дна, хотела высвободиться, но запуталась еще сильнее, в рот ей забился грязный песок, — так она и осталась лежать в сетях разросшихся водорослей, скованная жутким оцепенением. Самец-гурами еще был жив. Он иногда подплывал к стенке аквариума и, как прежде, замирал без движений. Его умные глаза смотрели спокойно, но как-то сонно и вяло. Неожиданно чьи-то толстые волосатые руки ухватились с двух сторон за стенки аквариума. Вода всплеснулась, но аквариум только чуть сдвинулся с места. Волосатые руки исчезли, но через минуту вновь появились и начали вычерпывать воду из аквариума коричневой кастрюлей. Гурами, стойкий, серьезный гурами, тревожными глазами следил за мелькающими в аквариуме толстыми пальцами. Воды становилось все меньше. Аквариум сделался легким, волосатые руки подняли его и понесли куда-то. Гурами ударился и скользнул по белому гладкому холодному камню, а вырвавшийся откуда-то сверху поток воды подхватил его и стремительно уволок в черную бездну.
Пришла осень. Домой вернулся Арзу. За лето он загорел и вытянулся. Уезжая, он просил взрослых ухаживать за его рыбками. Вернулся — аквариума нет. Он обошел комнаты, заглянул на кухню, выбежал на балкон. Его аквариум!.. Набитый доверху маринованными баклажанами он стоял в углу балкона, прикрытый доской, на которой лежал гнет — круглый булыжник. Он схватил булыжник и швырнул в баклажаны. Толстое стекло с глухим треском лопнуло, темно-красный винный уксус залил балкон. Глубокие бархатные колодцы наполнились влагой. Но он не заплакал. Он мечтал: у него будет большой круглый аквариум из толстого стекла на металлической подставке, на дно он насыплет желтый речной песок, наполнит чистой водой; в аквариуме будут жить пестрые гуппи с колышущимися хвостиками, быстрые черно-бархатные моллиенезии, полосатые тернеции, красный меченосец с сабелькой в хвосте… И непременно гурами, спокойные умные гурами, с темными пятнышками по бокам, похожие на кусочки перламутра.
1963
Перевод И. Печенева.
НОЧНАЯ СМЕНА
Двоюродный брат матери работал парторгом Каспийского пароходства. Мы часто бывали у них. Но лицо его стерлось в моей памяти. Отец столкнулся с ним в коридоре. Он был без очков и потому не узнал отца. А может быть, не был в состоянии кого-либо узнать. Или просто не захотел узнать и даже знать. Когда мы бывали у них, он с отцом играл в нарды, выигрывая, громко, от души смеялся. Что мог сделать отец? Верил ли он в то, что брат матери — враг? Неужели верил? Я пытаюсь представить темный коридор, отца, его мысли в тот момент, когда он столкнулся с братом матери. Туманное, непонятное, противоречивое прошлое. Если бы я был на месте отца… Отложив в сторону рейсфедер, я прошелся по комнате, снова подошел к окну. Вислоухой собаки уже не видно. Воробьи, пугливо озираясь, быстро клевали высыпанные кем-то на снег у подвального окна крошки. Тучи угрожающе росли, тяжелели, темнели. Конечно, сейчас не требуется особого героизма для того, чтобы сказать: «Если бы я был на месте отца». Отец как-то купил большой письменный стол — ящики справа были его, ящики слева — мои. Средний был с ключом — там отец хранил свои документы и важные бумаги. Много лет спустя после смерти отца в мои руки попал листок из того ящика. От времени он пожелтел. Это был по-русски написанный рапорт. На имя старого пенсионера, служившего тогда в чине майора: «Довожу до вашего сведения, что бывший ответственный работник Каспийского пароходства (фамилия, имя, отчество) является двоюродным братом моей жены». Рапорт был написан за месяц до смерти отца. Листок так и остался в ящике стола. Через два дня отец был назначен командиром отряда по борьбе с бандитизмом. Мать говорила, что об этом просил сам отец. Возможно, просьба была продолжением написанного, но непредставленного рапорта? Его итогом? Отряд очистил от бандитов горы, леса и деревни большого района. В бою отец был ранен в плечо. Ему предложили вернуться с тяжелоранеными в город. Не согласился, сказал, что рана легкая, заживет. Не зажила. Стала гноиться. Спохватились слишком поздно. Общее заражение крови. Пенициллин еще не был найден. Отцу тогда было столько, сколько теперь мне. А мне — сколько теперь сыну… Сын молчит, видимо, переписывает в тетрадь вырванную страницу. Кончив играть, отец бережно прятал тар в футляр и говорил: «Мы — поколение Байрамов. И корень фамилии — Байрам, я сам — Байрам, и сын — Байрам… Родится внук — и его назову Байрамом. Все мы — Байрамы, жизнь наша, дни наши — байрам. Поколение Байрамов…» Байрам ведь — праздник!.. Кажется, сегодня мне не закончить контрольного чертежа. Ах, вислоухая собака! Ну ладно, завтра закончу. Я осторожно накрыл чертеж газетой. До смены остается немного. Посмотрим, что делает сын. Жена говорит, что я совсем не занимаюсь им, а у него — тройки. Успокаиваю жену, говорю: не беспокойся, почерк исправится, знания придут к нему, наш сын обязательно вырастет хорошим человеком.
Когда вечером я шел на работу, валил снег. Прошлая зима была бесснежная. И год был засушливый. А теперь белые, свежие хлопья покрывали вчерашний посиневший снег. Пусть идет. Может, к счастью, и завтра будет идти. Полезно для урожая. Дни заметно укоротились. Темно. Началась моя смена. Сегодня, чуть раньше обычного, на улицах засветились фонари. Мне беречь этот свет.
1963
Перевод М. Гусейновой.
ЧЕРНАЯ СПИНА
1963
Перевод М. Гусейновой.
КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
* * *
Кажется, Исмет-ханум уснула. Во сне она увидела небо. Но это было не обычное небо. На нем не было ни звезд, ни луны, ни туч. Черное небо. До ее слуха донесся голос. Далекий, родной, знакомый до боли голос. Кто-то пел: «Ты моя самая красивая, такой, как ты, не сыскать и в раю…» «В раю? В раю ли я? Это же голос мужа! Неужели и он в раю? Как странны дела аллаха! Это ли твоя правда? Несправедлив ты, аллах!» Перед глазами, вспыхнув, загорелся треугольник. Затем — тьма. Непроходимая, бесконечная тьма.1963
Перевод М. Гусейновой.
РЫЖИЙ КОНЬ
Отряд геологов-разведчиков искал руду на горе Гудор. Руководитель экспедиции Юсиф Алиевич Гасанов был человеком дела. Вершок за вершком обходил и облазил он весь Азербайджан. Бывал и за Уралом, в Сибири, на Камчатке. На месте открытого им месторождения есть рудник, названный его инициалами «ЮАГ». Асад познакомился с геологами в поезде. Высокий седоволосый человек с молодым загорелым лицом, почти не взглянув на документы студента, расспросив только о подъеме на снежную Ушбу, принял Асада в отряд лаборантом. Альпинистский значок первого класса на лацкане пиджака сделал свое дело. Юсиф Алиевич назвал день выезда экспедиции. Асаду в отряде нравилось. Днем — раскопки, сбор и классификация пород, вечером — разговор за ужином и чаем. Разговор недолгий — все устали, а утром рано вставать. Перестрелка фразами быстро прекращается, все расходятся по палаткам и замуровываются в спальные мешки. Разговоры шли о звездах и о хлебе. О Китае и о войне. О мегатонных бомбах и о Кубе. О вождях мнимых и настоящих, о народе. О тридцать седьмом и пятьдесят шестом годах. В общем, на темы горячие, спорные, с том, что волнует нас и в праздники, и просто за чашкой кофе, и на семинарах. Адалет — старший геолог в отряде. Асад лет на десять — пятнадцать моложе его. Потому ли, говоря с парнем, Адалет всегда выбирает назидательно-иронический тон. Асада этот тон бесит. Он старается не грубить Адалету, но за словом в карман не лезет, спорит, не соглашается. Фразы Адалета: «Ну и что?», «А что народ?» или «Все эти разговоры для отвода внимания от трудностей!» — подобно сухим листьям, падая в костер спора, разжигали его, он вспыхивал с новой силой, рождая новые темы. Асад кипятился, приводил, как ему казалось, неоспоримые доказательства, обращался к недавнему прошлому, сыпал цитатами из классиков. Начальник экспедиции почти не вмешивался в споры старшего геолога и лаборанта. «Какая польза? Нужно думать о разведке… Сколько пород приходится перебирать, пока найдешь руду!» Он верил, что поиск увенчается успехом. «Так было прежде, так будет и теперь! Искать и находить! Иного решения нет. Какая польза от выяснения того, кто прав, а кто ошибается? Будущее покажет. Сейчас не надо отвлекаться! Нужна руда, а для этого — трудиться, искать и находить!» И он прекращал спор полуприказом: «Пора спать!» Вчера Гасанов послал Адалета и Асада в поселок за продуктами. Они пошли на базар и по магазинам, купили много хлеба, рыбных и мясных консервов, чаю, сахару, овечьего сыру, заполнили оба хурджина едой.
Асад оторвал взгляд от мокрой гривы коня, посмотрел на красную от горного солнца шею Адалета. «Не нашел даже времени пойти в парикмахерскую. Спешил скорее в отряд. И как он может говорить: «А что народ?» Но почему он с такими мыслями оставил теплую квартиру и пошел на трудную работу в горы? Разве только высокий заработок привлек его? Что он ищет? Только ли руду? Может быть, что-то еще?» Асад перевел взгляд на выгоревшую сизо-голубую сатиновую куртку Адалета. «Ведь он воевал. Имеет ордена. Если остался жить — так это чистая случайность. Больше шансов было погибнуть. И разве не за народ он готов был погибнуть? Неужели мое мнение о нем — ошибка? Может быть, надо найти ключ к его душе?» Перевалили через хребет и увидели еще более высокую горную цепь. Тесно, плечом к плечу стоявшие горы напоминали могучих гигантов-богатырей. Горы глубоко дышали — на всадников подул пахнущий снегом холодный ветер. Он лизнул их красные лица, погладил промокшие от пота и прилипшие к спинам рубахи и остудил тела. Снизу из бездонного ущелья шел закладывающий уши гул — это был голос горной реки, закрытой взгляду густым и темным лесом, росшим по обоим берегам и склонам ущелья. Начался спуск. Петляющая по скалам тропа, по которой они ехали, вела в глубокий овраг, разделявший надвое верблюжегорбую вершину. Конь Адалета легко спустился вниз и без особого напряжения одолел подъем. Ноги рыжего ударялись о валуны и камни, принесенные сюда селем, скользили и мяли с хрустом гальку, утопали по щиколотку в песке. С трудом он спустился в овраг. Понукаемый Асадом, он сделал несколько шагов вверх и остановился. — Не давай останавливаться! Бей… — Полную гнева ругань Адалета заглушил шум реки. Кизиловая веточка Асада не помогала — рыжий не двигался с места, с хрипом дышал. Стук его сердца, казалось, не мог заглушить и гул горной реки. Асад перекинул левую ногу через голову коня, потому что сзади был привязан разбухший переметный хурджин, вынул правую ногу из стремени и, схватившись одной рукой за выступ скалы, с поводьями в другой, соскользнул с коня. При этом Асад чуть не столкнул рыжего в пропасть, но, схватившись обеими руками за седло, он удержал, как ему казалось, коня от падения и неминуемой гибели. Отдышавшись, он пролез вперед и изо всех сил потянул поводья. Конь, вытянув шею, нехотя поплелся за Асадом. — Ну как, не нравится тебе лошадиная философия? Если бы бил, вытащил бы тебя конь! А теперь тащи его на своих плечах! Асаду действительно казалось, что он несет коня на плечах. Ноги Асада, непривычные к долгой верховой езде, не слушались его. — Нет, это не дело. С темпами рыжего нам придется заночевать на какой-нибудь скале… Ну-ка, садись на моего коня! Адалет помог Асаду сесть на коня, а сам, подойдя к рыжему, схватил его под уздцы и с размаху ударил плетью по шее. На потной шкуре остался след — темная широкая длинная полоса. Ударил еще. Потом еще и еще. Звуки свистящих ударов стукнулись о горы и вернулись назад. Асад отвернулся и тронул поводья. Адалет время от времени хлестал рыжего, не давая ему остановиться. «Сколько в его душе злости! — думал Асад. — Как нещадно бьет он коня! Несчастное животное!.. Но что делать? Как ему быть? Ведь действительно дорога каждая минута, надо спешить…»
Когда месяц стал желтеть, всадники достигли горы, где были разбиты белые палатки отряда. Полные хурджины и кожаные седла сняли с коней. Разожгли костер. Закипел закопченный чайник. Заварили чай, бросив в кипяток щепотку. На скатерть, разостланную на траве, положили сахар, овечий сыр, хлеб. Геологи молча ели. Хлеб пахнул степью, солнцем и хурджином. Асад даже не прикоснулся к еде, так устал. Он глядел на близкую вершину горы, где недвижно стоял рыжий, опустив голову к земле. На фоне лилово-синего чернеющего неба темнел силуэт коня. И небо, и холм, и конь казались гигантской вселенской картиной. Рыжий конь был погружен в глубокие думы.
1963
Перевод М. Гусейновой.
ПЯТНАШКА
Запах человека блуждал по лесу, дошел до марала. Сердце его забилось. Будто ласковые руки погладили пятнистую шкурку. Родные голоса зазвенели в мягких ушах. Будто Лейла позвала: «Пятнашка». Остроконечные белые ветвистые рога поплыли над кустами. Марал пошел навстречу знакомому запаху. Он думал — это человек. В душе — гордость, в глазах — радость. Марал подошел очень близко. Он думал — это человек. Раздался выстрел. Шею марала пронзила огненная, жгучая боль. Небо раскололось на куски. Верхушки деревьев, вершины гор, лохматые кусты закружились, все стремительнее и стремительнее, потемнели, растаяли. Земля убежала из-под ног. Пятнистую шкурку залила кровь.
1963
Перевод М. Гусейновой.
ЖЕНА ДЯДИ МОЕЙ БАБУШКИ
Захра-ханум осталась вдовой рано. В двадцать третьем ли, в двадцать четвертом ли? Муж вступил в большевистскую партию во время знаменитой бакинской стачки в девятьсот четвертом году, был сослан, бежал, скрывался в подполье; объездил многие края, побывал и за границей. Вернулся в Баку в рядах частей Одиннадцатой Красной Армии, которая помогла народу утвердить советскую власть. Вскоре они поженились… Гейдар своими руками сбросил с головы Захры-ханум чадру. После революции Захра-ханум и Гейдар вместе начали работать на стекольном заводе; он мастером, а она сортировщицей. На заводе делали всевозможные химические сосуды — мензурки, колбы. Какие счастливые это были дни! Вместе шли на завод, вместе возвращались, вместе играли с маленькой дочкой. Но счастье было недолгим. Ссылки и лишения не прошли даром. В год смерти мужа молодую вдову поставили на контроль. Захра-ханум хотела быть достойной памяти Гейдара. Двадцатые, тридцатые годы. Потом — война… Шутка ли сказать! Ударница, стахановка Захра-ханум. Много начальников сменилось, а она тут. Захра-ханум в половине седьмого утра выходила из дому, по узкой покатой булыжной мостовой спускалась к трамвайной остановке, входила в вагон с передней площадки. Раскачивающийся из стороны в сторону трескучий трамвай подвозил ее прямо к заводской проходной. Все вагоновожатые знали Захру-ханум. Кто говорил ей «тетя», кто «мать», а те, что постарше, — «сестра». В год окончания войны имя Захры-ханум было вписано в книгу почетных пенсионеров завода. Но дел у нее не убавилось. Ни одно веселье, ни один траур в нашем квартале не обходились без того, чтобы не звали на помощь Захру-ханум. Когда шли сватать, просили пойти и Захру-ханум, когда приходили на нашу улицу свататься, прежде всего советовались с Захрой-ханум. Четырежды в году почетную пенсионерку приходили поздравить с завода: Восьмого марта, Первого мая, Седьмого ноября и тридцать первого декабря.
Одна неотвязная и беспокойная мечта была у Захры-ханум — увидеть дочь и внуков. Это желание особенно одолевало ее после войны: раньше мечта у всех была одна — победить. Написала письмо, получила ответ, послала карточку, прислали карточки. — Азер, а тебе нравится Марджан? — часто спрашивала меня Захра-ханум. — Нравится, — отвечал я ей. — Внучку свою я выдам за тебя!.. Хочешь жениться на моей внучке, Азер? — Хочу. Мне тогда было шестнадцать лет. А Марджан была очень красивая девушка… Как ее описать? О больших ли лукавых глазах написать? О густых ли ресницах? У Медины родилась еще одна дочь — Гюльджан. В начале каждого года старая женщина просила меня написать заявление — разрешить ей поездку к дочери, а в середине года приходил отказ чужой страны. С нового года все повторялось. Мечта жгла сердце жене бабушкиного дяди. Я окончил среднюю школу, поступил в институт, похоронил отца, три года спустя — мать, а пять лет назад — бабушку, но Захре-ханум все еще не суждено было увидеть дочь и внуков. Получил я диплом инженера, а Марджан, не дождавшись меня, как говорила Захра-ханум, вышла замуж. Я снова писал заявление и удивлялся, почему не разрешали жене бабушкиного дяди приехать повидаться с детьми. Неужто боялись ее? Выросла и Гюльджан. Ее красота затмила красоту старшей сестры. Карточки Гюльджан стали украшением комнаты Захры-ханум. Гюльджан смотрела на нас открыто и доверчиво. — Азер, тебе нравится Гюльджан? — Нравится. — Марджан оказалась изменницей. Но смотри не женись ты на другой! Я выдам Гюльджан за тебя. Женишься на ней? — Женюсь. А в душе я смеялся, но не хотел обижать Захру-ханум: уж очень она верила в свою мечту. Хотя нам казалось — мечту свою о встрече старуха унесет в иные миры. Щербатый булыжник на нашей улице заменили асфальтом. Вместо трамвая плывет по улице троллейбус, да и улица стала совсем другой — она раздалась в стороны, вместо грязных, старых одноэтажных домиков — красавцы великаны с зеркальными витринами, с резным народным орнаментом на карнизах. Однажды, придя с работы, я по привычке принялся за вечернюю газету, как вдруг услышал знакомый голос: — Азер, Азер! Иди скорей! Я выбежал на улицу. Соседи выглядывали из окон, с балконов. Захра-ханум с какой-то бумажкой в руке, без платка, с растрепанными снежными волосами, стояла на тротуаре. — Счастье в твоем пере, сынок! Еду, еду я, Азер! Дай поцелую тебя! Поздравления, удивления, восторги посыпались на нас. Захра-ханум позвала меня к себе. Из глаз ее все время текли слезы. Слезы радости. А может быть, это были слезы сожаления? Поздно все-таки разрешили. Со стены на нас смотрели Медины, Марджаны, Гюльджаны. Карточек Гюльджан было больше всего. Бабушка ведь ее совсем не видела. Не видела она и двух правнуков — сыновей Марджан. И в Медине ничего от той прежней хрупкой девушки, что на первой карточке, не осталось: постарела и стала очень похожей на Захру-ханум. Утром следующего дня пошли мы с Захрой-ханум оформлять документы. Сердце ее спешило, а ноги не шли — часто останавливалась, отдыхала. За последние годы она сильно сдала. Если бы не мечта в сердце — давно, наверно, умерла бы. Губы тряслись, глаза поминутно наполнялись слезами. Визу получила она сравнительно быстро. Выдававший ей документы мужчина сказал: «Поезжайте. Когда захотите — вернетесь». Но в его словах я, казалось, услышал: «Доехать бы тебе туда, старая. Суждено тебе остаток дней своих провести среди детей. Там и похоронят тебя».
* * *
Улица наша словно опустела. Нам всем не хватало родного человека, ее голоса, величественной походки, добрых глаз. Вечерами казалось, что и на улице стало темнее. В решетчатом окне не загорался свет. Стекла покрылись пылью. Месяц прошел с того дня, как уехала Захра-ханум. Прощаясь, она каждого поцеловала. Каждому что-то подарила на память о себе: дворничихе — большой медный казан для плова, медный дуршлаг и тяжелый поднос старинной узорчатой росписи; врачу, лечившему ее, — ковер с вытканными миниатюрами на темы восточных легенд; беременной жене молодого железнодорожника — цветастую шаль; не забыла и трех его сыновей: старшему, школьнику, подарила сукно на костюм, среднему и младшему, который только начинал ходить, — полотно на рубашки. Захра-ханум сняла со стены и белую бумагу с фотокарточками, аккуратно собрала их, а две из них отдала мне: свою и Гюльджан. Скатерть, бархатную, нарядную, сняла со стола и отнесла ко мне. Комната сразу стала нежилой. Подарки мы взяли, хотя сначала отказывались. Все чувствовали, что разлука наша не временная. Захра-ханум дала мне и ключ от своей комнаты. Груза у нее было немало: два огромных чемодана, пять-шесть узлов. Подарки дочке, зятю, внучкам, правнукам. Один из узлов — большой самовар; другой — патефон; вещи, модные в пору юности жены дяди моей бабушки… С трудом я удержался от смеха: ну кому нужен патефон или этот пузатый, полутораведерный самовар? Вот уже больше месяца прошло со дня отъезда Захры-ханум, а от нее ни слуху ни духу. Ни письма, ни привета. А вдруг заболела, а вдруг… Нет, наверно, не может досыта наглядеться на своих. До меня ли ей теперь? Я смотрел на подаренные ею две фотокарточки: странная женщина — неужели и впрямь верила, что выдаст за меня внучку? Взгляд у нее серьезный. Она верила. А Гюльджан смеется: над бабушкой, видно. И как не смеяться? И дороги наши разные, и судьбы.* * *
В дверь постучали. Почтальон принес телеграмму. Развернул — и сразу подпись: «Захра-ханум». Пробежал текст: «Выезжаю пароходом… день… час… встречай… целую». «Приезжает?» — удивился я. Застыл от изумления и старый почтальон, хорошо знавший Захру-ханум. Я еще раз прочел, пытаясь догадаться, что это могло значить. Никакого подтекста, ничего загадочного, телеграмма простая, ясная. Если плохо встретили… Но почему? У них отдельный, многокомнатный дом, своя машина, магазин, зарабатывают неплохо. Я, конечно, обрадовался ее приезду. Уж очень я привык к жене бабушкиного дяди. Да и все были довольны возвращением Захры-ханум. Без нее и дом наш, и двор, и улица казались лишенными какого-то стержня. Я позвонил в справочную порта, уточнил дату приезда, отдал ключ от комнаты и скатерть дворничихе. …На машине знакомого шофера я поехал на морской вокзал. Точно в назначенное время пароход «Советский Азербайджан» пришвартовался к берегу. Захра-ханум, как только заприметила меня, заплакала. Матрос помог ей сойти по трапу на берег, протянул мне легкий чемодан. Поцеловались. Крепко обняв, жена дяди моей бабушки долго не отпускала меня и все повторяла мое имя. — Как съездила? Как дорога? — Привет тебе от всех. И дочь увидела, и внучек, и правнуков… Хорошо, очень хорошо они живут… Все здоровы… Гюльджан сосватали… — Захра-ханум говорила безостановочно, а когда сказала о сватовстве Гюльджан, взглянула на меня и, будто боясь, что я расстроен, стала утешать: — Ничего, не горюй!.. Да, красива она, очень красива! Вот и сосватали… Что поделаешь?.. Но тебе я найду невесту еще лучше! И сама свадьбу сыграю, не горюй! — А почему ты так быстро вернулась? — По тебе, по тебе я соскучилась, Азер… Да буду я жертвой твоей! Да перейдут на меня недуги твои!.. По тебе соскучилась, не выдержала и вернулась! «Что значит соскучилась по мне? Ведь там дочь, Марджан, Гюльджан?! Чудно́!» За месяц она еще больше состарилась. И так походка ее была медленной, тяжелой, а тут она с трудом передвигала ноги. На огромной пристани уже никого не было, а мы все еще шли, шли. — А как соседи поживают? — Все здоровы, ждут тебя. — Правда? Да буду я жертвой уст твоих, Азер!.. А кто у железнодорожника родился? — Сын. Она остановилась. — Не сглазить бы, снова сын? А ведь хотели дочку! Вот и площадь. Народ, что сошел с корабля, уже давно разошелся, разъехался. Голубая машина моего приятеля ждала нас. Захра-ханум будто впервые видела наш город, разглядывала мчавшиеся навстречу дома, улицы, прохожих. Широко раскрытые глаза были чем-то удивлены. Перед тем как пойти встречать Захру-ханум, я заглянул в ее комнату: окно блестело своими стеклами, ветер развевал белые занавески. В большом медном казане варился рис. Сварится, откинут на дуршлаг, положат в казан масло, насыплют промытый рис — пусть дойдет. На расписном тяжелом подносе будет горкой выситься шафранный плов. Герои древних легенд глядели на меня с настенного ковра. Скатерть была постлана на столе. Принарядившись, комната ждала хозяйку. Машина выехала на нашу улицу, остановилась у нашего дома. Жена дяди моей бабушки с трудом вышла из машины, ступила на тротуар. Опершись рукой на каменную, оспенную от дождя и ветра стену нашего дома, она медленно опустила седую голову, что-то шепча трясущимися губами…1963
Перевод М. Гусейновой.
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
1963
Перевод М. Гусейновой.
ПЕСНЯ
* * *
На последней станции линии метро, обозначенной на плане зеленым, сезамовы двери вагонов раскрылись настежь. По лестнице поднялись наверх. Рабочий день закончился давно, загородники, закупив все, что смогли унести руки, в московских магазинах, вернулись домой, так что в автобусе было малолюдно, без обычной суеты и толкотни. Впереди на разветвлении магистралей возвышался скелет двадцативосьмиэтажного дома, который возводили каким-то новым методом. Комнаты-клетки просматривались насквозь. Автобус повернул налево, дом-скелет остался справа. Автобус шел по новым районам города. Мы нырнули в освещенный желтыми светильниками туннель, проложенный под каналом, наперегонки мчались сначала с троллейбусом, потом с трамваем, обошли и тот и другой и, наконец, выехали за границы города, хотя многоэтажные здания городского типа стояли и далеко за чертей Москвы. Постепенно каменные строения сменились деревянными домами, асфальтово-гладкие дворы города — зелеными садами, огороженными невысокими заборами. В автобус волнами вливался прохладный, немного сыроватый воздух, студя оголенные плечи и руки по-летнему одетых девушек. Мимо мелькали черные сосны на густо-сиреневом небе. Гул мотора шумел в ушах и после того, как мы вышли из автобуса. Было темно. Прохлада и свежесть охватили нас. С асфальта мы свернули на тропинку, которая вилась вначале рядом с дорогой, а потом повела в боковую улочку. В тишине таял гул удаляющегося автобуса, вскоре он вовсе исчез. Где-то далеко хрипло залаяла собака. Ей отозвалась другая, вблизи. Под ногами поскрипывал песок, а тропка, белея, тянулась и тянулась. Высоко над желтеющими стволами сосен мерцали звезды, и они, казалось, двигались вместе с нами. Вдруг мы услышали песню. Простая короткая музыкальная фраза, неоднообразная благодаря мелодичности и естественности, повторялась в ночи, — то волна за волной разливалась по селу, то, набрав высоту, поднималась выше самых высоких сосен. Это была любимая песня отца Вани. Среди других голосов пробивался его ведущий голос. В такую же темную ночь похитил девушку, похожую на ломтик месяца, тоненькую и хрупкую, офицер — помещика сын, увез через леса, горы и долины, клялся в вечной любви, а потом, когда наскучила, бросил… Эту песню я слышал здесь много раз и все хотел записать на магнитофон именно в исполнении отца Вани, да все некогда и некогда. Когда мы вошли в дом, первые тосты уже были сказаны, за столом царил хаос. Из темноты попали в ярко освещенную комнату — для торжественного случая в люстру были ввинчены двухсотсвечовые лампы, слепившие глаза и источавшие жар. С нашим приходом наступило нечто вроде обновления, руки потянулись к бутылкам и рюмкам, кто-то передвинулся, кто-то потеснился, и мы сели. Раздались возгласы: «Штрафную им!», «Пусть догоняют!», «Наливай полный стакан беленькой!» Ванина старшая сестра старательно наполнила наши тарелки. Заливной судак окрасился соком трески в томате, салат украшала селедка в соседстве с голландским сыром и копченой домашней колбасой. Сам Зять протянул мне граненый стакан водки. Это он кричал: «Пусть догоняют!» Отказаться было нельзя, и я, с надеждой взглянув на соленый огурец, пожелал счастливой дороги Ване и залпом выпил. Майе Зять никакой штрафной не предложил. Он попросту побаивался моей жены. Еще в прошлое лето, когда мы жили здесь на даче, Майя говорила ему напрямик все, что о нем думает. И Зятем она его первая прозвала. Этот худощавый мужчина часто приезжал к Ваниной сестре, у которой от первого неудачного брака было двое детей. Майя как-то сказала ему: «На двух стульях сидишь, Зять! И Валю женой называешь, и от своей уходить не хочешь!» С тех пор и пристало к нему «зять». Водка, выпитая на голодный желудок, дала о себе знать. Звуки отдалились, будто уши заложило ватой. К действительности меня вернули громко произнесенные слова: — Кавказский танец давай! Это Зять, вездесущий и неугомонный, приказал гармонисту и, схватив со стола кухонный нож, воткнул его за пояс, раскинул руки и, не дожидаясь первых аккордов, вошел в мгновенно образовавшийся круг. — Асса! Асса! — кричал он в темп музыки, а потом, опережая его, пристукивал каблуками об пол, резко сгибая иотбрасывая руки. И снова кричал: — Асса, асса! Кулак его с силой бил в грудь, да так, что казалось, он прошибет ее. Потом остановился за моим стулом: — Встань, покажи свое кавказское искусство! Он заставил меня встать, и я что было мочи бил в ладоши, а он неистово плясал. Видя, что я не танцую, он вытащил свой нож и засунул его мне за ремень, взял со стола другой, зажав его зубами и, не сводя с меня безумных глаз, тянул в круг, хватая за руки. А я упрямо не хотел плясать. Не было настроения. Кто-то потащил его в соседнюю комнату. Оттуда сквозь шум пробился голос хозяина: — Зять! Вспомни, что только недавно помирились. Если обидишь гостя, ссоры нам с тобой не избежать. Сядь на свое место и послушай, что другие говорят. Зять, притихший, вернулся к столу. Наступила тишина, напомнившая ту, что была, когда мы шли по тропе. И снова, как тогда, тишину пробила песня. Осторожно растягивая мехи, прижавшись щекой к лакированному корпусу инструмента, гармонист тихонько заиграл «Катюшу». Не успела Катюша выйти на берег крутой, как Зять поднял руку. — Постой! — сказал он гармонисту и повернулся к молодым парням и девушкам: — А где же песня вашего поколения? Где, Ваня, песня девушки, провожающей тебя? Где? Ваня только довольно улыбался, ничего, как видно, не слыша. Но зато по рукам девушек пошла книжечка. Высокие модные прически смешались, закрыв лица. Девушка с подведенными глазами, отчего они казались раскосыми, сидевшая рядом с Ваней, подняла голову, повернула лицо, залитое краской, к гармонисту и что-то ему сказала. Гармонист, видимо, песни не знал. После минутного колебания, пересилив робость, девушка неуверенно, но с вызовом напела мелодию, известную лишь ей одной. Глядя в книжку, нестройно запели и другие. Но вскоре песня заглохла. И лишь когда снова вышла на берег Катюша, все за столом оживились и дружно подхватили. Годы, многие годы прошли, скольких молодых солдат проводила Катюша, через сколько сражений прошла, а осталась такой же молодой, как те парни, что нынче уходят из дома. И сейчас впервые расцветали яблони и груши, а Катюша посылала свою песню вслед солнцу, передать привет любимому на дальнем пограничье. Когда на высоком гребне прозвучали слова: «Пусть он землю бережет родную…», заплакала Ванина мать, и у отца будто ком в горле встал, не дал словам выйти. Мне показалось, что слова Катюши не дошли до границы, не нашли солдата, он погиб, защищая родную землю. Я уверен, что и у других, сидящих рядом со мной, возникли те же чувства… Каждый пир имеет свое украшение. Есть пиры, которые красят застольные речи, слова поэта, добрые пожелания. Есть пиры, украшенные разнообразными искусно приготовленными яствами, как говорится, от щедрости аллаха и мастерства рук человека. Есть пиры, где короной стола является водка. Чистая, как слеза, желто-лимонная, как цедра плода, на корочках которой настояли ее, темная, как чай, само название которой говорит о старости ее. Стол наш красили не питье, не еда, хотя и того и другого было вдоволь. Украшением здешнего стола, его короной, была песня. Песня, которую чем больше поешь, тем больше хочется петь, чем больше слушаешь, тем больше хочется слушать. Широкая, как просторы полей, на которых она родилась, возвышенная, как вершины высоких гор, до которых она долетела, глубокая, как глубины веков, откуда идут ее истоки. Многих песен я не знал, слов их не запомнил, но с каждой фразой беспокойные думы, каждодневные заботы — все это таяло, исчезало. Потом отец Вани пел один, остальные слушали. И даже гармонь молчала. «Это было давно, лет семнадцать назад, вез я девушку трактом почтовым. Белолица она и как тополь стройна и покрыта платочком шелковым…» Мне казалось, что Ванин отец поет о себе: «Не думайте, мол, глядя на мои седины, усталое лицо, на жилы, уродливо выступившие на моих руках, что я всегда был таким…» Песня кончилась. Потом отец Вани поднялся: — Сын мой!.. Я еще ни разу не слышал, чтобы он так обращался к сыну. Сказал он это на такой высокой ноте, с таким жаром, словно вынул слова из самого сердца. И оттого они обожгли всех. Рука отца, державшая рюмку, дрогнула, капли пролились на скатерть. Есть люди, которые не любят вспоминать прошлое: было, мол, прошло, быльем поросло. А если и вспоминают, то так, на миг, без охоты, чтобы только оправдать, объяснить сегодняшний день или, на крайний случай, завтрашний. Но есть такие, которые часто оглядываются в прошлое, — исполнится ли годовщина рождения, достигнута ли какая-нибудь жизненная мечта, наступил ли предел, после которого жизнь набирает новый разбег, и нужно посмотреть назад, чтобы не допустить прежних промахов, исправить кривые шаги, очиститься от наносного и дурного. Слушая Ваниного отца, я еще раз убедился, что он из породы именно таких людей. Он вернулся с войны осенью сорок пятого. Летом следующего года на свет появился Ваня. Крыша их старого дома сгнила и покосилась. Работал в колхозе с женой, а малыша нянчила дочь. Чуть полегчала жизнь, они вырыли землянку и перебрались туда. А дом разобрали доска за доской, бревно за бревном, годные отобрали, по ордеру получили в леспромхозе недостающий лес и с подмогой соседей построили дом, в котором теперь живут. Отсюда уходила к мужу дочь, сюда и вернулась с двумя детьми, брошенная им. И вот Ваня вырос. Отец хотел поделиться с сыном тем, что видел и испытал сам. Хотел научить, предостеречь. Ване передалось волнение отца, но полностью ли? Мысли Вани находились в иных измерениях. Он ждал этой новой, самостоятельной жизни. То, как жил в последние месяцы, казалось слишком обыденным. Рано утром — бегом на автобусную остановку, поездка в толкотне и давке на работу, потом вечер у телевизора, пока не начинают слипаться глаза. И вчера так, и сегодня, и завтра. Нет, с завтрашнего дня все будет по-иному. Он видел в своем завтра нечто романтичное — военная форма, погоны, пилотка, новые друзья, новые края. Видел то, что показывали в кино о солдатской жизни: красный уголок, чистые ровные ряды кроватей, светлые классные комнаты, дежурство при знамени с винтовкой, вернее, с автоматом. Обязательно будет летать. Об этом он мечтает с детства. Однажды пролетит прямо над селом, конечно сообщив об этом заранее. Покажет искусство высшего пилотажа… И это — из кино. А мать не слушала мужа. Ее слезам не было конца. Ведь сын еще ни разу не отлучался из дому хотя бы на неделю. А тут целые годы! Кто знает, что их ждет в эти годы, кого не станет… Может, и не увидит она больше сына своего — сердце у нее изработалось. Вздохнуть иногда полной грудью не может, в боку колет. — Многие из сидящих здесь мужчин испытали трудности армейской службы, — продолжал отец. — Моему поколению выпала тяжелая судьба, нашу молодость взяла и унесла война… — Сколько можно говорить о войне? Хватит! Двадцать лет с гаком прошло, а все война да война, не дадут спокойно пожить! Война была, кончилась, вошла в книги, в историю, и хватит! Это выпалил Зять. — Не мешай старику, пусть скажет свое слово, — остановил я его. — …ты идешь в армию в доброе, мирное время. — Ничего себе доброе время, ха! — съязвил Зять. Он, наверное, еще не всю энергию израсходовал. — Мирное время! Там война, рядом стычки, тут козни! Фантомы и напалмы!.. — Зять! — …я хочу, чтобы ты высоко держал честь семьи, мою честь, не запятнал ее, достойно служил Родине. — Слава такому отцу! Красивые речи ведет! Но кто им теперь верит? — Опять ты за свое! — Отец в сердцах поставил рюмку на стол. — Что ж ты не выпил за свой тост? — Зять поднялся. — Выпьем, товарищи, за отцов-патриотов! Только сдается мне, ни один отец по-доброму не пошлет сына в армию. — Не на войну я сына посылаю, а на военную службу. — Тогда выпьем за тех, кто думает одно, а вынужден говорить другое! Вдруг Зятя на том месте, где он только что был, не стало. Ваня неожиданно обхватил его со спины и перекинул через низкий подоконник в темноту открытого окна.* * *
Село давно спало. Бесшумно ступали наши ноги по прибитой росой пыли деревенской улицы. Ни ветерка, ни шелеста листьев. И дома, закрыв свои глаза, уснули во тьме садов. Лишь небо чуть светлело. По шоссе вышли к большому мосту через Москву-реку. Над рекой плыл молочный туман. С высокого моста вода была не видна, но чувствовалось ее движение. Туман вползал под фермы, и казалось, мы парим в воздухе. Далеко на другой стороне чернел лес. Тишину нарушил скрежет шин по гравию. Желтые лучи фар рассекли тьму. Гулко ступив на мост, промчалась «Чайка» и вмиг исчезла на той стороне, где в лесах прятались дачи. И все погрузилось в тишину. Ее снова пробила песня. Одна сменяла другую, смешавшись, они звенели в моих ушах. И столько грусти было в этом прощании с рекой, что от нее, казалось, растаял туман и слезной росой лег на траву. Уже розовели облака, когда к мосту подъехал колхозный газик.* * *
Я вышел из метро. Слегка припекало. До начала работы оставалось еще много времени. Я медленно брел по широкому Садовому кольцу. Бесконечным потоком шли машины — гигантские самосвалы, груженные кирпичом, платформы с готовыми блоками домов. Фургоны с хлебом, молочные цистерны. Вдалеке золотились на солнце шпили высотных домов. Что ни говорите, мне кажется, без них Москве бы чего-то недоставало.* * *
Меня вызвали в вестибюль. Я удивился, увидев Ивана. — Ты?! — Хорошо, что застал тебя. К сожалению, вечером нам не придется увидеться. — Жена вернулась? — пошутил я. Он не среагировал: — Через час я улетаю. Зашел предупредить. — А что случилось? — невольно вырвалось у меня, но я понял, что спросил зря: такая уж у него служба, у нашего Ивана, ничего не поделаешь. Я пошел проводить его. Не доходя до стоянки такси, он остановился: — Я тоже не спал всю ночь. Когда вернулся от вас, узнал, что потерял своих близких друзей. Во время очередного испытания самолет, на котором я в прошлые разы летал вместе с ними, потерпел аварию. Они погибли. Вылетаю на место катастрофы. Я молчал. — Страшно встретиться с их семьями. Вот так у нас… Такси увезло Ивана. Все путалось в моей усталой голове, она будто жила независимо, отдельно от меня. Я внимательно смотрел на поток проходящих мимо людей, будто кого-то искал, и думал, и думал о Ване. Сам не знаю, почему, но я не мог отделить Ваню от этих погибших ребят. Четыре и один. Один и четыре. В моих ушах сквозь гудящую улицу звучали вчерашние песни. Молодой парень, повесив на шею транзистор, медленно шел по улице. Я уловил мелодию, пойманную транзистором, в которой были смешаны печаль и торжественность. Мелодия, поглощая грохот и шум, поплыла над гигантским городом.1966
Перевод М. Гусейновой.
СЫН
* * *
Через неделю Беккеры снова приехали в Турист. Весь день они провели с Юрой: гуляли с ним в лесу до обеда и после «мертвого» часа. Знал он всего несколько слов. Беллу называл то «няня», то «мама», то «тетя». Малыш сторонился Давида, прятался за Беллу, когда тот хотел взять его на руки. Этот день вымотал их. Мальчик был все время в движении, бегал, прыгал, падал, требовал ежесекундного внимания. На следующее воскресенье они опять приехали. Мальчик заново привыкал к ним, и они, как и в прошлый раз, гуляли с ним в лесу. Приехали еще раз. Им сказали, что в конце недели они смогут его взять. Старшие дети, завидя их, кричали: «К Юре приехали папа и мама!» Но сам Юра за неделю забывал их. Заведующая знала, что Беккеры меняют квартиру. Она присмотрелась к этим людям и внутренне успокоилась. Давид и Белла хотели начать новую жизнь в новом доме и, чтобы никто никогда ничего не узнал, переехать вместе с мальчиком. Обмен удался сравнительно легко. Правда, старый их дом стоял в центре, на Пушкинской улице, напротив филиала Большого, в пяти шагах от метро; три окна их огромной комнаты с лепным потолком смотрели прямо в фойе второго этажа театра. Теперь они должны будут жить на Усачевке, в красном кирпичном доме неподалеку от завода «Каучук». К тому же у них требовали приплаты за то, что квартира, куда они переезжали, была отдельная. Белле пришлось продать единственную свою ценность — выдровую шубу, которую она сберегла даже в годы войны. Пока перевозили мебель, Белла поехала за Юрой. Заведующая посадила ее с мальчиком в поезд. Оформили усыновление и получили для Юры новые метрики. В графе «отец» записали — «Давид Абрамович», в графе «мать» — «Белла Иосифовна». И сам он стал Беккером. Их жизнь круто изменилась. Белла теперь работала надомницей. Они жили по Юриному расписанию, каждая их фраза начиналась с его имени, все рассматривалось под углом зрения полезности или вреда для Юры. Только недавно отменили карточки. Белый хлеб, сливочное масло и сахар Белла покупала для Юры в коммерческом магазине по дорогой цене. Они тратили все, что имели, ничего не жалея для мальчика. И радовались, что его худые ножки наливались упругостью. Юрик редко капризничал, совсем не плакал. Лишь когда он стукался головой об угол стола, подоконника или о косяк двери, пронзительный вопль заполнял дом. Синяки величиной с копейку не стирались с его лба. Гуляя по улице, он тоже находил углы, и соседи, глядя на синяки и шишки, шутили: «Башковитый будет!» Белла соглашалась, а Давид иронизировал: — Одно из двух — или умным будет, или балбесом. — Чем болтать пустое, — возмущалась Белла, — лучше бы закруглил углы стола. — Все углы не отпилишь, — смеялся Давид. Каждый день Юрик удивлял их новыми словами неведомого им «своего» языка. Напротив их шестиэтажного дома стояли бараки, в которых не было газа, и раза два в неделю на улице раздавался звон колокольчика и протяжный крик: «Ке-ро-син!..» Увидя гривастую лошадь, тащившую керосиновую бочку, Юрик указывал пальцем: «Бых-бых!» И дома, пытаясь рассказать Давиду о том, что видел на улице, мальчик удивленно раскрывал глаза: «Бых-бых!..» Летом Беккеры снимали дачу по Казанской дороге в Удельной: там песок, сосны, ребенку полезно, хотя сами они предпочитали лиственный лес. И на даче все их разговоры были о том, насколько поправился и как загорел Юрик. Мальчик оставил в тени их прошлую жизнь. Со старыми знакомыми Беккеры не встречались, боясь, что те ненароком проговорятся, а их любимица, племянница Давида — Геня, обижалась на них за то, что о ней теперь и не вспоминают, хотя прежде Давид почти ежедневно звонил ей. Они оправдывали себя тем, что Геня недавно вышла замуж и теперь у нее своя семья. Беккеров из дому теперь не вытянешь, и гостей они не жаждали видеть. Все их время было распределено по минутам: режим Юрика — превыше всего. Когда Белла гуляла с Юриком в сквере, женщины говорили ей, что сын очень похож на нее. И Белла в это искренне верила: она уже и представить не могла, что Юрик — не ее ребенок. Иногда, укладывая мальчика спать, она ложилась рядом с ним, и ей казалось, что когда-то давно она и вправду кормила его грудью. Беллу преследовала иглобоязнь. Раньше она всегда держала под рукой запас иголок, простых и для машинки. А теперь в работе были только три иглы. И каждый раз, кончая шить, она пересчитывала иголки и булавки. Самые страшные сны у нее были связаны с иголками. Ей снилось, что Юрик наткнулся на иглу или она вонзилась ему в ручку. Белла с оханьем просыпалась, будила своими стонами Давида, босиком подбегала к дивану Юрика, смотрела, хорошо ли придвинуты стулья, оберегающие Юрика от падения; едва касаясь, вытирала лоб его, вспотевший у корней волос. С деньгами стало туговато, и Давиду приходилось по вечерам допоздна сидеть на высокой табуретке у переплетного станка на кухне, где едко пахло клеем. К ночи они совершенно выбивались из сил. Как ни противилась Белла, но Давид настоял, чтобы ребенка отдали в детский сад. Утром Давид отвозил на трамвае Юрика в детский сад, потом шел в типографию. Юрик с радостью оставался с детьми, но, если случалось проводить его Белле, Юрика с трудом отрывали от матери, он капризничал и плакал. Домой он возвращался с удовольствием. Белла брала его сразу же после полдника. Сколько новостей у него было! Как-то на улице, увидев, как женщина бьет мальчика, Юрик остановился и строго сказал: — Нельзя мальчика бить! Женщина изумленно оглянулась: — Ишь ты! Но слова Юрика возымели действие — женщина схватила мальчика за руку и с силой потянула за собой, тот плелся за матерью и все оглядывался на Юрика. Рассказы Юрика были с примесью восторженного удивления: — Саша Орлов глупости говорит! — Что же? — «Дайте мне добавку молока!» — Ну и что? И ты проси. — Всем поровну дают! А однажды пришлось удивиться Давиду. Юрик вечером сказал: — А знаешь, Алик Хабибуллин татарин, а Элла Фейгель эврейка! — Ну и что? Один русский, другой татарин, третий армянин… И потом, не «эврейка», а «еврейка»… А вот Сандро из нашего подъезда грузин. — А кто я? — Ты? — опешил от такого вопроса Давид и задумался. А потом ответил: — Ты такой, как твои папа и мама. — А какой? — Очень хороший, — ответила, смеясь, Белла. — А теперь пора спать всем хорошим детям. Юрик рос заводилой. Всегда во всех дворовых проказах он был вожаком. И часто, чтобы доказать свою правоту, давал ход кулакам. Соседи нередко жаловались. Очередной скандал разразился при Гене: Юрик занял качели и никому их не хотел уступать, его пытались стащить, а он брыкался ногами и кого-то больно ударил. — Балуете вы мальчика, — укоряла Геня родственников. — Мало уговаривать, надо и наказывать. — Не могу, Геня, — сказала Белла. — У меня скорее рука отсохнет, нежели я ударю его. — Своего бы за такие проделки побила! — А он мне ближе своего. — Чужой никогда не станет родным. Эти слова больно ударили Беллу. На сей раз Белла смолчала.* * *
— Юрку у бани бьют! — запыхавшись, крикнул Сандро. Давид выбежал на улицу. У будки чистильщика, рядом с Усачевской баней, шла драка — трое мальчишек били Юрика. Молодая чистильщица с черными косами безуспешно пыталась их разнять. Драка кончилась только тогда, когда Давид вмешался. Оказывается, Юрик первым полез в драку, услышав, как один из мальчишек дразнит чистильщицу. Увидев Юрика, Белла испугалась: на рубашке были пятна крови, нижняя губа опухла, щека расцарапана. Давид сразу сказал: — Не волнуйся, у него из носу шла кровь. — Я не волнуюсь, я жду только, когда наш сын поумнеет и перестанет драться! — Это был спор, мама! Никто не представлял, что испытывала Белла, когда Юрик называл ее «мамой». Радость ее была каждый раз новая. — Споры решают другим путем. Давид молча пошел на кухню зашивать разорванный в драке портфель — орудие Юриного нападения. Давида, как ни странно, эта драка успокоила — сын дрался за дело. Новые школьные предметы — новые заботы для Давида и Беллы. Был солнечный морозный день. Белла убирала со стола на кухне остатки воскресного обеда, когда раздался взрыв. Первой мыслью Давида было то, что рухнула в коридоре нижняя полка, а Белла подумала, что Юрик уронил на пол недавно купленную радиолу. Они бросились в комнату: на письменном столе Юрика что-то горело, комната была полна дыма и гари. Давид бросился к столу и начал дуть на огонь, чтобы потушить его. Но пламя перекинулось на другой край стола. Белла, оттолкнув мужа, книгой пыталась сбить пламя, и наконец это ей удалось. И тут только увидела, что Юра стоит у шкафа, неестественно держа перед собой руки. Скрюченные пальцы были коричневыми. Белла начала кричать: — Я так и знала, что твои химические опыты этим кончатся! Давид молча схватил Юру за плечи и повел его в ванную, плотно закрыв за собой дверь. На ходу он бросил жене: — Сделай раствор марганца! Первый страх прошел, и Юра почувствовал сильные боли. Жжение немного улеглось, когда он опустил кисти рук в сиреневую воду. Юра держал пальцы в миске, а Белла и Давид торопливо одевали его. Юра не плакал, но не мог заставить себя вынуть руки из марганцовки. Белла с трудом его убедила, что надо руки просунуть в рукава пальто, ведь на улице мороз… Они вернулись домой в сумерках. Юрины руки были забинтованы до запястий, точно в варежках, и две недели Белла кормила его с ложечки, одевала и умывала, переворачивала страницы учебников. Хорошо, что она была уже на пенсии. Белла выглядела старше Давида. Когда она шла с Юриком, можно было подумать, что он не сын ей, а внук. Но Юре и в голову не могло прийти, что у него пожилые родители: каждому ребенку его отец и мать кажутся молодыми. Жизнь текла спокойно, изредка приходили письма и посылки с гранатами от Гени, которая уже несколько лет жила в Душанбе. Беда, как это часто бывает, пришла неожиданно.* * *
Юра, придя из школы, пообедал и пошел погулять. Давид был на работе, Белла стирала. У дома ребята гоняли мяч. Юра наблюдал за игрой. Мяч, описав дугу, укатился в дальний угол двора. Парни, стоявшие рядом с Юрой, засвистели, а один, дымя сигаретой, приказал Юре: — Эй, принеси мяч! В другой раз Юра сам бы бросился за мячом, но той парня с соседнего двора обозлил его: — Сам неси! — Посмотрите, как разговаривает этот… — И парень сказал такое обидное слово, от которого все нутро загорелось. Юра уже кинулся к парню и занес кулак, как голос, раздавшийся, казалось, над самым его ухом, остановил его: — Как вам не стыдно! Он же сирота! Его усыновили!.. Дворничиха произнесла эти слова, желая спасти Юру от хулигана, но, еще не успев договорить, поняла, какой грех взяла на душу, и с оханьем закрыла рот рукой. Юра медленно опустил поднятый кулак, глядя, как молча расходятся со двора ребята. На него никто не смотрел, только дворничиха виновато качала головой. В ушах стоял звон, и он понял, что это — правда. Юра бросился по лестнице вверх: запыхавшись, открыл дверь и вбежал в комнату, выдвинул ящик письменного стола и, взяв деньги, которые копили ему на велосипед, вышел из дома. Сквозь шум льющейся воды Белла услышала, как хлопнула дверь. Она прислушалась: «Нет, показалось». Юра добежал до трамвайной остановки. В горле стоял горький ком. Казалось, даже трудно глотать. «Все знали! Скрывали от меня!» Ко всем росла в его душе злоба. С трамвая пересел на метро и вышел у Курского вокзала. Нашел кассу: — Есть билет до Севастополя? — Только в мягкий. Пришлось отдать почти все деньги. Поезд уходил через полчаса. В купе уже был один пассажир — высокий, полный мужчина. Расстегнув ворот рубашки, он вытирал платком шею. Синий китель висел на вешалке. На широких погонах блестели три звезды. Юра тотчас определил: капитан первого ранга. Вскоре в купе вошли еще двое, видимо муж и жена. Капитан заметил, что парень пришел без вещей, и это его насторожило. Но по тому, как тот был одет и вел себя, капитан понял, что за воспитанием парня следили. Когда поезд тронулся, Юра еле сдержался, чтоб не расплакаться. Но вернуться в свой двор, где его оскорбили, он не мог, как не мог и представить чужими родителей, хотя вдруг сразу поверил, что они — не родные ему. Проводник стелил белье. Когда он подошел к Юриной полке, Юра тихо сказал: — Мне не надо. — Без постели нельзя! — громко заметил проводник. Когда расплачивались, капитан понял, что Юра отдает последние деньги, и снова сомнения зашевелились в нем: «Почему тот, кто ему купил билет, не дал ему денег на дорогу? И вообще, куда он едет?» Проводники разносили чай. Капитан выложил из портфеля свертки с колбасой, вареной курицей. Соседка по купе тоже готовилась к ужину. — Садись к столу, — предложил Юре капитан. — Спасибо, я сыт, — сказал Юра и вышел из купе. Он вернулся, когда соседка убрала уже со стола. — Сбежал, значит, — шутливо сказал капитан, а Юру от этих слов бросило в жар. Но капитан тут же добавил: — Сбежал от нашего угощения!.. И имя свое от нас скрываешь. Меня вот зовут Андреем Андреевичем, а тебя как? — Юра. — В Севастополе живешь? — Нет, в Москве. — Что же ты такое время выбрал для путешествия? Разве ты не учишься? — Хочу стать юнгой. «Сбежал!» — твердо решил на сей раз капитан, но не подал вида: резкое слово, неуместный вопрос могли бы заставить мальчика соврать и замкнуться в себе. — Что ж, — сказал Андрей Андреевич, — дело хорошее. — Ничего хорошего в этом нет, — возразила соседка. — Лучше поступить в институт. Самое благородное — в медицинский. Врачи всегда нужны. Странное совпадение: когда дома говорили о будущей профессии Юрика, мать и отец мечтали, что он будет врачом, а ему всегда хотелось быть капитаном, водить корабли. — Ты думаешь, легко стать юнгой? — спросил Андрей Андреевич. — Я хорошо плаваю, умею завязывать морские узлы. — Это пригодится, — задумчиво сказал Андрей Андреевич и предложил Юре выйти, чтобы соседи легли: надо спать, уже поздно. — А как к твоим планам относятся родители? — спросил он, как только они вышли. — У меня родителей нет. — А с кем ты живешь? — Жил у знакомых. Больше Андрей Андреевич ни о чем не спрашивал. Как всегда, Юра по привычке проснулся рано. В купе еще спали. Положив подбородок на руки, он долго смотрел в окно. Телеграфные провода то взбирались вверх на столбы, то провисали между ними, столбы убегали назад, а деревья вдалеке забегали вперед, и вся земля перед глазами кружилась, как карусель. Юра тихо вышел в коридор, умылся и не заходил в купе, пока все не встали. Андрей Андреевич настоял, чтобы Юра завтракал с ним. — А теперь иди к проводнику за шахматами, — сказал капитан. — В шахматы я не играю. Только в шашки. — Значит, юнгой хочешь быть? — возобновил Андрей Андреевич за шашками разговор. — А дальше что? Ведь не вечно тебе юнгой быть? Потянет в дальние страны, в Африку, в Америку. А туда юнгой не пойдешь, что-нибудь посущественнее надо, скажем, штурманом или инженером… В каком классе учишься? — В седьмом. — Значит, в Нахимовское можешь поступить. А потом — в Высшее мореходное. Не так ли? — Так, — подтвердил Юра. — Говоришь «так», а сам поспешил, все до конца не обдумал. Есть у тебя документы из школы? Юра опустил голову. — Нет! — продолжал капитан. — А метрики? И их дома оставил. А есть где в Севастополе жить? Тоже нет! Ведь правда!.. Но на сей раз тебе крупно повезло. Потому что я тебе повстречался! С этой надеждой Юра и успокоился. На вокзале Андрея Андреевича встречала жена. Он представил своего спутника: «А это Юра!» Юра внутренне съежился, ожидая вопросов, кто он и кем доводится Андрею Андреевичу. Но женщина ничего не спросила. Откуда было Юре знать, что за двадцать лет совместной жизни она привыкла к любым неожиданностям: то он приводил каких-то племянников, то приезжал с сыном друга, то возвращался домой с каким-то незнакомым пареньком, которого надо было накормить, уложить спать, дать в дорогу денег. Будто завершая круг мыслей жены, Андрей Андреевич сказал: — Яна, это сын моего старого знакомого, он приехал поступать в наше училище, ты, конечно, рада, что он поживет у нас три-четыре дня. Янина Людвиговна улыбнулась мальчику. Юре действительно повезло: Андрей Андреевич отвел его в Нахимовское училище, где сам работал, и Юру приняли. Он успешно прошел и медицинскую комиссию, и учебную. Когда заполняли анкету, он задумался. Хотел придумать новую фамилию, но не смог. Рука помимо воли вывела «Бек» и на этом остановилась: так называли его в школе, сокращенно от «Беккер». Когда писал имя, подумал: «А как, интересно, меня называли раньше?» Против графы «отчество» написал: «Андреевич». Ему выдали форму, началась курсантская жизнь.* * *
А в Москве… Оставим Юру жить и учиться в Севастополе, а сами отправимся в Москву и посмотрим, что делается у Беккеров. Наступил вечер, Давид пришел с работы, а Юра с гуляния не вернулся. За двенадцать лет у Беллы не было ни одного спокойного дня. Лишь когда Юра ложился спать, она переставала волноваться. Юра плохо ел — беспокойство, Юра поздно пришел с гулянья — волнение, Юра получил «двойку» — обида… Ребята на улице, трамвай, машина… Каждый шаг Юры проходил через сердце Беллы. Она жила жизнью Юры. Но сегодня она просто не находила себе места. Давид обошел весь двор, все прилегающие улицы, звонил в школу, спрашивал о Юре у ребят, соседей. Когда кто-то из соседей сказал о том, что днем видели, как Юра с кем-то повздорил, Давид срочно позвонил в милицию. Потом звонили в больницы, в «скорую помощь»… Никто ничего не знал. Поздно вечером, когда двор опустел, к ним подошла дворничиха: — Убейте меня, во всем виновата я! И рассказала все, как было. А под конец сказала: — Он у вас хороший, обязательно вернется! Они молча отошли от нее. Тайна, которую они берегли столько лет, оказывается, вовсе не была тайной. Беккеры подняли на ноги всю Москву. Но Юра был как камень, который уронили в глубокий колодец, как игла, которую потеряли в стоге сена… Ничего не изменили ни завтрашний день, ни послезавтрашний. За что бы ни бралась Белла, все у нее валилось из рук. Мысли ее где-то блуждали, и было непонятно, слушает она вас или нет. Целыми днями, опершись локтями на подоконник, она смотрела на улицу. Смотрела, смотрела, и никакими силами ее нельзя было оторвать от окна. Давид положил на подоконник подушку, чтобы Белле было удобнее. Подушку она приняла, но сесть у окна на стул наотрез отказалась — какая-то часть улицы выпадала из поля ее зрения. Белла ни на шаг не отходила от дома. Говорила: — Уйду, а он придет, не застанет нас дома и обидится. Давид подолгу сидел за Юриным столом. Перебирая тетради, вдруг вспомнил о деньгах, которые хранились в его фронтовом портсигаре, — тех, что были предназначены на покупку велосипеда. И Давид утвердился в мысли, что Юры в Москве нет. Давид написал Гене, а потом сам был не рад этому. Племянница прислала пространное письмо, в котором назвала их «старыми идеалистами», напомнила, что «заранее предвидела такой исход», ибо «чужой никогда родным не станет». К весне Белла потеряла всякую надежду и слегла. Давид передвинул кровать к самому окну, чтобы она могла наблюдать за улицей. Но и это уже не радовало ее. Она стала поговаривать о смерти. Однажды попросила Давида вызвать на дом нотариуса. Просила она так настойчиво, что Давиду ничего другого не оставалось делать. Нотариус составил им завещание, по которому все оставлялось Юре. И все просила Давида: — Не вздумай выписывать Юрика, если я умру! Геню к нам не прописывай, а то ничего Юрику не останется. Горе убило Беллу. И Давид остался один. Тридцать лет жили вместе, Давид не представлял себя без Беллы — две реки слились воедино, как разделить их воды? С Беллой похоронили будто и его душу. Когда приколачивали гвоздями крышку к гробу, Давиду казалось, что гвоздями прибивают Беллу. Он отвернулся — не мог этого видеть. Долго стояло перед его глазами угрюмое лицо того, кто забивал гвозди. Гвоздь сюда, гвоздь туда… Спеша, торопясь кончить неприятное дело. Что ж, и эту работу должен кто-то делать. Давид бросил на гроб горсть земли. Потом заработали лопаты. Давид остался один. Сын оказался неверным, а Белла… К сна ушла. И никогда они не встретятся. Дни потеряли привлекательность, приходили и уходили серые и бессмысленные. Давид утром вставал, пил кофе, к которому пристрастился в последнее время по рекомендации врачей из-за низкого давления, и шел в типографию. При жизни Беллы он собирался на пенсию, ко теперь обеими руками ухватился за работу. И в типографии его старались нагрузить делом, чтобы отвлечь. Сам Давид тоже искал повод, чтобы задержаться в типографии, где никто и словом не напоминал ему о его горе. Лишь вахтерша одно время приставала к нему: — Ты женился бы, что ли, Давид Абрамович? Кто-нибудь и присмотрел за тобой. Давид и взглядом ее не удостаивал. Иногда он наведывался в домоуправление, чтобы лишний раз убедиться, что Юра не выписан. В домоуправлении слегка подтрунивали над старым чудаком, но Юру не выписывали из домовой книги. От Гени регулярно приходили письма. Теперь она жила на Камчатке, куда перевели служить ее мужа. Давид иногда посылал им чеснок и воблу. «Если будет трудно, напиши, вышлем денег, — писала Геня и жаловалась: — Живем на краю света, климат злой, бураны, заносы, но ждать осталось недолго, скоро поедем на материк…» Когда еще жива была Белла, Геня с мужем и трехлетним сыном неделю гостили у них на обратном пути из Крыма. Генин мальчик был капризным и непослушным, раздражал Беллу. Беккеры очень хотели привязаться к мальчику, но ничего с собой поделать не могли. Его присутствие еще больше подчеркивало их одиночество, постоянно и остро напоминало о Юре. Летом Давиду из профкома дали путевку в санаторий. Уезжая, он приклеил на дверь записку: «Юра, ключи в домоуправлении». Сорвать эту записку суждено было самому Давиду. В сентябре пришла телеграмма от Гени, а вскоре они и сами приехали. Где им было остановиться, как не у Давида? Их поставили на очередь и скоро должны были дать квартиру, а пока они поживут у него. Еще в письмах Геня предлагала, чтобы они жили вместе. «Одиночество хуже могилы, — писала она, — мы ведь родные». Хотя это было и разумное предложение, но Давид на него не отвечал. И сейчас, стоило Гене заговорить на эту тему, Давид притворялся глухим. На самом деле он был рад им, но они были для него лишь желанными гостями, хотя гостем в своем доме казался он, а Геня была полновластной хозяйкой. В мае племянница переехала в свою квартиру — в новый дом на Юго-Западе. Жили они теперь далеко друг от друга, но на одной линии метро. И снова Давид остался один.* * *
Июньским воскресным утром Юра постучался в дверь знакомого белого дома. Ему открыла Янина Людвиговна. — Пришел проститься с вами. — Проходи, Юра! Андрей Андреевич ждет тебя. — Я рад, что этот день наступил, — начал Андрей Андреевич. — И уверен, что ты сдашь экзамены в Высшее инженерное училище. — Он встал, задернул штору — комната скрылась от нещадных солнечных лучей. — В тебе я не ошибся. За четыре года хорошо узнал тебя, и, хоть кое-что ты и недосказал мне, я понял, что воспитывали тебя порядочные люди. О них я у тебя не спрашивал, ты и сейчас можешь ничего не рассказывать, но вспомнить и проанализировать события той осени ты должен. В день поступления в нашу школу у нас с тобой был разговор, помнишь? — Помню, Андрей Андреевич. — Я спросил у тебя: «Все ли правда, что ты нам рассказал о себе?» Ты ответил, что правда. Так ли это? — Я не соврал, Андрей Андреевич, но и всей правды вам не сказал. — Он помолчал и добавил: — В Ленинград я поеду не сразу. Я взял билет в Москву. — Вот и хорошо. Янина Людвиговна соберет посылку дочкам. Занесешь им в общежитие.* * *
Юра приехал в Москву рано утром. Спустился в метро. Он спешил. Думал сойти у Парка культуры, но увидел, что линию продлили. Он решил, что следующая станция рядом с Академией Фрунзе, но, когда поднялся на эскалаторе, оказалось, дом недалеко. Он пересек сад, чтобы сократить путь. Со щита улыбался Гагарин. Вот и родной дом. Огромный двор, казалось, стал меньше. Первым человеком, кто повстречался ему, была дворничиха. Она поливала цветы и с любопытством уставилась на моряка, который шел по тротуару. Ей казалось, что она знает его, но не могла вспомнить, где он живет. Когда он открыл дверь подъезда, ее вдруг осенило, шланг выпал из ее рук и, как живой, пополз по асфальту. Она хотела что-то крикнуть вслед, но осеклась. Однажды она уже принесла беду в его дом, и если бы сейчас открыла рот, то опять должнабыла бы сообщить черную весть. Юра даже не заметил, как взбежал по лестнице. Он стоял у двери, сердце его гулко колотилось, и он не смел поднести палец к кнопке звонка. Дверь отворилась сама. На пороге стоял Давид Абрамович. — Здравствуй, отец! Только Юра произнес эти слова, как Давид Абрамович навалился на косяк двери и начал сползать вниз. Юра подхватил отца и не дал ему упасть. Он нес его в комнату и думал о том, какой отец легкий. Юра оглянулся, чтобы позвать мать, но почувствовал, что дома никого нет. Отец достал из кармана стеклянную пробирку и взял в рот таблетку. — Затянулось твое путешествие, сынок. По дороге мы потеряли мать…* * *
Отец и сын стояли у окна. По улице шли люди. С каждой минутой их становилось все больше. Люди спешили в метро.1968
Перевод М. Гусейновой.
ЛАСТОЧКА
* * *
— Сулейма-а-ан!.. Это зовет только что вернувшегося с фронта сына мать. Зовет из дальнего конца коридора. Она почти ослепла, ожидая сына, а он, живой и невредимый, вернулся… Но снова поедет… Звук бежит по длинному коридору, заворачивает, ударяет о стену и откатывается. А Сулейман стоит, смеется, трогает мое худое костлявое плечо. «Здравствуйте, тетя Сулейман!» — смеется он. А я стою красный. То ли от бега, то ли оттого, что мне стыдно за свое торопливое письмо соседу на фронт: «Здравствуйте, тетя Сулейман!» Сколько смеху было!.. Он приехал ненадолго, скоро уедет и уже не вернется. — Даву-у-уд!.. Это снова зовет мать, но старшего сына. И зовет, когда сама еще молода. Я слышу голос, он звенит в моих ушах. И вижу Давуда: он разбегается по длинному, ничем не загороженному коридору, бежит к открытому окну. Но в ту же минуту, когда — еще мгновение, и он грохнет со второго этажа — Давуд выбрасывает в стороны свои крепкие руки, рама удерживает его. А потом я вижу зарево над городом. Горит завод, где работает Давуд. Мы стоим на крыше галереи и смотрим ка зарево пожара. Небо над Черным городом розовое. А потом весть о гибели Давуда. — Даву-у-уд!..* * *
Что же стало с тобою, двор? Где твои ласточки? Или я адрес перепутал? Нет, и улица та же, и дом на старом месте, и так же застекленная галерея опоясывает квадратный двор. И снова весна. Как это было в прошлом году, как это было в прошлом веке, как это было давным-давно… Но ласточки давно покинули двор, покинули галерею. Даже гнезд их не осталось.* * *
Просторная галерея изрезана, изрублена на куски. Разделенная разноцветными заплатами дверей, галерея грубо выдается вперед. И кажется, что, отяжеленная ими, она вот-вот рухнет и завалит двор. А сам двор от нависшей над ним тяжести сжался из страха. Где уж тут полетать?.. Кто-то однажды первым отделил свою полосу в галерее. Не хотел, чтобы сосед увидел, какой славы он добился, как разбогател. Как жирны и весомы куски шашлыка, жарящиеся на его мангале, как золотится корочка его только что испеченного пахучего пшеничного чурека. Он боялся сглаза. Он не хотел пробудить в соседях зависть. Черное семя пало на землю и дало росток, ветвь протянулась в сторону соседа. И второй однажды отрезал от галереи и свою долю, установил в ней отдельный водопроводный кран. Из крана журча лилась вода. Много-много вкусной воды. И втайне радовался прохладе, что шла от нее. Он не хотел делить радость с соседом, опасаясь, что, разделенная, она станет меньше. И о горе своем, когда приключилось, скрыл, думая, что злорадный сосед в довольстве бросит в воздух свою каракулевую папаху, пригласит зурначей, и музыканты будут петь под звуки зурны, бить в барабан, веселясь над несчастьем соседа. А третий, чьи окна смотрели прямо в галерею, однажды подумал: «А почему моя часть галереи топчется чужими сапогами?! Почему каждый, кому не лень, заглядывает своими серыми или черными, каштановыми или голубыми глазами в мои окна, дышит моим воздухом?!» Подумал — и отрезал свою долю. Черное семя, пустив корень, крепко держало упругий молодой росток с пышно распустившимся одиноким черным цветком. Ах, как красив черный бархатный цветок!.. Кто взглянет на него, черноту зрачка теряет; кто вдохнет его запах, рассудка лишается, кто притронется рукой — рука отсыхает. Черны крылья и у белогрудой ласточки, но она сторонится красивого цветка, улетает далеко, ввысь, завидя его. А за полетом ласточек поди уследи!..* * *
Каким удивительным был наш двор!..1969
Перевод М. Гусейновой.
СЛЕПЫЕ ДВЕРИ
* * *
Вот уже сколько лет я мечтал увидеться с тобой. Желание это то усиливалось, то затихало, да все было некогда. То ли двадцать лет прошло со дня нашей последней встречи, то ли двадцать пять. Я не смел, юнец, говорить с тобой, расспрашивать тебя, а тебе было скучно слушать меня. Я мечтал встретиться с тобой, а ты — неуловим: ненадолго бросишь якорь, и снова — в путь. И жди, когда вернешься. Ничего не поделаешь — такая у тебя была работа. Порой к виделся с тобой во сне. И разговаривал с тобой. Ты меня не узнавал. Потому что за эти годы я сильно изменился. Но я тебя узнавал тотчас. Потому что ты был в моем сне. Потому что ты оставался в моей памяти таким, каким был в те далекие годы. — Неужели это ты?! — спрашивал ты удивленно. — Да, я. — Никак не могу поверить, что это ты! Глаза твои в улыбке щурились и наполнялись слезами. И я радовался, что стою рядом и говорю с тобой на равных. — Сколько лет я ищу тебя! — говорю я тебе. — Хочу так много узнать!.. — Подожди, расскажи сначала о себе!.. Твоим вопросам везло, потому что рассказывал я, а мои оставались без ответа. За секунду можно увидеть сон на целое сказание. Но снами, где мы встречались, я не мог развеять сомнения, узнать о том, что беспокоило меня. — Успеется, рассказывай! — говорил ты, и я рассказывал и рассказывал. Когда встречал твоих знакомых, я неизменно спрашивал о тебе. Одни говорили, что ты далеко, другие — что близко, и я думал, что еще есть время, что обязательно встречу тебя, мы поговорим. Но я забыл о том, что слышал, как поют ашуги длинными вечерами в кругу сельчан: «Мир этот — поле, а смерть — косарь. И люди колосья…» Ты стоял в том краю поля, что ближе к косарю. Я больше никогда не увижу тебя. Кому задать вопросы? Ключи от дверей ты унес. Говорили, что весельчак, ты. Все, что ни заработаешь, — делишь с друзьями, со знакомыми, а то и просто с первыми встречными. Веселился, чтоб доставить радость другим. Но почему в моей памяти ты остался грустным? Что-то не устраивало тебя. Но что?.. Почему я не могу представить тебя весельчаком? Помню лишь редкие мгновения, когда лицо твое прояснялось. Говорили, что гуляка ты. В каждом порту — возлюбленная, в каждом краю — наследники. Мол, из тех ты, что сами гасят свой очаг. «Видит: угли горят, а он топчет их…» Ни дома, ни постоянства, ни привязанности. Где заночевал — там и дом твой, где согрелся — там и очаг твой. Имя одного из сыновей — Гамлет, имя другого — Отелло. И дочери: Эсмеральда, Джульетта, Кармен… Знаменитые герои знаменитых мастеров. Не ведающие друг о друге, ни разу не встречавшиеся братья и сестры разных матерей. Что же гнало тебя из города в город, из края в край? Отчего же, сломав хребты стольким дорогам, как у нас говорят, ты не достиг своего дома? Ты всю жизнь чего-то искал. Но чего? Что тебе было не по душе? Сердило и ожесточало? Ты был вспыльчивым. Застряли в ушах моих слова, сказанные тебе моим отцом: «Молчи! Накличешь беду! И следов не останется!» Почему я не запомнил твоих слов? Только взгляд — хмурый и холодный.* * *
— Где его могила? — спросил я. Один ответил: «В таком-то городе». Другой сказал: «В такой-то деревне». Слепые двери.1969
Перевод М. Гусейновой.
ОСТРОВА
Памяти моей матери Махфират Мелик-Мамед-кызы
* * *
Первая радость, которую помню… Я на даче в Пиршагах. За домом — песчаный холм, прибитый к задней слепой стене часто дующим на Апшероне северным ветром. Мы прыгаем с плоской, залитой киром крыши на холм, утопая в мягком песке, струйками убегающем от наших босых ног. Вдруг слышу, хотя никто, кажется, не сказал, что приехала мама. Я выбежал на пыльную деревенскую улицу. Я бежал быстро-быстро, изо всех своих сил, чтобы первым встретить ее. Она только что вернулась из санатория. Это был ее самый первый и самый последний курорт. Я несся по улице и видел уже ее лицо, счастливое, довольное, смеющееся оттого, что я увидел ее. Вот она! Я прыгнул ей на руки, обхватив белесыми от пыли ногами и руками, и, сцепив голые пятки у нее за спиной, прижался к ней. Она подхватила меня и понесла, такая родная, такая моя! А может, первая радость вот эта!.. Я остался на даче один. Но вот тетя наконец решила отправить меня в город. Тетя, толстая, но подвижная и быстрая, поручает меня вознице, едущему в город на базар. Наша арба долго, очень долго трясется по пыльной дороге, наступает вечер, а мы все никак не приедем. Перегоняя нас, стремительно проносились электрички с теплым протяжным гудком, вблизи и вдали — бесчисленные вышки, пахнет нефтью, запахом, ставшим неотъемлемой плотью моего детства и всей моей нынешней жизни, ибо в нем — мои дороги, родной город, море, все-все, что связано с моей родиной. Вот и последний пригорок, началась дорога, мощенная булыжником. В щель в арбе я вижу непомерно большие, синие, выпуклые, гладкие булыжники. Я приподнимаюсь над корзиной с блестящими лиловыми баклажанами и вижу город. Арба тарахтит по нешироким улицам мимо плоскокрыших домов. И вдруг арба останавливается уже на нашей улице. «Найдешь свой дом?» — спрашивает возница с темным небритым лицом. Как не найти свой дом? Вот он, рукой подать! Я спрыгиваю и, не прощаясь, не понимая, что надо благодарить, бегу к воротам, уже забыв и о даче, и о вознице, бегу домой, где, кажется, целую вечность я не был… О вечности я, конечно, тогда не знал, как, впрочем, не знаю и теперь… Вот и ворота! Остановился на миг — две наши комнаты на втором этаже и вся галерея залиты ярким, слепящим глаза электрическим огнем больших ламп. Живы все — и отец, и мать. Они молодые. Они не ведают, счастливые, о скорой войне, когда погаснет этот яркий свет, даже и не предполагают, что не так уж много отпущено им: год с небольшим — отцу, шесть — матери.* * *
Первое горе, которое помню… Вспоминать и не надо: крик! Крик, пронзивший жаркий августовский бакинский день, когда все двери и окна в галерею распахнуты настежь в надежде, что вечно безоблачное небо смилуется и одарит нас хоть малым дуновением, устроит подобие сквозняка. Это был крик соседки, живущей в самом дальнем конце галереи, владелицы единственного в нашем доме телефона. Крик ее больше всего на этой земле предназначался мне. Меня била дрожь. Соседка, с рождения хромая, нынешняя мать восьмерых рослых сыновей, ковыляла ко мне. На ее белых губах я прочел: «Умерла!» Умерла моя мама. Ей было меньше, чем мне сейчас, когда кажется, что жизнь только-только началась, что все еще впереди.* * *
Первая трусость. О, я ее помню!.. Тетя, сестра моей матери, глаза ее были воспаленные от слез, а голос какой-то чужой, басовитый, сказала: — Поезжай немедленно в больницу! Мать хочет видеть тебя! Я знал — ее вынесли из палаты в отгороженный конец коридора, чтоб больные не видели умирающего человека. В теткиных словах услышал: «Она умирает, хочет проститься!» Но я не пошел. Мне было страшно. Страшно увидеть умирающего человека. Я не пойду! Я был упрям и молчалив, как камень. Она виделась цепкой, эта смерть, которая ходит там рядом с матерью. А вдруг она (Кто? Смерть? Мать? Они уже как одно в моем страхе) схватит меня. «Идем и ты!» — прикажет мне. А я не хочу! Я боюсь. Тупой, животный страх. Окаменелость.* * *
Первая моя забота… Она длилась год, эта моя забота. Матери стало трудно преодолевать крутой подъем нашей улицы, возвращаясь домой после работы. Темно, нигде нет света, он замаскирован, потому что идет война. Могут на улице задеть, обидеть, напасть. Но главное — сердце и его порок. Сердце, которое я слышал, когда шел рядом с матерью, даже представлял его — большое, во всю грудь, ему не хватает воздуха, ему тесно, оно устает. Мать выходила из родильного дома, где работала акушеркой, а я уже встречал ее у входа. Она сразу же брала меня под руку, опираясь на нее, и мы медленно шли вдоль палисадника, за которым тянулись двухэтажные корпуса родильного дома, и до самой трамвайной остановки на узкой улице Васина нас сопровождал запах йода. Трамвай вез нас только две остановки. Мы выходили на шумной, тесной тогда и пыльной Базарной улице, и долго, мучительно долго для матери, поднимались по круто уходящей вверх бывшей Старой Почтовой, мимо одноэтажных домов с темными окнами, почти касаясь стен, потому что тротуар узок, с радостью пересекали улицу Касум-Измайлова и останавливались у большого старинного особняка. Мать что-то хочет сказать посиневшими губами, но не может, не хватает воздуха; она стоит, опустив голову и держась рукой за шершавый, щербатый камень стены, а я рядом, я только чуть-чуть отошел, чтоб не мешать движению воздуха, чтоб ей не было душно, чтоб моя близость не давила ей на грудь, где в лихорадочном темпе бьется и стучит сердце. Нам осталось уже немного — всего один пролет, один лишь квартал. Она поднимает голову, и я чувствую, что она внушает себе, что духу у нее хватит, копит силы, успокаивает сердце, напоминает ему о том времени, когда оно было послушней, вмиг одолевало этот нетрудный, пустяковый подъем, где сердцу почти никакой работы; я знал и о том, что она гонит от себя мысль о лестнице, о подъеме на второй этаж, но там уже не страшно, там — дом… И мы снова медленно шли, и я нарочно задерживал шаг, и с каждым разом в течение этого года совершенствовал свое умение замедлять и замедлять шаги: пусть мать думает, что именно она спешит. Пересекаем еще одну улицу — Полухина. Вот и наш дом с балконом-фонарем, нависшим над улицей, наши высокие железные — как много железа в Баку! — ворота. Я знаю на этом коротком пути от ворот до лестницы все выступы и выбоины; знаю, где может собраться вода, капающая из крана, если его некрепко закрутить; знаю, где надо сделать шаг длинней и где — короче, чтоб не споткнуться о круглую канализационную крышку, чуть приподнимающуюся в одном месте, близко к подвальному окну… Я могу с закрытыми глазами пройти этот путь. А вот и перила, чуть шатающиеся от прикосновения. Мать хватается за них и снова замирает, пытаясь отдышаться перед решающим штурмом тридцати каменных, стершихся и чуть вогнутых ступеней. Дома мать приходила в себя быстро. Все-таки дом. Она садилась на любимую кушетку, чтобы дать успокоиться сердцу, чтоб оно вошло в свои границы, перестало распирать грудь.* * *
Первая моя злоба… Она и сейчас не прошла. Жив и он, к кому моя злость, уже притупившаяся, конечно. Это уже даже не злоба, а думы об одной из слабостей человеческой натуры. Я вижу его иногда, дядю моей матери, Абдула. Он высох от старости, сухой кашель сотрясает все его нутро. Жаль его, старика, такого немощного и хилого; ему уже за восемьдесят. В город двоюродный мой дед приезжает редко, живет на даче под Баку в одном из домов бывшего родового имения, некогда занимавшего полдеревни. В саду — громадное полуторавековое тутовое дерево, самое, наверное, большое на всю округу. Ягоды черного тутовника — крупные, сочные, мохнатые, как шмель. Мы вежливо здороваемся, говорим о том о сем и — до следующей встречи: чем меньше, тем лучше, чем реже, Тем спокойней. И уже не злость шевелится в глубинах души, а лишь сожаление. С приходом лета дышать в Баку становилось нечем. В тот год кончилась-таки война, и мать получила первый отпуск. Силы на исходе, и думать нечего жариться еще одно лето в Баку. Но куда ехать с больным сердцем? А ему нужен свежий воздух, нужен виноград, хорошо бы тутовый сок белой ли, черной ли ягоды. Пошли на поклон к Абдулу. Нет, нет, мы не претендуем на комнаты второго этажа. И виноград даром есть не будем. Нам бы маленькую комнату, в том крыле, что ближе к колодцу, она на отшибе, ведь там никто не живет, только инвентарь хозяйственный хранится, и вещей-то не ахти как много: лопата, лом, пила, бочка, их можно в сарай. Дядя насупился, глянул на жену, вечно с кислым выражением лица смотрящую на собеседника, будто едят при ней лимон или маринованный баклажан. Боясь услышать отказ — а он готов сорваться с уст его жены, — мать заговаривает о деньгах, хотя денег… И дядя говорит, что они обещали сдать эту комнату одному «святому» человеку, который ездил некогда в Кербелу на поклон к имаму Гусейну; идет длинный рассказ об этой поездке, об отце имама Гусейна — имаме Али, называется трехзначная цифра аванса, полученного за комнату. «Деньги, конечно, небольшие, — говорит дядя, — но они истрачены…» И мама обещает эти деньги. Слезливым, жалующимся голосом жена дяди говорит, что дело не в одном авансе, они рассчитывали на всю сумму, чтоб нанять садовника, ведь виноград, который вы захотите купить, прежде вырастить надо, а за тут, конечно, платить не надо, мы ведь родственники… Мама обещает и эти деньги. «Откуда она возьмет их, — думаю я, — ведь у нас нет ни гроша». Я с лютой ненавистью смотрю на Абдула, хочу, чтоб он почувствовал мой взгляд, но молчу: неприлично встревать в разговор старших. Но он даже не обернулся в мою сторону. Чтобы заплатить за дачу, матери пришлось продать шелковую шаль с бахромой — первый подарок отца, и нитку жемчуга — свадебное приданое. В то лето, ее последнее лето, она почувствовала себя лучше, а однажды, цепляясь за каменные выступы стены, осторожно примериваясь и ставя ногу на них, поднялась к балконным перилам второго этажа и перелезла через них. На балконе она выпрямилась, откинула со лба волосы и долго не сводила глаз с моря. Потом глянула на меня вниз, и лицо у нее было затихшее, чуть-чуть удивленное. А через несколько дней — снова приступ, возвращение в город, больница… Деньги Абдулу я отнес еще до нашего переезда на дачу. Дом их находится в Крепости, на одной из узких улиц старого Баку, куда и поныне они возвращаются на зиму с дачи, — он сам, восьмидесятилетний, и его жена, все такая же, с кислым выражением лица, даже когда рассказывает об инжировом варенье, самом сладком из всех варений.* * *
Первая моя обида… Была на отца она, моя первая обида. В горле саднило, было больно глотать. Не было и слез. Обида такая, что никуда от нее не уйти. Мы шли по улице: мать, соседка по дому и я. Вдруг мать побледнела и остановилась. Наша соседка, районная активистка, всегда отличалась громким разговором… Но сейчас, мне казалось, ее слышит вся улица: — Дура! Стоит ли из-за этой шлюхи так переживать! На тебе лица нет! Мать, будто не слыша ее, смотрела вперед. — Хочешь, — не унималась соседка, — я сейчас подойду и дам ей коленом в зад! Хочешь? Говори. Мать молча прижала руку к груди: сердце напоминает о себе с того злополучного дня… Отец не пришел ночевать. В последнее время он приходил домой поздно, раздражался из-за пустяков, все ему не так! Кто-то нашушукал: его видели с блондинкой. А потом сказали: по такому-то адресу ее дом. Утром, чуть свет, мать вышла из дому. И открыла без стука дверь. Отец, свесив с кровати ноги, натягивал сапог. А блондинка стояла у накрытого к завтраку стола. И здесь впервые покачнулось сердце моей матери. Это она шла впереди, блондинка. Она шла, и я рисовал себе картину, как наша соседка подкрадывается к ней и с силой бьет ее ногой. Я как будто сам вижу отца, натягивающего на ногу поверх галифе сапог. И в горле горит. Надо бы растворить ком, чтобы глотнуть свободно. А как его растворить, если нет слез? Первая моя обида, которой уже нет. От нее лишь грусть — очаг погас, угли давно истлели…* * *
…— Нет, нет! Это жестокость. И от нее никуда не уйдешь. Как же ты мог? И обойти молчанием! — О ней, о первой моей жестокости, разве я могу умолчать? — Так рассказывай! Я и сам не знаю, как вырвались у меня эти слова в тот далекий день!.. Сколько времени прошло, а слова и сейчас обжигают. Мать и вправду по дороге домой съела кусочек черного тяжелого хлеба тех военных лет. Увидев початую буханку, я громко крикнул: «Ты съела хлеб по дороге! Надо делить хлеб!» Мать полными ужаса глазами смотрела на меня. От волнения у нее беззвучно шевелились побелевшие губы. Наша комната наполнилась такой тишиной, что мне стало страшно. Мать сгорбилась под тяжестью моих слов. В ее глазах я увидел глубокую-глубокую тоску. Она тихо сказала: «Если начнем делить хлеб, мое сердце остановится». — «Я тоже не хочу этого», — пробормотал я. Но в тот день мать все же разделила хлеб и от своей доли половину отдала мне. Я не притронулся к ее куску… — Браво! — Я вернул ей хлеб… — Бурные аплодисменты! — Именем погибшего отца я заставил ее съесть тот кусок! — Но те слова были произнесены. — Она простила их мне. — Но я не прощаю!* * *
Я иду по тихой узкой улице между высокими каменными оградами. У калиток ограды обрываются, и видно, что за ними тенистые сады бакинских дач. Жарко. Я иду к морю. — Махфират!.. — неожиданно слышу я и невольно останавливаюсь. Я давно не слышал этого имени, очень редкого и старинного. За такой же калиткой мы жили на даче много лет назад… А может, этого и не было никогда?..* * *
Жарко… Взобравшись на высокое тутовое дерево, я вижу оттуда море. Оно синее-синее, без волн. Когда срываю ягоду, кровавый сок тута наполняет ладонь, красные точечки, брызнув, остаются родинками на моей открытой груди. Ягоды сочные, вкусные, сладкие. Под деревом стоит мать. Осторожно, чтобы не просыпать, я самые крупные ягоды собираю для нее в белую эмалированную кружку. Жарко… На дворе дачи в глиняной печке — тандыре — разведен огонь. Мать печет ржаные лепешки. Я сижу на ступеньках террасы. В моих руках горячая лепешка. Я перекладываю ее с руки на руку. Не дождавшись, пока она остынет, обжигаясь, откусываю. Мать смеется и дует в мой открытый рот. Жарко… Видно волнистое песчаное дно моря. Мать, постелив на берегу большой ковер, намыливает его. Набегающие волны слизывают мыльные хлопья. Под лучами слепящего солнца все ярче блестят и играют узоры шелковистого ковра. Вода теплая, ласковая, под ногами мягкий песок. Мать кричит: «Хватит, выходи!» «Еще, еще!» — говорю я и снова и снова ныряю в воду. Рукой достаю до дна, взяв горсть песка, выныриваю из воды. Песок — темно-серый, похожий на грязь. Он красив только в воде; разлученный с ней, песок теряет свой блеск.* * *
Я давно не видел моря. Очень давно. Именно этого моря. Моего. Скорее б. Иду и иду, скорее б!.. А дороге нет конца… Когда же берег? Так жарко, что ни о чем уже не помнится. Неужто оно так иссохлось, что ушло далеко? И я никогда не достигну его берега? Ни тени, чтоб спрятаться: пески и пески. Кричать? Но кто услышит твой крик? «Эээййй!..»1970
Перевод М. Гусейновой.






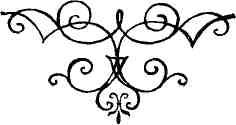
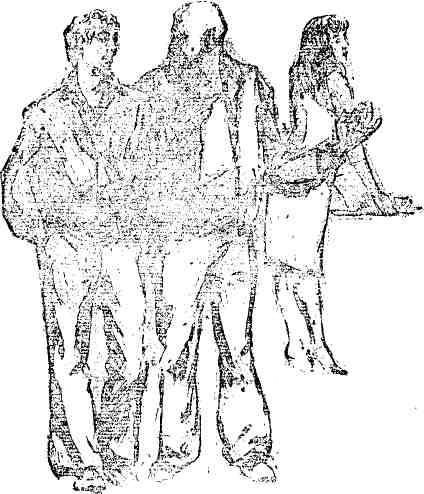

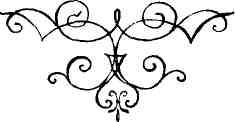














Последние комментарии
12 часов 21 минут назад
16 часов 29 минут назад
16 часов 46 минут назад
17 часов 7 минут назад
19 часов 49 минут назад
1 день 3 часов назад