Реввоенсовет Республики (6 сентября 1918 г. / 28 августа 1923 г.) [Коллектив авторов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 6 сентября 1918 г. / 28 августа 1923 г.
Москва Издательство политической литературы 1991* * *
Их было двадцать три человека. Тех, кого называют первым составом Революционного военного совета Республики. Тех, кто участвовал в создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота. Сегодня многие из этих имен ничего или почти ничего не говорят читателю. А некоторые даже не упомянуты в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР». По-разному складывались нелегкие судьбы этих людей, их политические биографии, неравноценен их вклад в дело революции. Но они были, и время упрямо возвращает их имена, все расставляя по своим местам.
От издательства
Среди малоизученных тем советской истории, о которых сейчас принято говорить как о «белых пятнах», можно со всей ответственностью назвать такую, как Революционный военный совет Республики. Он был создан в 1918 году для непосредственного централизованного руководства армией и флотом, а также всеми учреждениями военного и морского ведомства, был высшим военным органом страны в годы гражданской войны. Деятельность РВСР должным образом не оценивалась, не анализировалась и не освещалась объективно ввиду того, что его основной состав подвергся необоснованным репрессиям в период культа личности Сталина. Большинство членов Реввоенсовета Республики были объявлены «врагами народа»: председатель РВСР Л. Д. Троцкий, командарм И. И. Вацетис, С. С. Каменев, члены РВСР — Ф. Ф. Раскольников, И. Н. Смирнов, В. А. Антонов-Овсеенко, А. И. Рыков, А. П. Розенгольц, К. К. Юренев, В. И. Невский, Л. П. Серебряков, К. А. Мехоношин, А. И. Окулов, К. X. Данишевский, И. Т. Смилга. Их имена и фотографии исчезли со страниц книг, деятельность искажалась, фальсифицировалась. Репрессивная машина не щадила родных и близких «врагов народа», многие из них были расстреляны. Работа над этой книгой напоминала порой работу археологов, ведущих сантиметр за сантиметром раскопки уже обнаруженных, но еще не исследованных ценностей. Буквально по крупицам пришлось собирать сведения о жизни и деятельности видных работников партии, кадровых военных, отдававших свои знания и силы защите Советской Республики. Сведения эти были разбросаны по различным фондам многих архивов и спецхранов, документы которых только совсем недавно начали рассекречивать. Поэтому авторы используют их впервые. Привлекают они и те материалы, которые публиковались в 20-е годы, а потом были изъяты из массовых библиотек, зарубежные издания, на пользование которыми долгие годы был наложен запрет. Большинство авторов очерков научные сотрудники институтов истории АН СССР, военной истории, марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Может показаться непривычным, что оценки той или иной личности и событий гражданской войны в разных очерках не всегда совпадают. Но издательство считает, что определенные расхождения в оценках, различные способы подачи материала — все это свидетельства новых подходов к исследованию, изучению и восстановлению событий прошлого, утверждения нового стиля, важной чертой которого становится плюрализм мнений. Очеркам обо всех членах РВСР предпослана статья о структуре и характере деятельности Реввоенсовета Республики. Даже краткая характеристика, содержащаяся в ней, потребовала серьезной и кропотливой работы, анализа и сопоставления различных источников и архивных материалов — ведь попытка написать о Реввоенсовете предпринимается, можно сказать, впервые, так как историки и литераторы «забыли» о РВСР более чем на полвека. Серьезным дополнением к очеркам может послужить приложение «Из хроники деятельности РВСР», составленное на основе приказов Реввоенсовета, директив Верховного командования, переписки председателя РВСР Л. Д. Троцкого с В. И. Лениным и другими членами Реввоенсовета, партии и правительства. Опыт создания подобной хроники деятельности РВСР также предпринимается впервые. Выпуская в свет эту книгу, издательство надеется, что она будет способствовать восстановлению исторической правды о драматических страницах гражданской войны, привлечет внимание читателей и позволит выявить новые материалы о жизни и деятельности ее незаслуженно забытых участников.Революционный военный совет Республики
Шел 1918 год. Молодая Советская Республика оказалась в кольце фронтов. Появилась прямая угроза уничтожения власти рабочих и крестьян со стороны внутренних контрреволюционеров и внешних агрессоров. Проанализировав создавшееся критическое положение, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принимает решение о превращении Республики Советов в военный лагерь. «Все силы и средства социалистической республики ставятся в распоряжение священного дела вооруженной борьбы против насильников, — говорилось в постановлении ВЦИК от 2 сентября 1918 года. — Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены Советской властью». Этим документом учреждался Революционный военный совет (Реввоенсовет) как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Что это за орган? Каковы были его функции? Кто входил в этот Совет? Наконец, какой вклад он внес в победу на фронтах гражданской войны? Спустя семь десятилетий после образования Реввоенсовета мы вынуждены ставить эти вопросы. Дело в том, что деятельность этого высшего военного органа в нашей истории не только замалчивалась и принижалась, но и искажалась. Начиная с 30-х годов вплоть до последних лет очень трудно было найти сведения о Реввоенсовете даже в справочной литературе, не говоря уже о монографиях или научных статьях. Удивительно, но факт, что в первом издании Большой Советской Энциклопедии, в томе 48, выпущенном в 1941 году, нет ни одного слова о Реввоенсовете. Во втором издании, в томе 36, вышедшем в свет в 1955 году, появилось тринадцать строк, но нет упоминаний фамилий ни руководителей, ни членов Реввоенсовета. И только в Советской исторической энциклопедии (1968 г. Т. 11. С. 912―913), а в последующем и в других энциклопедических изданиях можно обнаружить краткое описание Реввоенсовета и его персональный состав, хотя и не полный. Нет, например, среди членов РВСР фамилии Серебрякова Леонида Петровича. А между тем мы располагаем постановлением Совета Народных Комиссаров (СНК) от 5 января 1922 года, где указано, что Серебряков Л. П. назначается членом Реввоенсовета Республики, а через четыре дня он становится руководителем политуправления РВСР.[1] Из ленинского наследия времен гражданской войны использовались только те документы В. И. Ленина, в которых Реввоенсовет подвергался критике по конкретным вопросам руководства военным строительством и боевыми операциями на фронтах. Это создавало ложное представление об якобы отрицательном отношении В. И. Ленина к деятельности Реввоенсовета Республики вообще и к его руководству в частности. Между тем факты свидетельствуют о том, что, говоря об итогах гражданской войны, В. И. Ленин среди всех ведомств неоднократно ставил на первое место военное ведомство и считал, что оно в целом справилось со своей задачей. Тогда почему же тема Реввоенсовета Республики, его деятельности в годы гражданской войны была запретной для исследований и публикаций? Ответ на этот вопрос следует искать прежде всего в руководстве и в составе Реввоенсовета Республики. Надо полагать, что причинами явного принижения и грубого искажения роли Реввоенсовета в гражданской войне были следующие: во-первых, председателем РВСР весь период гражданской войны вплоть до 1925 года был Л. Д. Троцкий; во-вторых, членами Реввоенсовета Республики были военно-политические работники партии, впоследствии оказавшиеся необоснованно репрессированными. В литературе 30-х годов Реввоенсовет квалифицировался не иначе как «скопище троцкистов». Исследуя такие важнейшие проблемы гражданской войны, как деятельность ЦК партии и В. И. Ленина по руководству обороной страны, роль Совета Труда и Обороны, роль главкома Вооруженными Силами Республики, командующих фронтами и других военных учреждений, историки, как правило, почти не упоминали о деятельности высшего военного органа, каким был РВСР. А если и упоминали, то только в плане критики «вредительской» деятельности руководства РВСР. При этом главным аргументом считалось якобы отрицательное отношение В. И. Ленина к Л. Д. Троцкому. А действительность такова, что именно с председателем Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцким и его заместителем Э. М. Склянским Владимир Ильич больше всего советовался по вопросам военной политики, о чем свидетельствует неоднократно публиковавшаяся военная переписка В. И. Ленина. Но и в эту переписку, вплоть до последнего издания (1987 г.), когда речь шла о подборке телеграмм, писем, записок, адресованных Троцкому, включались преимущественно документы негативного характера. Даже XX съезд КПСС, который, казалось бы, попытался раскрыть скованный потенциал исторической науки, не дал ожидаемых результатов. Правда, были изданы и получили заслуженное признание многие монографии, статьи, появились диссертации по истории гражданской войны, в которых в той или иной степени удалось преодолеть некоторые догматические схемы. Но, к сожалению, эта работа не затронула такую страницу гражданской войны, как роль Реввоенсовета Республики. Эта проблема остается не исследованной и по сей день…Более четырех месяцев, начиная с октября 1917 года вплоть до марта 1918 года, в Советской Республике не было единого органа управления, который занимался бы одновременно формированием Красной Армии, руководством ее боевыми действиями, а также обеспечением обороны страны в целом. Этими вопросами занимались: Наркомат по военным и морским делам РСФСР (Наркомвоен), образованный II Всероссийским съездом Советов; Всероссийское бюро военных организаций при Центральном Комитете партии; Революционный полевой штаб Ставки Верховного главнокомандующего и Комитет революционной обороны Петрограда. Оценивая этот период, В. И. Ленин говорил: «Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью… нащупывая, пробуя, каким путем при данной обстановке может быть решена задача. А задача стояла ясно. Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли».[2] Прежде всего встал вопрос об отношении к старой армии и органам ее управления. Был избран путь демократизации и постепенного роспуска старой армии при одновременном создании новых вооруженных сил. Важным звеном управления войсками была Ставка Верховного главнокомандующего в Могилеве. За отказ подчиниться Советской власти Совнарком 9 ноября 1917 г. отстранил от должности Верховного главнокомандующего генерала Духонина и назначил главковерхом наркома по военным делам прапорщика Н. В. Крыленко. По инициативе коллегии Наркомвоена, в которую входили В. А. Антонов-Овсеенко, В. Н. Васильевский, П. Е. Дыбенко, К. С. Еремеев, П. Е. Лазимир, К. А. Мехоношин, Н. В. Крыленко, Э. М. Склянский, Н. И. Подвойский, а позднее Б. В. Легран и М. С. Кедров, была произведена чистка Военного министерства, ликвидированы реакционные органы военного управления, улучшено снабжение фронтов. 15 января (28) 1918 года Совнарком принял декреты «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и «О Всероссийской коллегии по формированию Рабоче-Крестьянской Красной Армии». 11 февраля 1918 года был принят аналогичный первому декрет об организации Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Однако процесс формирования Красной Армии тормозился отсутствием военного аппарата на местах и единого органа в центре. Именно поэтому 4 марта 1918 года постановлением Совнаркома за подписью В. И. Ленина был учрежден Высший военный совет с подчинением ему всех центральных органов военного ведомства. Этим постановлением упразднялась должность главковерха, распускался Комитет революционной обороны, расформировывались Всероссийская коллегия по организации и управлению РККА, Революционный полевой штаб при Ставке. Председателем Высшего военного совета становился нарком по военным и морским делам. Решение о создании Высшего военного совета и в особенности о привлечении военных специалистов старой армии послужило причиной конфликта и последовавшей отставки Н. В. Крыленко. Вскоре на пост наркомвоена, а затем и председателем Высшего военного совета был назначен Л. Д. Троцкий. Однако во второй половине 1918 года, когда резко обострилась обстановка в стране, решением ВЦИК от 2 сентября создается новый орган высшей военной власти в стране — Реввоенсовет Республики (с 1923 г. — Реввоенсовет СССР), который объединил функции ликвидированного Высшего военного совета и Народного комиссариата по военным и морским делам. Председатель Революционного военного совета утверждался Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, а члены Реввоенсовета, в том числе главнокомандующий, — Советом Народных Комиссаров. В первоначальный состав Реввоенсовета вошли: Троцкий Л. Д. (председатель), члены Совета: Кобозев Н. А., Мехоношин К. А., Раскольников Ф. Ф., Данишевский К. X., Смирнов И. Н., Розенгольц А. П. и Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Вацетис И. И. На первых же заседаниях Реввоенсовета Республики были распределены обязанности между его членами. Так, Подвойский Н. И., вошедший чуть позднее в состав РВСР, и Мехоношин К. А. стали во главе Высшей военной инспекции, Смирнов И. Н. объединил руководство политической работой в армии, а Данишевскому К. X. было поручено руководить Революционным трибуналом. К этому составу Реввоенсовета вскоре были присоединены члены коллегии Наркомвоена Склянский Э. М., Аралов С. И. и Юренев К. К. Первый из них занял пост заместителя председателя Реввоенсовета, остальные члены РВС приняли активное участие в боевой работе на фронтах. Анализ протоколов заседаний Реввоенсовета Республики, хранящихся в Центральном государственном архиве Советской Армии, показывает, что многие важнейшие вопросы военного строительства и организации боевых действий решались, как правило, не всем составом РВСР; абсолютное большинство его членов месяцами безвыездно находилось на фронтах. Так, например, на заседании Реввоенсовета Республики 2 и 15 октября 1918 года присутствовало только по 4 из 10 членов РВСР, что составляло явное меньшинство, хотя, как известно, Реввоенсовет был коллегиальным органом, да и обсуждаемые на этих заседаниях вопросы — о положении на Восточном фронте, о разработке воинских уставов, об утверждении проекта положения о Высшей военной инспекции и другие важнейшие документы — требовали активного участия всех членов Реввоенсовета. Сложилось так, что некоторые члены РВСР только числились и не могли физически принимать участие в его работе. Возможно, в определенной степени этим объясняются возникавшие среди членов РВСР конфликты. Впоследствии из состава РВСР практически выделилось ядро, которое постоянно работало, а остальные участвовали в его деятельности только эпизодически. 8 июля 1919 года Лениным подписано постановление СНК об утверждении нового, сокращенного (6 человек) состава Реввоенсовета Республики. В него вошли: Троцкий Л. Д. (председатель), Склянский Э. М. (заместитель председателя), Рыков А. И., Гусев С. И., Смилга И. Т. и Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики С. С. Каменев. Все остальные были освобождены от обязанностей членов Реввоенсовета Республики с оставлением на ответственной военной работе — как правило, они являлись членами реввоенсоветов фронтов. С этих пор заседания Реввоенсовета Республики стали регулярными. Они проводились три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 12 часов. На них оперативно рассматривались, наряду с другими, и кадровые вопросы, связанные с назначением и перемещением членов РВС фронтов. В дальнейшем, на протяжении всего периода гражданской войны, в состав Реввоенсовета Республики в разное время входили: Н. И. Подвойский, Д. И. Курский, И. В. Сталин, В. М. Альтфатер, В. И. Невский, А. И. Окулов, Л. П. Серебряков, В. А. Антонов-Овсеенко. Помимо участия в заседаниях Реввоенсовета и выполнения отдельных поручений члены РВСР в большинстве своем выполняли обязанности начальников управлений Народного комиссариата по военным и морским делам и членов реввоенсоветов фронтов. Нередки были случаи совмещения обязанностей члена Реввоенсовета Республики с ответственными руководящими постами в других народных комиссариатах. Последнее обстоятельство не только подчеркивало значимость РВСР в масштабе страны, но и ускоряло решение многих оперативных вопросов производства оружия и боеприпасов, а также снабжения воинских частей. После окончания гражданской войны, когда был образован Союз Советских Социалистических Республик, армия перешла на мирное положение, переформированию подвергся и Реввоенсовет Республики. Состав его значительно расширился. В 1923 году впервые был соблюден принцип представительства в Реввоенсовете СССР со стороны союзных республик.
В годы гражданской войны РВСР фактически был высшим коллегиальным органом военно-политического руководства обороной страны. Председатель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий являлся членом Политбюро ЦК партии, а РВСР проводил свою работу исключительно на основе указаний Центрального Комитета РКП(б) и под его непосредственным контролем. Членами Реввоенсовета Республики назначались, как правило, видные военно-политические работники партии. Реввоенсовет готовил и выносил на утверждение высших органов государства проекты декретов и постановлений по вопросам строительства советских вооруженных сил и организации обороны страны; издавал приказы, распоряжения, уставы, наставления и другие руководящие документы, обязательные для исполнения всеми органами вооруженных сил и всеми военнослужащими армии и флота; устанавливал и изменял организацию и структуру органов военного управления; издавал в соответствии с действующим законодательством необходимые распоряжения по вопросам, связанным с прохождением военной службы. Это обилие вопросов вынудило создать в ноябре 1918 года Совет Рабочей и Крестьянской Обороны (Совет Обороны) — чрезвычайный орган Советского государства. Его возглавил председатель Совнаркома В. И. Ленин. Членом Совета Обороны, наряду с другими, был и председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий. Реввоенсовету подчинялись все органы и должностные лица военного ведомства — Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики, Всероглавштаб, Полевой штаб РВСР, Высшая военная инспекция, Всероссийское бюро военных комиссаров и другие главные и центральные управления. И конечно, полностью охватить все вопросы Реввоенсовет и его председатель физически не могли. Поэтому вряд ли будет правильным приписывать все ошибки и неудачи на фронтах гражданской войны лишь РВСР и его председателю. Тем более что главкому принадлежала полная самостоятельность во всех вопросах стратегическо-оперативного характера в пределах директив высших органов Советской власти. При этом приказы Главкома Вооруженными Силами Республики скреплялись подписью одного из членов Реввоенсовета. Во всех остальных вопросах главком пользовался правами члена РВСР. На должность главкома сначала был назначен И. И. Вацетис. В 1919 году на этом посту его сменил С. С. Каменев, который занимал его до упразднения этой должности (1924 г.). К моменту организации РВСР определились три основных фронта. Это: 1) Северный фронт — от Ленинграда до Вятки (штаб фронта располагался в Ярославле); 2) Восточный фронт, включавший в себя Туркестанскую армию (штаб в Арзамасе); 3) Южный фронт, который состоял из Брянского, Курского, Воронежского, Балашово-Камышинского участков, Северо-Кавказской армии и Астраханской группы (штаб в Козлове). Кроме этого, существовал еще и Западный район обороны. Этот район охватывал местности к западу от Москвы — от Ленинграда до западной границы Южного фронта. Во главе фронтов были поставлены реввоенсоветы, командующими фронтами назначены военные специалисты: Д. П. Парский, В. Н. Егорьев, П. П. Сытин, А. Е. Снесарев. Все они были бывшими генералами царской армии. Назначение их командующими фронтами свидетельствовало о высочайшем доверии, которое оказывали им и Реввоенсовет Республики, и ЦК, и Совнарком. Дело в том, что командующему фронтом были даны очень широкие права. Он мог самостоятельно принимать решения оперативного характера, перемещать командный состав, кроме командующих армиями, изменять состав армий своего фронта, образовывать новые армии и т. д. Ответственность командующий фронтом нес только перед Главнокомандующим Сухопутными и Морскими Силами и Реввоенсоветом Республики. Конечно, на практике не всегда так бывало. Случалось, что некоторые военные работники партии — члены РВС фронтов присваивали себе функции командующего фронтом, выражая ему недоверие. В этих случаях приходилось вмешиваться Реввоенсовету Республики, Центральному Комитету партии. Возникали конфликтные ситуации и между некоторыми членами РВС фронтов и РВСР, между командующим фронтом и главнокомандующим по вопросам разработки конкретных боевых операций. Примером могут служить события на Южном фронте, когда РВС фронта во главе с И. В. Сталиным отстранил от должности присланного из Москвы командующего фронтом бывшего генерала царской армии П. П. Сытина. Так же незаслуженно был обвинен в саботаже и другой бывший генерал — А. Е. Снесарев — военный руководитель Северо-Кавказского военного округа. Центральный Комитет партии вынужден был принять специальное постановление, которое обязывало всех подчиняться решениям, исходящим из центра, и выполнять требование ЦК, чтобы не было никаких конфликтов по этим вопросам. Правда, и это постановление не ликвидировало назревавший тогда конфликт между РВС Южного фронта и председателем РВСР Л. Д. Троцким. Последний потребовал, чтобы ВЦИК и СНК немедленно отозвали Сталина и Ворошилова с Южного фронта. И только вмешательство В. И. Ленина остановило дальнейшее развитие конфликта. Наиболее распространены были случаи конфликтов между командующими армиями и членами РВС армий. Об этом подробно говорил Л. Д. Троцкий во время выступления на совещании политработников 12 декабря 1919 года. Как пример он привел жалобу М. Н. Тухачевского на политического комиссара штаба армии Мазо, который отменял резолюции и приказы командующего 1-й армией. РВСР, изучив сложившееся положение в 1-й армии Восточного фронта, признал действия Мазо неверными и отстранил его от обязанностей комиссара.[3] По решению VIII съезда партии в апреле 1919 года при Реввоенсовете был учрежден Политический отдел, который в мае был преобразован в Политическое управление (ПУР). В ведении ПУРа находилась вся партийно-политическая и культурно-просветительная работа в армии и на флоте, армейская печать, подготовка кадров политработников. Политуправление назначало и утверждало военных комиссаров, направляло коммунистов на политработу. Начальниками ПУРа в разные периоды гражданской войны были И. Т. Смилга, Л. П. Серебряков, С. И. Гусев, В. А. Антонов-Овсеенко. Но все же основным аппаратом Реввоенсовета Республики, через который он осуществлял руководство вооруженными силами, был Полевой штаб. Он был образован 6 сентября 1918 года вместо расформированного штаба Высшего военного совета. Первоначально назывался Штабом РВСР, а затем 8 ноября 1918 года был переименован в Полевой штаб. Полевой штаб осуществлял сбор и обработку сведений, необходимых для проведения военных операций, передачу в войска распоряжений Главного командования, руководство военными действиями, а также эксплуатацию железнодорожной сети театра военных действий. Полевой штаб состоял из нескольких управлений: оперативного, административно-учетного, регистрационного, центрального управления военных сообщений, полевого управления авиации, управлений инспекторов: пехоты, кавалерии (с 1919 г.), артиллерии, инженеров и бронечастей (с 1920 г.). Кроме того, в состав Полевого штаба входили военно-хозяйственное и военно-санитарное управления. Начальниками Полевого штаба РВСР в разное время были Н. И. Раттель, Ф. В. Костяев, М. Д. Бонч-Бруевич, П. П. Лебедев. 10 февраля 1921 года Полевой штаб сливается с Всероссийским главным штабом (Всероглавштаб) в единый Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В помощь военным комиссарам полков в октябре 1919 года был введен институт политических руководителей рот, эскадронов, батарей. Это решение диктовалось необходимостью усиления партийного влияния, возросшими политическими запросами красноармейцев. В декабре 1919 года по инициативе ЦК партии и Реввоенсовета Республики был созван Всероссийский съезд политработников, который принял положение о политотделах фронтов, армий, дивизий. В целом многогранная деятельность Политуправления, политорганов армии и флота имела большое значение для достижения победы над интервентами и белогвардейцами. О ее масштабах и характере можно судить по таким данным: с июня 1919 года по июнь 1920 года ПУР направил в войска 14 808 политработников, издал и распространил среди личного состава войск и населения книг и брошюр — 1 667 500 экземпляров, листовок, воззваний, обращений — 1 286 000, журнала «Красноармеец» — 1 800 000 экземпляров. Параллельно с организацией политической работы Реввоенсовет большое внимание уделял формированию Центрального управления военных сообщений с его филиалами на фронтах и в округах. Трудно переоценить его значение для побед Красной Армии. На него возлагалось руководство перевозками пополнения, оружия и боеприпасов, продовольствия для нужд армии. В первые же месяцы функционирования РВСР были созданы его управление делами, финансовый отдел, аппарат военной цензуры, связи и т. д. Вопросами снабжения частей Красной Армии ведало Центральное управление снабжений, существовавшее до 1921 года. Подготовкой командного состава для Красной Армии занималось Главное управление военно-учебных заведений. Были созданы и другие управления: Главное управление всеобщего военного обучения, Главное управление военно-воздушного флота.
Создание Реввоенсовета Республики, его управлений да и других центральных аппаратов проходило не гладко. Жизнь вносила свои коррективы, какие-то отделы упразднялись, появлялись новые. Уже в самом начале руководители военного ведомства столкнулись с последовательным интенсивным раздуванием штатов. Когда изучаешь подлинные документы штатной численности, возникает сомнение вообще в работоспособности такого громоздкого аппарата. Впервые эта угроза была замечена руководством РВСР уже в середине 1919 года. И оно отреагировало директивой от 23 мая 1919 года о сокращении штатной численности аппарата и решением создать военную инспекцию при РВСР, которая сыграла немалую роль в устранении недостатков работы центральных и подведомственных им военных учреждений. Но главная заслуга инспекции заключалась в том, что она проводила обследование состояния и боевой готовности войск, выясняла их потребности и оказывала командирам частей Красной Армии практическую помощь. Однако меры, принятые Реввоенсоветом по созданию наиболее оптимальной штатной структуры управлений, не всегда осуществлялись. Через два года численность занятых в центральных военных учреждениях достигла 20 тысяч человек (из них 9 тысяч составляли красноармейцы и рабочие, приданные для обслуживания). Снова принимаются решения о сокращении штатов: в 1922 году — наполовину, в 1923 году — еще на 15 процентов, а в 1924 году была произведена коренная реорганизация центрального аппарата Реввоенсовета Республики. Создание Реввоенсовета совпало с началом нового этапа в формировании Вооруженных Сил Республики — переходом от добровольческого принципа к всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян. При этом в Красную Армию принимались только трудящиеся, а нетрудовые элементы, то есть представители «паразитических классов населения», подлежали зачислению в тыловое ополчение, которое занималось строительными работами или обслуживанием частей и соединений (рабочие команды). Одновременно было принято решение призвать в Красную Армию бывших солдат и офицеров старой армии. Для их переподготовки, а также для обучения призываемых военнообязанных граждан от 18 до 40 лет приказом РВСР от 14 октября 1918 года были образованы запасные части, впоследствии преобразованные в запасные армии. Но все же основным и массовым источником пополнения командиров на командные должности в Красной Армии РВСР считал специальные курсы РККА. Поэтому уже 14 ноября 1918 года Реввоенсовет издал приказ об укомплектовании командных курсов красноармейцами — выходцами из рабочих и крестьян. И в последующем РВСР всегда держал на особом контроле работу курсов по подготовке красных командиров, а в критические моменты, когда необходимо было переломить ход той или иной операции, вводились в бой сводные курсантские бригады, которые отличались мужеством и стойкостью. В начале 1919 года приказом РВСР начали формироваться в составе Красной Армии национальные и интернациональные части. Так были сформированы кавалерийская бригада из немцев Поволжья, Башкирская стрелковая бригада, Латышская стрелковая дивизия и др. Одновременно создавались роты и батальоны из венгров, чехов, поляков, немцев, в основном из числа бывших военнопленных. Были сформированы также корейские и китайские части, которые мужественно сражались на фронтах гражданской войны Советской Республики, защищая первое в мире социалистическое государство. В числе специфических особенностей Красной Армии было использование ее в интересах мирного строительства. Еще в ходе гражданской войны на Урале организуется Первая революционная армия труда (1920 г.); в том же году создается и Украинская трудовая армия. Они были призваны совместно с местными советскими и другими органами заниматься проблемами продовольствия и топлива в округах. Были созданы комиссии по привлечению воинских частей для трудовых целей. В целом Красная Армия в эпоху гражданской войны строилась по принципу вооружения народа. Вооруженные Силы Республики подразделялись на действующие (фронтовые) части, запасные войска и тыловые резервы. Этому способствовало всеобщее военное обучение трудящихся, введенное еще в 1918 году. Через полтора месяца после создания Реввоенсовета на имя его председателя поступил доклад начальника отдела Всеобщего военного обучения, в котором сообщалось, что только в одной Москве численность резервных формирований составляет почти 100 тысяч рабочих, в Петрограде 50 тысяч, а в Московском округе обучается еще около 100 тысяч человек. Они являлись как бы войсками второй линии, прочным тылом действующей армии. После окончания гражданской войны, когда вооруженные силы перешли на мирное положение, Реввоенсовет Республики сосредоточил свое внимание в первую очередь на осуществлении перехода к территориальной системе, создании национальных формирований в РККА, постановке учебно-воспитательной работы, обеспечении материально-бытовых условий в частях. Таким образом, в трудные годы гражданской войны Революционный военный совет как орган высшей военной власти в Советской республике сумел объединить все военные учреждения, сформировать массовую регулярную Красную Армию, мобилизовать все людские и материальные ресурсы страны, защитить завоевания Великого Октября от белогвардейцев и интервентов. Шевоцуков П. А. ─ кандидат исторических наук

Троцкий Лев Давидович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
Это заседание не попало в Биографическую хронику В. И. Ленина. Состоялось оно вскоре после заключения Брестского мира, как обычно, в тесном ленинском кабинете в Смольном. По-видимому, ЦК заседал в полном составе — все его члены находились в Петрограде. Решался вопрос — кому доверить военное ведомство? Почему же вдруг встал этот вопрос? Ведь со времени II съезда Советов военным ведомством руководила, можно сказать, тройка лучших военных работников партии: Николай Васильевич Крыленко, Николай Ильич Подвойский и Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Три богатыря из «военки». Они первыми взялись за сложнейшее дело слома старой армии и организации новой. И дело как будто шло. Что же случилось? Протоколы Центрального Комитета партии за март восемнадцатого года, которые могли бы прояснить этот вопрос, не сохранились, были утеряны, вернее, до сих пор не найдены после частичной эвакуации архива ЦК в 1918 году на Урал. Записи о заседаниях ЦК этого периода в знаменитой клеенчатой тетрадке секретаря ЦК Я. М. Свердлова слишком лаконичны. Но сохранились и стали доступны историкам другие документы. Вместе с воспоминаниями они позволяют рассеять недоумения. Брест-Литовский мирный договор — достижение Ленина — вывел Россию из-под смертельного удара. Теперь, считал Владимир Ильич, надо ловить каждый день и час мирной передышки, дабы укрепить оборону и создать армию, способную отражать новые нашествия империалистов. Это должна быть регулярная армия, построенная на основе военной науки. Накануне заседания ЦК эту истину Ленин разъяснял главкому Крыленко, большевику с 15-летним стажем. Беседа с ним состоялась в ночь с 3 на 4 марта 1918 года. Затем последовала официальная докладная записка Крыленко Ленину, из которой мы и узнаем об их встрече. Оказывается, Крыленко протестовал против того, что Совнарком по предложению Троцкого учредил Высший военный совет (ВВС) и назначил его военным руководителем бывшего начальника штаба Ставки генерала М. Д. Бонч-Бруевича. Крыленко казалось невозможным доверить руководство строительством народной армии генералам, служившим в царской армии, запятнавшей себя расправами над народом. Ленин отвечал: разумеется, есть риск, но и одним революционным энтузиазмом армии не построить. Митингов, лозунгов, клятв о защите социалистического Отечества было достаточно, но отсутствовали боеспособные части, создать которые без военных специалистов было нельзя. А немцы тем временем стремительно занимали наши города. Факт, что Наркомвоен проявил беспомощность. Только через неделю из Петрограда двинулись отряды. Их первые успехи связаны с именем полковника генерального штаба И. Г. Пехлеванова. Но к этому времени немцы захватили Псков, нацелились на Петроград. Матросы отряда Дыбенко, народного комиссара по военно-морским делам, несмотря на всю преданность революции, не смогли удержать Нарву из-за неорганизованности, неумения воевать. Революционный энтузиазм надо помножить на знание военного дела. Выход один — учиться у военных специалистов, хотя многие из них — наши вчерашние враги. Но военная наука, настаивал Ленин, «в их головах». Что же касается опасений измен, приставим к ним комиссаров, будем контролировать и перевоспитывать. Н. В. Крыленко отстаивал свои взгляды. Сказав, что не сможет работать вместе с царским генералом М. Д. Бонч-Бруевичем, заявил о своей отставке. Мы знаем, что Ленин ценил Крыленко как опытного, преданного большевика. Его уважали солдаты на фронте. Но переубедить не смог, пришлось принять отставку. И не только его. Солидарность с докладной запиской Крыленко зафиксировали своими подписями все члены коллегии Наркомвоена — видные работники военной организации при ЦК РКП(б), кроме Антонова-Овсеенко, который в это время добивал калединцев на юге. Их поддержали письменно руководящие работники военных округов и фронтов. Видимо, описанный драматический момент из истории Наркомвоена и вспомнил год спустя в своей речи перед членами Петроградского Совета Ленин. «Как часто товарищи, принадлежавшие к числу самых преданных и убежденных большевиков-коммунистов, — говорил он, — возбуждали горячие протесты против того, что в строительстве Красной социалистической армии мы пользуемся старыми военными специалистами, царскими генералами и офицерами… Оказалось, что так только и можно было построить. Это дело не только военное, эта задача стала перед нами во всех областях жизни и народного хозяйства».[4] Неудивительно, что взятая Лениным линия на регулярную армию встретила противодействие. Ведь совсем недавно и он сам говорил, что старая армия отдана на слом, что от нее не осталось камня на камне, что постоянную армию должна заменить милиционная. А среди солдат, в народе, да и в партийной среде царило настроение: долой все, что связано с постоянной армией, которая воспринималась лишь как царская. Новая армия, писал Ленину Крыленко, должна быть «насквозь демократической», с выборными командирами, солдатскими комитетами, ее должны создавать и распускать Советы. В ней нет места бывшим царским слугам. Позднее эти взгляды вылились в «военную оппозицию». Как видим, уход в отставку руководства Наркомвоена не был случайным. Потребовалась «смена караула». Для укрепления политического руководства военным ведомством ЦК партии решил поставить во главе его одного из своих членов. Но у всех членов ЦК к этому времени уже были ответственные участки деятельности. Да и не все поддерживали линию Ленина на привлечение бывших генералов и офицеров. В этих условиях Ленин предложил поручить военное ведомство члену ЦК Льву Давидовичу Троцкому. Не без раздумий. До революции — меньшевик, примиренец. В одном из писем Ленин назвал его «Иудушкой». И было за что. «Небольшевизм» — так Ленин назвал в 1911 году воззрения Троцкого. Но вместе с тем — широта политического мышления, эрудиция, острый ум, решительный характер. В партии большевиков меньше года, но уже приобрел авторитет. Один из лучших ораторов и полемистов. В дни Октябрьского восстания Троцкий руководил Петроградским Советом и Военно-революционным комитетом. Бескровность восстания — и его заслуга. Позже Сталин выделил выдающуюся роль Троцкого в Октябрьские дни: организовал отпор казакам Краснова, а затем умело использовал переговоры в Бресте для революционной агитации. Был неверный шаг 10 февраля, но передышка ошибку исправила. «Левые» коммунисты отмахивались от регулярной армии, уповали на партизанские отряды, которые будут поднимать восстания пролетариев. Мировая революция, считали они, снимает проблему регулярной армии. Троцкий не меньше их верил в мировую революцию, но вместе с Лениным считал необходимым, демобилизуя старую, разложившуюся армию, одновременно создавать новую армию на основах регулярности. Иначе нельзя противостоять империалистическим державам с их регулярными армиями. Троцкий предложил членами ВВС назначить генералов Ставки, согласившихся сотрудничать с Советской властью во имя обороны страны от внешнего врага. Такие нашлись. На заседании ЦК предложение Ленина поддержал Свердлов. Троцкий стал отказываться. Тогда Ленин, как впоследствии вспоминал Троцкий, сказал: «Кого же поставить? Назовите. Я поразмыслил — и согласился».[5] Решение ЦК оформляется по советской линии. 13 марта состоялось постановление Совнаркома. Его подписали Ленин, народные комиссары В. А. Карелин, И. В. Сталин и управляющий делами СНК В. Д. Бонч-Бруевич (родной брат генерала М. Д. Бонч-Бруевича, которого он убедил занять высокий военный пост у большевиков). Совнарком согласился с предложением Н. В. Крыленко ликвидировать пост главкома в связи с выходом России из войны, что разрешало вопрос о его отставке; удовлетворил заявление Н. И. Подвойского об отставке с поста народного комиссара по военным делам (вскоре он был назначен членом ВВС и председателем Высшей военной инспекции). Приняв отставку Троцкого с поста наркома иностранных дел, Совнарком назначил его народным комиссаром по военным делам и исполняющим обязанности председателя ВВС. Странно, но факт, что это постановление в 12-томное Собрание декретов Советской власти не вошло. Так состоялся переход Троцкого на военную работу. Был ли он к ней подготовлен? «Разумеется, нет, — отвечал сам Троцкий. — Мне не довелось, — писал он в воспоминаниях, — даже в свое время служить в царской армии. Призывные годы прошли для меня в тюрьме, ссылке и эмиграции. В 1906 году суд лишил меня гражданских и воинских прав». Правда, являясь в годы империалистической войны корреспондентом газеты «Киевская мысль» в Париже, Троцкий увлекся изучением психологии солдат — бывал в казармах, госпиталях, траншеях. Занимался вопросами милитаризма. Но военной подготовки не имел. Кстати, это не был уникальный случай. В европейских государствах военными министрами нередко назначались именно политические, а не военные деятели. Ведь война — прежде всего политика, а армия — ее орудие. Н. В. Крыленко, уйдя с военного поприща, с головой окунулся в дело становления советской юстиции. Здесь его университетское юридическое образование очень пригодилось. День «13 марта» отнюдь не стал для советских юристов несчастливым днем. Наоборот. А вот тот же день, день прихода Троцкого в Наркомат по военным делам и назначение его затем председателем Реввоенсовета, многие годы считался «черным днем» для Красной Армии. Надолго утвердилась в нашей историографии концепция: Троцкий пробрался в Красную Армию для того, чтобы вредить ей изнутри, протащить в ее ряды своих «приспешников» и подводить Красную Армию под поражения. Документы полностью рассеивают эти измышления. Удивительное дело: «ставленники» Троцкого — Вацетис, Тухачевский, Егоров, Примаков одерживали победы, военное ведомство, которое «разваливал» Троцкий, несмотря на все его недостатки, заслужило от Ленина репутацию образцового, а Красная Армия имела успехи на всех фронтах. Выходит, все это вопреки Троцкому? Да, именно так, отвечала сталинская историография с первой подачи Ворошилова (после его статьи «Сталин и Красная Армия», опубликованной в «Правде» 21 декабря 1929 года): Троцкий все разваливал, создавал опасные положения на фронтах, но, «к счастью» для Красной Армии, был Сталин, и именно его ЦК посылал исправлятьположение на фронтах, и он всюду вмиг обеспечивал победу. Кажется, что эти легенды о Троцком и Сталине ушли в прошлое. Ушли, но не совсем и не все. В последнее время появились публикации, в которых и сегодня видна ослабляемая вкраплениями полуправды концепция Краткого курса истории партии, представляющая Троцкого в роли лишь «извратителя» военной политики партии. За примером далеко ходить не надо: в 1987 году в 8-м издании биографии Ленина оказалась исключенной единственная позитивная фраза Ленина о Троцком, имевшаяся в предыдущих изданиях, и расширен перечень надуманных «прегрешений» Троцкого. Можно привести примеры и из других статей 1988―1989 годов, в которых деятельность Троцкого в годы гражданской войны рисуется только черной краской. За истиной обратимся снова к документам. 21 марта 1919 года Ленин в речи по военному вопросу на XIII съезде РКП(б) отвел обвинения «военной оппозиции» в извращении Троцким военной политики партии. «Если Вы, — говорил Ленин, — …можете ставить Троцкому обвинение в том, что он не проводит политику ЦК, — это сумасшедшее обвинение. Вы ни тени доводов не приведете. Если Вы это докажете, то ни Троцкий не годится, ни ЦК. Какая же это партийная организация, когда она не может добиться, чтобы проводилась ее политика? Это невероятнейший пустяк».[6] Заметим, что эта замечательная по силе доводов и страстности ленинская речь была опубликована только спустя полвека. О ней в Кратком курсе истории партии — ни слова. Зато о рядовой речи Сталина было сказано, что именно в ней провозглашался курс на строительство регулярной армии. Выступив против «военной оппозиции», Сталин на деле являлся ее закулисным руководителем. «Съезд ударил по Троцкому», — говорится в сталинском Кратком курсе, но в постановлениях съезда ничего подобного нет. Что касается оценок Троцкого в документах ЦК партии, то кроме известного постановления ЦК РКП(б) «О политике военного ведомства» от 25 декабря 1918 года, в котором отметались возводившиеся на Троцкого как главу военного ведомства клеветнические измышления о наделении «непомерными правами» «николаевских контрреволюционеров» и «расстреле без суда лучших товарищей», можно сослаться на постановление Политбюро и Оргбюро ЦК от 5 июля 1919 года по поводу заявления Троцкого об отставке с поста председателя РВСР, в котором говорится: «Твердо убежденные, что отставка т. Троцкого в настоящий момент абсолютно невозможна и была бы величайшим вредом для республики, Орг- и Политбюро настоятельно предлагают тов. Троцкому не возбуждать более этого вопроса…»[7] Постановление было подписано Лениным, Каменевым, Крестинским, Калининым, Серебряковым, Сталиным, Стасовой.«Звездный час» Троцкого — так смело высказался о деятельности Троцкого в годы гражданской войны один историк, правда, уже в дни гласности, когда стало казаться, что у нас остается лишь один цензор — «внутренний». Определение, по-моему, удачное. В самом деле — ни до гражданской, ни после нее у Троцкого не было такого взлета деятельности, в котором бы, как в сплаве, соединились и проявились все черты его незаурядной личности. Троцкий отдался новому делу всецело. Ленин и ЦК не ошиблись в своем выборе в марте восемнадцатого. Что же двигало, вернее, вызывало, можно сказать, исключительную энергию Троцкого в те годы? Г. А. Зив, автор одной из первых книжек о Троцком, находившийся вместе с ним в рядах меньшевиков, считал, что именно в военной области Троцкий нашел наилучшее приложение своим качествам. «Взяв в руки руководство военными делами, — пишет Зив, — Троцкий наконец нащупал свою настоящую профессию, в которой все его таланты и способности могли проявиться и развернуться во всю ширь: неумолимая логика (принявшая форму военной дисциплины), железная решительность и непреклонная воля, не останавливающаяся ни перед какими соображениями гуманности, ненасытное честолюбие и безмерная самоуверенность, специфическое ораторское искусство…»[8] Характеристика эта небесспорна, но в ней, на мой взгляд, верно схвачены побудительные пружины, связанные с характером Троцкого, с его представлением о своей исключительности. Его решительный характер, желание и умение повелевать людьми, склонность к «силовым» методам руководства и другие качества пригодились для того, чтобы противостоять волне децентрализации, партизанщины, митингования, анархизма, то есть всему тому, что мешало созданию регулярной армии, невозможной без строжайшей централизации и железной дисциплины. Найдя себя в военной сфере, Троцкий успел сделать немало. Для его военной деятельности были и другие стимулы, и среди них самый мощный — его, можно сказать, фанатическая приверженность идее мировой пролетарской революции. Он считал, что русская революция, решая национальные задачи, должна стать искрой, детонатором для мирового революционного пожара. Лишь победа международного пролетариата поможет отсталой крестьянской России решить задачу построения социализма. Пролетариат России должен помочь пролетариату и угнетенным народам Европы и Азии сбросить своих эксплуататоров. Реальное средство помощи мировой революции — Красная Армия. И Троцкий вложил весь свой революционный энтузиазм в ее строительство. «Мы утверждаем, — говорил он в марте 1918 года, — что момент социального взрыва во всех государствах неизбежно наступит, и мы, которым история раньше других вручила победу и все вытекающие из нее возможности, при первом раскате мировой революции должны быть готовы принести военную помощь нашим восставшим иностранным братьям».[9] И еще: «Мы должны быть готовы, вооружены, продержаться до этого времени», то есть до того дня, когда европейские рабочие «везде пойдут открыто на борьбу за установление своей власти во всех странах»,[10] — проповедовал Троцкий, призывая мобилизовать все силы для создания вооруженного оплота российской и мировой революции. Кстати, это были не только лозунги. Летом 1919 года Троцкий настойчиво предлагает ЦК РКП(б) срочно сформировать на Урале 30―40-тысячный конный корпус и двинуть его в Азию, чтобы поднять там угнетенные народы, поскольку мировая революция в Европе задержалась. Позднее он предлагает создать для этой же цели военную базу в Туркестане. Предложения не были приняты. Но ясно, что задачу создания многомиллионной образцовой регулярной Красной Армии Троцкий расценивал как первейший интернациональный долг первой Страны Советов.
Ко времени учреждения ВЦИК Реввоенсовета Республики и назначения Троцкого его председателем он, как народный комиссар по военным и морским делам, уже успел сделать немало. Листаем второй том «Декретов Советской власти». Март — август 1918 года. Месяцы, когда в огне начавшейся интервенции и гражданской войны закладывался фундамент Красной Армии. Вот постановление ВЦИК от 22 апреля «Об обязательном обучении граждан военному искусству», ознаменовавшее переход от добровольчества, партизанских отрядов к регулярной армии; далее «Торжественное обязательство» — первая советская военная присяга, начинавшаяся знаменитыми словами: «Я, сын трудового народа…»; постановление V Всероссийского съезда Советов о Красной Армии, законодательно закрепившее принципы ее строительства. Все эти исторические документы, известные по хрестоматиям, написаны народным комиссаром по военным делам Троцким. Главной заботой Троцкого и наркомвоена в этот период были, пожалуй, командные кадры — костяк регулярной армии. В 1918 году образовалось несколько фронтов гражданской войны, они требовали новых и новых войск. Воевать на первых порах приходилось больше числом, чем умением. Поэтому Красная Армия численно должна была расти очень быстро. К маю 1918 года в ней было не более 300 тысяч человек, а к октябрю уже около миллиона. К весне 1919 года должно быть 3 миллиона — ставил задачу Ленин. Сотни разношерстных отрядов превращались в полки и дивизии. Совет Обороны утвердил представленный Главным штабом план одновременного формирования 48 дивизий. Потребовались сразу не сотни и тысячи, а десятки тысяч командиров. Бывших офицеров-большевиков на всю армию насчитывалось едва сотня, да и то это были в основном прапорщики и подпрапорщики. Унтер-офицеры, сочувствующие большевикам, так же как и командовавшие отрядами большевики, не имели нужного опыта. Выход был один — привлечь в Красную Армию бывших офицеров. Выдвинул и обосновал эту смелую идею Ленин, Троцкий стал ее ревностным исполнителем. Ему принадлежит первое обращение Советского правительства к русским офицерам с призывом идти служить в Красную Армию. К концу гражданской войны 76 процентов всего командного и административного аппарата Красной Армии представляли бывшие офицеры царской армии и лишь 13 процентов — выпускники первых советских командных курсов и школ. Разгоралась гражданская война. Приходило немало известий об изменах многих военспецов. Весь преподавательский состав Академии Генерального штаба, эвакуированный из Москвы в Казань, перешел на сторону белых. Даже у Ленина появились колебания на счет привлечения бывших офицеров и генералов на командные должности. В конце августа он запросил мнение Троцкого о предложении Ларина (работника ВСНХ. — Ю. К.) заменить всех бывших офицеров Генштаба коммунистами. 23 августа Троцкий ответил из Свияжска: «Считаю ларинское предложение в корне несостоятельным. Сейчас создаются условия, когда мы в офицерстве произведем суровый отбор: с одной стороны, концентрационные лагеря, а с другой стороны, борьба на Восточном фронте. Катастрофические мероприятия, вроде ларинского, могут быть продиктованы паникой. Те же победы на фронте дадут нам кадры надежных генштабистов… Больше всего вопят против применения офицеров либо люди, панически настроенные, либо стоящие далеко от всей работы военные деятели, которые сами хуже всякого саботажника: не умеют ни за чем присмотреть, сатрапствуют, бездельничают, а когда проваливаются — взваливают вину на генштабистов».[11] Троцкий убедил Ленина. Предложение Ларина осталось без последствий. Но главная «атака» против военспецов и Троцкого последовала из Царицына после того, как туда прибыл Сталин в качестве «общего руководителя продовольственного дела на юге России», наделенного чрезвычайными полномочиями. 10 июля 1918 года Сталин из Царицына телеграфировал Ленину, что «для пользы дела ему необходимы военные полномочия»,[12] предупреждал, что если они не последуют, то он будет «сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит».[13] Разгоревшийся в последующие месяцы конфликт Царицына с центром имел непосредственное отношение к Троцкому, стилю его деятельности, поэтому хочется остановиться на нем подробнее. После переговоров Ленина с Троцким Реввоенсовет Республики облекает Сталина и военными полномочиями. Телеграмма Троцкого в Царицын, имевшая пометку, что она «отправляется по согласованию с Лениным», возлагала на Сталина задачу: «навести порядок, объединить отряды в регулярные части, установить правильное командование, изгнав всех неповинующихся».[14] В телеграммах Ленину Сталин сообщал о налаживании расстроенного военного хозяйства на царицынском участке фронта, ликвидации отрядной неразберихи, установлении железной дисциплины в воинских частях благодаря «своевременному удалению так называемых специалистов».[15] Историкам еще предстоит исследовать и объективно оценить результаты деятельности Сталина как руководителя продовольственного дела на юге и обороны Царицына. Работу он проделал большую, но немало было и ошибок. Например, расстрелы без суда начались раньше всего в Царицыне по указаниям Сталина. Уже тогда Ленину, Свердлову, Троцкому и большинству членов ЦК партии было ясно, что взятая Сталиным, а также Ворошиловым и Мининым линия на изгнание военных специалистов, возврат к коллективному командованию, противопоставление мест центру является ошибочной и вредной. Вначале Троцкий не придавал особого значения сигналам из Царицына, после того когда туда прибыл Сталин. Но когда Сталин самовольно отстранил от должности, оклеветал и арестовал командующего Северо-Кавказским военным округом бывшего генерала, видного ученого А. Е. Снесарева, а затем без каких-либо улик арестовал все артиллерийское и часть штабного управления СКВО, заменил командиров из бывших офицеров унтер-офицерами, Троцкий понял, что надо принимать решительные меры против самоуправства Сталина, грозившего разрушить созданную с огромным трудом систему военного управления. В телеграмме Сталину он требует оставить штаб и комиссариат СКВО на прежних условиях и дать им возможность работать. «Не принимать во внимание»[16] — такова была резолюция Сталина на телеграмме. Игнорированием распоряжений предреввоенсовета он демонстрировал не только независимость от Троцкого, но и неприятие централизации в управлении, без чего регулярная армия, по убеждению Троцкого, была немыслима. Присланная по указанию Троцкого в Царицын комиссия, проверив обвинения в адрес Снесарева и содержащихся в плавучей тюрьме военных специалистов в военном заговоре, не обнаружила никаких улик. Тех, кого не успели расстрелять, Сталину пришлось отпустить, в том числе и Снесарева. В 1930 году Снесарев был снова арестован и без суда подвергнут ссылке. Кажется, Сталин не забывал никого. Троцкому пришлось защищать от «царицынской тройки» и доброе имя бывшего генерала П. П. Сытина, назначенного РВС командующим Южным фронтом. Уже через 3 дня (!) после прибытия Сытина Сталин телеграфирует в Москву, что Сытин не заслуживает доверия, «не может, не желает и не способен защищать Царицын». Недовольство Сталина вызвало нежелание Сытина принять коллективное командование, согласовывать с ними все, даже мелкие оперативные вопросы. Они самовольно смещают Сытина и назначают командующим Южным фронтом Ворошилова. У Троцкого было противоположное мнение о Сытине, который успел хорошо проявить себя в Западной завесе. «Я ценю Сытина как честного, серьезного и способного работника», — отмечал он в одном из разговоров по прямому проводу.[17] Военные специалисты очень ценили уважительное к ним отношение. Коллективное командование осложняло борьбу с Красновым на Южном фронте. 2 октября 1919 года Троцкий предлагает Сталину и Минину от имени РВСР немедленно образовать реввоенсовет Южного фронта «на основе невмешательства комиссаров в оперативные дела».[18] Сталин и Минин игнорировали и этот приказ РВСР, расценив его как «угрожающий развалом всему фронту и гибелью всему революционному делу на юге». Только коллективное командование! Конфликт имел принципиальный характер и настолько обострился, что Троцкому пришлось перенести его в ЦК. Состоявшийся 2 октября пленум ЦК осудил позицию царицынцев, поддержал Реввоенсовет Республики и его председателя. ЦК принял постановление, обязывающее всех партийных товарищей подчиняться решениям, исходящим из центра. Пленум решил: «Вызвать т. Сталина к прямому проводу и указать ему, что подчинение Реввоенсовету абсолютно необходимо».[19] Передавая Сталину по прямому проводу решение ЦК, Я. М. Свердлов подчеркивал, что «без подчинения нет единой армии». «Убедительно предлагаем провести в жизнь решения Реввоенсовета. Случаем, считаете их вредными, неправильными, предлагаем приехать сюда, обсудить совместно, принять надлежащее решение. Никаких конфликтов не должно быть».[20] Но и этот увещевательный тон не оказал нужного воздействия. Зная, что Ленин не присутствовал на пленуме (он находился на лечении в Горках), Сталин и Ворошилов обратились к нему с письмом, в котором опротестовали приказ Троцкого, утверждая, что он «грозит отдать все дела фронта и революции на юге в руки генерала Сытина, человека не только не нужного на фронте, но и не заслуживающего доверия и потому вредного».[21] Это было очередное голословное обвинение против бывшего генерала. Сталин и Ворошилов предлагали «обсудить в ЦК партии вопрос о поведении Троцкого, третирующего виднейших членов партии (они имели в виду себя. — Ю. К.) в угоду предателям из военных специалистов и в ущерб интересам фронта и революции. Поставить вопрос о недопустимости издания Троцким единоличных приказов… Пересмотреть вопрос о военных специалистах из лагеря беспартийных революционеров».[22] Предложение, а точнее, требование Сталина и Ворошилова принято не было. Как видим, и после пленума ЦК Сталин не собирался менять своих позиций. Вскоре в адрес Председателя ВЦИК Свердлова и Предсовнаркома Ленина пришла телеграмма из Тамбова от Троцкого следующего содержания: «Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в 50 тысяч солдат. Тем не менее я оставляю его командующим армией при условии подчинения командующему Южного Сытину… Без координации с Царицыном серьезные действия невозможны». Троцкий грозил, что, если царицынцы не будут выполнять его распоряжений, он отдаст под суд Ворошилова и Минина и объявит об этом в приказе по армии. «У нас, — писал Троцкий, — колоссальное превосходство сил, но полная анархия на верхах. С этим можно совладать в 24 часа при условии вашей твердой и решительной поддержки. Во всяком случае, это единственный путь, который я вижу для себя».[23] Владимир Ильич был очень озабочен положением с Царицыном. «Ленин, — писал позднее Троцкий, — лучше меня знал Сталина и подозревал, очевидно, что упорство царицынцев объясняется закулисным режиссерством Сталина». Ленин хотел смягчить конфликт. Он согласился на предложение Свердлова вызвать Сталина в Москву для переговоров, надеясь на компромисс. Состоялась встреча Сталина со Свердловым и Лениным. «Ильич взбешен» — так передавал реакцию Ленина Сталин в разговоре по прямому проводу с Ворошиловым. Не получив поддержки, Сталин подал заявление об уходе с постов члена Реввоенсовета Южного фронта и РВСР. Вскоре Сталин пожалел, что в сердцах сделал этот шаг. Желая остаться на военной работе, он стал искать примирения с Троцким, хотя бы ценой «временной и неискренней капитуляции», как отмечал Троцкий позднее. 19 октября Сталин снова выехал в Москву и имел беседу с Лениным, после чего Троцкий получил телеграмму от Ленина. В ней сообщалось о желании Сталина продолжать работу на Южном фронте, готовности Ворошилова и Минина, выполняя просьбу Сталина, «оказать полное подчинение приказам центра», о снятии Сталиным ультиматума об удалении Сытина и Мехоношина, о его желании быть членом Реввоенсовета Республики. «Сообщая Вам, Лев Давидович, обо всех этих заявлениях Сталина, я прошу Вас обдумать их и ответить, во-первых, согласны ли Вы объясниться лично со Сталиным, для чего он согласен приехать, а во-вторых, считаете ли Вы возможным, на известных конкретных условиях, устранить прежние трения и наладить совместную работу, чего так желает Сталин. Что же касается меня, то я полагаю, что необходимо приложить все усилия для налаживания совместной работы со Сталиным».[24] Однако, несмотря на усилия Ленина и Свердлова, «совместной работы» Сталина и Троцкого не получилось. Разногласия и растущая неприязнь зашли слишком далеко. После одной из встреч с Троцким Сталин, Минин и Ворошилов телеграфировали во ВЦИК и в ЦК партии: «Разговор с Троцким был очень краток, намеренно оскорбителен, по логическому содержанию — непонятен. Разговор был оборван Троцким…»[25] Документы говорят: если царицынские руководители позволяли себе грубую и нередко голословную критику Троцкого, неподчинение, то и последний допускал по отношению к ним высокомерие, нелояльность, грубые и оскорбительные разносы — черты, которые нередко проявлялись у Троцкого в отношениях с видными военно-политическими работниками. Пожалуй, никто благодаря своему характеру и неизменной требовательности не нажил себе столько врагов, сколько Троцкий. Но Троцкий, в отличие от Сталина, был более способен на объективный подход к работникам, мог преодолевать личную неприязнь. Побывав в Царицыне и изучив на месте состояние 10-й армии, он приходит к выводу о нецелесообразности замены Ворошилова другим лицом «как добросовестного и инициативного работника» при условии строгого подчинения его Сытину. Сообщая об этом Ленину и Свердлову, Троцкий отмечал: «У Ворошилова довольно твердая рука, нужно только ввести его самого в рамки определенного режима и дать компетентных помощников».[26] И все же в царицынском конфликте в принципиальном отношении прав был Троцкий, неукоснительно проводивший в жизнь ленинский курс на регулярную армию с военными специалистами, на единоначалие в вопросах стратегии. Отозванием Сталина в Москву и отправкой Ворошилова с большой группой царицынских работников на Украину конфликт был ликвидирован, но разногласия и неприязнь остались. Ворошилов, занявшись на Украине созданием Украинской армии, пользуясь поддержкой Сталина, снова проявил партизанские замашки. Троцкому опять пришлось призывать его к порядку. 10 января 1919 года Троцкий телеграфировал Свердлову со станции Грязи: «Заявляю в категорической форме, что царицынская линия, приведшая к полному распаду царицынской армии, на Украине допущена быть не может… Линия Сталина — Ворошилова и К° означает гибель всего дела». Троцкий в разговоре с Лениным по прямому проводу заявлял: «Я считаю покровительство Сталина царицынскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов». Вряд ли Ленин подписался бы под такой телеграммой, она грешила крайностями. Но в своих выступлениях Ленин неизменно поддерживал общую линию Троцкого, а на VIII съезде партии подверг резкой критике Ворошилова, зная, что его взгляды разделял Сталин и некоторые видные военные работники. Заметим, что последующая многолетняя ожесточенная борьба Сталина и Троцкого имеет началом Царицын. Здесь Троцкий проявил твердость и решительность своего характера невзирая на авторитеты. Жизнь показывала верность ленинской военной политики, которую Троцкий проводил в жизнь, хотя и не всегда правильными методами. Победы на Восточном фронте регулярных частей и соединений Красной Армии, большинством которых командовали бывшие офицеры, заставляли многих противников военспецов менять свои позиции. У Ленина и Троцкого в этом вопросе множились сторонники, хотя влиятельных противников оставалось немало. Этот важный вопрос военной политики партии с конца 1918 года вызывал жаркие споры, в которых Троцкому, пожалуй, доставалось больше всех. Именно с тех пор его обвиняют в том, что он, якобы «слепо доверяя военным специалистам», освобождал их от партийного контроля, назначал на военные посты чуть ли не заведомых изменников и т. п. Доказательствами служили факты измен тех бывших офицеров и генералов, назначение которых было связано с именем председателя Реввоенсовета. Вот что по этому поводу говорил сам Троцкий: «У нас ссылаются нередко на измены и перебеги лиц командного состава в неприятельский лагерь. Таких перебегов было немало, главным образом со стороны офицеров, занимавших более видные посты. Но у нас редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава… И если спросить, что причиняло нам до сих пор больше вреда: измена бывших кадровых офицеров или неподготовленность многих новых командиров, то я лично затруднился бы дать на это ответ».[27] Ответ находим у В. И. Ленина в знаменитом письме «Все на борьбу с Деникиным»: «Нам изменяют и будут изменять сотни и сотни военспецов, мы будем их вылавливать и расстреливать, но у нас работают систематически и подолгу тысячи и десятки тысяч военспецов, без коих не могла бы создаться Красная Армия…»[28] В отстаивании и обосновании линии на использование военных специалистов трудно переоценить заслугу В. И. Ленина. Но в этом деле велика роль и Л. Д. Троцкого. Здесь и взятие на себя как главы военного ведомства всей полноты ответственности за назначение на высшие командные посты бывших генералов и полковников старой армии, и принудительный призыв в Красную Армию десятков тысяч офицеров, и противостояние мнимо-радикальным левацким взглядам, и разоблачение клеветнических выпадов. Известно, какую острую борьбу по вопросу о привлечении специалистов В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому пришлось вести внутри партии с левыми коммунистами, затем с военной оппозицией и вне партии — с левыми эсерами. О накале этой борьбы, наряду с ленинскими документами, говорят десятки речей и статей Троцкого. Одна из лучших — ответ Троцкого на статьи в «Правде» В. Г. Сорина и Я. З. Каменского, доказывавших, что Красная Армия не только может, но и должна обходиться без военных специалистов. «Нам часто указывали, — иронизировал Каменский, — что ведение войны — это такая тонкая штука, что без военных специалистов мы обойтись никак не можем». Однако, говорилось далее, большевики взяли на себя смелость руководить «более тонкой штукой» — созданным Октябрьской революцией государством. Каменский ставил в пример 10-ю армию, где он работал в реввоенсовете. Эта, по его мнению, образцовая армия была построена из партизанских отрядов без военных специалистов под руководством «заслуженного партийного товарища» Ворошилова, «не знавшего ранее военной службы». Отсюда Каменский делал вывод, что нужно лишь просто быть хорошим коммунистом, а все остальное приложится. Военных специалистов можно использовать для обучения военному делу только в тылу, «но посылать их командовать на фронт — это все равно что поставить охранять овец от бурого медведя и серого волка». Ошибки наших доморощенных командиров, писал он, «менее принесут вреда, чем злостная хитрая механика николаевских военных специалистов».[29] Троцкий отвечал: переименование отрядов в полки и бригады не сделало их регулярными формированиями, партизанщина осталась. А Ленин на VIII съезде партии сказал, что неоправданные потери 10-й армии под Царицыном объяснялись прежде всего тем, что воевали без военных специалистов. «Я не сомневаюсь, — писал Троцкий, — что некоторые наши товарищи — коммунисты — превосходные организаторы, но чтобы научить этих организаторов в большом количестве, нужны годы и годы, а нам ждать „некогда“. Если нам ждать некогда в хозяйственной области, то тем более нам „некогда в военном отношении“».[30] Приведя слова Ленина о необходимости использовать в широких размерах оставленных капитализмом специалистов, он писал: «Это совсем непохоже, как видите, на тяпкин-ляпкинскую готовность справиться со всякой „штукой“ без специалистов».[31] В последнее время в публицистике Троцкому кроме старых беспочвенных обвинений в «потакании» бывшим генералам и офицерам стали предъявляться обвинения в массовых расстрелах офицеров-заложников без суда. Никаких документов, подтверждающих эту версию, в архивах я не нашел. Но нашел приказ наркомвоена Троцкого от 4 июня 1918 года, в котором он грозил заключением в концентрационные лагеря тем солдатам из восставшего Чехословацкого корпуса, которые откажутся сдать оружие *. Официально институт заложников был введен 5 сентября 1918 года приказом наркома внутренних дел Г. И. Петровского и вошел в систему массового красного террора. Приказом председателя РВСР он был распространен на офицеров и членов семей военспецов, перебежавших к белым. Известно, что к октябрю 1918 года в местах заключения скопилось не менее 8 тысяч офицеров-заложников, арестованных после объявления красного террора. Тот же Троцкий поставил вопрос о снятии с них огульных обвинений и привлечении на службу в Красную Армию. 13 октября 1918 года в телеграмме с Южного фронта Ленину, Дзержинскому, Свердлову и Склянскому он предлагает освободить из-под ареста всех офицеров, против которых нет серьезных обвинений; а всех желающих служить в Красной Армии и Красном Флоте направить в его распоряжение: «Таким путем мы разгрузим тюрьмы и получим военных специалистов, в которых большая нужда».[32] 17 октября вопрос о судьбе офицеров, арестованных в качестве заложников, обсуждался на пленуме ЦК РКП(б). В протоколе записано: «5. Предложение Троцкого: освободить из-под ареста всех офицеров, взятых в качестве заложников. Постановили: Предложение Троцкого принимается с указанием, что освобождению подлежат лишь те офицеры, в отношении которых не будет обнаружена принадлежность к контрреволюционному движению. Они принимаются в Красную Армию, причем должны представить список своих семейств, и им указывается, что семья их будет арестована в случае перехода к белогвардейцам».[33] Уважительное отношение к военным специалистам не мешало Троцкому быть беспощадным к тем из них, которые, по его мнению, были причастны к измене. Два факта. В конце мая 1918 года по приказу Троцкого был арестован командующий Балтийским флотом контр-адмирал А. М. Щастный, которого Троцкий обвинил в контрреволюционной деятельности. В марте 1918 года под его руководством был осуществлен знаменитый «ледовый переход» Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Выступив обвинителем на заседании Верховного революционного трибунала, Троцкий добился смертного приговора для Щастного, хотя прямых улик для обвинения в измене не имелось. Это был случай, когда «революционная целесообразность» заменила элементарную законность. Процесс над Щастным должен был показать, что впредь Советская власть будет сурово карать контрреволюционные поползновения. Факт второй связан с трагической судьбой бывшего войскового старшины Ф. К. Миронова — выборного командира 32-го Донского казачьего полка, а затем — видного советского военачальника. В конце августа 1919 года Миронов с частями недоформированного Донского казачьего корпуса самовольно выступил из Саранска на фронт, объявив, что он выступает «на жестокую борьбу с Деникиным и буржуазией». Оправдать это самовольное выступление вопреки запрещению реввоенсовета Южного фронта никакими мотивами нельзя. Но нельзя оправдать и действия Троцкого, который скоропалительно объявил Миронова как «предателя и изменника» вне закона и в приказе Реввоенсовета о предании Миронова и его сторонников суду Чрезвычайного трибунала еще до расследования обстоятельств выступления Миронова из Саранска дал формулу обвинения: «Контрреволюционное восстание против Советской власти». Обвинение это он повторил в статье «Полковник Миронов» и в своих выступлениях. Преждевременные оценки председателя Реввоенсовета вошли в официальные документы того времени. Следствие не подтвердило связей Миронова с Деникиным и Мамонтовым (что утверждал Троцкий на основании поступивших к нему донесений). Наоборот, по пути на фронт он призывал бойцов на борьбу против Деникина. Ход процесса показал голословность сформулированных Троцким обвинений, тем не менее Миронову и десяти командирам корпуса был вынесен смертный приговор, в чем сказалось давление Троцкого, который этим процессом хотел показать «всем колеблющимся казакам, что борьба красных и белых… есть борьба не на жизнь, а на смерть» и что в этой борьбе Советская власть никому не позволит «заводить авантюры».[34] Но следует сказать, что Троцкий был в числе тех, которые ходатайствовали перед ВЦИК о помиловании всех осужденных, и, более того, предложил ЦК партии дать Миронову «командное назначение на Юго-Восточный фронт».[35] Троцкий был скор на оценки и на суд, но способен был исправлять свои ошибки. Проблема военных специалистов, в разрешении которой Троцкий как председатель РВС внес немалый вклад, не была, конечно, самодовлеющей. Она была ключом для решения сложнейшей задачи превращения отрядной, во многом партизанской Красной Армии в армию регулярную. Только решив ее, можно было тягаться с регулярными войсками интервентов и белых генералов. «Период случайных формирований отрядов, кустарного строительства, — писал Троцкий в проекте постановления V съезда Советов, — должен быть оставлен позади. Все формирования должны производиться в полном соответствии с утвержденными штабами и согласно разверстке Всероссийского главного штаба».[36] Чтобы понять остроту и неотложность этой задачи, надо вспомнить лето 1918 года. После германского нашествия Советская республика оказалась вновь перед смертельной опасностью. Интервенты заняли Мурманск и Архангельск, рвались к центру страны. На востоке белочехи и белогвардейцы захватили Поволжье. Пали Казань и Симбирск, под угрозой оказались центральные районы страны. С юга казаки Краснова осаждали Царицын. Советский Северный Кавказ отрезала Добровольческая армия генерала Алексеева. Контрреволюционные восстания охватили города Средней Азии. В центре страны вспыхивали мятежи, руководимые кулаками и белогвардейцами. «…Вся буржуазия, — говорил Ленин, — прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть».[37] Войска Красной Армии терпели поражения из-за неорганизованности, неумелости, партизанщины. Ленин бьет в набат. «У нас один выход: победа или смерть!»[38] — говорит он рабочим завода Михельсона за несколько минут до злодейского выстрела в него эсерки-террористки Фани Каплан. Главная опасность грозила с востока. Белочехи и белогвардейцы, быстро захватив Поволжье, рвались глубже в центр страны. Слабо организованные советские войска терпели поражение за поражением. После потери Казани Ленин дает директиву «всячески усилить Восточный фронт».[39] ЦК направляет на Восточный фронт Троцкого, группу видных работников партии. Здесь, в Поволжье, из разрозненных отрядов и частей развернулось формирование полевых армий — первых оперативных объединений Красной Армии. Троцкий подбирает на должности командующих опытных военных специалистов. ЦК назначает членами реввоенсоветов армий закаленных коммунистов. В ходе непрекращающихся оборонительных боев создаются полки, дивизии, появляются названия — 1,2,3, 4 и 5-я армии. Троцкий объявляет беспощадную борьбу паникерам, дезертирам, дезорганизаторам. В суровом приказе наркомвоенмора и председателя ВВС, изданном в конце августа в Свияжске, ответственность за панику и дезертирство возлагалась прежде всего на командира и комиссара части. «Если они (солдаты. — Ю. К.) отступают или худо сражаются, то виноваты командиры или комиссары. Предупреждаю: если какая-нибудь часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир, мужественные, храбрые солдаты будут награждены по заслугам и поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом всей Красной Армии».[40] Таков был стиль приказов Троцкого в то грозное время. В дни, когда нужно было во что бы то ни стало добиться перелома на фронте, выдвижение Троцким на первый план «драконовских» мер было оправдано. Они помогли удержать фронт, отбить яростные попытки врага прорваться в центр страны. Психологический перелом переродил войска. Началось контрнаступление. Удалось вернуть Казань, Симбирск и Самару, противник отступил от Волги за Урал. Вклад Троцкого в укрепление Восточного фронта неоспорим. Но сам Троцкий, пожалуй, был склонен несколько преувеличивать свои заслуги. Главным условием перелома, и это подчеркивал Ленин, была мобилизация на Восточный фронт коммунистов, передовых рабочих Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска. Они показали пример мужества и стойкости, действуя в качестве комиссаров, командиров, рядовых красноармейцев. Эта героическая работа лучших людей партии и рабочего класса в литературе показана слабо. Между тем без нее Восточный фронт не смог бы стать образцовым фронтом Республики осенью 1918 года. Красная Армия превращалась в силу, способную сокрушать врага.
К исходу лета 1918 года образовались три обширных фронта гражданской войны. Становилось ясно, что Высший военный совет, созданный в целях организации обороны от внешнего врага, изжил себя. Для общего руководства вооруженными силами в ожесточенной гражданской войне нужен был авторитетный прежде всего для партии орган, составленный из видных военных работников. Таким органом и стал Революционный военный совет Республики. Троцкий считал необходимым объединение в одном органе руководства вооруженной борьбой, которое не могли между собой поделить штаб ВВС и оперативный отдел Наркомвоена. Но загвоздка была не только в раздвоении. Высший военный совет не смог стать авторитетным органом высшего военного руководства. Бывшие генералы, вложившие свою энергию в организацию завесы против Германии, довольно туманно представляли себе внутреннюю военно-политическую обстановку и не могли предложить какого-либо плана военных действий. Здесь они чувствовали себя больше консультантами, чем военными руководителями. Члены ВВС из видных военно-политических работников — Н. И. Подвойский, К. А. Мехоношин, В. А. Антонов-Овсеенко — находились на фронтах или, как Склянский, до предела были заняты оргработой в Наркомвоене. Троцкого, как политика, деятельность ВВС привлекала мало, как председатель он редко присутствовал на его заседаниях, лишь подписывал приказы. Все внимание Троцкого было устремлено на восток и юг, которыми ВВС занимался меньше всего, поскольку это были фронты гражданской войны. Сам военный руководитель ВВС М. Д. Бонч-Бруевич попросился в отставку, указав в рапорте, что фронтами должны распоряжаться «не плохо осведомленные, привлеченные больше для консультации, нежели для управления, военспецы», а люди, «облеченные полным доверием правительства и пользующиеся авторитетом в Красной Армии».[41] Троцкий пытался удержать Бонч-Бруевича как специалиста, но последний настоял на уходе с поста военного руководителя ВВС. В. И. Ленину в ЦК поступали разные предложения и проекты от руководящих военных работников, но все они сводились к одному: нужен единый и авторитетный высший орган руководства всеми вооруженными силами. Результатом обсуждения этого вопроса под руководством Ленина в ЦК и стало создание Реввоенсовета Республики как высшего коллективного руководства всеми фронтами и военными учреждениями Республики. На сей раз Троцкий не отказывался от высшего военного поста. Теперь в его руках — огромная власть. Положение о РВСР, написанное им и принятое ВЦИК, гласило: в распоряжение высшего военного органа для нужд обороны предоставляются «все силы и средства народа»; ему подчинены и работают по его заданиям все военные учреждения, а остальные — удовлетворяют его требования в первую очередь.[42] Если Реввоенсовет Республики в годы гражданской войны в основном справился с возложенными на него огромными задачами, то в этом не последнюю роль сыграл его председатель. Раньше историку в освещении деятельности Реввоенсовета можно было занять на выбор лишь две позиции: «разоблачать» или принять фигуру умолчания, сделав вид, будто такого органа и не существовало. Но и второе было рискованно — умолчание ведь тоже позиция. Поэтому историки, пользуясь отдельными местами из военной переписки Ленина, представляли дело так, как будто Ленин без конца ругал и понукал Реввоенсовет и его председателя. Но вот перед нами небольшая книга. Называется «В. И. Ленин. Военная переписка. 1917―1922». Последнее издание — 1987 года.[43] Точнее было бы ее назвать «Из военной переписки…», потому что многих документов из ленинского фонда в ней нет. Но и то, что опубликовано, позволяет определить, к кому чаще всего Ленин обращался по военным вопросам. Раньше мы бы сказали и написали — к Сталину, потому что публиковалась переписка преимущественно с ним. А вот что дают современные подсчеты: около 90 обращений — к Троцкому, 64 — к его заместителю по Реввоенсовету Склянскому и 62 — к Сталину. Затем — к Смилге, и далее по нисходящей. Подсчеты неполные, но число обращений и их характер рассеивают созданное в историографии представление. Если к ним присоединить сотни неопубликованных ленинских надписей, поручений, резолюций, отзывов, то складывается твердый вывод: В. И. Ленин вполне доверял руководству Реввоенсовета в лице Троцкого и Склянского, поддерживал их мероприятия, опирался на Троцкого в проведении политики ЦК и своих указаний. А что касается критики, то это была критика деловая, справедливая. В те годы суровая критика непременно присутствовала в стиле руководства. Начиная с 1924 года стиль руководства Троцкого Реввоенсоветом стал задним числом подвергаться разносной критике. В ней было много субъективного, привнесенного острой борьбой внутрипартийной и борьбой за власть, но вскрывались и действительные недостатки Троцкого в методах руководства. Характер у председателя Реввоенсовета был колючий, взрывной, резкий. Троцкий мало заботился о поддержании товарищеских отношений. Главным и решающим для него было дело. Быстро привык к директивному тону, требовал четкости и ответственности от работников невзирая на ранги. Такой «администраторский» тон импонировал многим военспецам, привыкшим к дисциплине и субординации. Но он нередко болезненно воспринимался военно-политическими работниками. Ведь почти все они были связаны узами и традициями многолетней подпольной работы, партизанской борьбы, трудно привыкали к чисто воинской дисциплине и порядку подчиненности, чего требовал Троцкий. В Троцком они видели «чужака» в партии, знали о его «небольшевизме». Все это вызывало к нему настороженное и даже неприязненное отношение. Троцкий, будучи сам подтянутым человеком, не терпел расхлябанности, панибратства,своеволия. А подобных партизанских замашек у командиров и комиссаров сохранилось еще немало. На этой почве у него нередко не налаживались отношения и даже возникали столкновения с видными партийцами на уровне фронтов и армий, не всегда и не сразу устанавливались контакты с коммунистами-фронтовиками, хотя на солдатские массы на фронте он мог воздействовать, пожалуй, как никто. Позднее, в «Письме к съезду», Ленин напишет о чрезмерной самоуверенности Троцкого и увлечении «чисто административной стороной дела».[44] Склонность Троцкого к администрированию Ленин отмечал и в дни дискуссии о профсоюзах, видя ее причины в стиле прошлой военной работы. Думается, что с этими качествами связаны и успехи и промахи Троцкого в военной работе, которые Ленину и Центральному Комитету иногда приходилось поправлять. За годы гражданской войны документы таких случаев отмечают немного. Первый связан с критикой в адрес Троцкого и Реввоенсовета, с которой на заседаниях военной секции VIII съезда партии выступили К. Е. Ворошилов, Ф. И. Голощекин и другие делегаты. На первом пленуме избранного на VIII съезде ЦК РКП(б) 25 марта 1919 года Г. Е. Зиновьев, докладывая о работе военной секции съезда, сделал вывод, что обсуждение военного вопроса «служит серьезным предупреждением» и что Ленину «необходимо переговорить с Троцким о его взаимоотношениях с коммунистами-фронтовиками».[45] По предложению Ленина пленум решил, поскольку Троцкий не был на съезде, обратиться к нему в письменной форме: направить заявление Зиновьева, закрытую резолюцию съезда по военному вопросу и резолюцию Политбюро. Резолюция Политбюро была подписана его членами 26 марта и направлена Троцкому. В ней говорилось: «Указать Л. Д. Троцкому на необходимость как можно более внимательного отношения к работникам-коммунистам на фронте, без полной товарищеской солидарности с которыми невозможно проведение политики ЦК в военном деле».[46] Ленин настаивал, чтобы все это было сообщено Троцкому в максимально тактичной форме. Троцкий изучил присланные материалы и ответил пространной объяснительной запиской, написанной в спокойном тоне. Признав целесообразность ряда выработанных военной секцией мер, он заявил, что товарищеские отношения нужны, но ими нельзя заменить официальных уставных отношений, принятых в регулярной армии. Зиновьев ратовал за «разъяснение и убеждение», считая их основой отношений в социалистической армии, Троцкий — за установление «самого твердого и во многих случаях сурового режима». Он писал: «Путь от приказа до исполнения в наших условиях — в высшей степени долгий и мучительный путь. Тут должна быть установлена строго формальная дисциплина… она не допускает никаких дискуссий, обсуждений, уговоров и не принимает во внимание никаких смягчающих обстоятельств».[47] Думаю, что в данном случае Троцкий в своем объяснении был прав. Если смотреть на данный вопрос шире, то можно сказать: истина была где-то посредине. Ее сформулировал Ленин: «Сначала убедить, потом принудить».[48] Но Ленин поддерживал линию Троцкого на установление в армии железной дисциплины, даже крайними средствами. Как огня, писал он, нужно бояться партизанства, расхлябанности, своеволия, требовал строго карать всех, кто нарушает законы о Красной Армии и ее уставы.[49] Представление о стиле руководства Троцкого фронтами у читателя часто складывалось из негативных, а иногда и карикатурных характеристик «поезда председателя Реввоенсовета», которые появлялись в литературе второй половины 20-х годов. В одной из современных публикаций Троцкому ставится в вину, что он «фактически всю гражданскую войну провел в своем специальном поезде», из-за чего вся тяжесть повседневной организаторской работы в Реввоенсовете легла на плечи заместителя, Э. М. Склянского. Слов нет, были изъяны в таком своеобразном способе руководства. Бывало и так, что поезд вносил разнобой в оперативное руководство, поскольку о своих распоряжениях и действиях председатель Реввоенсовета не всегда и не сразу ставил в известность командование и реввоенсоветы фронтов и армий. По словам К. X. Данишевского, члена РВС Восточного фронта, прибытие поезда иногда выглядело партизанским наскоком на тот или другой боевой участок, хотя сам Троцкий беспощадно боролся с партизанщиной. Однако при объективном изучении создается убеждение, что в поезде Троцкого было больше плюсов, чем минусов. Благодаря постоянному нахождению на фронтах председатель Реввоенсовета досконально знал обстановку и положение в войсках. Ленин это ценил, нередко именно у Троцкого он запрашивал сводки о положении на фронтах. Мне встретилась лишь одна сердитая резолюция Ленина, связанная с поездом Троцкого: «Запретите эту игру в телеграммы», когда Ленину доложили, что о начале очередного маршрута поезда Троцкого каждый раз даются телеграммы сразу в 100 адресов.[50] Представим себе укрепленный броней поезд с двумя паровозами, оборудованный платформами с легкой пушкой и двумя пулеметами, с автомобилями, цистерной бензина, своей электростанцией, телеграфом, радио, типографией, выпускавшей листовки и газету «В пути», небольшим вещевым складом для снабжения совсем раздетых армейских частей… и даже баней. Группа коммунистов, около сотни отборных бойцов, секретариат из 5―6 человек — все это создавало возможности оперативного руководства и помощи войскам, особенно там, где создавалась критическая обстановка. Поезд не раз был в опасных переделках и выходил из них с честью. За участие в боях под Свияжском на Южном фронте (август 1918 г.), в боях против Юденича (октябрь 1919 г.) поезд председателя Реввоенсовета был награжден орденом Красного Знамени. В 1918―1920 годах он совершил 36 рейсов, составивших около 100 тысяч верст. Стиль руководства и степень влияния Троцкого нельзя представить без его ораторского таланта. Чтобы оценить Троцкого как трибуна, надо представить значение живого, страстного слова руководителя, комиссара, коммуниста в дни гражданской войны, слова, поднимавшего на смертный бой беспредельно уставших бойцов, менявшего настроение дезертиров и паникеров, зажигавшего массы людей. Таким, по отзывам многих, было слово Троцкого. Выдающийся оратор своего времени А. В. Луначарский считал, что рядом с Троцким-трибуном можно поставить только Жана Жореса. «Эффектная наружность, красивая, широкая жестикуляция, могучий ритм речи, громкий, совершенно не устающий голос, замечательная складность, литературные фразы, богатство образов, парящий пафос, совершенно исключительная, поистине железная по своей ясности логика, — писал Луначарский, — вот достоинство речи Троцкого».[51] Когда Ленин телеграфировал Троцкому о необходимости поездки на тот или иной участок фронта, он учитывал его способность не только энергично наводить порядок, но и воздействовать силой своего слова. В августе 1918 года заколебались наши части на Саратовском участке фронта. Троцкий получает в Свияжске шифровку от Ленина и Свердлова: «Мы считаем абсолютно необходимой Вашу поездку туда, ибо Ваше появление на фронте производит действие на солдат и всю армию. Сговоримся о посещении других фронтов».[52]
Историки еще только приступают к объективному изучению роли Троцкого как председателя РВСР на фронтах гражданской войны, его влияния на выработку стратегии Красной Армии в важнейших военных кампаниях. Фальсификации в этой области, пущенные в свое время в ход Сталиным и Ворошиловым, все еще имеют хождение. Краткий курс истории партии возлагал на Троцкого вину за поражение Красной Армии на Восточном, Южном и Западном фронтах. Например, в Кратком курсе истории партии говорилось, что летом 1919 года именно Троцкий «развалил работу на Южном фронте и наши войска терпели поражение за поражением».[53] Стремясь придать правдоподобие своим версиям, Сталин и Ворошилов утверждали, например, что ЦК партии в 1919 году принимал специальные решения, запрещавшие Троцкому вмешиваться в дела Восточного и Южного фронтов. Так, в 1929 году Ворошилов писал (вернее сказать, кто-то писал, а он опубликовал под своим именем), что Сталин, посланный ЦК на Южный фронт «для спасения положения», потребовал, чтобы Троцкий не вмешивался больше в дела Южного фронта. «Теперь уже нет надобности скрывать, что перед своим назначением товарищ Сталин поставил перед ЦК три главных условия: 1) Троцкий не должен вмешиваться в дела Южного фронта и не должен переходить за его разграничительные линии; 2) с Южного фронта должны быть немедленно отозваны целый ряд работников, которых товарищ Сталин считал непригодными восстановить положение в войсках, и 3) на Южный фронт должны быть немедленно командированы новые работники по выбору Сталина, которые эту задачу могли выполнить. Эти условия были приняты полностью».[54] «Потребовать» Сталин, конечно, мог, но ЦК, судя по протоколам, нередко требования Сталина находил необоснованными. В протоколах пленумов и Политбюро ЦК РКП(б) нет и намеков на те пункты, которые выдал за решение ЦК Ворошилов. Да и мог ли ЦК отстранить Троцкого как председателя РВСР, которому Ленин и ЦК доверяли, от руководства решающим фронтом? О том, что Троцкий занимался делами Южного фронта, свидетельствуют документы военной переписки Ленина.[55] Одно свидетельство хочется привести. В постановлении Политбюро и Оргбюро ЦК от 5 июля 1919 года есть такой пункт: «Оргбюро и Политбюро сделают все от них зависящее, чтобы сделать наиболее удобной для Троцкого ту работу на Южном фронте, в самом трудном, самом опасном и самом важном в настоящее время, которую избрал сам т. Троцкий. В своих званиях наркомвоена и предреввоенсовета т. Троцкий может вполне действовать и как член РВС Южного фронта с тем комфронтом (Егорьев), которого он сам наметил, а ЦК утвердил».[56] Но это не означает, что у Троцкого и руководимого им Реввоенсовета не было серьезных упущений в руководстве операциями на Южном фронте. Известны очень сердитая записка Ленина Склянскому (конец августа 1919 г.), еще более суровая телеграмма члену РВСР Гусеву (16 сентября 1919 г.) с резкой критикой Реввоенсовета за плохое руководство операциями на юге, телеграмма Троцкому, Серебрякову, Лашевичу о невыполнении указаний ЦК в отношении командующего группой войск фронта В. И. Селивачева и др. Но телеграмм с критикой действий Троцкого немного. Что же касается разногласий с Лениным, с ЦК по вопросам стратегии, то Троцкий сам писал о них в своей автобиографической книге. Собственно говоря, разработкой стратегических планов и директив Троцкий не занимался, это была прерогатива Главного командования. Речь идет о его отношении к той или иной стратегической директиве. Заседание пленума ЦК 15 июня 1919 года было весьма бурным. Обсуждалась записка Реввоенсовета Восточного фронта об ошибочности отданной главкомом И. И. Вацетисом директивы, поддержанной председателем Реввоенсовета Троцким, о приостановке наступления на Восточном фронте с целью переброски части войск на юг против Деникина. ЦК постановил: усилить Южный фронт, но не останавливать наступления против Колчака. Троцкий возражал, однако позднее признал правильность позиции ЦК и Ленина.[57] В августе — сентябре 1919 года у Троцкого с новым главкомом С. С. Каменевым имели место разногласия о способах ведения операций на Южном фронте. Вместе с командующим Южным фронтом В. Е. Егорьевым и членом РВС фронта Г. Е. Сокольниковым Троцкий выступил против уже одобренного ранее ЦК плана главкома С. С. Каменева, предусматривавшего нанесение главного удара по Деникину из района Царицына, где находилась тогда основная группировка советских войск, на Дон и Кубань. Троцкий считал наиболее правильным план контрнаступления на Деникина через Харьков и Донбасс, предложенный еще в конце июня прежним главкомом И. И. Вацетисом. И тот и другой планы имели свои плюсы и минусы. Пленум ЦК, обсудив оба плана, оставил в силе план с главным ударом на Дон и Кубань. Однако перемены в военной обстановке на юге страны заставили ЦК партии в середине октября фактически отменить старый план и сосредоточить усилия для того, чтобы отразить наступление Деникина на Орел, Тулу и Москву и перейти в контрнаступление на Курск, Харьков и Донбасс, то есть фактически был реализован прежний план Вацетиса — Троцкого. Краткий курс истории партии, фальсифицируя события, приписал план удара от Царицына на Новороссийск командованию Южного фронта и Троцкому. В Краткой биографии И. В. Сталина этот план назван даже «преступным», несмотря на то что он был официально принят Главным командованием и ЦК партии. Новый план разгрома Деникина приписывался Сталину, хотя, как уже говорилось, он был выдвинут Вацетисом и поддержан Троцким. Разногласия были и в первый период советско-польской войны. Троцкий занял более осторожную позицию в вопросе развертывания Красной Армией широких наступательных действий, считая, что нужно держать курс на прекращение войны, поскольку польские рабочие и крестьяне не готовы к революции.[58] Но подчинился большинству ЦК и позднее издал приказ с призывом стремительного броска на Варшаву. Разногласия в области военной стратегии нередко становились предметом жарких споров в ЦК. Бывало, что ЦК принимал решение вопреки мнению Троцкого. Но это не были принципиальные разногласия, да их вряд ли можно было избежать в условиях, когда враги наступали со всех сторон и надо было вовремя определить основную опасность, направление главного удара и распределить резервы. «На то мы все люди»,[59] — говорил Ленин по этому поводу на VIII съезде партии, упоминая о наличии разногласий.
Пожалуй, стоит остановиться еще на одном вопросе. Бытуют версии, что Троцкий жестоко расправлялся с неугодными ему лицами, расстреливал «без суда и следствия», в том числе и коммунистов-фронтовиков. Об этом можно прочесть и в современной публицистике, и в художественной литературе. Что же по этому поводу говорят документы? А документы свидетельствуют, что еще в декабре 1918 года ЦК РКП(б) в специальном постановлении «О политике военного ведомства» дал самую суровую отповедь тем, кто распространял сведения «о расстреле без суда и следствия лучших товарищей» (приписывалось это без указания фамилии Троцкому), квалифицировав их как «ложные слухи и прямые клеветнические измышления». Расстрелы были трусов и дезертиров с поля боя. ЦК РКП(б) в постановлении об укреплении Южного фронта требовал применения такой меры, если по-иному навести порядок нельзя. Первый случай массового расстрела имел место 29 августа 1918 года под Свияжском по приговору военно-полевого суда 5-й армии, проведенного по указанию Троцкого. Расстреляно было 20 человек, впервые был применен принцип так называемой децимации, то есть казни каждого десятого, введенной еще в армии древних римлян. Эта трагедия случилась с необстрелянным Петроградским рабочим полком, который бежал, создав угрозу захвата каппелевцами Свияжска и других важных пунктов. Охваченная паникой масса солдат захватила пароход и силой оружия принуждала команду отправить его в Нижний Новгород. Полк был разоружен. В числе расстрелянных оказались командир и комиссар полка, которые бежали вместе с бойцами и не приняли мер против паники. ЦК партии, Ленин поддерживали чрезвычайные меры, принятые Троцким. В телеграмме Троцкому на следующий день Ленин писал: «Если есть перевес сил и солдаты сражаются, надо принять меры против высшего командного состава, объявив, что по образцу Французской революции они могут быть отданы под суд и даже под расстрел». О доверии Ленина к Троцкому и о совпадении во многом их взглядов в этой области можно судить по следующему ленинскому документу, врученному им Троцкому. «Товарищи! (в документе не указан адресат. — Авт.) Зная строгий характер распоряжений тов. Троцкого, я настолько убежден, в абсолютной степени убежден в правильности, целесообразности и необходимости для пользы дела даваемого Троцким распоряжения, что поддерживаю это распоряжение всецело».[60] Как видно из документа, эти слова были написаны внизу бланка со штампом Председателя Совнаркома, а выше оставлено место для распоряжения. Троцкий в 1925 году сдал бланк незаполненным в Институт имени В. И. Ленина. Он отмечает, что Ленин написал этот документ во время заседания вскоре после событий в Свияжске. Вопрос о терроре — сложный и пока мало изученный. Известно отрицательное отношение Ленина, большевиков к террору как средству революционной борьбы. Октябрьская революция совершилась вообще «малой кровью», террор не был поначалу ее орудием. Ленин подчеркивал не раз, что он был навязан белогвардейцами, интервентами и невероятным ожесточением борьбы с обеих сторон. Применение террора было вынужденным, но необходимым, без него защита революции в условиях жестокой войны вряд ли возможна. Видимо, весь вопрос в мере, в степени применения и ограничения этого зла. Но возможно ли было «дозирование» в условиях такой войны? Статистика красного террора говорит, что он рассматривался Советским правительством как временная акция. Как исключительная акция массовый террор был применен в начале сентября 1918 года (расстрелы сотен заложников в Петрограде), затем весной 1919 года на Верхнем Дону при проведении ошибочной политики «расказачивания» (подверглись расстрелу около 300 казаков) и в ноябре 1920 года в Крыму (расстреляли без суда врангелевских офицеров, не успевших или не захотевших эвакуироваться). Что касается армии, а Троцкий применял крайние меры именно там, то Ленин, требуя для наведения железной дисциплины и порядка применять расстрелы, не считал крайние меры постоянным и тем более главным средством поддержания боеспособности войск. Крепость социалистической армии он видел прежде всего в высокой сознательности и преданности идеалам Октября. Троцкий также идеи Октябрьской революции называл цементом Красной Армии, но на практике нередко отводил репрессиям чрезмерную роль. И после того как с помощью «драконовских мер» осенью 1918 года был достигнут перелом на Восточном фронте и войска стали одерживать крупные победы, он продолжал ориентировать командиров и комиссаров на крайние меры, что вело к злоупотреблению ими. Вот один из фактов, относящийся к октябрю 1918 года. Когда Троцкому стало известно, что из Пермской дивизии 3-й армии на сторону врага перебежало несколько офицеров, он отправил реввоенсовету 3-й армии телеграмму с требованием сообщить, «расстреляны ли комиссары полков, допустившие измену их командного состава». Реввоенсовет 3-й армии в свою очередь направил телеграмму в ЦК РКП(б), в которой говорилось: «Мы категорически протестуем против крайне легкомысленного отношения т. Троцкого к таким вещам, как расстрел. Он, узнав, что в таком-то полку перебежало несколько офицеров, требует расстрела комиссаров полков и дивизий… Этого мы, конечно, не сделали… Почему только этих комиссаров расстрелять? У нас нет ни одной дивизии, в которой не было бы случаев измены. Нужно было бы перестрелять половину Реввоенсовета, ибо назначенный им когда-то командующий армией Богословский сбежал, не приняв командования. Результатом таких телеграмм является лишь подрыв авторитета т. Троцкого и комиссаров».[61] Троцкий отступил, никто из комиссаров не подвергся расстрелу, а позднее он объяснял свою телеграмму как обычную в то время форму военного нажима. Итак, взгляды и особенно практика Троцкого в применении крайних мер не всегда совпадали со взглядами Ленина, хотя последний, поддерживая Троцкого, доверял ему и в этом остром вопросе. Приверженность Троцкого к чрезвычайным мерам была связана с его убеждениями. Революция требует от рабочего класса добиваться своей цели всеми средствами, писал он, устрашение смертной казнью «есть могущественное средство политики». Настаивая на применении крайних мер, Троцкий в то же время выступал против расстрелов без суда. 6 мая 1919 года он направил письмо реввоенсовету 2-й армии. В нем говорилось: «Из беседы с начальником и комиссаром 28-й дивизии я установил, что во 2-й армии имели место случаи расстрелов без суда и следствия. Я ни на минуту не сомневаюсь, что лица, подвергнувшиеся такой каре, вполне ее заслуживали. Ручательством является состав реввоенсовета. Тем не менее порядок расстрела без суда совершенно недопустим. Разумеется, в боевой обстановке, под боевым огнем командиры, комиссары и даже рядовые красноармейцы могут оказаться вынужденными убить на месте изменника, предателя или провокатора, который пытается внести смуту в наши ряды. Но за вычетом этого исключительного положения во всех случаях, когда дело идет о каре, расстрелы без суда, без постановления трибунала не могут быть допущены… Предлагаю реввоенсовету 2-й армии озаботиться организацией трибунала, достаточно компетентного и энергичного, с выездными секциями, и в то же время решительно прекратить во всех дивизиях расстрелы без судебных приговоров. Председатель Революционного военного совета Республики Троцкий».
И наконец, коротко остановимся на вопросе об отношении Ленина к председателю Реввоенсовета. Как уже говорилось, принципиальных разногласий по вопросам военной политики у Ленина с Троцким не было. Это ясно следует из документов. Ленину хорошо были известны отрицательные отзывы видных партийных работников о Троцком. Но он ценил Троцкого и достаточно высоко отзывался о его роли в военном строительстве и в организации побед на фронтах. Никогда не ставил Ленин вопроса о замене Троцкого на посту председателя Реввоенсовета. 3―4 июля 1919 года на пленуме ЦК РКП(б) в связи с выработкой мер по отражению похода Деникина подверглась критике работа Ставки, Реввоенсовета. Троцкого критиковали за стиль работы, за дерганье людей, за капризность, за слабый контроль над военными специалистами, за отдачу единоличных приказов, за игнорирование мнений членов РВСР. Не обошлось и без сгущения красок, личных обид. Сохранившиеся записи и пометки Ленина в ходе дискуссии показывают, что Ленин, соглашаясь с критикой недостатков в работе РВСР, заступился за Троцкого. Раз Троцкий признает свои ошибки, недостатки, отмечал он, надо кончать со спорами, создать ему благоприятную обстановку для работы, для выполнения своих обязанностей. Главное в работе ЦК, считал Ленин, это сплоченность, единство. О взаимоотношениях Ленина и Троцкого тогда ходило много слухов, разногласия между ними преувеличивались. Были люди, и среди них — Сталин, которым хотелось внушить Ленину неприязнь к Троцкому. Однако Ленин умел свои симпатии и антипатии подчинять интересам общего дела. Лишь недавно стало известно, что в воспоминаниях М. Горького о Ленине, которые впервые появились при жизни Владимира Ильича и которые он читал, начиная с 1931 года стали исключаться высказанные Владимиром Ильичем следующие слова о Троцком: «Да, да, — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему… Ударив кулаком по столу, он сказал: „А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас все есть! И — чудеса будут“».[62] Вместо этих слов в 1931 году были вписаны слова, которых не было в пяти предыдущих изданиях: «А все-таки он не наш. С нами, — а не наш. Честолюбив. И есть в нем что-то… нехорошее, от Лассаля». Фраза «с нами, а не наш» с тех пор пошла гулять по различным статьям. Надо сказать, что воспоминаниям Горького о Ленине не повезло: они неоднократно препарировались, сокращались и дописывались в угоду Сталину, как и десятки других воспоминаний. Есть и другое свидетельство — видного военного работника партии, члена РВСР Константина Данишевского. В беседе с ним Ленин сказал: «Троцкий — крупный человек, энергичный, им очень много сделано для привлечения старого офицерства в Красную Армию. Троцким много сделано для организации Красной Армии».[63] О последующих словах, приписываемых Данишевским Ленину, можно сказать, что они вызывают сильное сомнение: «Но он не наш, ему нельзя вполне доверять: что он может сделать завтра — не скажешь. Надо внимательно за ним смотреть». Более того, Ленин якобы сказал, что пока не будет Троцкого отзывать, и поручил Данишевскому сообщать ему шифром обо всех шагах Троцкого. Все сказанное расходится с известным нам отношением Ленина к Троцкому, с его доверием к члену Политбюро ЦК и председателю Реввоенсовета. Думаю, сомнения в достоверности всего этого усилятся, если учесть, что воспоминания Данишевского писались и публиковались в 1934 году. И в Центральном партийном архиве, где хранятся все письма и телеграммы на имя Ленина, я не нашел ни одного письма Данишевского Ленину о Троцком. О неправдоподобности написанного Данишевским может свидетельствовать еще один документ, который можно считать официальной партийной и государственной оценкой военной деятельности Троцкого в момент, когда подводились итоги гражданской войны, когда казалось, что с разгромом Деникина и Колчака она окончилась. Нет сомнений, что этот документ принимался с согласия Ленина. Речь идет о постановлении Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 20 ноября 1919 года, объявленного приказом Реввоенсовета Республики. «В ознаменование заслуг тов. Л. Д. Троцкого перед мировой пролетарской революцией и Рабоче-Крестьянской Красной Армией РСФСР, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил: наградить Л. Д. Троцкого орденом Красного Знамени. Товарищ Лев Давидович Троцкий, взяв на себя по поручению ВЦИК задачу организации Красной Армии, проявил в порученной ему работе неутомимость, несокрушимую энергию. Блестящие результаты увенчали его громадный труд. Товарищ Троцкий руководил Красной Армией рабочих и крестьян не только из центра, но неизменно переносил свою работу на те участки фронта, где задача была всего труднее, с неизменным хладнокровием и истинным мужеством идя наряду с героями красноармейцами навстречу опасности. В дни непосредственной угрозы красному Петрограду товарищ Троцкий, отправившись на Петроградский фронт, принял ближайшее участие в организации блестяще проведенной обороны Петрограда, личным мужеством вдохновлял красноармейские части на фронте под боевым огнем».[64] В заключение хочется сказать несколько слов о Троцком как человеке. Десятилетиями намеренно внедрялось представление, что ничего человеческого в нем не было, в гражданскую войну проявились лишь такие качества, как беспощадность к чужим и своим, жестокость, вероломство и т. п. Все это укладывалось в образ «врага народа», сложенный в 30-е годы. От терминов «враг народа», «предатель» уже почти отказались. Однако некоторые публицисты и писатели хотят закрепить и даже усилить образ Троцкого как «злодея». Таким, например, предстает Троцкий в романе А. Знаменского «Красные дни» (1989 г.). Таков Троцкий в брошюре известного социолога и публициста И. В. Бестужева-Лады «История твоих родителей» (1988 г.). Если поверить последнему, то Троцкий был человеком исключительно злобным, мстительным, «грубо унижал и оскорблял каждого, кто осмеливался противоречить ему».[65] А чтобы читатель поверил этому, автор сообщает о каких-то новых «материалах», благодаря которым «личность Троцкого получает вполне определенное, причем довольно зловещее освещение». Что касается новых документов, точнее, тех, которые стали доступны историкам, то они как раз помогают рассеять «зловещий» образ Троцкого. Были в его характере такие качества, как жестокость и беспощадность. В отношениях с работниками иногда проявлялись нелояльность, капризность, высокомерие. Известны его свирепые приказы. Но Троцкий мог быть и был разным. Уважительным, чутким — к тем, в ком видел преданных до конца борцов революции, к честным военным специалистам. Он находил самые теплые и сильные слова для оценки героизма и самоотверженности коммунистов, командиров, бойцов. Благодаря его настойчивой инициативе ВЦИК в сентябре 1918 года учредил орден Красного Знамени для награждения героев из героев. Во время своих поездок на фронты он всегда поощрял в той или иной форме отличившихся в боях. Мог распропагандировать и дезертиров, и пленных — такова была сила его пламенного слова. Мог вступиться за огульно арестованных офицеров. Ложно представление, что Троцкий разговаривал только языком диктата, приказов. Среди его переписки можно найти и документы иного характера, подобные его письму командующему 1-й армией М. Н. Тухачевскому (август 1918 г.). Вот оно: «т. Тухачевскому Пишу Вам неофициально, — как революционеру и партийному человеку. Наши неудачи на Волге и Урале создают тягчайшее положение для революции. Еще неделя пассивности и отступлений, — и немцы начнут наступать на Москву и Петроград. Мы окажемся меж двух жерновов — вопрос жизни и смерти для революции. Т. Юренев отправляется к Вам, чтобы поддерживать Вас во всей Вашей работе как ответственного командарма, авторитетом нар. комиссара по военделам. Сил у нас достаточно для победы. Нужна воля к победе. Соберите партийные элементы, разъясните им положение и ударьте на врага. Вы обязаны победить. Ваш Троцкий».[66]
Что касается излишней беспощадности и жестокости, которые имели место у Троцкого, то мне кажется, что они вызывались не только чертами его личности, но и его убеждением, что в Советской Республике — «осажденной со всех сторон крепости революции» — нужно целиком следовать традиции якобинской диктатуры и беспощадно карать всех — чужих и своих, прямо или косвенно вредящих революции. Если к этому присоединить веру Троцкого в скорую мировую революцию, ради которой надо продержаться любой ценой, любыми средствами, можно приблизиться к пониманию (но не оправданию), применяя терминологию Энгельса, избытка революционной активности Троцкого, который нередко не оставлял места для милосердия и терпимости и отдавал приоритет крайним мерам. Но это была проблема не только Троцкого. Многие революционеры идеализировали насилие как «повивальную бабку» нового общества, не видели ее антигуманной роли. Итак, какую же общую оценку заслужил Л. Д. Троцкий, находясь на военных постах в годы гражданской войны? В современной литературе ему выставляются и минусовые и плюсовые оценки, а также «взвешенные», типа «внес определенный вклад». Располагая теперь всеми (или почти всеми) документами, историк может сказать: вклад Троцкого в строительство Красной Армии и защиту Советской Республики огромен. В тот грозный период Троцкий проявил себя способным, целеустремленным и решительным руководителем. Да, наряду с заслугами у него были и ошибки, и недостатки, но не они определяли суть его деятельности. Красную Армию создавала партия большевиков во главе с Лениным, но это историческое дело, как и победы в Гражданской войне, стало возможным не только благодаря поддержке рабочих и крестьян, руководству ЦК РКП(б), но и потому, что занимались им Л. Д. Троцкий, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, Л. Б. Красин, А. И. Рыков, Э. М. Склянский, Н. И. Подвойский, С. С. Каменев и другие видные деятели партии и государства. Кораблев Ю. И. ─ доктор исторических наук

Склянский Эфраим Маркович
Годы жизни: 1892―1925. Член партии с 1913 г. В 1917 г. делегат II Всероссийского съезда Советов. С 27 октября 1917 г. в составе Совета СНК по военным и морским делам. С 26 октября 1918 г. по 11 марта 1924 г. заместитель председателя РВСР, член Совета рабочей и крестьянской обороны…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Коричневая кожаная папка. В ее верхнем правом углу вделан орден Красного Знамени. Внизу тисненная золотом надпись: «Заместителю председателя Реввоенсовета Республики т. Э. М. Склянскому». На внутренней стороне в строгой окантовке, рисованной киноварью и тушью, постановление ВЦИК о награждении Э. М. Склянского орденом Красного Знамени. В папке билет члена РСДРП(б), датированный 1913 годом, три мандата, подписанных В. И. Лениным и Я. М. Свердловым, удостоверение делегата II съезда Советов, записки Ф. Э. Дзержинского, несколько фотографий. Немного документов в этой папке: шестьдесят пять лет прошло со дня смерти Э. М. Склянского, бурные события мало что оставили в семейном архиве. Но то, что сохранилось, достаточно впечатляюще. Облик Э. М. Склянского удачно «схвачен» в портрете, написанном Ю. П. Анненковым в 1923 году. Склянский стоит в кабинете, позади своего рабочего стола. Его глаза поблескивают из-за стекол пенсне. Добродушно-ироническая полуулыбка, чувствуется, отражает не только минутное настроение, но и весь его внутренний облик. Щегольски сшитая гимнастерка с «разговорами», подпоясанная кавказским наборным поясом, сидит на нем как влитая. В военных и партийных архивах хранятся тысячи документов, написанных или как-то отмеченных Склянским. Значительная часть военной переписки В. И. Ленина по самым различным вопросам адресована ему. Э. М. Склянский почти семь лет был заместителем народного комиссара по военным и морским делам. Заместителем председателя Реввоенсовета Республики и СССР. 26-летнего врача революция поставила во главе практической работы по организации военных сил Республики.Родился Эфраим Маркович Склянский в г. Фастове 12 августа 1892 года. Отец его всю жизнь бился, чтобы прокормить жену и шестерых детей. Брался за любую работу: то арендовал половину мельницы, то разъезжал по стране коммивояжером или пытался открыть «свое дело», но большого достатка в семье не было. Всем домом управляла мать — властная и умная женщина. От нее унаследовал Эфраим отличную память и способность к быстрым решениям. Семья сдавала комнаты экстернам, приезжавшим учиться в Житомир, где в то время жили Склянские. Народ этот был под стать хозяевам — небогатый, но неунывающий. От постояльцев молодой Склянский стал получать «для ознакомления» нелегальную литературу. С ними же ходил на демонстрации, а после октября 1905 года и на митинги. Постепенно у гимназиста Склянского появляется тяга к марксизму. С несколькими товарищами-гимназистами он организует самодеятельные кружки, наполовину литературные, наполовину политические, но связаться с политической подпольной организацией им не удавалось, да, возможно, такой организации и не было в то время в Житомире, после подавления революции 1905 года ставшим политически мертвым городом. Более основательно Склянский познакомился с марксизмом уже в Киевском университете, на медицинский факультет которого он поступил в 1911 году, окончив гимназию с золотой медалью. Политические события, чтение рабочих газет, дискуссии, устраиваемые в студенческой столовой — своеобразном политическом клубе, формируют окончательно убеждения Склянского, и в конце 1913 года он входит в большевистскую фракцию университета. Два последующих года студент Склянский активно участвует в работе коллегии пропагандистов Киевского комитета РСДРП(б), ведет рабочие марксистские кружки. С началом первой мировой войны Э. М. Склянский активно участвует в распространении прокламаций в Красном Кресте, используя его для большевистской агитации против империалистической войны. Участвует в студенческих выступлениях. За ним утверждается партийная кличка «Виктор». Окончание Склянским университета и направление сначала солдатом в запасный батальон, а затем врачом в 149-й пехотный Черноморский полк совпали с ростом революционного движения в армии, в котором молодой врач-большевик находит свое место. В декабре 1916 года Склянского вместе с полком перебрасывают в Двинск, где его и застает Февральская революция. Революция всколыхнула солдатские массы. В армии создавались комитеты солдатских депутатов, и большевистская агитация вышла из подполья. После Февральской революции большевики полка, и в их числе врач Э. М. Склянский, создают солдатский комитет, а затем Совет солдатских депутатов 38-й пехотной дивизии. Этот Совет был поистине бельмом на глазу у армейского комитета, в ту пору сплошь меньшевистско-эсеровского. Авторитет большевистского Совета, возглавляемого Склянским, среди солдат, однако, был уже таков, что армейский комитет не рискнул применить к нему какие-либо репрессивные меры. Спустя несколько месяцев Склянский становится членом Двинского комитета РСДРП(б) и создает военную организацию большевиков 5-й армии. Затем его избирают членом большевистского комитета 19-го корпуса, а вскоре председателем комитета 5-й армии. В числе делегатов от 5-й армии он уезжает на II съезд Советов, где избран большевистской фракцией в числе пяти большевиков в президиум съезда. В первые же дни Октября Склянский работал в Петроградском военно-революционном комитете и по его поручению формировал артиллерийские части для борьбы против Керенского. С этого момента кончилась его карьера врача. До конца своих дней он был связан с работой по организации Красной Армии, с хозяйственной и административной деятельностью. Правда, иногда ему приходилось вспоминать свою забытую специальность. Не раз его товарищи, почувствовав себя худо, обращались к нему за врачебными советами. Сохранилась любопытная записка. На клочке официального бланка председателя ВСНХ Дзержинский пишет: «Как это можно „сердце“ сохранить — научите меня, может, пригодится». На обороте — советы Э. М. Склянского и замечания на них Феликса Эдмундовича: Склянский: Больше спать. Не курить. Не волноваться. Сократить умственный труд. Регулярно, нечрезмерное количество часов работать. Регулярно питаться. Не вести слишком ответственной работы. И как итог замечаний Дзержинского: Развалитесь при таком режиме.
27 октября на заседании Военно-революционного комитета Петроградского Совета с участием ответственных работников Военной организации при ЦК РСДРП(б), собранного по предложению В. И. Ленина, формируется Совет Народных Комиссаров по военным и морским делам. В него дополнительно кроме назначенных II Всероссийским съездом Советов трех членов Комитета по военным и морским делам — В. А. Антонова-Овсеенко, П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко — включаются Н. И. Подвойский, В. Н. Васильевский, К. С. Еремеев, К. А. Мехоношин, П. Е. Лазимир и Э. М. Склянский. В первых числах ноября 1917 года Склянский — комиссар Главного штаба, затем некоторое время комиссар Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве. Он устанавливает связь с ревкомами всех фронтов и армий для обеспечения переговоров о перемирии. В свой недолгий выезд в 5-ю армию организует встречу делегацией 5-й армии вновь назначенного Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко и подготовку переговоров о перемирии на участке 19-го корпуса. Большевистские организации 5-й армии без колебания стали на сторону Советского правительства, что определило изоляцию реакционно настроенного командования 5-й армии и последующее безболезненное его устранение. Когда в 9 часов утра 12 ноября чрезвычайная делегация по переговорам о перемирии прибыла в Двинск, поезд Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко встретили представители 5-й армии во главе со штабс-капитаном Э. М. Склянским. В тот же день на совещании делегатов 19-го корпуса Э. М. Склянский сообщил, что в полосе корпуса через линию фронта пойдут советские парламентеры и надо сделать так, чтобы ни один провокатор не смог им помешать. После корпусного совещания он выступил на митингах непосредственно в окопах. Рано утром 13 ноября Н. В. Крыленко, А. А. Иоффе, Л. М. Карахан, сопровождаемые представителями армейского комитета и делегатами 19-го корпуса, вышли к передовым окопам Московского пехотного полка, а во второй половине дня парламентеры перешли линию фронта. На фронте воцарилась тишина. Все эти обстоятельства обусловили ходатайство революционного комитета Ставки в Совнарком утвердить Э. М. Склянского комиссаром Ставки главнокомандующего. Телеграмма Ревкома была рассмотрена на заседании Совнаркома 29 ноября 1917 года, и по предложению В. И. Ленина Склянский, уже показавший свои незаурядные способности организатора, был оставлен для работы в Петрограде. 23 ноября приказом по военному ведомству Э. М. Склянский совместно с Н. И. Подвойским, К. А. Мехоношиным и Б. В. Леграном назначается в коллегию по управлению делами военного министерства. С преобразованием Совета Народных Комиссаров по военным и морским делам в коллегию Наркомвоенмора Склянский назначается в состав коллегии, некоторое время работает председателем Военно-хозяйственного совета, а 22 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров назначает его товарищем (заместителем) народного комиссара по военным делам. После утверждения полного состава Высшего военного совета 19 марта 1918 года Э. М. Склянского назначают его членом, а затем заместителем председателя Высшего военного совета. Находясь в центре практического руководства строительством Красной Армии, Э. М. Склянский уже в конце марта 1918 года пришел к убеждению, что создать массовую армию на началах добровольности не удастся. Характерно в этом отношении его выступление на объединенном совещании командного состава Петроградского военного округа и представителей районных советов Петроградской трудовой коммуны. На совещании обсуждался вопрос о создании военного комиссариата Петроградской коммуны. Сторонники всеобщей выборности командного состава утверждали: «Передача власти в руки генералов допустима быть не может. Истые революционеры в такую армию не пойдут. Армия, стоящая на страже интересов социализма, должна быть создана из чисто революционных масс». Формулируя ответ на эти ультрарадикальные мнения, Склянский заявил: «Будущая армия должна быть построена на принципе принудительности, состав армии будет не чисто пролетарский, а смешанный. Армию необходимо поставить в такие условия, при которых бы она служила защите пролетарскихинтересов. Диктатура пролетариата должна быть проведена в жизнь. Если при создании армии руководствоваться исключительно добровольцами, то желательных результатов мы не достигнем».[67] Как известно, эта точка зрения впоследствии стала преобладающей. В апреле — мае 1918 года Советское правительство провело ряд подготовительных мероприятий, и летом 1918 года Красная Армия перешла к методу мобилизации на основе обязательной военной службы трудящихся. В осуществлении этих мероприятий Э. М. Склянский принимал самое непосредственное участие, являясь убежденным сторонником строительства строго дисциплинированной армии. Когда в мае 1918 года вспыхнул чехословацкий мятеж и к началу августа фронт приблизился к Волге и пала Казань, все руководящие работники Наркомвоенмора и Высшего военного совета выехали в боевые части. Склянскому В. И. Ленин поручил важнейшие задания по организации Красной Армии и ее боевого обеспечения, военно-дипломатические и другие самые разнообразные дела. В эти напряженные дни Владимир Ильич по многим военным вопросам обращался непосредственно к Склянскому. Показательны многочисленные записки и распоряжения В. И. Ленина Склянскому. Вот одно из них. 19 августа 1918 года В. И. Ленин направляет к Склянскому Л. Б. Красина с поручением разобраться с немецкими требованиями в отношении нашего фронта. В записке он пишет: «т. Склянский! Податель — тов. Леонид Борисович Красин, старый партиец, о котором Вы, вероятно, тоже наслышаны. Примите его, пожалуйста, тотчас и окажите ему полное доверие. В деле о флоте надо дать ему все полномочия от Высшего военного совета. Ваш Ленин».
26 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров назначает Склянского заместителем председателя Реввоенсовета Республики. Помимо своей, как теперь принято называть, «штатной» должности Э. М. Склянский был членом Совета Обороны, ВЦИК, коллегии Наркомздрава, председателем Чрезвычайной военно-санитарной комиссии, участвовал в работе ВЧК, во многих ответственных комиссиях тех лет. Впоследствии в сентябре 1925 года И. Т. Смилга писал о нем в «Правде»: «Склянский работал с исключительной неутомимостью по 12, 16 и 18 часов в сутки… Это была превосходно организованная человеческая машина». О колоссальной работоспособности Склянского вспоминала и его вдова — Вера Осиповна Склянская. Неделями не видя мужа, она, чтобы хоть немного побыть с ним, приходила в рабочий кабинет, садилась где-либо в уголке в кресло или на диван и часами наблюдала, как в свете настольной лампы, оставляющей в тени все, кроме письменного стола, Склянский с воспаленными глазами, непрерывно куря, читал почту, готовил доклады, слушала его ответы на телефонные звонки. Ей, 17-летней курсистке, связавшей свою жизнь в бурные Октябрьские дни 1917 года с большевиком Склянским, многое было непонятно, порой становилось страшно за мужа и за его дело. Но, когда она бывала в здании Реввоенсовета на Арбате, видела сосредоточенное, усталое лицо мужа, слышала его спокойный, с хрипотцой от неумеренного курения голос, ей становилось легче. Неоднократно Склянского вызывал к себе В. И. Ленин, чтобы узнать, что делается на фронтах. Частенько, приводя в порядок одежду мужа, Вера Осиповна извлекала из карманов записки В. И. Ленина Склянскому самого неожиданного содержания, написанные им на заседании Совнаркома или Совета Обороны. Как потом отмечал в своих воспоминаниях главком С. С. Каменев, «Э. М. Склянский аккуратно сохранял эти записки Владимира Ильича. В день кончины Владимира Ильича в понятном порыве воспоминаний мы с Э. М. Склянским пересмотрели ряд этих записок, и перед нами раскрылась картина их значимости. Сколько важнейших вопросов было разрешено, выяснено или намечено такого рода перепиской на заседаниях СНК и СТО!». Владимира Ильича со Склянским связывали не только чисто служебные отношения, но и дружеское расположение, с которым В. И. Ленин относился к честным и искренним людям. Как рассказывала В. О. Склянская-Ваксова, отличный шахматист Склянский был партнером В. И. Ленина, любившего посидеть за шахматной доской в редкие минуты отдыха. Владимир Ильич иногда приглашал его к себе, чтобы сыграть с ним партию-другую, и искренне огорчался, когда проигрывал. Будучи одним из руководителей строительства Красной Армии, Склянский со всей самоотверженностью и пылом молодости выполнял громадную и разнохарактерную работу. В небольшом по объему сборнике «Строительство Красной Армии», изданном в 1919 году к VII съезду Советов и представлявшем собой первую попытку осмыслить и подвести итог двухлетней работы, Э. М. Склянский писал: «В общем и целом наша задача состоит в том, чтобы создать рабоче-крестьянский военный аппарат, который сначала должен был построить армию, затем укрепить ее мощь в дальнейшем. Само собой, что аппарат этот мог быть сильным лишь в том случае, если он будет проникнут единой волей сверху донизу, от руководящего центра до последней волости… Действующая армия слагалась сначала из отдельных мелких отрядов, действующих на далеких окраинах. Армии, как таковой, в сущности, не было, и Народному комиссариату по военным делам приходилось руководить этими небольшими отрядами иной раз не выше роты, находящимися вдобавок, вне пределов досягаемости». Вначале член коллегии с расплывчатыми задачами и неопределенными правами, затем заместитель народного комиссара по военным делам, потом заместитель председателя Высшего военного совета и, наконец, заместитель председателя Реввоенсовета Республики — Э. М. Склянский прошел через все поиски, ошибки и достижения аппарата Советского Верховного командования. Объясняя закономерность поисков и многочисленных преобразований, он писал: «К моменту чехословацкого мятежа потребность в создании регулярной армии с армейским управлением ощутилась уже чрезвычайно остро. И, отвечая требованиям жизни, мы перешли от добровольчества к принудительной системе комплектования армии. Вскоре армия была объединена во фронты, создано несколько фронтов, командование которыми также было объединено в одном органе. Высший военный совет, представлявший из себя эмбрион такого органа, для этих целей не годился. Неприятельские войска окружали страну со всех сторон, и необходимо было, не медля ни одного лишнего часа, объединить строительство армии с командованием уже действовавших армий. Вот почему была создана должность командующего всеми вооруженными силами Республики. Во главе строительства Красной Армии был поставлен Революционный военный совет, а главнокомандующий введен в этот Военный совет на правах его члена». Все более сложные задачи выдвигала обстановка гражданской войны перед Реввоенсоветом Республики. В их решении постепенно раскрывался и мужал организаторский талант Склянского. Он вырастает в опытного и волевого военного руководителя. Э. М. Склянский не вмешивался в оперативное руководство Главкома и Полевого штаба. Основная сфера его обязанностей находилась в области организации работы Реввоенсовета Республики по обеспечению боевой деятельности Красной Армии. Однако в наиболее трудные минуты, когда главнокомандующему требовалась поддержка всего Реввоенсовета в принятии ответственных решений, Склянский энергично включался в работу по подготовке операций. Это наглядно показано в воспоминаниях С. С. Каменева. «Дни между 11 и 16 октября 1919 года, — вспоминал главком С. С. Каменев, — были самыми тревожными… Донесения с фронтов получались чуть не ежечасно. Ответственнейшие решения приходилось принимать в минимальные сроки. Все важнейшие донесения и принимаемые решения т. Склянский передает немедленно по телефону в Кремль Владимиру Ильичу. Как правило, мы расстаемся с тов. Склянским очень поздно, на рассвете. Следующий день опять тревожные звонки. Спешно встречаемся опять в кабинете тов. Склянского. Под Петроградом дела значительно ухудшились, приходится принимать крайние меры, бросать резерв, созданный специально для защиты Тулы. По телефону тут же т. Склянский сообщает о принятом решении Владимиру Ильичу. Этот резерв был назван „пиковой дамой“ — последний козырь, долженствующий дать нам выигрыш. Дорого стоила и главнокомандованию и тов. Склянскому эта „пиковая дама“. Чувство ответственности принимаемого решения буквально жгло мозг». Не имея специальной военной подготовки, Э. М. Склянский внимательно присматривался к работе специалистов, учился у них, изучал литературу, обстоятельные доклады военного руководителя Высшего военного совета, бывшего генерала М. Д. Бонч-Бруевича по самым разнообразным проблемам строительства регулярной армии. Так он постепенно постигал тайны дела, которое, по словам Ленина, некоторыми старыми генштабистами порой превращалось в своеобразное «жречество». Богатая память, умение быстро ориентироваться в обстановке и буквально на лету схватывать главное — все это помогало Склянскому быть постоянно в курсе событий на многочисленных фронтах Республики. Постепенно Э. М. Склянский становится одной из центральных фигур Верховного командования. Вскоре после организации Совета обороны он вводится в его состав и является основным докладчиком по военным вопросам, поддерживает связь с Центральным Комитетом и Советом Народных Комиссаров. По принципиальным вопросам военного строительства он твердо придерживался взглядов, определенных позицией Ленина и председателя РВСР о регулярной армии и необходимости привлечения к руководству ею военных специалистов. В годы гражданской войны Совет Обороны собирался 175 раз, и редким исключением было то заседание, на котором бы не присутствовал Э. М. Склянский. Чем сложнее было военное положение Республики, тем чаще В. И. Ленин требовал подробных докладов и тем шире становился круг его поручений Склянскому. Высоко ценя Склянского, В. И. Ленин в то же время воспитывал у молодого руководителя качества государственного деятеля. Неоднократны указания В. И. Ленина о необходимости непрерывного и самого жесткого контроля за исполнением решений и приказов Верховного командования. Получив сведения о том, что положение под Петроградом значительно тяжелее того, как оно оценивалось в докладе Склянского, сделанного им на основании официальных донесений командования Западного фронта, В. И. Ленин пишет ему: «т. Склянский! 1. Обязательно сейчас же назначить (и довести до конца) расследование, кто Вас ввел в заблуждение, уменьшая бедствие. Это ведь измена. 2. Надо принять все меры и особо следить за быстротой продвижения 6 полков с Востфронта. Ведь действительно Вы, тов. Склянский, оказались виновны в проволочке!! Ответьте мне, что именно сделали по обоим пунктам. Ленин».[68]
Суровые ленинские замечания, советы и прямые указания способствовали тому, что Реввоенсовет Республики постепенно превращался в подлинный центр коллективного военного руководства. Склянский стремился строго следовать порядку, установленному В. И. Лениным. Он лично просматривал многочисленную почту, все письма, какими бы они ни казались на первый взгляд малозначительными. За каждым из них Склянский видел живого человека, его боль и заботу. Для примера можно привести такой случай. Подпоручик И. И. Герман, арестованный белорумынами, как член армейского комитета, поддерживавшего Советскую власть, находился с 25 января по 15 апреля 1918 года в румынской тюрьме. После освобождения он обратился 20 мая в отдел претензий Военно-законодательного совета с просьбой выплатить ему причитающееся жалованье. Просьба была законна, однако отдел претензий, возглавляемый инженером Е. Поповым, под предлогом того, что у Германа не было аттестата из полка, где он служил до ареста, а представленные им свидетельские показания членов армейского комитета и ряда комиссаров частей якобы являются недостаточным основанием, отказал в просьбе. Тогда И. И. Герман написал обстоятельное письмо Э. М. Склянскому, закончив его словами: «Вынужден я еще указать на то, что нас из-под ареста выпустили почти голыми, так что деньги свои я ищу по крайней нужде». Склянский затребовал от отдела объяснения по поводу проволочки. Ответ пришел формальный, бюрократический. Прочитав его, Склянский написал на этом же листке: «Приготовить приказ об освобождении от обязанностей гр. Попова». Спустя несколько дней отделом претензий заведовал другой работник. И. И. Герман получил просимое им пособие. Показательна характеристика работы Склянского, данная председателем военной комиссии ЦК С. И. Гусевым на пленуме ЦК РКП(б) 3 февраля 1924 года. «Вы знаете, — говорил он, — что сначала был РВС, состоящий из огромного количества членов, которые фиктивно числились, а фактически руководил делом тов. Склянский, который сидел в Москве. Это было в 1918―1919 гг…»[69] Склянский обладал счастливым даром привлекать к себе людей и создавать такую атмосферу, в которой заботы Красной Армии воспринимались каждым работником Реввоенсовета Республики, как его личное дело. Окружавшие звали его «электрический Склянский», а В. И. Ленин говорил, что «немного найдется таких работников, как Склянский». Склянский не раз обращался в Центральный Комитет с просьбой отпустить его на фронт, чтобы получить практический боевой опыт. Однако время было горячее, его не отпускали, так как он был нужен на своем посту. Вспоминая совместную работу со Склянским, сотрудник Реввоенсовета Амвросий Петров отмечал: «Днем и ночью висели на телеграфных проводах, днем и ночью торчали в его кабинете. Вместе вертели козьи ножки и грызли черствые галеты. Склянский заражал нас своей неутомимостью. Он не умел ходить — всегда словно за кем-то гнался. Мягкий по своей натуре, без военных навыков и выправки, врач Склянский вытесал в себе революционную твердость, выдержку и огромный административный талант. Все это вложил он в дело борьбы и победы трудящихся на фронтах гражданской войны. Сжились мы с ним, сработались. И у него, как у всякого человека, были и свои слабости и свои недостатки, и больше всего любили мы его за то, что не умел он их скрывать». Проводя большую часть суток за работой, Склянский не был аскетом. Его слабостью были ладно сшитый френч, нарядный наборный кавказский пояс на форменной гимнастерке да чуть более высокие, чем положено, каблуки, чтоб казаться выше и солиднее. Он живо воспринимал все многообразие жизни и в редкие свободные часы любил побродить по улицам, уехать в лес, на реку. С особенным интересом следил за творческими поисками Мейерхольда и Вахтангова, за становлением советского кино. Глубокая дружба связывала Склянского со скульптором Меркуловым, со многими артистами. …Шла к концу гражданская война, Республика приступила к мирному строительству. На первый план выдвинулась задача демобилизации Красной Армии и трудоустройства миллионов демобилизуемых. Пленум ЦК РКП(б) создал специальную комиссию под председательством Ф. Э. Дзержинского, в состав которой был включен и Э. М. Склянский. Комиссия в самый короткий срок должна была рассмотреть возможности и способы демобилизации и доложить свои предложения Политбюро ЦК. Через неделю Склянский представил в Совет Обороны проект постановления о порядке откомандирования отдельных категорий специалистов из Красной Армии на трудовые цели. 27 декабря 1920 года по докладу Склянского пленум принимает проект правительственного сообщения о сокращении армии. На основании директив ЦК РКП(б) Реввоенсовет Республики разработал конкретный план демобилизации и приступил к его реализации. 24 января 1921 года Совет Труда и Обороны под председательством В. И. Ленина утвердил доклад Склянского о ходе демобилизации. Форсированная демобилизация, особенно в районах, охваченных голодом, при разрушенном транспорте, недостатке обмундирования и невозможности сразу дать всем демобилизованным работу, требовала от Реввоенсовета Республики огромного напряжения сил. И снова, как в моменты самых напряженных боев, Склянский сутками не покидает свой рабочий кабинет. Особенно увеличивается его нагрузка в СТО. С 4 января 1921 года по декабрь 1922 года состоялось 301 заседание Совета Труда и Обороны, и почти на каждом из них присутствие Склянского было необходимо. В эти же годы он был основным докладчиком от военного ведомства и в СНК. Из 134 заседаний СНК Склянский присутствовал более чем на половине из них. В январе 1924 года Советское государство понесло невосполнимую потерю: 21 января скончался В. И. Ленин. Склянский, как и весь народ, остро переживал его безвременную кончину. В. О. Склянская-Ваксова, вспоминая эти трагические дни, рассказывала: «В ту ночь, как всегда, Склянский приехал в 2 часа ночи, и не успел он лечь в постель, как позвонили по телефону и вызвали куда-то (мне он ничего не сказал). Вскоре он вернулся усталый, постаревший и, когда я спросила, что случилось, сказал мне: „Умер Владимир Ильич“. Рано утром Склянский уехал в Горки и вместе с гробом вернулся в Москву. Все дни, пока гроб с телом Владимира Ильича стоял в Колонном зале Дома союзов, я стояла около. Склянский был назначен главным разводящим, он ставил и менял посты у гроба». Однако, несмотря на напряженную работу Реввоенсовета Республики и Штаба РККА, дело с реорганизацией армии не во всем шло гладко. Обострение угрозы военного нападения в связи с поражением революции в Германии осенью 1923 года заставило предпринять ряд мер по укреплению наших западных границ и привести армию в боевую готовность. И здесь выявилось, что непрерывные сокращения и реорганизации Красной Армии, проводившиеся после окончания гражданской войны без единого плана и лишь применительно к тем средствам, которые могла отпустить страна на военные нужды, привели к ухудшению материального снабжения армии, падению дисциплины и, как результат, к понижению ее боевой готовности. Ко всему этому еще добавилась чрезмерная текучесть личного состава из-за неупорядоченных призывов и ряда других причин. Как отмечал М. В. Фрунзе на февральском пленуме ЦК РКП(б) в 1924 году, «подготовительная работа, которую мы осенью повели в военном ведомстве, показала, что ни с одной стороны — ни в отношении снабжения, ни со стороны организационной — мы к большой войне не готовы». Назревала необходимость в коренной военной реформе, которая завершила бы начавшиеся преобразования Красной Армии и установила строгую систему ее организации и подготовки. Специальная военная комиссия под председательством члена ЦКК С. И. Гусева, назначенная Центральным Комитетом в январе 1924 года, вскрыла все эти недостатки и предложила ряд мер для их устранения. Одной из них было обновление руководства РВС СССР. Выступая на пленуме ЦК, М. В. Фрунзе, в частности, заявил: «Я не хочу и не могу упрекать тов. Склянского в том, что он виноват в непринятии каких-либо мер. Сам он делал все, что было в его силах, для того, чтобы отстоять интересы армии в соответствующих инстанциях. Его работа протекала у меня на глазах, и я свидетельствую, что она выполнялась с должной энергией. Но беда в том, что он не имел достаточного партийного авторитета, благодаря чему все эти усилия сплошь и рядом не могли дать военному ведомству и Красной Армии необходимых результатов». Действительно, когда Л. Д. Троцкий фактически самоустранился от работы в РВСР и переключился на политическую борьбу в Центральном Комитете, стало заметно сказываться то обстоятельство, что его заместитель не был ни членом ЦК, ни членом ЦКК. «Пробивать» ему предложения Реввоенсовета, требовавшие больших финансовых расходов, было, конечно, трудно, а подчас и невозможно. 11 марта 1924 года постановлением СНК на пост заместителя председателя Реввоенсовета СССР вместо Э. М. Склянского был назначен член ЦК РКП(б) М. В. Фрунзе. В апреле 1924 года Ф. Э. Дзержинский, тогда Председатель ВСНХ, обратился с просьбой в ЦК РКП(б) откомандировать Склянского в ВСНХ на производственную работу. Его назначили председателем треста «Моссукно», и в июне он приступил к новой работе. И вновь Склянский считал себя как бы мобилизованным, только дивизии сменились фабриками, бойцы — рабочими, но задача оставалась прежней — борьба за новое общество. Организаторский талант, семилетняя практика работы в Реввоенсовете Республики вскоре выдвинули его в число сильных хозяйственных работников. Летом 1925 года ЦК командировал Склянского в Германию, Францию и Америку для заказа нового оборудования и ознакомления с новейшей организацией суконного производства. 26 августа он с группой советских работников «Амторга» выехал из Нью-Йорка на совещание к председателю «Амторга» И. Я. Хургину в дачное местечко на берегу озера Лонг-Лейк в 350 милях от Нью-Йорка. После совещания до отхода поезда еще было время, и его участники отправились на нескольких лодках кататься по озеру. Вскоре поднялся ветер и произошла та дикая нелепость, после которой уже ничего нельзя исправить. Каноэ, на котором плыли Э. М. Склянский и И. Я. Хургин, попало в водоворот, перевернулось, и оба они утонули. Первый нарком здравоохранения Н. А. Семашко на траурном митинге говорил о Склянском: «У каждого человека есть черты, определяющие в основном его личность. Такими чертами у покойного были быстрота и точность в работе. Нервный, впечатлительный, быстро реагирующий, тов. Склянский был пружиной во всякой работе. Я видел его в 3―4 часа ночи в военном комиссариате во время самых критических дней гражданской войны: бледный, утомленный, с расширенными зрачками, он не ослаблял темпа своей кипучей деятельности. Я помню его работу членом коллегии в Наркомздраве. Он вечно спешил сам, вечно подгонял других, беспощадно подхлестывал тяжелодумов. Но это вовсе не была обычная торопливость, суматоха, которую так не любил Владимир Ильич. У Склянского быстрота всегда соединялась с точностью. Владимир Ильич не раз учил нас, администраторов, не только распоряжаться, но и уметь следить за своевременным выполнением распоряжений. Именно это качество особенно было развито у Склянского… Эти же качества были бы особенно полезны теперь в хозяйственном и культурном строительстве, когда производительность труда и качество работы выдвинуты на первое место. Но случилось иное: стремительный работник, вечно вращавшийся в водовороте кипучего строительства, погиб в бессмысленном водовороте американского озера».[70] Урна с прахом Э. М. Склянского захоронена 20 сентября 1925 года на Новодевичьем кладбище. Долгие годы имя Склянского не только замалчивалось, но если и упоминалось, то до последнего времени лишь как проводника антипартийной линии Троцкого в военном строительстве. Время внесло свои коррективы, и сейчас мы можем непредвзято оценить жизнь и деятельность этого человека. Зимин Я. Г. ─ доктор исторических наук

Вацетис Иоаким Иоакимович
Годы жизни: 1873―1938. Советский военачальник. Участник первой мировой войны. Начальник оперативного отдела Революционного полевого штаба при Ставке в декабре 1917 г. В июле — сентябре 1918 г. командующий Восточным фронтом. В сентябре 1918 г. — июле 1919 г. Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики и член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Тюремная дверь закрылась бесшумно. В камере царил полумрак. Осторожно, словно по льду, узник прошел до противоположной стены и тяжело опустился на железную кровать, застланную солдатским одеялом. Обида комом подступила к горлу… Вацетис[71] никак не мог поверить в случившееся: он, Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики, — враг Советской власти! Особый отдел арестовал его за принадлежность к контрреволюционной белогвардейской организации. Одновременно аресту подверглись порученец главкома бывший капитан Е. И. Исаев, находившийся в распоряжении главкома бывший капитан Н. Н. Доможиров и еще ряд сотрудников. В докладе заместителя председателя Особого отдела ВЧК И. П. Павлуновского говорилось: «Следствием установлено, что белогвардейская группа Полевого штаба находилась в первоначальной стадии своей организации, т. е. она только что создавалась, намечала свои задачи и планы и приступила лишь к частичной их реализации, причем была еще настолько невлиятельная, что ее нахождение в Полевом штабе не отражалось на ходе операций на фронтах». В день ареста членов «белогвардейской организации», 8 июля 1919 года, председателю РВСР Л. Д. Троцкому была направлена телеграмма за подписями председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского, члена Политбюро ЦК РКП(б) Н. Н. Крестинского, Председателя Совнаркома В. И. Ленина и заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского. В телеграмме сообщалось: «Вполне изобличенный в предательстве и сознавшийся Доможиров дал фактические показания в заговоре, в котором принимал деятельное участие Исаев, состоявший издавна для поручения при главкоме и живший с ним в одной квартире. Много других улик, ряд данных, изобличающих главкома в том, что он знал об этом заговоре. Пришлось подвергнуть аресту главкома».[72] В тот же день В. И. Ленин подписал проект постановления об освобождении И. И. Вацетиса от должности Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики. Время тянулось невыносимо медленно, дни складывались в недели, недели в месяцы. Вацетиса не тревожили, на допросы не вызывали, обвинения не предъявляли. Теряясь в догадках, он коротал тюремные часы за чтением газет. С удивлением узнал из «Известий ВЦИК», где была напечатана статья начальника Политического управления РВСР И. Т. Смилги, что причиной смещения Вацетиса послужили его разногласия с командующим Восточным фронтом С. С. Каменевым о характере дальнейших операций на востоке страны. Опровергнуть это заявление Вацетис не имел возможности, и это очень расстраивало его. Вынужденное безделье угнетало Вацетиса, привыкшего к работе, к напряженным суровым военным будням. Одиночество становилось все более тягостным. Чтобы отрешиться от мрачных мыслей, он стал восстанавливать в памяти картины прожитой жизни. Так родилась идея написать воспоминания о прошлом. Бумагу и карандаш ему предоставили без каких-либо затруднений, и началась творческая работа над будущими мемуарами. Это была, вероятно, первая попытка на втором году существования Советского государства одного из видных советских полководцев представить на суд читателей свой автобиографический труд. Правда, мемуары в то время не были опубликованы. Рукопись обнаружили советские историки лишь в первой половине 60-х годов в Центральном государственном архиве Советской Армии и в 1977 году опубликовали в журнале «Карогс» («Знамя»), а через два года она увидела свет на русском языке в журнале «Даугава». Свой труд Вацетис озаглавил «Моя жизнь и мои воспоминания». В этом уникальном автобиографическом материале, не без известной доли субъективизма, присущего мемуарам, автор не только излагает события, но и размышляет над ними, высказывает порой необычные суждения. Значительная часть воспоминаний отличается лаконичностью, так как автор, видимо, надеялся в дальнейшем продолжить работу. Несмотря на это, рукопись представляет большую познавательную ценность для всех, кто интересуется историческим прошлым нашей Родины. Работа над мемуарами как бы подводила итог прожитому, ведь Вацетису в то время шел сорок шестой год. «Я, несомненно, прошел определенный период моей жизни, — писал он, — имеющий начало и определенное завершение. Эти строки я начинаю писать в то время, когда сижу арестованным при Особом отделе ВЧК, 29 июля 1919 года. Началом пройденного мною периода жизни является момент моего появления на свет 11 ноября 1873 года. Завершением его мое ровно год, день в день, пребывание на посту Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами РСФСР, на который я был назначен 8 июля 1918 года и с которого был освобожден 8 июля 1919 года».[73] В определении срока пребывания на посту главкома Вацетис допустил неточность, так как 11 июля 1918 года он был назначен главнокомандующим Восточным фронтом, а Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики стал только 6 сентября. Мемуары Вацетиса позволяют выяснить мотивы, побудившие умудренного опытом жизни бывшего полковника царской армии, отдавшего ей почти три десятка лет службы, стать на сторону защитников революции. Возможно, определенную роль в этом сыграло социальное происхождение Вацетиса, родившегося в многодетной семье латышского батрака и с детства познавшего тяжесть подневольного труда. Отличаясь любознательностью и сообразительностью, мальчик страстно мечтал учиться. «В Прибалтийском крае, — вспоминал Вацетис, — издавна существовало обязательное учение, причем дети должны были попечением своих родителей пройти предварительную подготовку дома. Обыкновенно родители старались давать своим детям учиться в школе пять — восемь зим. Я учился в волостной школе семь зим». Учился Вацетис успешно, что и предопределило его дальнейший выбор жизненного пути. В восемнадцать лет он окончил Кулдигское уездное училище и, чтобы не быть обузой для семьи, выбрал военную профессию. В 1893 году прошел курс обучения в Рижском учебном унтер-офицерском батальоне, через три года окончил Виленское пехотное юнкерское училище. И началась нелегкая строевая армейская жизнь. Пройдя все ступени службы в армии, от солдата до офицера, Вацетис не порывал своих связей с солдатской массой. И в дальнейшем, уже будучи командиром полка, он хорошо знал ее нужды, был требовательным, но справедливым командиром. В период службы в царской армии проявилась и такая характерная черта Вацетиса, как демократичность, свойственная лучшей части российского офицерства, из рядов которой впоследствии вышло немало видных советских полководцев и военачальников. К их числу относятся С. С. Каменев, А. И. Корк, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич и другие. Большое воздействие на формирование самосознания И. И. Вацетиса оказали латышские стрелки, которыми он командовал с осени 1915 года. В латышских полках сильно было влияние большевиков. И вполне естественно, что под воздействием их агитации постепенно изменялись взгляды на происходившие в стране события и у командира 5-го Земгальского латышского стрелкового полка полковника Вацетиса. Он сумел правильно оценить и понять цели и замыслы большевиков, являвшихся истинными представителями трудового народа. Патриот, выходец из народа, Вацетис пришел к твердому убеждению, что его место в одном строю с трудящимися. И по велению сердца он сразу же после победы Октябрьского вооруженного восстания не просто встал на сторону революции, но и был в числе ее верных защитников. Несмотря на то что Вацетис не был членом большевистской партии, он пользовался ее доверием. В конце ноября 1917 года его выдвигают на должность командующего 12-й армией, затем назначают начальником оперативного отделения Революционного полевого штаба при Ставке Верховного главнокомандующего. Вацетис участвует в разгроме антисоветского мятежа польского корпуса генерала Ю. Довбор-Мусницкого, в работе комиссии по выработке основ новой, социалистической армии и в организации сопротивления германским оккупантам в Белоруссии. В апреле 1918 года Вацетис формирует Латышскую советскую стрелковую дивизию, полки которой охраняли Кремль, подавляли мятеж левых эсеров в июле того же года в Москве. И когда левый эсер Муравьев, главнокомандующий Восточным фронтом, поднял мятеж и поставил в тяжелое положение войска фронта, Совет Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина принял решение о назначении главнокомандующим войсками фронта Вацетиса, а через полтора месяца Ленин предложил выдвинуть его на пост главкома. Почему же на столь ответственную должность выбор пал на Вацетиса? Ведь к тому времени в Красной Армии служили сотни и тысячи бывших генералов и офицеров, в том числе занимавших высокие посты в старой армии. Здесь, вероятно, сыграло роль то обстоятельство, что Владимир Ильич лично знал Вацетиса, которому в тревожные июльские дни он поручил подавление левоэсеровского мятежа. Тогда Ленин спросил Вацетиса: «Товарищ, выдержим ли мы до утра?» «Задавая этот вопрос, — вспоминал Вацетис, — Ленин смотрел мне прямо в глаза. Я понял, что от меня ждут категорического ответа, но я к этому не был подготовлен. Почему необходимо было выдержать до утра? Или наше положение действительно так опасно? Может быть, комиссары, находящиеся при мне, скрывают от меня многое? Под настойчивым взглядом Ильича я сформулировал свой ответ: положение еще не выяснено, обстановка осложнилась, 7 июля в четыре часа наступление состояться не может, так как невозможно собрать войска, поэтому я прошу дать мне два часа времени, чтобы объехать город, собрать необходимые сведения, и тогда в два часа я смогу дать определенный ответ. Владимир Ильич согласился и, ответив „я буду ждать вас“, вышел столь же торопливо, как и вошел». Вацетис сдержал свое слово. Ровно в два часа ночи он доложил Ленину, что мятеж будет подавлен не позднее двенадцати часов дня. В указанное время он сообщил Ленину о разгроме мятежников. В. И. Ленин, сам ценивший точность и не любивший безответственных заявлений, несомненно, был высокого мнения о командирских качествах Вацетиса. Сыграло свою роль и то, что Иоаким Иоакимович командовал наиболее боеспособной силой Красной Армии в то время — Латышской советской стрелковой дивизией, беспредельно преданной Советской власти. Однако для многих, и в первую очередь для высших чинов старой армии, назначение Вацетиса главкомом было неожиданностью и вызвало даже неудовольствие. По их мнению, должность Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики мог занимать человек, обладавший обширными оперативно-стратегическими познаниями, значительным опытом командования объединениями (армиями и фронтами). Этим требованиям Вацетис как будто не отвечал. После окончания училища и вплоть до конца 1917 года он командовал только подразделениями и частями, то есть имел практический опыт, не выходивший за рамки тактического масштаба. Правда, этот опыт был весьма значительным, и в тактических вопросах Вацетис разбирался досконально. Вот как оценивал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков опыт, полученный от командования полком: «Командир части, который хорошо освоил систему управления полком и способен обеспечить его постоянную боевую готовность, всегда будет передовым военачальником на всех последующих ступенях командования как в мирное, так и в военное время». Есть еще одно немаловажное обстоятельство, свидетельствующее, что Вацетис вполне соответствовал новому назначению. В 1908 году он окончил Академию Генерального штаба и был переведен на дополнительный курс, который был предусмотрен главным образом для практических занятий с офицерами, готовившимися служить в Генеральном штабе. Таким образом, Вацетис получил высшее военное образование, изучил достаточно полно тактику и стратегию и в теоретическом отношении вполне соответствовал своему назначению. Приобрел он и определенный практический опыт работы в высших штабах. В старой армии существовало одно хорошее правило: кроме обязательного трехгодичного цензового командования ротой выпускники Академии Генерального штаба привлекались для работы в крупных штабах, чтения докладов, участия в полевых поездках. В соответствии с этим правилом Вацетис в разное время исполнял обязанности офицера Генерального штаба при штабе стрелковой дивизии, состоял штаб-офицером Генерального штаба при штабе армейского корпуса, возглавлял штаб дивизии, принимал участие в крупных маневрах. Все это способствовало закреплению на практике полученных теоретических знаний и расширению кругозора будущего полководца. 6 сентября 1918 года председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий подписал приказ о назначении Вацетиса Главнокомандующим всеми ее Вооруженными Силами. На следующий день Иоаким Иоакимович отдал приказ следующего содержания: «По постановлению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета я принял командование над всеми Вооруженными Силами Российской Республики, обещав приложить все усилия на защиту государства от окруживших его со всех сторон врагов… Я твердо верю, что выйдем победителями мы, ибо мы боремся за святую идею, за право бедного ближнего, за справедливость на земле, и эта справедливость должна восторжествовать над рабством и эксплуатацией… Верю, что все члены Красной Армии проникнутся сознанием великой идеи настоящей борьбы и в ближайшие дни двинутся дружно к блестящим победам на историческую славу нашей хотя и молодой, но крепкой революционным духом Советской Республики, и пусть эти победы еще более укрепят ее дух и дадут ей силы и возможность здравствовать и процветать многие и многие годы!»[74] Замечательные слова! В них выражена твердая уверенность в правоту идей революции и в непобедимость Красной Армии. Как Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики, Вацетис входил в состав Реввоенсовета Республики с правом решающего голоса и имел полную самостоятельность во всех вопросах оперативно-стратегического характера. За свои действия он нес ответственность непосредственно перед Реввоенсоветом Республики. Только РВСР, ВЦИК и Совнарком РСФСР имели право давать главкому какие-либо указания и требовать от него отчетов. С председателем РВСР Троцким у Вацетиса отношения осложнились еще с весны 1918 года. Тогда латышские стрелки, которыми командовал Вацетис, встретили назначение Троцкого на пост народного комиссара по военным и морским делам с неудовольствием. Дело дошло до того, что на первом в истории Красной Армии майском параде латышские стрелки потребовали, чтобы парад принимал В. И. Ленин. Они отказались брать «на караул» для встречи Троцкого и отвечать на его приветствие. Когда же стало известно, что Троцкий приедет на парад, 4-й и 9-й латышские полки демонстративно под музыку покинули Ходынское поле. Троцкий не простил этого Вацетису, командовавшему тогда парадом. Поэтому он весьма прохладно отнесся к его назначению на должность главнокомандующего Восточным фронтом. «Л. Троцкий имел очень озабоченный вид и, по-видимому, куда-то торопился, — вспоминал Вацетис. — Поэтому наш разговор был краток. Он сказал мне, что я должен считать мое назначение окончательно решенным и что решено в принципе на будущее время делать все назначения, не запрашивая согласия назначаемого».[75] Троцкий посоветовал Вацетису зайти к военному руководителю Высшего военного совета М. Д. Бонч-Бруевичу и обговорить с ним вопросы предстоящей деятельности. «Л. Троцкий отнял у меня слишком мало времени, — отмечал Вацетис, — и поэтому я задал себе вопрос, зачем он вызвал меня к себе? Какие указания от него я получил? Сходить туда. Сговориться с тем. И это называются указания человека, поставленного революцией во главе обороны величайшей в мире страны? Особенно неуместным являлось указание мне Л. Троцкого отправиться к М. Д. Бонч-Бруевичу и сговориться с ним. Л. Троцкий знал мои расхождения с М. Д. Бонч-Бруевичем как в вопросах военной политики, так и военного строительства».[76] В чем же выражалась суть разногласий Вацетиса и Бонч-Бруевича? Вацетис пишет, что в июне 1918 года по поручению Троцкого он инспектировал части Московского гарнизона. Докладывая Троцкому о результатах инспекции, Вацетис обратил его внимание на бессмысленность организации Бонч-Бруевичем особых вооруженных формирований, предназначенных только для войны с Германией. Троцкий сам критически отзывался об этой армии, но не находил средства от нее отделаться. Тогда Вацетис выступил в военной печати против «безумцев, желающих очертя голову бросить народ с пустыми руками в кровавое пламя войны с Германией». Естественно, что жало статей Вацетиса в первую очередь было направлено против Бонч-Бруевича. Обоюдная неприязнь между Вацетисом и Бонч-Бруевичем возникла еще в период учебы Вацетиса в Академии Генерального штаба. В то время Бонч-Бруевич являлся профессором академии и был весьма придирчив к слушателям. Вот как вспоминает об этом Вацетис: «Что касается моих оппонентов, то от одного из них я с уверенностью не мог ждать ничего хорошего. Этот профессор отличался крайним самолюбием и раздражительностью. В особенности возражать ему было крайне опасно, когда он был не в духе. У меня с ним была схватка на выпускном экзамене по тактике. В академии держались того мнения, что возражать ему — это все равно что тигра дернуть за хвост».[77] М. Д. Бонч-Бруевич, которому в июне 1919 года предложили пост начальника Полевого штаба РВСР, в свою очередь отмечал впоследствии: «Я не ладил с ним (Вацетисом. — В. Д.) ни будучи начальником штаба Ставки, ни сделавшись военным руководителем Высшего военного совета. К тому же я был значительно старше его по службе. В то время, когда я в чине полковника преподавал тактику в Академии Генерального штаба, поручик Вацетис был только слушателем и притом мало успевавшим. Позже, уже во время войны, мы соприкоснулись на Северном фронте, и разница в нашем положении оказалась еще более ощутимой, я как начальник штаба фронта пользовался правами командующего армией, Вацетис же командовал батальоном и в самом конце войны — одним из пехотных полков. Мой служебный опыт настойчиво говорил мне, что на высших постах в армии во избежание неизбежных в таких случаях трений никогда не следует становиться под начало младшего, менее опытного по службе начальника».[78] Было бы несправедливым возлагать вину за то, что у Вацетиса не сложились взаимоотношения с рядом высших руководителей Красной Армии, только на них. Немалую роль сыграли и такие черты характера Вацетиса, как прямолинейность в суждениях, резкость, нежелание идти при необходимости на компромиссы. Не всегда он прислушивался и к мнениям подчиненных. Полковник в отставке А. В. Панов, работавший с января 1919 года помощником начальника, а затем начальником отделения Оперативного управления Полевого штаба РВСР, вспоминал: «Главком И. И. Вацетис принимал доклад начальника штаба в кабинете последнего в разноевремя по своему усмотрению, предварительно ознакомившись с событиями на фронтах по сводкам. Иногда при решении отдельных вопросов сюда вызывались начальник оперативного управления, помощник начальника штаба и кто-либо из инспекторов. Обычно главком И. И. Вацетис старался обходиться без советников как в штабе, так и на заседаниях Реввоенсовета, упорно добивался проведения в жизнь своих решений. Его начальник штаба Ф. В. Костяев также был склонен к самостоятельным решениям и мало пользовался вспомогательной работой сотрудников низших инстанций, что, естественно, не способствовало развитию творческой инициативы».[79] В этих суждениях есть определенная доля субъективизма. Правда, Вацетис сам признавал, что он был склонен к самостоятельному принятию решений. «Свободного времени у меня не было, — писал он, — поэтому и личной жизни у меня не было. Обыкновенно я вставал в шесть часов утра. К семи часам утра привозили мне из штаба оперативные сводки. С этого начинался мой трудовой день. В штабе я бывал обыкновенно два раза в сутки. Работа в штабе происходила в одном кабинете с начальником штаба и членами Революционного военного совета Республики. Всю оперативную часть (стратегию) я вел лично сам; сам же писал директивы командующим фронтами. Такое тесное сотрудничество отразилось на сокращении времени. Такой порядок работы взваливал на меня главную часть работы, но это было необходимо для нашего успеха. Часто приходилось мне лично вырабатывать план операции какого-нибудь фронта, где командующий фронтом не оказался на высоте своего призвания».[80] В данном случае Вацетис допускает преувеличение своей роли в подготовке и планировании операций. Любой полководец, каким бы умом и талантом он ни обладал, не мог обойтись без помощи своих подчиненных. Десятки и сотни сотрудников Полевого штаба собирали, обрабатывали и анализировали массу информации, стекавшейся со всех фронтов и от органов разведки. И только после этого составлялись справки, обзоры и доклады, которыми пользовался главком при формулировании замысла операции и определении задач войскам. Необходимость этой предварительной работы Вацетис хорошо понимал. Поэтому его стремление лично вникать во все детали работы штаба нельзя рассматривать как недоверие к сотрудникам, а свидетельствовало о высокой степени ответственности, присущей Вацетису. Полевой штаб РВСР в то время размещался в Серпухове в двухэтажном здании больницы Солодовникова (ныне больница имени Н. А. Семашко на 2-й Московской улице). Вацетис жил в особняке фабрикантши А. Мараевой, где сейчас находится Серпуховский историко-художественный музей. «Глубокой ночью, когда кругом тихо, когда ничто не нарушало течения моей мысли, — писал позднее Иоаким Иоакимович, — я часами просиживал перед стратегической картой, вдумывался в общее положение, решал задачи, ставя себя в положение противника, строил гипотезы, из которых был максимальный успех для нас. Расположение наших войск я знал в совершенстве, до бригад и отдельных отрядов включительно. Что же касается расположения противника, то я отлично знал, что достоверно о нем, что предположительно и что является сомнительным. Такой же классификации я подвергал сведения о действиях противника. Из обеих групп вышеприведенных данных я делал анализ и вывод о том, как должны представляться дальнейшие действия противника». И. И. Вацетис вступил в должность главкома в весьма ответственный момент, когда Советской республике приходилось отбивать натиск многочисленных врагов, окруживших ее огненным кольцом фронтов. Он был в буквальном смысле слова первопроходцем на таком ответственном посту. С его именем связано решение многих задач военного строительства: формирование регулярной армии, реорганизация органов снабжения, создание стратегических резервов, обучение и воспитание командных кадров, войск и штабов, разработка новых уставов и наставлений. Однако главным в работе главкома являлись планирование и подготовка операций и руководство военными действиями. Характерным для стиля деятельности Вацетиса было поддержание постоянного контакта с Лениным, который как председатель Совнаркома и Совета Обороны повседневно занимался военными вопросами. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, помещенные в пятом — седьмом томах Биографической хроники Владимира Ильича. В большинстве случаев предложения главкома находили поддержку у Ленина. Значительную помощь Вацетису оказывали члены Реввоенсовета Республики, в большинстве своем профессиональные революционеры, опытные партийные работники. Тесный контакт и взаимопонимание установились у него с П. А. Кобозевым, К. А. Мехоношиным, К. X. Данишевским, И. Н. Смирновым, А. П. Розенгольцем, Ф. Ф. Раскольниковым. Все они в разное время входили в состав реввоенсовета Восточного фронта, которым командовал Вацетис. Приходилось ему ранее иметь дело и с С. И. Араловым и Н. И. Подвойским. Менее знаком был Вацетис с В. А. Антоновым-Овсеенко, В. И. Невским, К. К. Юреневым, В. М. Альтфатером. Вацетис в первую очередь занялся реорганизацией работы Штаба (с 8 ноября — Полевого штаба) РВСР. Его костяк составили сотрудники штаба Восточного фронта. До 22 октября Штаб РВСР возглавлял начальник штаба Восточного фронта бывший капитан П. М. Майгур. Сменил его начальник штаба Северного фронта генерал-майор Ф. В. Костяев. Он имел высокую профессиональную подготовку, закончил Академию Генерального штаба в 1905 году, обладал обширными теоретическими познаниями и богатым практическим опытом. Под стать ему были и другие сотрудники Полевого штаба. Большинство их вступили в Красную Армию добровольно, служили ей честно и добросовестно. На их помощь и поддержку Вацетис мог вполне рассчитывать. Одним из важнейших направлений деятельности Главного командования Красной Армии стала разработка периодических, ежемесячных докладов о стратегическом положении Советской Республики и задачах ее Вооруженных Сил. Первый такой доклад был представлен В. И. Ленину, Я. М. Свердлову и Л. Д. Троцкому 7 октября 1918 года. Он стал, по сути дела, первым документом, в котором содержался комплексный анализ военно-политической и стратегической обстановки, сложившейся осенью на фронтах Республики. Оценивая силы и намерения внутренней и внешней контрреволюции, Вацетис констатировал: «Из всех четырех групп противника — северной, восточной, южной и западной — для нас наиболее существенными являются группы восточная и южная: с востока мы отрезаны, главным образом, от хлеба и жиров, с юга мы отрезаны почти от всего, чем живет страна, — хлеб, скот, жиры, твердое и особенно жидкое топливо, материалы и сырье для промышленности».[81] И далее в докладе подчеркивается: «Задаваясь различными целями на внешних фронтах, нельзя не признать, что обеспечение страны средствами к жизни, без которых нельзя существовать, является главнейшей целью, которую необходимо себе поставить прежде всего. А раз это так, то из изложенного следует, что для нас наиболее важным является юг, которому и надлежит придать наибольшее значение при замысле операций на фронтах». Признание Южного фронта важнейшим по отношению к другим фронтам совпадало и с ленинской оценкой. В конце октября в своем выступлении на объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов В. И. Ленин предупреждал о новой опасности, которая исходила от англо-французских империалистов. Он отмечал, что англичане и французы «теперь направляют усилия на то, чтобы напасть на Россию с юга, либо с Дарданелл, либо с Черного моря, либо сухим путем через Болгарию и Румынию».[82] Несмотря на то что общая оценка Лениным и Вацетисом опасности с юга совпадала, подход к ней был у них разным. Владимир Ильич усматривал главную опасность со стороны сил внешней контрреволюции, которая могла воспользоваться своим господством на Черном море и высадить десанты в портах на юге страны. Вацетис считал наиболее опасными силы внутренней контрреволюции и при определении задач исходил из экономических потребностей страны. Поэтому он предлагал использовать для обороны военные и экономические ресурсы, находившиеся в европейской части России, и в первую очередь на юге. Вацетис и в дальнейшем уделял особое внимание положению на юге страны, где набирала силу армия генерала Деникина, за что подвергался критике во многих исторических работах. Однако в его рассуждениях, думается, была и определенная доля истины. Южный фронт в бытность Вацетиса главкомом два раза становился объектом первостепенной важности: осенью 1918 года и летом 1919 года. Весной девятнадцатого года главным фронтом Республики был признан Восточный фронт. Но и тогда Вацетис считал, что не меньшая опасность исходит от сил южной контрреволюции. Этой позиции Вацетис придерживался не случайно. В то время как Красная Армия вела тяжелую борьбу с войсками адмирала Колчака, армиям генерала Деникина удалось захватить Северный Кавказ и прорваться в Донскую область и Донбасс. Следовательно, опасения Вацетиса не были лишены оснований. В докладе от 7 октября 1918 года в качестве ближайшей стратегической цели ставился разгром белоказачьей Донской армии и укрепление Советской власти в Донской области. После достижения этой цели планировалось перебросить значительные силы на Северный Кавказ или на Восточный фронт в случае каких-либо там осложнений. Восточный фронт должен был подавить ижевско-воткинский мятеж, выйти на рубеж Екатеринбург — Челябинск для развития дальнейших операций в глубь Сибири. На севере и западе страны предусматривалось активными оборонительными действиями сдерживать противника. Особое внимание уделялось созданию стратегического резерва путем формирования одиннадцати пехотных дивизий во внутренних военных округах. В докладе со всей остротой был поставлен вопрос об инженерном оборудовании обороны в пределах фронтов. Намечалось создать оборонительные районы, рубежи и пункты, эшелонированные в глубину на тех направлениях, где возможно было наступление противника. «В каждом оборонительном районе, — писал Вацетис, — инженерная подготовка должна создавать систему оборонительных пунктов и усиленных в инженерном отношении местных предметов, которые бы способствовали войскам, с одной стороны, удерживаться в районе относительно слабыми силами, с другой стороны, усиливали бы тактические свойства района, если бы в нем пришлось обратиться от маневренных полевых действий к обороне». Важными условиями успешного решения стоявших перед Красной Армией задач Вацетис считал улучшение работы железнодорожного транспорта, медицинского и тылового обеспечения войск. Подводя итог сказанному, он подчеркнул: «Необходимо еще раз остановить наше внимание на том, что особенно с востока и с юга нам грозит серьезная опасность, для встречи с которой надо напрячь все усилия страны и предоставить в распоряжение центрального аппарата управления всеми вооруженными силами Республики все средства страны и полную мощь. Надо совершенно определенно поставить стране лозунг: „Все для войны и армии“, так как в поражении армии — поражение Советской республики как таковой». План Вацетиса не вызвал возражений Ленина и был одобрен Реввоенсоветом Республики. Вацетис сразу же приступил к реализации намеченных в плане целей. Были уточнены задачи фронтов, начата работа по реорганизации войск и органов снабжения, проведены очередные призывы военнообязанных и определены основы прохождения службы командным составом. Дальнейший ход событий подтвердил правильность прогноза Вацетиса. 26 ноября ЦК РКП(б) принял постановление, требовавшее в ближайшие недели «развернуть наивысшую энергию наступления на всех фронтах, прежде всего на Южном». В результате осенне-зимней кампании 1918/19 года стране были возвращены хлебородные районы востока и юга; она получила возможность использовать экономический потенциал Южного Урала, Донбасса и Криворожья, а также хлопок Туркестана. В конце февраля 1919 года Вацетис представил новый доклад В. И. Ленину и Л. Д. Троцкому. Оценивая достигнутые успехи, он писал: «Вследствие успешных действий Красной Армии за последние 21/2 месяца, территория Республики, несмотря на временную неудачу под Пермью и Валком, значительно расширилась как на востоке и севере, так особенно на юге и западе, где боевая линия фронта местами продвинулась на 300 верст вперед. В связи с этим общее протяжение стратегического фронта с 6 тысяч верст увеличилось до 8 тысяч верст. Такое расширение территории поставило перед Республикой ряд новых военно-политических и стратегических задач, которые, в связи с ожидаемым выступлением войск Антанты на южных и западных границах, потребовали новых усилий в развитии военных операций».[83] Вацетис особо подчеркнул, что «с наступлением весны военные действия на всех фронтах примут более интенсивный характер». Этот вывод был основан на разведывательных данных, которыми располагал Полевой штаб РВСР. Главное командование армиями Антанты в середине февраля и начале марта 1919 года разработало два документа об организации интервенции в России. В этих документах говорилось: «Интервенция Антанты против большевистского режима является необходимой и не может откладываться, если мы не хотим нанести ущерб делу всеобщего мира. Помимо неослабных политических действий, которые она включает в себя, эта интервенция должна выражаться в комбинированных военных действиях русских антибольшевистских сил и армий соседних союзных государств, заинтересованных в возрождении России». Предусматривалось предпринять общее наступление, начатое со всех границ России и направленное «концентрически к самому сердцу большевизма — к Москве». Авторы документа указывали, что в борьбе с большевизмом можно рассчитывать на «1) русские силы (белогвардейские войска. — В. Д.), 2) силы великих держав Антанты, 3) силы соседних с Россией государств». Всего планировалось использовать «на Западном и Южном фронтах России» до 600 тысяч человек. При этом отмечалось, что «в южной России должна быть создана для наступления на Москву основная масса национальных сил с помощью армий Деникина — Краснова, местных войск, набранных на Украине, русских пленных, подлежащих репатриации из Германии в этот район». Такая оценка главным командованием Антанты южной контрреволюции в целом совпадала и с выводами Главного командования Красной Армии. В докладе Вацетиса говорилось: «Таким образом, из рассмотрения современной военно-политической обстановки выдвигаются две главные задачи: „1) борьба на Украине против соединенных сил Антанты и Добровольческой армии, 2) борьба на всем Западном фронте от Карельского перешейка до Ровно против соединенных сил Финляндии, Эстляндии, Германии и Польши при активном содействии Антанты“». Стратегический план борьбы Красной Армии, разработанный при активнейшем участии Вацетиса, был одобрен ЦК партии и Реввоенсоветом Республики. Однако в этом плане имелась одна неопределенность относительно задач Красной Армии на Восточном фронте. Вацетис отмечал, что успехи в Уфимском, Уральском и Оренбургском районах значительно улучшили общее положение войск фронта, но борьба на уральском и сибирском направлениях, где противник имеет значительные силы, приобретает все более затяжной характер и окончательный исход борьбы во многом будет зависеть от хода политической обстановки и наших средств борьбы. Определенная недооценка сил и возможностей восточной контрреволюции возникла под влиянием тех успехов, которые достигли войска Восточного фронта. Вацетис был глубоко убежден, и это он не скрывал в мемуарах, что главным по-прежнему являлся театр военных действий на территории Европейской России, где находились войска генерала Деникина и армия Польской республики. Впоследствии историки не раз упрекали Вацетиса в том, что он допустил ошибку в оценке намерений Колчака. Но думается, что вины его здесь нет. В начале марта 1919 года Колчак предпринял контрнаступление против войск Восточного фронта и к концу апреля добился значительных успехов, выйдя на подступы к Самаре и Казани. Анализируя планы «сухопутного адмирала», Иоаким Иоакимович позднее писал: «Мне было совершенно ясно, что наступление Колчака на Среднюю Волгу носило характер грандиозной демонстрации, в основу замысла которой было положено стремление энергичным нажимом на Среднюю Волгу привлечь на Восточный фронт РСФСР большую часть наших вооруженных сил, а затем отходом увлечь их в Западную Сибирь, то есть подальше от нашего главного театра военных действий, в частности от нашего Южного фронта, с которым готовился расправиться Деникин».[84] В том, что Вацетис сумел правильно разгадать намерения противника, убеждает нас и оценка Ленина. 17 апреля, выступая на конференции фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы, он говорил: «Колчаковское наступление, инспирируемое союзниками, имеет целью отвлечь наши силы с Южного фронта, чтобы дать оправиться остаткам белогвардейских южных отрядов и петлюровцам, но это им не удастся. Ни одного полка, ни одной роты не возьмем мы с Южного фронта. Для Восточного фронта мы соберем новые армии, и для этого объявлена нами мобилизация. Эта мобилизация будет последней, она даст нам возможность покончить с Колчаком, т. е. кончить войну, и на этот раз навсегда». Имеющиеся в распоряжении историков оперативные документы штаба верховного главнокомандующего Колчака свидетельствуют, что вначале он не ставил перед собою широких стратегических целей. В середине февраля Колчак повелел армиям к началу апреля «занять выгодное исходное положение для развития с наступлением весны решительных операций против большевиков». Это исходное положение было определено по линии рек Кама, Белая и Ик, Актюбинск, Оренбург. Через два месяца, 12 апреля, Колчак приказал уничтожить советские войска, действовавшие восточнее рек Вятка и Волга, захватить мосты через Волгу у Казани, Симбирска и Сызрани, овладеть районом Оренбург, Илецк, Актюбинск. Успешное наступление колчаковских войск было восторженно встречено в правящих кругах Антанты. Премьер-министр Франции Ж. Клемансо в телеграмме главнокомандующему войсками Антанты в Сибири и на Дальнем Востоке генералу М. Жанену от 17 апреля сообщал: «Если нынешние благоприятные условия сохранятся, я считаю возможным поход ваших основных сил в главном направлении на Москву, в то время как левый фланг обеспечит связь с Деникиным, с тем чтобы создать непрерывный русский фронт, овладеть богатыми областями на другом берегу Волги и изменить условия снабжения путем возможного создания базы на Черном море». Но это пока были только предположения. Для их проработки и проведения в жизнь требовалось время, а его-то как раз у стратегов Антанты и Колчака уже, по сути дела, не было. 11 апреля Оргбюро Центрального Комитета партии утвердило написанные Лениным «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта». В этом документе была изложена четкая программа действий партии, советских и общественных организаций по мобилизации сил на разгром восточной контрреволюции. Главное командование Красной Армии получило конкретную задачу защитить и отвоевать Волгу, Урал и Сибирь. Вацетис, со свойственными ему энергичностью и решительностью, осуществлял руководство вооруженной борьбой на фронтах Республики. Но главное его внимание теперь было обращено на восток. 13 марта он приказал командующему Восточным фронтом С. С. Каменеву прочно удерживать Уральскую и Оренбургскую области, временно приостановить наступление на туркестанском направлении, восстановить положение на пермском и воткинском направлениях. Одновременно в соответствии с решениями ЦК партии Главное командование Красной Армии и Полевой штаб РВСР осуществляли переброску на Восточный фронт пополнений, резервов из внутренних военных округов и с Западного фронта. На восток шли эшелоны с боеприпасами и оружием, продовольствием и снаряжением. Словом, шла гигантская работа по укреплению армий Восточного фронта. Вацетис ежедневно отдавал десятки приказов и распоряжений, вел переговоры по прямому проводу с командующими фронтами и армиями. Проведенные мероприятия принесли свои плоды. Продвижение армий Колчака начало постепенно замедляться, а их ударная сила ослабевать. В то же время боеспособность войск Восточного фронта стала возрастать. Все это создало благоприятные условия для перехода в контрнаступление и перехвата у противника стратегической инициативы. Вацетис, внимательно анализируя ход событий на востоке, пришел к выводу, что наиболее угрожаемым для противника является самаро-уфимское направление. Удар на нем позволял выйти во фланг наиболее сильной вражеской группировки (Западной армии), сорвать дальнейшее продвижение противника и предотвратить разгром 5-й армии, действовавшей в центре Восточного фронта. Исходя из этого, главком 5 апреля приказал из войск, передаваемых фронту, и путем искусной перегруппировки частей создать на самаро-уфимском направлении ударный кулак. Идея Вацетиса о мощном фланговом ударе по Западной армии материализовалась в плане контрнаступления, разработанном командующим и штабом Восточного фронта. 9 апреля план, подписанный С. С. Каменевым и членом РВС С. И. Гусевым, был направлен В. И. Ленину и И. И. Вацетису. На следующий день в Симбирске состоялось совещание с участием представителей РВСР, главкома и членов РВС Восточного фронта. На совещании был рассмотрен представленный план и рекомендовано доработать его с учетом изменений, которые произойдут в обстановке, и через десять дней доложить Вацетису. 20 апреля Реввоенсовет фронта представил ему свои соображения о задачах по разгрому армии Колчака. Предусматривалось нанести главный удар, как и указывал Вацетис, на самаро-уфимском направлении по Западной армии. Контрнаступление Южной группы армий Восточного фронта, которой командовал М. В. Фрунзе, началось 28 апреля. Оно развивалось успешно, и к 13 мая ее войска прорвали фронт противника в полосе шириной до 500 километров, захватив стратегическую инициативу на главном, самаро-уфимском исправлении. В ходе контрнаступления Вацетис твердо держал в своих руках все нити управления войсками. Он требовал от Каменева наносить удары в тыл и во фланг противнику, строго проводить в жизнь план операции. В ряде случаев указания Вацетиса носили резкий характер. Так, 5 мая он отмечал, что командование Восточным фронтом не выполнило его указание об использовании 1-й армии и частей 4-й армии для оказания помощи 5-й армии, чтобы их совместными усилиями нанести удар в левый фланг противника, наступавшего в полосе от Самары до Симбирска. В телеграмме начальнику штаба Восточного фронта П. П. Лебедеву Вацетис писал: «Я прошу обратить должное и серьезное внимание на условия времени, которые нам властно диктуют обрушиться на Колчака в ближайшее же время и с полнейшей энергией и в полном расчете на успех». Неудовольствие Вацетиса вызвал и план операции, разработанный командованием и штабом фронта. На нем он 20 апреля наложил следующую резолюцию: «Передать комвостфронта Каменеву: постановлением Реввоенсовета от 10 апреля в Симбирске предписывалось к 20 апреля представить план операций против Колчака, а не оперативную сводку». 1 мая Вацетис снова обратил внимание Каменева на то, что «план предстоящей операции до сих пор никому не представлен». Возможно, что эти два обстоятельства — несвоевременное представление плана операции и неисполнение указания о сосредоточении, кроме 5-й армии, 1-й армии и части сил 4-й армии для нанесения удара во фланг противника — и послужили Троцкому поводом для снятия Каменева с должности командующего фронтом. В своих воспоминаниях Каменев пишет, что после вмешательства В. И. Ленина он был восстановлен в должности и по его указанию выехал в Серпухов, «где находился тогда штаб главнокомандующего, и „договориться“ с ним». В Серпухове Каменев узнал от Вацетиса, что он был снят «за неисполнение его приказания и вообще за недисциплинированность». Руководство военными действиями на фронтах не заслоняло от Вацетиса необходимость решения массы других вопросов. Особенно остро весной 1919 года встала проблема достижения военного единства советских республик. Это было обусловлено следующими причинами. В конце 1918 — начале 1919 года Украинская, Литовская, Белорусская и Латвийская Советские республики создали свои самостоятельные армии. В результате у националистов была отнята возможность трактовать наступление Красной Армии на окраинах как «оккупацию». Однако в начале 1919 года у некоторых руководителей Украины, Литвы и Латвии стали проявляться сепаратистские и местнические настроения в использовании запасов военного имущества, организации производства вооружения, формирования частей и соединений, их боевого применения. Это противоречило решениям VIII съезда партии, который указывал на необходимость «планомерного строительства централизованной армии, единство организации и единство управления которой только и могут обеспечить достижение наибольших результатов с наименьшими жертвами». Вацетис, как Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики, не мог не видеть опасности проявлений сепаратизма и местничества в деле защиты революционных завоеваний. 23 апреля 1919 года он представил В. И. Ленину доклад о необходимости военного единства советских республик. В докладе отмечалось, что «РСФСР как бы расколола свое военное единство на две половины — на западную и на восточную, в то же время раздробила также и свою боевую мощь». И далее Вацетис писал, что примерно 50-миллионное население западной половины РСФСР занято «спасением своего собственного дома» и на практике «выключилось из общего военного лагеря». В результате на 35 миллионов великорусского населения, проживающего на восточной половине РСФСР, лежит «теперь ведение войны на двух главных и решительных театрах военных действий — против войск адмирала Колчака на востоке и против войск генерала Деникина и донского казачества на юге». Вацетис подчеркивал: «Меня крайне беспокоит вопрос — когда мы успеем вернуться к прежней цельности нашего военного лагеря, на идее которого была основана, создана, выросла и побеждала Красная Рабоче-Крестьянская Армия». Он отмечал, что дальнейшая судьба революции зависит от исхода сражений на Южном и на Восточном фронтах, на которые необходимо послать максимум сил всей РСФСР. В этой связи дробление ее Вооруженных Сил на национальные армии является «во всех отношениях нецелесообразным и крайне вредным для нашего успеха». В числе причин, которые ведут к ослаблению боевой мощи Вооруженных Сил, Вацетис назвал и раздутую организацию Всевобуча, в составе которого имелось 24 тысячи человек командного состава, тогда как в запасных частях Красной Армии было всего лишь около 5,5 тысячи командиров. Поэтому Вацетис предлагал: «1. Все территории, образовавшиеся на западной половине РСФСР, советские дружественные нам республики превратить в военные округа с подчинением их Совету Всероглавштаба, в состав которого (т. е. Совета) ввести всех наркомвоенов с пребыванием их в Москве. 2. Временно ликвидировать Всевобуч, поручив Совету Всероглавштаба распределить командный состав его и политических деятелей по запасным частям Восточного фронта. 3. Довести все запасные части, находящиеся в ведении Всероглавштаба, до штатного состава с надбавкой 25 %».[85] Доклад был подписан и членом РВСР С. И. Араловым, который согласился с выводами Вацетиса. В то же время Аралов высказался против пребывания наркомвоенов советских республик в Москве и предложил не прекращать деятельность Всевобуча, сократив его только от 50 до 75 процентов. 4 мая под председательством Ленина состоялось заседание ЦК РКП(б), на котором рассматривался вопрос «О едином командовании над армиями как России, так и дружественных социалистических республик». Центральный Комитет партии признал необходимым восстановить «в области военного управления и командования строжайшее начало единства организации и строгого централизма». В мае Ленин и Сталин написали «Проект директивы ЦК о военном единстве». Правительства Российской, Украинской, Латвийской, Литовской и Белорусской советских республик приняли решение объединить все силы и материальные средства для совместной оборонительной войны против войск внешней и внутренней контрреволюции. В соответствии с этим решением ВЦИК 1 июня принял постановление «Об объединении военных сил советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии» против наступления общих врагов. Военный союз советских республик сыграл решающую роль в достижении победы над интервентами и белогвардейцами. Свою лепту в его создание внес и Вацетис, который в данном случае показал, что он способен решать не только чисто военные, но и военно-политические задачи. К моменту оформления военного союза советских республик на фронтах произошли следующие изменения. Войска Восточного фронта, развивая достигнутый ранее успех, вышли к реке Белая до ее впадения в Каму, далее на север по правому берегу Камы к Сарапулу. На других фронтах обстановка серьезно осложнилась. В Прибалтике и Белоруссии активизировали свои действия местные буржуазно-националистические вооруженные формирования, которым содействовали польские войска и корпус немецкого генерала Р. фон дер Гольца. Противнику удалось захватить Лиду, Барановичи, Вильно, Ригу. На северо-западе Республики Петрограду угрожали Северный белогвардейский корпус и Олонецкая добровольческая армия. В районе Астрахани тяжелые оборонительные сражения вела 11-я армия. Войска Украинского фронта развернули наступление с целью освобождения Крыма и Правобережной Украины. Деникин, воспользовавшись отвлечением его сил, перебросил свежие отряды с Северного Кавказа и приступил к захвату Донбасса. Поэтому Вацетис 12 июня приказал войскам Южного фронта перейти к стратегической обороне и надежно прикрыть мелитопольское, екатеринославское, харьковское, валуйское, воронежское, борисоглебское и царицынское направления. Обстановка, сложившаяся на фронтах, особенно на Южном, подтвердила мнение Вацетиса об опасности со стороны южной контрреволюции. В этой ситуации требовалось принять срочные меры по восстановлению положения. Вацетис пошел на крайне рискованный, но, возможно, единственно верный шаг, который был поддержан Троцким, но вызвал весьма бурную реакцию со стороны членов РВС Восточного фронта, а в последующем и не менее бурные дискуссии среди историков гражданской войны. В условиях, когда наступление на востоке развивалось успешно, надо было обладать исключительным мужеством и твердостью, чтобы принять подобное решение. «В момент разгара наступательных действий Красной Армии на Восточном фронте, — говорилось в Кратком курсе истории ВКП(б), — Троцкий предложил подозрительный план: остановиться перед Уралом, прекратить преследование колчаковцев и перебросить войска с Восточного фронта на Южный фронт». Эта трактовка длительное время доминировала в исторических работах. В чем же заключалась суть «подозрительного плана» Троцкого? 6 июня Вацетис направил командованию Восточным фронтом директиву, в которой в качестве ближайшей задачи определялось овладение течениями рек Белая и Кама на участке от Бугульчан до Перми, то есть на левом крыле фронта. Одновременно предписывалось создать сильные опорные пункты в районах Уральска, Оренбурга, Стерлитамака, Уфы, Сарапула, Осы и Перми, подавить восстание в Уральской и Оренбургской областях. Определение в директиве только ближайшей задачи фронта указывало на то, что последующая задача будет указана позже. Поэтому оценивать эту директиву подозрительной нет оснований. Не случайно же Вацетис подчеркивал, что вышеуказанная задача ставится фронту исходя из общего положения на других фронтах. Командование Восточным фронтом, получив директиву Вацетиса, опротестовало ее. «Наступление на Восточном фронте развивалось вполне успешно, — отмечал в своих воспоминаниях С. С. Каменев. — Белогвардейские армии Колчака откатывались за Уфу, а в это время главнокомандующий отдал приказ остановиться на реке Белой. Я отказался остановить наступление. Решение вопроса перешло к Владимиру Ильичу».[86] М. Н. Тухачевский, командовавший в то время 5-й армией, впоследствии писал: «Эта установка Троцкого была встречена в штыки и Восточным фронтом и Центральным Комитетом партии».[87] Члены РВС Восточного фронта С. И. Гусев, М. М. Лашевич и К. К. Юренев 9 июня направили В. И. Ленину докладную записку, в которой характеризовали директиву Вацетиса «крупнейшей фатальной ошибкой, которая нам может стоить революции». Они настаивали на ее отмене и утверждении плана РВС фронта. Решение Вацетиса оценивалось как его намерение снять с Восточного фронта некоторые дивизии с целью их переброски на другие фронты. В докладной записке также указывалось, что главком предусматривает остановить наступление войск фронта и «не двигаться дальше». Столь скоропалительный вывод подкреплялся словами «по-видимому», «не подлежит, однако, сомнению, что это именно так», хотя в директиве не было ни единого намека на остановку войск и их снятие с фронта. Члены РВС фронта признавали, что план Вацетиса позволяет через две недели снять одну-полторы дивизии для усиления других фронтов. В то же время авторы записки считали, что план реввоенсовета фронта, предусматривавший нанесение удара силами 2-й и 5-й армий на северо-восток, обеспечивает быстрое овладение Камой и разгром главных сил Колчака. В результате через пять недель, то есть к середине июля, можно было приступить к переброске на другие фронты до четырех дивизий. Изложил свою позицию и С. С. Каменев. В докладе Вацетису от 10 июня он отмечал, что вносимое его директивой ограничение наступательной операции Восточного фронта грозит самыми тяжелыми последствиями. «Если мы продолжим свое наступление, — писал Каменев, — то можем рассчитывать на окончательное поражение противника, и притом в относительно короткий срок, вероятно не позже середины осени, а может быть и значительно ранее, и тогда освободим очень крупные силы для борьбы на других фронтах». Он также подчеркнул возможность начать переброску части сил и ранее указанных сроков. Такой подход нельзя признать обоснованным, так как обстановка властно требовала немедленного усиления Южного и Западного фронтов. Об этом говорилось и в телеграмме В. И. Ленина членам РВС Восточного фронта от 9 июня. «Сильное ухудшение под Питером и прорыв на юге заставляет нас, — писал Владимир Ильич, — еще и еще брать войска с вашего фронта. Иначе нельзя». На следующий день Вацетис приказал Каменеву направить под Петроград 2-ю стрелковую дивизию и на Южный фронт — бригаду 5-й стрелковой дивизии. Это решение было поддержано Лениным. 12 июня Вацетис направил Восточному фронту директиву, в которой указывал, что его задача «остается прежней, т. е. разбить армию Колчака». Он особо подчеркнул, что в директиве от 6 июня определялись задачи только на флангах фронта. «Считаю своим долгом указать, — писал главком, — что, выполняя поставленные вам задачи на флангах Востфронта, вы ни в коем случае не должны оставаться строго пассивными в центре Востфронта, где противник расположен кордоном в виде отдельных групп бессильных резервов». Вацетис подчеркивал, что план Каменева разгромить Колчака не позже середины осени не отвечает ни общей политической, ни стратегической обстановке. Следовательно, Вацетис считал необходимым развивать наступление на востоке и крепко удерживать в своих руках инициативу. Решение Вацетиса о разгроме армий Колчака было поддержано Реввоенсоветом Республики и ЦК партии. 15 июня ЦК РКП(б) постановил продолжать наступление на Восточном фронте. Это постановление историками расценивается как поддержка доклада членов РВС фронта от 9 июня. Такой вывод весьма сомнителен. Ведь на основании решения ЦК РКП(б) РВСР 17 июня принял следующее постановление: «На Востфронте продолжать интенсивное наступление с целью наискорейшего решения поставленной главнокомандующим задачи — разбить войска Колчака. Командующему Восточным фронтом срочно представить главнокомандующему план дальнейших операций, исходя из фактического положения на Востфронте. Во изменение отданных распоряжений о перебросках с Восточного фронта снимаются немедленно три боеспособных бригады, из коих одна направляется в 10-ю армию, а две — в Петроград. Восточный фронт обязуется подготовить в течение недели снятие еще трех бригад. Момент снятия определяется главнокомандующим». Однако Вацетису уже не суждено было претворить в жизнь это постановление. До недавнего времени в исторических трудах бытовала версия, что ЦК РКП(б), поддержав реввоенсовет Восточного фронта, на своем июльском пленуме снял Вацетиса с должности главкома. Эту версию опровергают материалы, включенные в новый сборник «В. И. Ленин и ВЧК» (М., 1987). В неопубликованной части своих мемуаров И. И. Вацетис писал: «События, разыгравшиеся на фронтах со дня моего удаления, показывают, что мое вышеприведенное решение было единственно целесообразным, так как за это время мы ни на шаг не приблизились к победному для нас окончанию кампании, невзирая на то что в сторону Азии за это время войска бывшего Восточного фронта покрыли огромные пространства».[88] Оценивая обстановку, сложившуюся к июлю 1919 года, Вацетис отмечал, что вследствие неудач войск Южного фронта к концу июня положение здесь несколько ухудшилось. К этому времени Добровольческая армия стремилась продвинуться к Среднему Днепру, готовилось выступление польских войск, активизировались войска Юденича и фон дер Гольца на северо-западе. Это требовало сосредоточения советских войск на Южном и Западном фронтах за счет Восточного фронта. Данное обстоятельство и предопределило соответствующее решение Вацетиса. «Полагаю, — писал Вацетис, — что мои вышеприведенные соображения были правильны и отвечали обстановке. События последних четырех месяцев это вполне подтверждают. Так что моя стратегическая деятельность не могла послужить причиной моего удаления с поста главкома, в ней нет ошибок».[89] Действительно, события, происшедшие за четыре месяца с момента ареста Вацетиса, показывают, что во многих своих суждениях он был прав. И. И. Вацетис был арестован 8 июля 1919 года. За четыре дня до его ареста генерал Деникин отдал так называемую «московскую директиву», определившую конечной целью наступления захват столицы Советской Республики. В результате, как указывалось в письме ЦК РКП(б) «Все на борьбу с Деникиным!», наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции. В этих словах нет преувеличения. Через три с половиной месяца войска Деникина захватили Орел, создав прямую угрозу Туле, от которой было рукой подать до Москвы. Одновременно в середине октября на ближние подступы к Петрограду вышла белогвардейская северо-западная армия. Потребовались значительные усилия, чтобы укрепить армии Южного и Западного фронтов, о чем всегда беспокоился Вацетис, подготовить их к переходу в контрнаступление и добиться перелома в борьбе с Деникиным и Юденичем. И вероятно, прав был Вацетис, когда писал, что ему неизвестны были причины ареста. В ходе предварительного следствия причастность главкома к белогвардейской организации не была установлена и дело о нем передали во ВЦИК. Президиум ВЦИК, рассмотрев дело, 7 октября 1919 года принял следующее постановление: «Поведение бывшего главкома, как оно выяснилось из данных следствия, рисует его как крайне неуравновешенного, неразборчивого в своих связях, несмотря на свое положение. С несомненностью выясняется, что около главкома находились элементы, его компрометирующие. Но, принимая во внимание, что нет оснований подозревать бывшего главкома в непосредственной контрреволюционной деятельности, а также принимая во внимание бесспорно крупные заслуги его в прошлом, дело прекратить и передать Вацетиса в распоряжение военного ведомства». 13 октября 1919 года И. И. Вацетис сделал последнюю запись в своих воспоминаниях: «Сейчас 20 часов 1 минута. Принесли ордер о моем освобождении. Итак, я просидел 97 дней». После освобождения из-под ареста И. И. Вацетис занимал различные должности: около двух лет состоял в личном распоряжении наркомвоена Л. Д. Троцкого; два года преподавал историю войн в Военной академии РККА (ныне Военная академия имени М. В. Фрунзе), а с ноября 1924 года был старшим руководителем тактики той же академии; одновременно с марта 1923 года состоял в должности для особо важных поручений при Реввоенсовете СССР, а с августа 1934 года находился в распоряжении наркома обороны СССР. Наряду с преподавательской деятельностью И. И. Вацетис много времени уделял научно-исследовательской работе. Его перу принадлежат книги и статьи по истории франко-прусской войны 1870―1871 годов, первой мировой и гражданской войн, латышских стрелков, по вопросам о единой военной доктрине, начальном периоде войны, воспоминания о В. И. Ленине. В 1927 году Вацетису присваивается звание «профессор высших военно-учебных заведений РККА», в 1928-м за «заслуги в руководстве и личном участии в боевых операциях» его награждают орденом Красного Знамени, в 1934-м «за выдающуюся учебно-педагогическую работу и отличное руководство подготовкой слушателей Военной академии» — орденом Красной Звезды, а в 1935 году ему присваивается воинское звание «командарм 2-го ранга». Сталинская машина репрессий не миновала и Вацетиса. В ноябре 1937 года он был арестован и приговорен к высшей мере наказания. Обвинения были стандартные: связи с германскими военными кругами, участие в заговоре против Советского государства. 28 марта 1957 года определением военной коллегии Верховного суда СССР И. И. Вацетис был посмертно реабилитирован. В ноябре 1973 года на его родине открыт мемориальный дом-музей, перед зданием которого установлен бюст первого советского главкома. Однако предстоит сделать еще многое, чтобы воздатьдолжное этому замечательному человеку. Дайнес В. О. ─ кандидат исторических наук

Каменев Сергей Сергеевич
Годы жизни: 1881―1936. Советский военачальник, военный теоретик. Член партии с 1930 г. Участник первой мировой войны. С сентября 1918 г. по июль 1919 г. командующий Восточным фронтом. С июля 1919 г. по апрель 1924 г. Главнокомандующий Вооруженными Силами и член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
26 августа 1936 года вся страна прощалась с бывшим Главнокомандующим Вооруженными Силами Советской Республики в годы гражданской войны командармом 1-го ранга Сергеем Сергеевичем Каменевым. На Красной площади близ Мавзолея В. И. Ленина собрались члены ЦК ВКП(б), бюро МК и МГК партии, Президиума ЦИК СССР и ВЦИК, Совета Народных Комиссаров, видные военачальники, представители трудовых коллективов Москвы и области. Четким строем прошли возле урны с прахом С. С. Каменева представители всех родов войск. Отдавая честь его памяти, прогремел прощальный артиллерийский залп. Однако уже 12 июня 1937 года специальным приказом наркома обороны СССР его имя было снято с 21-й Пермской стрелковой дивизии, 111-й истребительной авиабригады, 2-го Киевского артиллерийского училища, гурзуфского санатория РККА, со всех гражданских объектов, носивших имя С. С. Каменева. С тех пор на долгие годы были преданы забвению его труды по развитию вооруженных сил и военному строительству, его имя перестало упоминаться в справочниках, учебниках, военных трудах. Сам же он был причислен к «врагам народа». Тяжелым испытаниям подверглась его семья. И только в наши дни, когда возрождение социалистической законности возвращает нам многие незаслуженно забытые имена, появились статьи и очерки о славном полководце гражданской войны Сергее Сергеевиче Каменеве. Кто побывал в прекрасной столице Украины и прошелся по Печерскому району города, очевидно, видел старинное массивное заводское здание с изрешеченным пулями фасадом. Теперь это музей киевского завода «Арсенал» имени В. И. Ленина. Именно здесь, на тихой Резницкой улице, у главного механика «Арсенала» инженер-полковника Сергея Ивановича Каменева 4 апреля 1881 года родился второй сын Сергей. А спустя пять месяцев умерла мать, дети Петр и Сергей остались с отцом. Был он по натуре демократом, хорошо знал жизнь рабочих не только в заводских стенах. Часто по вечерам к Сергею Ивановичу приходили рабочие-арсенальцы. В уютной столовой за самоваром шел откровенный разговор о судьбах России, о заводских делах, о притеснениях трудового народа. Наведывались к Сергею Ивановичу и его племянники Лидия и Александр Фотиевы, ставшие впоследствии активными деятелями революционного движения. Сергей с детства впитал демократические традиции передовой русской интеллигенции. Образование он получил в киевском Владимирском кадетском корпусе. Несмотря на то что он считался привилегированным заведением, уровень преподавания там был низок, культура поведения офицеров оставляла желать лучшего. Годы, проведенные в кадетском корпусе, Сергей Сергеевич считал самыми мрачными в своей жизни. Корпус окончен в 1898 году, и фельдфебель Сергей Сергеевич Каменев приезжает в Москву, чтобы продолжить учебу в Александровском военном училище. Блестяще закончив его в 1900 году, Сергей Сергеевич имел право занять должность в гвардейских частях, но выбрал скромный 165-й Луцкий полк, дислоцировавшийся в Киеве: отец был болен, и сын старался быть ближе к нему. В 1904 году Сергей Сергеевич Каменев пытался поступить в Академию Генштаба, но произошел совершенно непредвиденный случай — на экзамене он срезался. И только впоследствии выяснилась причина этой неудачи. Его отец лечился в Славянске, где случайно познакомился с полковником X., экзаменатором сына в академии. Оказывается, всему виной послужили огромные усы Сергея Сергеевича. Даже не посмотрев личное дело абитуриента, полковник решил, что таким «старикам» нечего делать в академии. А «старику»-то было всего 23 года. — Пожалуй, — вспоминал он, — это был второй тяжелый удар в моей жизни, если не считать первым определение в кадетский корпус. Но не привык он отказываться от задуманного. Через год снова сдавал экзамены и поступил в Академию Генштаба. Участились стачки рабочих, волнения среди крестьян, вспыхнула война с Японией, показал слабость царизм в управлении страной, а Генеральный штаб — армией. За время учебы в стране произошло много событий. Сергей Сергеевич тяжело переживал позорную войну с Японией. Россия не была к ней готова и терпела одно поражение за другим. В январе 1905 года вспыхнула первая российская революция, зашаталась империя Романовых. Царские власти потопили революцию в крови. За революционную деятельность были арестованы Лида и Саша Фотиевы. И хотя тогда Сергей Сергеевич еще не разделял их революционных убеждений, жестокие репрессии царских властей вызывали у него глубокое возмущение. Академия закончена, и Сергей Сергеевич вернулся на стажировку командиром роты в расквартированный в Киеве 165-й Луцкий полк. В 1909 году он становится старшим адъютантом 2-й кавалерийской дивизии в городке Сувалки, в 1911 году — адъютантом оперативно-мобилизационного отдела в Виленском округе. С начала первой мировой войны С. С. Каменев на фронте. Февральскую революцию полковник С. С. Каменев встретил, командуя 30-м Полтавским полком. Пришедшее к власти Временное правительство упорно продолжало разрабатывать планы дальнейшего наступления, но под влиянием большевистской пропаганды фронтовики все активнее выступали за прекращение бессмысленной войны. 30-й Полтавский полк отказался участвовать в наступлении, его солдаты призывали к братанию с немцами. Однажды одного из большевистских агитаторов схватили во время беседы с солдатами и доставили к командиру полка. Впервые пришлось Сергею Сергеевичу так близко, один на один, разговаривать с большевиком, да еще солдатом своего полка. Перед ним стоял спокойный человек, с умными глазами, вдумчиво и уверенно отвечал на поставленные вопросы. Всю ночь полковник и агитатор провели в беседе, а утром Сергей Сергеевич отпустил солдата с условием, что он принесет ему все те брошюры, которые тот раздавал личному составу. Вечером следующего дня агитатор-солдат и полковник встретились вновь. С той поры их беседы стали привычным делом. Постепенно в них стали принимать участие и другие полковые большевики. Они давали командиру большевистские газеты, в том числе «Солдатскую правду», брошюры, ленинские произведения «Война и российская социал-демократия», «К солдатам» и другие. Сам Сергей Сергеевич говорил впоследствии, что решающий идейный перелом в его сознании произошел, когда он, будучи командиром полка, впервые познакомился с работами В. И. Ленина по вопросам войны, мира и революции. Монархически настроенное офицерство, зная о взглядах командира полка, готовило физическую расправу над Сергеем Сергеевичем, но этому помешали солдаты. Услышав ночью через неплотно прикрытое окно разговор заговорщиков, солдаты поставили в известность об этом солдатский комитет. Ночью все участники заговора против С. С. Каменева были арестованы. Теперь в полку остались только те офицеры, которые впоследствии приняли Октябрьскую революцию и встали на ее защиту. Общим собранием полка С. С. Каменев был избран полковым командиром. 21 ноября 1935 года газета «Правда» писала: «Бравые офицеры уже тогда начали плести паутину клеветы вокруг имени Сергея Сергеевича. Командир полка был спокоен. Молча и сосредоточенно он крепким шагом все больше и дальше уходил от своего класса». Армейские общественные организации выдвинули С. С. Каменева на пост начальника штаба 15-го стрелкового корпуса. На этом посту его застала Октябрьская революция. Победа Великого Октября и его первые декреты буквально потрясли Сергея Сергеевича. Он приветствовал крутую ломку старого строя, понимал, что для защиты Отечества нужно создать новые вооруженные силы — армию освобожденных рабочих и крестьян. Началась демобилизация старой армии, создавались новые формирования. И в этом самое активное участие принимает Сергей Сергеевич Каменев. Армейский комитет избирает его начальником штаба 3-й армии, находившейся в районе Полоцка. Из Полоцка 3-я армия была направлена в Нижний Новгород и полностью демобилизована. В аттестации на начальника штаба С. С. Каменева Совет солдатских депутатов 3-й армии писал: «Дана сия гражданину Сергею Сергеевичу Каменеву, Генерального штаба бывшему полковнику, в том, что со дня Октябрьской революции и до полной демобилизации 3-й армии усердно работал в полном согласии с армейским Советом солдатских депутатов 3-й армии, своими глубокими познаниями в военном деле, выдающимся талантом и работоспособностью оказал огромные услуги командованию армии в деле демобилизации и мобилизации ее новых войсковых частей, что за подписью и приложением печати удостоверяется». 15(28) января 1918 года был обнародован подписанный В. И. Лениным декрет Совета Народных Комиссаров «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Под руководством большевистской партии по всей стране развернулось формирование частей и отрядов Красной Армии. В них записывались наиболее сознательные представители рабочего класса и крестьянства, готовые отдать свою жизнь за власть Советов. Для руководства вновь создаваемыми вооруженными силами требовались командные кадры. Началась организация курсов и школ, где обучались будущие красные командиры. К строительству Красной Армии привлекались военные специалисты старой армии. Среди тех, кто первым откликнулся на призыв Советской власти служить ей честно и преданно, был и полковник С. С. Каменев. В послужном списке Сергея Сергеевича добровольное вступление в Красную Армию датируется 1 апреля 1918 года, однако, еще не будучи формально в Красной Армии, он уже принимал участие в ее создании. После подписания в Брест-Литовске мира с Германией 3 марта 1918 года и ратификации его IV чрезвычайным съездом Советов С. С. Каменев получил свою первую должность на службе в Красной Армии. 1 апреля 1918 года его назначают военным руководителем Невельского района Западной завесы. А через несколько месяцев направляют в Смоленск помощником главного руководителя всей Западной завесы. Руководителем Западного участка завесы был бывший генерал-лейтенант царской армии, выпускник Академии Генерального штаба Владимир Николаевич Егорьев. Демократ по натуре, он после победы Октября, так же как и Сергей Сергеевич, безоговорочно стал на сторону молодой Республики Советов. Родившаяся из многочисленных, разнообразных по составу и назначению революционных отрядов завеса, как писал В. Н. Егорьев, защищала каждый метр Родины и «ушла со страниц истории лишь отправленная на другие революционные фронты».[90] Особенно много частей направлялось тогда на Восточный фронт. В начале осени 1918 года туда был откомандирован и С. С. Каменев, отлично зарекомендовавший себя как опытный военспец и организатор. В сентябре 1918 года его назначают командующим Восточного фронта вместо И. И. Вацетиса, ставшего Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики, также бывшего полковника царской армии, выпускника Академии Генерального штаба. Восточный фронт, проходивший по Уралу и Волге, был постоянно в центре внимания ЦК, В. И. Ленина. С. С. Каменев стремится объединить действующие здесь разрозненные отряды, сформировать из них крупные боеспособные части и соединения, подчиненные единому руководству. Был создан штаб фронта и армий. Кроме них в состав Восточного фронта входила Волжская военная флотилия под командованием Ф. Ф. Раскольникова, первые советские авиаторы. К осени 1918 года инициатива на Восточном фронте перешла к Красной Армии. Сначала под командованием И. И. Вацетиса, а затем С. С. Каменева войска Восточного фронта перешли в наступление и освободили Казань, Симбирск, Самару, Ижевск и другие города. Осенняя операция закончилась победой Красной Армии. Рос авторитет нового командующего. Необходимо отметить, что назначение С. С. Каменева командующим Восточным фронтом поначалу не вызвало большого энтузиазма у красных бойцов и командиров: «Опять бывший царский офицер, да еще и полковник Генерального штаба!» Свежо было в их памяти предательство левого эсера и бывшего царского офицера Муравьева, пытавшегося склонить вверенные ему войска к измене. Начдив В. И. Чапаев также вначале отнесся к Сергею Сергеевичу с недоверием. В архиве семьи С. С. Каменева хранится статья из газеты, издававшейся в Приволжском военном округе. В 1924 году в ней была помещена статья, написанная одним из славных чапаевцев. Автор рассказывал, как В. И. Чапаев, обеспокоенный, что командование фронтом поручено «генералу»-генштабисту, отправил взводного Якова Пугача на разведку в штаб. Вернувшийся ходок доложил Чапаеву о своих впечатлениях и знакомстве: «Перво-наперво — усищи — во-о-о! Глазищи, как у разбойника Чуркина. Собой детина што надо. Ручищи… во! Как у Микиты Сорокина. Годками сродственник Антонычу (любимый всеми военком). Одно слово, старик правильный. Как мигнет глазами, ажно мурашки по загривку пойдут. Не балуется. Денщиков, вообще бездельников около себя не держит. Сапоги чистит сам, как ты, Василь Ваныч. Твердый и смелый в речах. Подрушных держит во как! Над плантами торчит до петухов! Баб в штабе не приметил… Так што, товарищи, неча греха таить, старик правильный и вдребезги свой…» Вскоре состоялась встреча С. С. Каменева и Чапаева. Произошло это, когда войска Восточного фронта под натиском противника вынуждены были отступить. И вот пришло сообщение о взятии Чапаевской дивизией Лбищенска. Сергей Сергеевич высоко оценил эту победу. В Симбирск приехала и семья Сергея Сергеевича. Поселились они в доме бывшего фабриканта сукон Шатрова. Рядом с комнатами Каменевых разместился член реввоенсовета Восточного фронта Сергей Иванович Гусев. На семейном совете было решено, что Сергей Иванович и питаться будет вместе с Каменевыми. Первые боевые успехи советских войск на Восточном фронте, руководимом С. С. Каменевым, не давали покоя монархистам, особенно враждебной части офицерства. Не раз Сергей Сергеевич получал угрожающие письма. Здесь, в Симбирске, было совершено второе покушение на С. С. Каменева. Наталья Сергеевна Каменева вспоминала: «…Поздней морозной зимней ночью мы с матерью долго стояли на балконе. Наконец вдали у сквера показались Сергей Сергеевич и двое его сотрудников. Отец шел своим четким военным шагом. Сверху хорошо был виден весь сквер с пушистыми белыми деревьями и огромными сугробами вдоль ограды и тротуара. И вдруг тишину разорвал выстрел. С балкона мы увидели человека, который бежал прямо на отца, стреляя из револьвера. В сером предрассветном полумраке на фоне снега резко выделялся его тулупчик и шапка-ушанка. Выстрелы, беспорядочные и поспешные, следовали один за другим»… Но и на этот раз обошлось. Войскам Восточного фронта противостояли контрреволюционные войска так называемой Директории, но в ночь с 18 на 19 ноября 1918 года адмирал Колчак совершил переворот и был объявлен «верховным правителем» России, а уже в конце ноября 1918 года советские войска Восточного фронта под командованием С. С. Каменева перешли в новое наступление. Они получили задачу овладеть Екатеринбургом, Уфой, Оренбургом, Уральском и продвигаться дальше на восток. 31 декабря была взята Уфа, освобожден Оренбург. Тяжелая обстановка сложилась в районе действий 3-й армии, где колчаковцы стремились захватить Пермь. Но благодаря мерам, принятым ЦК партии и командованием фронта, положение стабилизировалось. Армия получила подкрепление и включилась в общее наступление на Восточном фронте. На Восточном фронте бывший полковник Генерального штаба С. С. Каменев постигал новые законы гражданской войны — уроки и оперативно-тактические и политические. Позже он скажет: «Освоение новой школы военного дела, приобретенное мною на Восточном фронте, особо подчеркиваю». Война шла теперь совсем не по тем законам, которые он изучал в академии и на русско-германском фронте. И он благодарил судьбу за то, что она свела его с такими одаренными военачальниками, как М. В. Фрунзе, а позже — молодой Тухачевский. В начале весны 1919 года положение Страны Советов снова осложнилось. На юге начал наступление Деникин. Преодолев героическое сопротивление красных бойцов, армия Колчака прорвала фронт и двинулась к Волге. Нависла угроза соединения Колчака с Деникиным. На Восточном фронте решалась судьба революции. Программой действий Красной Армии стали «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», написанные В. И. Лениным и одобренные ЦК 11 апреля 1919 года. В них подчеркивалось решающее значение Восточного фронта. Реввоенсовет Восточного фронта выпустил обращение к войскам, в котором говорилось: «Удар Колчака под Уфой всколыхнул все силы Советской России. Все Советы, партийные комитеты спешат на помощь Восточному фронту. На Урал, на Восточный фронт, чтобы разбить белогвардейскую армию Колчака, чтоб не допустить его банды к Волге». Штаб фронта под руководством командующего С. С. Каменева и членов Реввоенсовета разрабатывали план удара по Колчаку. Фронт был разделен на две группы — Северную и Южную. Северной группой командовал В. И. Шорин, Южной — М. В. Фрунзе. Членом реввоенсовета Южной группы стал В. В. Куйбышев. Сюда входила и 25-я Чапаевская дивизия. Штаб Восточного фронта возглавил Павел Павлович Лебедев. Лебедева, бывшего царского генерала, товарищи называли беспартийным большевиком. Октябрь 1917 года застал его в Полоцке начальником штаба фронта, которым командовал генерал Алексеев. Солдатский комитет подверг Лебедева домашнему аресту. Затем он был отпущен под честное слово не заниматься контрреволюционной деятельностью. Ему с семьей было разрешено уехать на юг. Большая семья Лебедева, состоящая из восьми человек, бедствовала. Для того чтобы ее прокормить, Павел Павлович занялся крестьянским трудом. Генерал Алексеев посылал Лебедеву письма с предложениями принять участие в организации белогвардейских сил. Лебедев говорил: «Правда не на стороне белой армии» и на присланные ему письма не отвечал. В марте 1919 года П. П. Лебедев был мобилизован в Красную Армию как военспец, выехал в Москву, где получил должность начальника штаба Восточного фронта. Сергей Сергеевич потом не раз говорил, что ему удивительно легко работалось с Лебедевым. Судьба связала их на долгие годы… А вот с председателем Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцким отношения Сергея Сергеевича не сложились. Особенно ухудшились они при обсуждении предложенной М. В. Фрунзе наступательной операции войск фронта. Троцкий решительно возражал против предложений Фрунзе — Каменев решительно поддерживал их. «Невзирая ни на что, — вспоминал позднее Фрунзе, — мы перешли в наступление и начали блестящую операцию, приведшую к полному разгрому Колчака. Правда, тов. Каменев получил тогда полуторамесячный отпуск, без всякого желания с его стороны, но дело было сделано». Об этом скажем несколько подробнее. В апреле, мае и июне 1919 года войска Восточного фронта провели четыре крупные операции — бугурусланскую, белебейскую, бугульминскую и уфимскую. В результате успеха этих операций Колчак был поставлен перед катастрофой разгрома, появилась возможность освобождения Урала и Сибири. В самый разгар наступления Красной Армии С. С. Каменев получил приказ главкома И. И. Вацетиса, санкционированный Троцким, прекратить наступление, занять оборону и перебросить часть войск на Южный фронт, где начал наступление Деникин. Прекращение наступления и ослабление фронта, считал Каменев, дает возможность Колчаку оправиться от удара и даже перейти в наступление. А ведь Ленин дал указание покончить с Колчаком до зимы и освободить Урал. С. С. Каменев отказался выполнить приказ Вацетиса. Такого нарушения дисциплины Троцкий не мог допустить. 7 мая 1919 года газета «В пути», издававшаяся в поезде Троцкого, напечатала сообщение: «Напряженная и непрерывная работа командующего Восточным фронтом вызвала потребность во временном отдыхе. Увольняя Каменева в шестинедельный отпуск и выражая ему благодарность от имени Красной Армии, твердо надеюсь, что войска Восточного фронта под руководством нового командующего А. А. Самойло разовьют уже полученные успехи и дадут Советской Республике полную победу над Колчаком. Л. Троцкий».— Не знаю за что, но с должности командующего фронтом меня сняли, — сказал Сергей Сергеевич, вернувшись из штаба домой, — теперь я не у дел. Он не допускал мысли о прекращении наступления и болезненно воспринимал действия Троцкого. Да, сложно складывались отношения с Троцким. Дочь Каменева Наталья Сергеевна вспоминала: «…Уже после переезда в Москву в связи с назначением отца Главкомом мы собрались как-то в один из немногих свободных вечеров в театр Балиева „Летучая мышь“, но неожиданно отец предупредил, что не может пойти. Мне же ужасно хотелось посмотреть спектакль. Я пошла одна. Почему-то рядом со мной оказались не одно, а два свободных кресла. Когда в зале погас свет, из боковой двери быстрым шагом вошел Троцкий и сел рядом. Конечно, он не узнал во мне ту четырнадцатилетнюю девочку, которую видел в Симбирске. Вечер был поначалу испорчен. Меня подмывало спросить Льва Давидовича, почему он так относится к отцу. Но спектакль был так весел и искрометен, что уже минут через двадцать после начала мы буквально залились от смеха. Куда делась высокомерность Троцкого? Рядом со мной сидел обыкновенный, полный юмора и прекрасно на него реагирующий человек. Спектакль кончился, Троцкий встал, любезно попрощался и ушел. Свой вопрос я так и не задала…» Потянулись тягостные дни «отпуска». Немного скрашивал его приход Гусева, который умел рассеять мрачные мысли. Часто интересовался мнением Сергея Сергеевича по ряду вопросов. Своим бисерным почерком записывал его ответы. Каменев сдал дела А. А. Самойло, командовавшему до этого 6-й армией Северного фронта. Он поклялся себе не вмешиваться ни во что, но, услышав от Гусева, что новый комфронта вывел из подчинения Фрунзе тринадцать бригад из восемнадцати, входивших в Южную группу, заявил решительный протест. Так же поступил и Фрунзе, и молодой командарм 5-й армии Тухачевский. Самойло расценил все это как неподчинение приказам, так и доложил главкому Вацетису. Главком распорядился отстранить Тухачевского от командования и возбудил ходатайство об отдаче под трибунал. Против этих мер выступил реввоенсовет фронта. Вот такой разлад начался в руководстве Восточного фронта… В один из вечеров Сергей Иванович Гусев сказал Каменеву: — А не поехать ли Вам, Сергей Сергеевич, в Москву, зайдете к Склянскому, поговорите с ним, все расскажите. Может быть, и к Владимиру Ильичу попадете, обрисуете обстановку. Сергей Сергеевич и сам подумывал об этом. 15 мая 1919 года он с женой и дочерью отправился в столицу. Еды в дорогу взяли явно мало, а поезд тащился медленно. Наконец просто оголодали. Облегчал неиссякаемый юмор Сергея Сергеевича. Он утешал дочь: — Ты должна быть счастлива, участвуя в исторических событиях и голодая вместе со мной. Наконец Москва. Сразу Сергей Сергеевич отправляется на Знаменку к члену РВСР Э. М. Склянскому, однако ушел от него, ничего не выяснив. Решил возвращаться в Симбирск, но неожиданно появился комендант вокзала и сказал, что Сергея Сергеевича срочно требует к себе товарищ Склянский. Возвращался он уже ночью, взволнованный и с большой корзинкой в руках, откуда вкусно пахло колбасой. — Дорогие мои, — сказал Сергей Сергеевич жене и дочери, — я был на приеме у Владимира Ильича! Во время моего доклада Ленину я рассказал о том, что делается на фронте для закрепления достигнутых побед, о перспективах дальнейших операций. После доклада ни В. И. Ленин, ни Склянский вопрос о моем устранении от должности не поднимали, а я не посчитал нужным напоминать об этом. Приступили к еде. И опять вызов к Склянскому. На этот раз ждет автомобиль. Вернулся Сергей Сергеевич с приказом принять обратно командование Восточным фронтом. Оказалось, что члены РВС фронта во главе с Гусевым обратились к В. И. Ленину с просьбой вернуть Каменева на прежнюю должность. 20 мая 1919 года Владимир Ильич пишет Троцкому: «В связи с телеграммой шифром от трех командиров Восточного фронта я предлагаю назначить Каменева командующим фронтом». 29 мая РВС Восточного фронта получил телеграмму Владимира Ильича: «По вашему настоянию назначен опять Каменев. Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной».[91] Позже, в беседе с главкомом И. И. Вацетисом, Сергей Сергеевич узнал, что причиной его снятия с должности командующего Восточным фронтом была «недисциплинированность». А вскоре Сергей Сергеевич вновь проявляет характер, протестуя против директивы главкома — остановить успешное наступление войск фронта на реке Белой и перебросить часть их на Южный фронт. РВС Востфронта обратился к Ленину с письмом, в котором назвал директиву главкома крупнейшей фатальной ошибкой и просил ее отменить. Снова обострился конфликт между Главным командованием и командованием Восточным фронтом. Его разрешил пленум ЦК РКП(б), состоявшийся 3―4 июля: он подтвердил, что важнейшей задачей Востфронта остается скорейшее освобождение Урала. Наступление продолжалось. В июле 1919 года войска Восточного фронта освободили Урал. Задача, поставленная В. И. Лениным, была выполнена. Летом 1919 года Сергей Сергеевич расстался с С. И. Гусевым, которого отозвали для работы в РВС Республики. Расставались трудно, уж очень сработались и подружились. В июле 1919 года Сергей Сергеевич получил распоряжение передать командование Восточным фронтом М. В. Фрунзе и срочно ехать в Москву за новым назначением. За организацию победных операций на Восточном фронте 8 августа 1919 года ВЦИК наградил С. С. Каменева Золотым боевым оружием (саблей) со знаком ордена Красного Знамени. 8 июля 1919 г. Ленин подписал постановление СНК о назначении С. С. Каменева Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики. 8 июля ВЦИК утверждает это назначение. Так главком С. С. Каменев был введен в состав РВСР. Ленин всемерно поддерживал авторитет С. С. Каменева. В том же июле 1919 года он телеграфировал Троцкому на Южный фронт: «Политбюро вполне признает оперативный авторитет Главкома и просит Вас сделать соответствующее разъяснение всем ответственным работникам». По предложению С. С. Каменева Ставка главкома, находящаяся в Серпухове, расположилась теперь в Москве, а С. С. Каменев с семьей жил сначала в вагоне прямо на Казанском вокзале, а затем переехал на Смоленский бульвар, 16, где поселились и все работники секретариата. Вскоре в Москву приехал и П. П. Лебедев с семьей — по предложению С. С. Каменева и С. И. Гусева на пост начальника Полевого штаба РВС Республики была выдвинута и утверждена его кандидатура. Положение на фронтах было крайне тяжелое, особенно на юге, где в наступление перешла белогвардейская армия Деникина, поддерживаемая Антантой. 9 июля 1919 года было опубликовано письмо ЦК «Все на борьбу с Деникиным!». В нем говорилось: «Все силы рабочих и крестьян, все силы Советской Республики, — писал Владимир Ильич, — должны быть напряжены, чтобы отразить нашествие Деникина и победить его, не останавливая победного наступления Красной Армии на Урал и Сибирь. В этом состоит основная задача момента». В августе 1919 года согласно директиве Главкома командованию Южного фронта началось контрнаступление Красной Армии. Оперативный план, разработанный Ставкой, предусматривал нанесение удара двумя группами войск: один — из района Царицына на Дон и Кубань, другой — вспомогательный из района Воронеж — Курск на Харьков. Красная Армия добилась успехов и на ряде участков фронта смогла даже продвинуться вперед. В начале сентября, получив очередную помощь Антанты, Деникин перешел в наступление и, захватив Курск, подошел к Орлу и Туле. Угроза нависла и над Москвой. В конце сентября 1919 года состоялся пленум ЦК РКП(б), обсудивший сложность положения. На этом пленуме впервые выступил главком Каменев со стратегическим планом отпора Деникину. План был одобрен с дополнениями. Е. Д. Стасова писала: «В сентябре 1919 года было назначено заседание ВЦИК, на котором Сергей Сергеевич должен был сделать доклад о положении на фронтах. Это было его первое выступление перед правительством, так сказать, его „крещение“. Помню, как он волновался перед открытием заседания. Происходило это в помещении „Метрополя“, в том зале, где сейчас, кажется, столовая. В своем докладе Сергей Сергеевич указывал, какую огромную роль в действиях Красной Армии играют коммунисты. Он сказал, что это заставляет требовать от комиссара немедленной присылки группы (ударного кулака) из коммунистов в те пункты, где произошел частичный прорыв или же фронт почему-то слаб. Такой кулак, сказал Сергей Сергеевич, всегда исправляет дело: фронт усиливается, прорыв ликвидируется».[92] Главное командование, руководимое С. С. Каменевым, разрабатывает меры по усилению отпора Деникину. Южному фронту передается корпус С. М. Буденного. В октябре командующим фронта назначается А. И. Егоров. «Дни между 11 и 16 октября 1919 года, — вспоминает С. С. Каменев, — были самыми тревожными. Наступление противника… продолжалось, а собираемые нами для контрудара силы только сосредоточивались в исходных районах. Донесения с фронтов получались чуть не ежечасно. Ответственнейшие решения приходилось принимать в минимальные сроки. Все важнейшие донесения и принимаемые решения т. Склянский передает немедленно по телефону в Кремль Владимиру Ильичу… Более сложной обстановки я здесь за весь период гражданской войны не помню. Непоколебимое спокойствие Владимира Ильича в это время являлось самой мощной поддержкой Главнокомандования».[93] Положение усугубляется новым наступлением Юденича на Петроград. В октябре В. И. Ленин обратился «к рабочим и красноармейцам Петрограда» с призывом защищать каждую пядь земли. Рабочие прямо с заводов уходили на фронт. Главнокомандование действует энергично. На помощь Петрограду с Южного фронта переброшены курсанты Москвы и Петрограда. Юденич был остановлен и разбит. Разгром Юденича позволил сосредоточить ударные силы на Южном фронте. 15 октября состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), где были рассмотрены задачи разгрома Деникина. Укрепление Южного фронта продолжалось, что дало возможность перейти в наступление, в результате которого были освобождены Орел, Воронеж, Курск, Харьков, Киев, Таганрог. 1 января С. С. Каменев направляет В. И. Ленину докладную записку: «С занятием 31 декабря 1919 года ст. Иловайской Красной Армией выполнена поставленная в середине ноября 1919 года правительством Главнокомандованию задача — овладеть в кратчайший срок Донецким каменноугольным районом. До получения дальнейших директив Главнокомандование будет продолжать выполнение основной задачи — окончательный разгром вооруженных сил Деникина». В этот период пришлось Ленину защищать главкома от нападок И. В. Сталина, носивших обычно резкий и раздраженный характер. В феврале 1920 года, в дни тяжелых боев на Кавказе, Каменев подписал директиву о выделении из Украинской трудармии воинских частей для отправки их на Кавфронт. Сталин, тогда член РВС Юго-западного фронта, выступил против этой директивы и попросил Ленина срочно вызвать его в Москву для объяснений. 19 февраля Ленин направил членам Политбюро записку, в которой говорилось: «…я против вызова Сталина. Он придирается, Главком прав вполне; сначала надо победить Деникина, потом переходить на мирное положение». Так и было сообщено Сталину. Когда Ленину стало известно об опасной обстановке в районе Ростова и Новочеркасска, он еще раз обратился к Сталину с просьбой усилить помощь Кавфронту. На что Сталин в тот же день ответил: «Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине, который и так перегружен работой». Пришлось Ленину телеграфировать Сталину еще раз, уже более строго: «На Вас ложится забота об ускорении подхода подкрепления с Юго-Запфронта на Кавфронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях». Разбитые части белогвардейцев отходили на Северный Кавказ, Одессу и вместе с бароном Врангелем в Крым. Падение Новороссийска — последнего оплота Деникина — завершило победу войск Южного фронта. «Военное положение республики изменилось самым радикальным образом, — писал Ленин, — и хотя война не была закончена, тем не менее для всякого государства стало ясным, что их прежние надежды раздавить военные силы Советской республики потерпели крах».[94] Даже белогвардейцы были вынуждены признать умелое руководство главкома действиями Красной Армии. Деникинский генерал Носович в одной из контрреволюционных газет напечатал статью «Сергей Сергеевич». «С вступлением Каменева на должность главнокомандующего, — говорилось в ней, — сейчас же почувствовалась опытная рука, которая весь механизм армии заставила действовать как постоянную машину». Тут же следовала угроза. Вспоминая офицерские аксельбанты, генерал Носович предупреждал: «Сергей Сергеевич вновь увидит их, когда его на них повесят». Другая белогвардейская газета, «Киевлянин», писала: «Главнокомандующий большевистскими силами, бывший полковник Каменев, в борьбе с наступающими войсками генерала Деникина усвоил такой прием. Пользуясь тем моментом, когда силы Добровольческой армии сосредоточены для нанесения точного удара, он, оказывая этому удару пассивное сопротивление, сосредоточивает сильные ударные группы на флангах и бросает их в обход главных сил добровольцев, по направлению главных их баз… Полковник Каменев (и это только увеличивает его вину) доказал уже не раз, что он умеет воевать».[95] Победив Колчака и Деникина, Советская Республика получила кратковременную передышку, которую стремилась использовать для восстановления народного хозяйства. Посильный вклад в эту работу вносили и молодые Вооруженные Силы Республики, часть которых была переведена на положение трудовых армий. Однако уже 25 апреля 1920 года армия белополяков перешла границы Страны Советов. Под руководством В. И. Ленина ЦК РКП(б) и Главное командование приступили к разработке оперативного плана военных действий против новой агрессии. Начальник Полевого штаба П. П. Лебедев в присутствии главкома С. С. Каменева и члена РВСР Склянского доложил варианты плана В. И. Ленину. 28 апреля 1920 года Политбюро ЦК одобрило этот план. Для борьбы с агрессией создавались два фронта — Западный (М. Н. Тухачевский) и Юго-Западный (А. И. Егоров)… 25 августа Красной Армии удалось остановить наступление белополяков на линии Минск, Свислочь, Беловеж, восточнее Брест-Литовска и по Западному Бугу. Правительство буржуазной Польши начало мирные переговоры. 12 октября 1920 года договор о перемирии и предварительных условиях мира был подписан. Это дало возможность начать разработку оперативного плана борьбы против барона Врангеля — последнего оплота белогвардейщины, окопавшегося в Крыму. Его войска начали наступление, целью которого был захват Донбасса. Для борьбы с Врангелем был образован Южный фронт, командующим назначен М. В. Фрунзе. В середине октября главком С. С. Каменев представляет В. И. Ленину оперативный план организации разгрома Врангеля. На представленном проекте плана Владимир Ильич сделал пометку: «Членам П.-Бюро. По-моему, согласимся с главкомом… 13/Х Ленин».[96]
В конце октября 1920 года Красная Армия начала наступление, и уже в ноябре, после героического штурма Перекопа, Крым был очищен от врангелевцев. Под руководством В. И. Ленина Красная Армия одержала историческую победу над объединенными силами белогвардейцев и интервентов. С чувством огромной ответственности служил этой благородной миссии С. С. Каменев. Страна высоко оценила его заслуги. 29 мая 1920 года ВЦИК наградил «Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики товарища Каменева орденом Красного Знамени». Постановлением ВЦИК от 26 января 1921 года С. С. Каменев награждается высшей воинской наградой того времени — Почетным огнестрельным оружием и орденом Красного Знамени. В. И. Ленин высоко ценил С. С. Каменева. В беседе с С. И. Гусевым он говорил: «…Да, имеется у наших военных специалистов, даже у лучших, воспитанная окопной войной склонность воевать для того, чтобы воевать, а не для того, чтобы побеждать. Но Каменев это понимает…» В годы гражданской войны главком С. С. Каменев часто делал непосредственные доклады В. И. Ленину. Вспоминая об этом, он писал: «В тысячах случаев осведомленность Владимира Ильича о действительном положении вещей была больше, чем у членов РВС». Сергей Сергеевич очень дорожил личными встречами с В. И. Лениным, стремился усвоить ленинский стиль работы. Под руководством В. И. Ленина, писал Сергей Сергеевич, «я прошел абсолютно новую для себя школу по организации и руководству военным делом, включая в это понятие и создание, и организацию, и дисциплину, и боевое руководство Красной Армией, а также организацию борьбы в период гражданской войны». Было бы, конечно, неверным утверждать, что Каменев не знал неудач, не совершал ошибок. Но эти ошибки и неудачи не умаляют того огромного вклада, который он внес в решающие победы молодой Красной Армии. Гражданская война закончилась, но Красная Армия продолжала военные действия против банд Булак-Булаховича, боролась с басмачами в Туркестане. Всеми этими операциями занимался главком. В мае 1922 года Сергей Сергеевич выехал в Ташкент, Бухару, Самарканд, где оказывал помощь местным революционным властям в подавлении остатков сил внутренней контрреволюции. В Бухаре он встретился с одним из руководителей вооруженного восстания народной бедноты против бухарского эмира, активным участником борьбы с басмачеством, впоследствии председателем СНК Бухарской Народной Советской Республики Файзулой Ходжаевым. Опыт боевых действий против басмачей С. С. Каменев обобщил в своей брошюре «Система борьбы с басмачеством», находящейся ныне в архиве Советской Армии. За помощь хорезмскому трудовому народу в его борьбе за освобождение главком Каменев был награжден военным красным орденом Хорезмской Республики и орденом Красной Звезды 1-й степени. Напряженная работа главкома почти в течение пяти лет без отпуска и жаркий климат Средней Азии губительно отразились на его здоровье. Сопровождающая Сергея Сергеевича во всех поездках в качестве медсестры жена Варвара Федоровна обнаружила признаки тропической малярии. В Москву главкома привезли без сознания. Жизнь его целый месяц висела на волоске. 8 августа 1922 года вся семья Каменевых приехала в Крым. Это был первый отпуск Сергея Сергеевича за пять лет службы в Красной Армии. Поселились в местечке Суук-су на даче «Орлиное гнездо». Крымский воздух сделал свое благодатное дело. Сергей Сергеевич стал поправляться. Здесь неожиданно произошел случай, напоминавший события гражданской войны в далеком заснеженном Симбирске. Наталья Сергеевна Каменева вспоминала: «…День был чудесный, и мы с отцом направились на пляж. Возле скалы обнаружили лодку. Я предложила спустить ее на воду и поплыть к Адоларам. Мы стояли по колено в воде по обеим сторонам лодки, стараясь столкнуть ее с берега в море. В этот момент, разрывая тишину, раздался выстрел. В воду шлепнулась пуля, поднявшая маленький фонтанчик. Стреляли в отца, но промахнулись. Пуля пролетела мимо, чуть не задев меня. Мы оба посмотрели наверх, туда, откуда раздался выстрел. По дороге, пригнувшись к шее коня, закрыв локтем лицо, мчался всадник. Ружье его лежало поперек седла…» Вскоре к Сергею Сергеевичу неожиданно приехали Михаил Васильевич и Софья Алексеевна Фрунзе. Вечером за чаем Сергей Сергеевич с юмором рассказал о неудавшемся покушении, но Михаил Васильевич не смеялся. Он рассказал, как был ранен махновцами в 1921 году, и подарил Сергею Сергеевичу пистолет, которым отстреливался от бандитов. До 1924 года, пока существовала должность Главнокомандующего Вооруженными Силами, он оставался на этом посту, позже был начальником штаба РККА, заместителем наркома и председателя Реввоенсовета СССР, начальником управления Противовоздушной обороны. Службу в Красной Армии С. С. Каменев совмещал с большой общественно-политической работой; был бессменным членом Московского Совета, членом ВЦИК, а с 1923 года — членом ЦИК СССР. До 1930 года С. С. Каменев был формально беспартийным. Накануне XVI съезда ВКП(б) он подал в партийную организацию заявление, в котором писал: «Я был с вами, был ваш — теперь хочу быть в ваших рядах…» Заявление это было зачитано на съезде, и С. С. Каменев был принят в члены партии без прохождения кандидатского стажа. А через год проходила чистка партии, председатель комиссии Е. Д. Стасова задала Сергею Сергеевичу единственный вопрос: «Как вы бережете свое здоровье? Мы — большевики, и наше здоровье — казенное добро…» Практическую работу С. С. Каменев сочетал с теоретической деятельностью. Он внес большой вклад в разработку основ советского военного искусства, в военно-историческую науку. Был Сергей Сергеевич добрым семьянином, большим любителем классической музыки, увлеченным театралом, вообще человеком широкого культурного кругозора. Умер С. С. Каменев от внезапного сердечного приступа 25 августа 1936 года. Он похоронен на Красной площади. Сергею Сергеевичу посчастливилось не дожить до тех страшных дней, когда Красную Армию потрясли репрессии, в ходе которых был уничтожен почти весь ее высший командный состав. Но неправедный суд не обошел и его после смерти. Был распространен слух, будто С. С. Каменев участвовал в «заговоре» с Тухачевским, Егоровым, Гамарником, другими военачальниками, объявленными «врагами народа». Почти на два десятилетия имя Каменева было вычеркнуто из истории. Например, в Малой Советской Энциклопедии, вышедшей в 1931 году, ему посвященаспециальная статья, но ни в первом (1937 г.), ни во втором (1953 г.) изданиях Большой Советской Энциклопедии нет даже упоминания о Сергее Сергеевиче Каменеве. И только в наши дни его имя вернулось в историю нашего героического прошлого. Г. А. Каменев
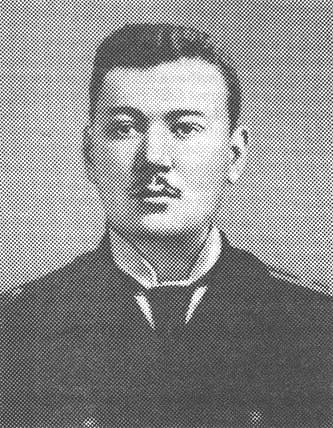
Альтфатер Василий Михайлович
Годы жизни: 1883―1919. Советский военачальник. Участник первой мировой войны, контр-адмирал. С февраля 1918 г. член коллегии Наркомата по морским делам, с октября — член РВСР, первый командующий морскими силами Республики…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Утром 31 марта 1904 года русская эскадра под командованием вице-адмирала С. О. Макарова возвращалась в гавань Порт-Артура. Море было спокойным, и только порывистый, холодный ветер поднимал легкую зыбь… Вдруг мощный взрыв вздыбил шедший впереди под флагом командующего броненосец «Петропавловск». Окутанный густым облаком дыма, огромный корабль в считанные минуты исчез в морской пучине, лишь горстка людей барахталась в воде, уцепившись за плавающие обломки. К месту трагедии со всех сторон устремились катера и шлюпки. Одной из шлюпок командовал младший штурманский офицер крейсера «Аскольд» В. М. Альтфатер. Держался он спокойно, отдавал четкие команды, помогая матросам вытаскивать из воды оглушенных взрывом раненых и обожженных моряков. Гибель Макарова до глубины души потрясла Альтфатера. Как и все защитники Порт-Артура, он с энтузиазмом встретил назначение Макарова командующим Тихоокеанской эскадрой. Подтянутый, молодцеватый, энергичный и напористый адмирал был кумиром флотской молодежи. Таким он и остался в памяти Альтфатера, награжденного «за отличную распорядительность» при спасении моряков с броненосца «Петропавловск» орденом Св. Анны 4-й степени с надписью: «За храбрость». В то время отважному офицеру едва исполнился двадцать один год. Позади была учеба в Морском кадетском корпусе, походы в Средиземном море и в Тихом океане, участие в операциях против японской эскадры. Об этом свидетельствует следующий документ: «В походах и боях против неприятеля был: 27 января 1904 года на крейсере 1-го ранга „Аскольд“ при атаке японскими миноносцами на Порт-Артурском рейде, 28 января на том же крейсере в эскадренном бою с японским флотом на рейде Порт-Артура, 11 февраля на том же крейсере совместно с крейсерами „Баян“ и „Новик“ в перестрелке с японскими крейсерами на Порт-Артурском рейде, 12 февраля совместно с крейсерами „Баян“ и „Новик“ в бою с японским флотом, состоящим из 18 кораблей на том же рейде, 26 февраля во время бомбардировки Порт-Артура неприятельским флотом, 9 марта в эскадренном бою с японским флотом на рейде Порт-Артура». В конце июля 1904 года крейсер «Аскольд» принял последний бой в Желтом море. Неприятельской эскадре удалось окружить русские корабли. Видя это, начальник отряда крейсеров контр-адмирал Рейценштейн решил идти на прорыв вражеского кольца. Во главе кильватерной колонны шел крейсер «Аскольд», который выдержал бой с несколькими японскими кораблями, отбил минную атаку, утопив при этом один миноносец противника. Обладая преимуществом в скорости, «Аскольд» сумел оторваться от преследования. Однако из-за серьезных повреждений, полученных в бою, и недостатка угля крейсер был вынужден уйти в Шанхай, где был интернирован. Через год Альтфатер вернулся на Родину, служил на Балтийском флоте, успешно окончил в 1908 году Морскую академию. Получив высшее военное образование, В. М. Альтфатер плавал старшим штурманом, затем старшим офицером на канонерской лодке «Бобр», являлся флагманским штурманом штаба начальника 1-й минной дивизии Балтийского флота. В октябре 1910 года его назначают флагманским штурманом начальника действующего флота Балтийского моря. Альтфатер зарекомендовал себя исполнительным, добросовестным и трудолюбивым офицером. Эти его качества не остались незамеченными. В 1912 году Альтфатера переводят в оперативную часть Морского Генерального штаба, а с началом первой мировой войны он возглавил военно-морское управление 6-й армии, которой в оперативном отношении подчинялся Балтийский флот. Под руководством Василия Михайловича в южной и юго-восточной части Балтийского моря была создана система активных минных заграждений, усилена оборона Моонзундского архипелага и Свеаборгской крепости. 1917 год В. М. Альтфатер встретил на посту помощника начальника Морского Генерального штаба. После победы Октябрьского вооруженного восстания он в качестве военного эксперта при советской делегации принимал участие в переговорах с Германией в декабре того же года. К этому времени у него окончательно созрело решение стать в ряды защитников революции. В своем рапорте он писал: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу, и так, как могу. Но я не знал вас и не верил вам. Я и теперь еще многого не понимаю в вашей политике. Но я убедился в одном, я убедился, что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришел сказать вам, что я ваш».[97] В этом небольшом по объему, но емком по содержанию документе отражены наиболее характерные черты автора: патриотизм, честность, искренность, скромность. Кадровый офицер, выходец из семьи военного, Альтфатер рассматривал службу на флоте не в качестве средства к существованию, а как профессию защитника Родины. Потомственный дворянин, он «благодаря только своим личным качествам, своим способностям, уму и талантам начал выдвигаться еще при старом режиме, и в 33 года… дослужился до чина контр-адмирала».[98] Осенью 1918 года молодое Советское государство вело неравную борьбу с силами внешней и внутренней контрреволюции. 2 сентября было принято постановление ВЦИК о превращении страны в военный лагерь. Создаются новые органы высшего военного руководства, и в том числе учреждается должность командующего всеми Морскими Силами Республики (Коморси). Предстояло решить вопрос о кандидате на эту должность. Об этом говорилось на заседании Реввоенсовета Республики, состоявшемся 9 октября в Козлове. Участники заседания Л. Д. Троцкий, И. И. Вацетис, К. А. Мехоношин, К. X. Данишевский и К. К. Юренев приняли постановление: «Для установления тесной связи военного и морского ведомств и для обеспечения правильного быстрого проведения решений Реввоенсовета по морскому ведомству необходимо включить в Реввоенсовет Республики авторитетного представителя Морведа. Реввоенсовет останавливается на В. М. Альтфатере и ходатайствует перед Советом Народных Комиссаров об утверждении Альтфатера в качестве члена Реввоенсовета Республики. Революционный военный совет Республики постановляет: военный моряк Василий Михайлович Альтфатер назначается командующим всеми Морскими Силами Республики».[99] Через три дня, 12 октября, Совнарком под председательством В. И. Ленина рассмотрел вышеназванное постановление РВСР. К собравшимся обратился Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов: — Я ранее предложил кандидатуру Альтфатера на должность члена коллегии Народного комиссариата по морским делам. И должен отметить, что не ошибся в своем выборе. Василий Михайлович добросовестно отнесся к обязанностям военного эксперта на переговорах с Германией. По указанию Владимира Ильича он успешно провел операцию по переброске гидросамолетов с Балтики в Вологду и по переводу по Мариинской водной системе на Волгу четырех эсминцев для усиления Волжской военной флотилии. Предлагаю утвердить товарища Альтфатера в должности члена Реввоенсовета Республики. К тому времени Альтфатер имел заслуженный авторитет среди военных специалистов старой русской армии. Учитывая это, с ним не раз советовались руководители Советской Республики, поручая ему ответственнейшие задачи. После завершения переговоров в Бресте Альтфатер активно включился в работу по созданию нового, Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Начало интервенции стран Антанты и расширение масштабов гражданской войны требовали проведения неотложных мер по совершенствованию организационной структуры флота и системы управления им. Кроме того, коллегиальная форма руководства в лице Центробалта, засоренного соглашательскими и дезорганизаторскими элементами, не обеспечивала успешного решения сложных задач, стоявших перед флотом. Поэтому Совнарком в начале марта 1918 года принял постановление о роспуске Центробалта, введении должности главного комиссара Балтийского флота и учреждении Совета комиссаров Балтфлота. 29 марта на заседании СНК РСФСР был заслушан доклад помощника начальника Морского генерального штаба В. М. Альтфатера об управлении Балтийским флотом. Участники заседания одобрили внесенный им проект. 8 апреля «Временное положение об управлении Балтийским флотом» было объявлено приказом по флоту и морскому ведомству. В соответствии с этим документом, разработанным Альтфатером, во главе Балтийского флота ставились начальник морских сил Балтийского моря и главный комиссар Балтфлота. Начальник морских сил Балтийского моря пользовался правами командующего флотом и нес полную ответственность за деятельность флота, а главный комиссар являлся старшим представителем Советской власти на флоте. Введение в действие «Временного положения» позволило улучшить руководство Балтийским флотом, который в последующем сыграл важную роль в защите морских подступов к Петрограду. В конце апреля 1918 года В. М. Альтфатер по предложению Я. М. Свердлова был назначен членом коллегии Народного комиссариата по морским делам. В этой должности Василий Михайлович выполнил ряд заданий, полученных непосредственно от Владимира Ильича Ленина. В начале августа резко обострилась обстановка на Севере, в районе Архангельска. На морских подступах к Архангельскому порту сосредоточилась английская эскадра с крупным десантом. 1 августа интервенты подошли к городу, где вспыхнул антисоветский мятеж. В тот же день В. И. Ленин позвонил члену коллегии Наркомвоена Э. М. Склянскому и спросил, что можно сделать для обороны Архангельска. — Со мною рядом находится Альтфатер. Он говорит, что флот и береговая охрана ничего не смогут сделать, — ответил Склянский. — Передайте ему, чтобы он рассмотрел вопрос об использовании авиации. Альтфатер учел предложение Ленина. 9 августа он направил члену коллегии Наркомвоенмора С. Е. Саксу телеграмму следующего содержания: «По приказанию Председателя Совнаркома, переданного мне Высшим военным советом, благоволите самым экстренным образом, минуя все препятствия, отправить все три готовых и погруженных уже на платформы гидро (гидропланы. — В. Д.) Беломорского отряда в Вологду в распоряжение [члена коллегии] нарком [воен] а Кедрова и военрука Архангельского района. Гидро должны быть снабжены летчиками, бомбами и прочим материалом, необходимым для действия аппаратов. Остальные три гидро Беломорского отряда ускорьте отправкой сколь это возможно. Одновременно телеграфировал Онуфриеву (комиссар управления морской авиации. — В. Д.), который находится в Петрограде. Прошу сообщить, когда выйдут эшелоны. Дело крайне экстренно». В сентябре 1918 года из состава воздушного дивизиона особого назначения, дислоцировавшегося в Ораниенбауме, на архангельское направление были переброшены первые три гидросамолета. Они выполняли задачи по разведке противника, уничтожению вражеских самолетов и разбрасыванию агитационной литературы над расположением белогвардейских войск. В последующем гидроавиаотряд во взаимодействии с Северо-Двинской речной военной флотилией сыграл большую роль в защите Котласа. Летом 1918 года Коммунистическая партия и Советское правительство принимали все меры по укреплению Восточного фронта, войска которого вели ожесточенные боевые действия против белочехословацкого корпуса и белогвардейцев. На Восточный фронт перебрасывались войска, оружие, боеприпасы и военные корабли. По распоряжению Ленина в начале августа из Балтийского моря на Волгу по Мариинской системе вышли четыре миноносца типа «Сокол»: «Поражающий», «Прыткий», «Прочный» и «Ретивый». Ответственность за своевременную отправку миноносцев была возложена на Альтфатера. 11―12 августа он доносил, что для ускорения продвижения «Соколов» посланы «агитаторы от Аралова и „толкачи“ от наркома главода Зуля». Однако переход кораблей осуществлялся медленно, что свидетельствовало о явном саботаже со стороны командования. Поэтому коллегия Наркомвоенмора 15 августа распорядилась арестовать начальника дивизиона миноносцев Б. А. Карпинского и командира «Ретивого» В. К. Раабена. По указанию Владимира Ильича Ленина Альтфатер подготовил телеграмму за подписями Ленина и Склянского комиссару и старшему командиру отряда миноносцев с требованием о быстрейшем завершении погрузки орудий и снарядов и отправке кораблей в Нижний Новгород. 27 августа командующий Волжской военной флотилией Ф. Ф. Раскольников сообщил В. И. Ленину о прибытии балтийских миноносцев на Волгу и об их участии в боевых действиях. Одновременно В. М. Альтфатер занимался организацией перехода на Волгу и Каспий подводных лодок с Балтики. Ленин внимательно следил за ходом организации. Узнав о ее задержке, он 28 августа направил Альтфатеру следующую записку: «Как стоит вопрос об отправке подводных лодок на Волгу и в Каспийское море? Верно ли, что лишь старые подводки можно отправить? Сколько их? Когда дано распоряжение об отправке? Что вообще сделано?»[100] Альтфатер в своем ответе сообщил, что пригодные для переброски подводные лодки еще подыскиваются и выясняется возможность их отправки. Владимира Ильича столь неопределенный ответ не удовлетворил. 29 августа он потребовал от Альтфатера принять конкретные меры по скорейшему направлению подводных лодок на Волгу и Каспий. «Я прошу завтра (30/8), — писал Ленин, — мне это сообщить точно, официально. Ибо дело с посылкой подводок не терпит отлагательства ни на минуту».[101] В. М. Альтфатер немедленно выехал в Петроград, где наметил и организовал отправку четырех подводных лодок. В сентябре — октябре из Петрограда по железной дороге были переброшены две подлодки — «Минога» и «Макрель», а несколько позднее «Касатка» и «Окунь». К середине ноября первые две лодки своим ходом из Саратова прибыли в Астрахань, а к началу навигации 1919 года к ним присоединились и две другие лодки. В. М. Альтфатеру приходилось выполнять и ряд других указаний В. И. Ленина, касающихся формирования и повышения боеспособности озерных и речных военных флотилий. Несмотря на все трудности, Василий Михайлович успешно справлялся с поставленными задачами. Это обстоятельство, кроме прочих факторов, сыграло решающую роль при назначении Альтфатера на должность члена РВСР. В Центральном военно-морском музее хранится копия мандата, выданного Альтфатеру 15 октября 1918 года: «Товарищ Василий Михайлович Альтфатер на основании постановления Совета Народных Комиссаров от 12 октября с. г. назначается членом Революционного военного совета Республики. Ввиду крайне важных и ответственных задач, поставленных тов. Альтфатеру, всем властям и организациям Российской Социалистической Федеративной Советской Республики предлагается оказывать ему, тов. Альтфатеру, незамедлительно всякое содействие по выполнению возложенного на него поручения под страхом ответственности перед Революционным трибуналом». Мандат подписал Председатель СНК РСФСР В. И. Ленин. Он же 16 октября подписал постановление Совнаркома о назначении В. М. Альтфатера командующим всеми Морскими Силами Республики. Василий Михайлович тогда не мог и предполагать, что судьба отвела ему всего лишь еще полгода жизни. Он с головой окунулся в работу, которая требовала полной самоотдачи. На карту было поставлено само существование Советской Республики, и в ее защите не последнюю роль призван был сыграть флот. Но требовалось прежде всего выработать новые организационные основы флота и определить наиболее приемлемые способы его применения. Поэтому Альтфатер в первую очередь занялся решением этих проблем…Василий Михайлович засиживался в своем кабинете частенько далеко за полночь. В накинутой на плечи морской тужурке он сосредоточенно изучал кипы бумаг, лежавших на большом письменном столе. Время от времени отрывался от чтения, устало протирал глаза, вставал и задумчиво мерил шагами кабинет из угла в угол. «Коренное изменение международной обстановки в связи с военными неудачами Германии на западном фронте, — размышлял Василий Михайлович, — выдвигает в срочном порядке на очередь вопрос о дальнейшей судьбе Балтийского флота. В настоящее время возможны два пути решения вопроса о Балтийском флоте: перевод всех кораблей в состояние долговременного хранения, что займет до трех месяцев, или подготовка их к выходу в море к началу навигации в новом году». — Надо иметь в виду и следующее: Англия и ее союзники примут меры к ограничению флота Германии, а это создает возможность изменения условий Брестского договора в отношении бассейна Балтийского моря, и в частности Финского залива. Эта проблема может возникнуть и ввиду возможного воссоединения с Россией Прибалтики. И в-третьих, вопрос о Балтийском море выдвигается на первый план ввиду возможного нападения Англии и ее союзников морем на Петроград. Эти слова он сказал уже на третий день после вступления в новую должность. До окончания первой мировой войны и аннулирования грабительского Брест-Литовского мирного договора оставался еще почти месяц. И надо было обладать даром предвидения, умением глубоко проникать в сущность происходивших в мире политических и военных процессов, чтобы столь верно определить дальнейший ход событий… Словно опасаясь потерять нить своих рассуждений, Василий Михайлович быстро вернулся к столу, опустился в кресло и начал торопливо писать: «Всякие решения вопроса о Балтике в первую очередь требуют наличия у нас реальной морской силы — флота; при этом ввиду весьма быстрого темпа изменения обстановки задачи на Балтике могут появиться скоро или во всяком случае к весне, когда физико-гидрографические условия Балтийского морского театра делают последний пригодным для навигации и действия морской вооруженной силы. Имея же в виду преподанное ныне задание в отношении Балтийского флота и производство вследствие сего работ по консервированию кораблей, может случиться, что в нужную минуту Балтийский флот не сможет быть быстро в боевой готовности и в конечном результате не удастся разрешить вопрос о Балтике так, как это будет нужно». Альтфатер подчеркнул, что нет необходимости сохранять «в состоянии вооруженного резерва» все корабли Балтийского флота. Это объяснялось недостатком угля, наличием большого количества старых или устаревших судов. Предлагалось иметь в полной технической готовности и с полным личным составом наиболее сильные и современные корабли, в том числе линейные корабли типа «Севастополь», линкоры «Андрей Первозванный» и «Республика», крейсеры «Рюрик», «Олег» и «Богатырь». Закончив работу над докладной запиской, Альтфатер встал, подошел к окну, за которым поднимался рассвет. Открыв створки окна, он с наслаждением вдыхал свежий утренний ветерок. Ночь пролетела незаметно. Но усталости не было. Сознание того, что удалось наметить наиболее быстрый путь восстановления боеспособности Балтийского флота, удесятеряло силы. Конечно, жена Александра Константиновна снова сделает замечание, что он не бережет себя, надрываясь на службе. Да и дочери — Шура и Ирина — опять скучали без отца. Но что поделаешь, ведь Республика находилась в опасности и все личное отступало перед заботами о защите революции. Отдых будет позже, когда последний интервент и внутренний враг будут изгнаны с родной земли. Докладная записка Альтфатера 12 ноября была рассмотрена членами РВСР и принята за основу. Решено было привести в боевую готовность ядро Балтийского флота и сформировать действующий отряд (ДОТ). Однако ограниченные возможности судоремонта, недостаток обученного личного состава не позволили сразу вплотную заняться этой работой.
Осенью 1918 года особенно остро встал вопрос об организации обороны Волги, Камы и Каспия. В этой связи требовалось принять меры по усилению Южного и Восточного фронта. Данная проблема стала предметом обсуждения на совещании, созванном по инициативе главкома И. И. Вацетиса. В работе совещания участвовали члены РВСР В. М. Альтфатер, П. А. Кобозев и А. П. Розенгольц. Иоаким Иоакимович Вацетис кратко охарактеризовал обстановку, сложившуюся на фронтах, проинформировал собравшихся о предполагаемых перебросках войск на Южный и Восточный фронты. Затем он обратился к Альтфатеру: — Василий Михайлович, чем может помочь флот сухопутным войскам? — Морской генеральный штаб детально проработал вопрос об отправке части сил Волжской военной флотилии в Астрахань. Целесообразно выделить для создаваемой Астрахано-Каспийской флотилии эсминцы «Деятельный», «Дельный» и «Расторопный». Кроме того, в Астрахань можно направить идущие из Петрограда эсминцы «Финн» и «Москвитянин» и теплоход «Припять». — А как вы предусматриваете разделить сферы ответственности обеих флотилий? — спросил Розенгольц. — Предлагаю определить между ними разграничительную линию, проходящую через Камышин, Николаевскую, — ответил Альтфатер. — Все корабли, действующие южнее этой линии, войдут в состав Астрахано-Каспийской флотилии, а севернее — в Волжскую флотилию… — Вероятно, следует сразу решить вопрос и о назначении командующих флотилиями, — прервал Альтфатера Кобозев. — Наши предложения на этот счет следующие: командующим Волжской флотилией оставить Федора Федоровича Раскольникова, а на Астрахано-Каспийскую назначить Сергея Евгеньевича Сакса. Предложения Альтфатера были приняты. Со второй половины ноября 1918 года дел у В. М. Альтфатера прибавилось. Германия потерпела поражение в первой мировой войне, и 13 ноября Советское правительство аннулировало Брест-Литовский мирный договор. Красная Армия получила задачу: занять очищаемые оккупантами территории Прибалтики и Белоруссии. На нарвском направлении продвигались войска 7-й армии под командованием Е. А. Искрицкого (с 28 ноября Е. М. Голубинцев), которому в оперативном отношении была подчинена часть Балтийского флота. В. М. Альтфатер в конце ноября вместе с членом РВСР Ф. Ф. Раскольниковым выехал в Петроград, чтобы на месте проверить готовность кораблей флота к выполнению возложенной на него задачи. Осмотр произвел удручающее впечатление: почти все суда были разукомплектованы, стояли без вооружения и топлива. Василий Михайлович со свойственной ему решительностью приказал начальнику морских сил Балтийского моря С. В. Зарубаеву привести в кратчайший срок в боевую готовность те корабли, которые были менее всего разукомплектованы. Одновременно Альтфатер вызвал к себе командира крейсера «Олег» А. В. Салтанова, познакомил его с приказом о высадке десанта в Гунгербурге и поддержке огнем корабельной артиллерии наступавших вдоль побережья соединений 7-й армии. Для выполнения приказа был сформирован особый отряд в составе крейсера «Олег», эсминцев «Меткий» и «Автроил», трех мелкосидящих транспортов с десантным отрядом на борту. После полудня 28 ноября десантники высадились на левом берегу Наровы и при поддержке огня с «Олега» заняли Гунгербург. На следующий день отряд под командованием Салтанова без потерь вернулся в Кронштадт. Альтфатер и Раскольников сразу же доложили Ленину и Вацетису об успешном завершении первой десантной операции Балтийского флота. После поражения Германии ее место в Финском заливе заняла английская эскадра под командованием контр-адмирала А. Синклера. Англичане нападали на советские торговые суда, которые следовали в скандинавские порты с мирным грузом, захватили четыре парохода в Ревеле (ныне Таллинн). Их агрессивные действия создали серьезную угрозу на северо-западе страны. В своем докладе в Реввоенсовет Республики в конце ноября главком И. И. Вацетис в числе наиболее опасных направлений назвал петроградское со стороны Финляндии, Балтийского моря и Прибалтики (от Ревеля). Поэтому он выдвинул в качестве одной из задач оборону Петрограда и всего северо-западного района со стороны Финляндии и Прибалтийского края. Для успешного решения данной задачи предусматривался выход сухопутных войск вплоть до Рижского залива, действия которых должны были прикрывать силы Балтийского флота. На них возлагалась оборона Финского залива против возможности форсирования его флотом противника с вынесением линии обороны до меридиана Ревель — мыс Поркалауд. В. М. Альтфатер прекрасно понимал всю сложность задачи, стоявшей перед флотом. Прежде всего он позаботился об организации разведки Ревельского рейда и порта, отдал распоряжение начальнику морских сил Балтийского моря выслать с этой целью подводную лодку «Тур» и эсминец типа «Новик», а также три истребителя для проведения воздушной разведки. Одновременно осуществлялась подготовка кораблей и личного состава к операции по уничтожению английских судов в Ревельском порту. Приказ о ее проведении был отдан председателем РВСР Л. Д. Троцким без согласования плана операции с главкомом И. И. Вацетисом. Общее руководство операцией возлагалось на В. М. Альтфатера. 24 декабря он прибыл в Петроград и вечером собрал совещание, в котором участвовали Ф. Ф. Раскольников, С. В. Зарубаев, начальник штаба морских сил Балтийского моря А. К. Вейс и начальник оперативной части штаба С. П. Блинов. Сергей Валерьянович Зарубаев доложил Альтфатеру, что из-за неудовлетворительного технического состояния кораблей в операции могут принять участие только линкор «Андрей Первозванный», крейсер «Олег», эсминцы «Спартак», «Автроил» и «Азард». Командовать отрядом особого назначения по указанию Троцкого предстоит Раскольникову. — Какими сведениями о противнике располагает штаб флота? — спросил Альтфатер. — Несмотря на ряд разведывательных поисков, не удалось установить численность английской эскадры, — ответил Александр Константинович Вейс. — Поэтому предлагаю ограничить задачи отряда. — Я думаю, что на товарища Раскольникова следует возложить задачу только по проведению глубокой разведки, — сказал Зарубаев. — Если же выяснится наш перевес в силах над англичанами, то необходимо навязать противнику бой и уничтожить его. Альтфатер внимательно выслушал собравшихся, встал и, подойдя к висевшей на стене карте, начал излагать план предстоящей операции: — Линкор «Андрей Первозванный» под командованием Загуляева остается в тылу у Шепелевского маяка, прикрывая подходы к Кронштадту. Крейсер «Олег» выдвигается к острову Готланд, а миноносцы «Спартак» и «Автроил» проникают к Ревелю с целью выяснения численности английского флота и расположения неприятельских батарей на островах Нарген и Вульф. В случае встречи с превосходящими силами противника приказываю миноносцам отойти к Гогланду под прикрытие тяжелой артиллерии «Олега». Если же ситуация обострится, то всем кораблям немедленно отступать к Кронштадту, заманивая англичан к Шепелевскому маяку, где их встретит «Андрей Первозванный». Василий Михайлович хорошо сознавал, что операция предстоит весьма рискованная ввиду недостатка сил. Он тщательно проинструктировал Раскольникова и обсудил с ним все возможные варианты действий. — Особенно остерегайтесь английских легких крейсеров, вооруженных шестидюймовой артиллерией и обладающих тридцатипятиузловым ходом, — напутствовал он Федора Федоровича. После совещания Альтфатер, Зарубаев и Раскольников выехали в Ораниенбаум, где пересели на ледокол, доставивший их в Кронштадт. Здесь Василий Михайлович тепло попрощался с Раскольниковым и моряками, которым предстояло совершить опасный поход. Альтфатер долго стоял у пирса, наблюдая за уходящими вдаль кораблями. Какая-то необъяснимая грусть охватила его. Он словно чувствовал, что уже никогда не увидит ни Раскольникова, ни матросов… План операции, разработанный, казалось бы, тщательно, с самого начала не выдерживался. Миноносец «Азард», только что вернувшийся из плавания, нуждался в заправке топливом и мелком ремонте. Поэтому принять участие в походе не смог. «Автроил», затертый льдом в Петрограде, не успел вовремя соединиться с главными силами отряда. Раскольников, нарушив указание Альтфатера, двинулся для обстрела Ревеля лишь на одном эсминце «Спартак». В результате он был атакован пятью быстроходными английскими легкими крейсерами и захвачен ими. Такая же участь постигла затем и «Автроил». Взятые в плен краснофлотцы были переданы белоэстонцам, которые расстреляли большинство из них на острове Нарген. Ф. Ф. Раскольников вернулся из английского плена только в конце мая 1919 года. Мрачные предчувствия Альтфатера, к сожалению, сбылись. В. М. Альтфатер тяжело переживал случившееся. Он понимал, что значительная доля вины лежит и на нем как организаторе и руководителе неудачной операции. Для расследования причин трагедии была образована Особая комиссия в составе начальника Морского генерального штаба Е. А. Беренса, представителя Полевого штаба РВСР Петрова, начальника морского оперативного отделения РВСР Г. С. Пилсудского, комиссара оперативного отдела Полевого штаба РВСР Васильева. Председателем комиссии был член реввоенсовета Балтийского флота С. П. Нацаренус. В своем заключении, представленном в РВСР, комиссия отмечала, что разведка перед началом операции была организована слабо, боевые корабли не были полностью подготовлены к операции, план которой не отвечал сложившейся обстановке. В докладе не содержались какие-либо обвинения в адрес Альтфатера. Однако он воспринял близко к сердцу все замечания и наметил меры к тому, чтобы исключить впредь подобного рода ошибки. Главный вывод, который сделал для себя Альтфатер, состоял в том, что необходима серьезная работа по превращению флота в действительно боевой организм. В первую очередь следует повысить уровень работы штабов, боеспособность частей и кораблей, улучшить материально-техническое снабжение флота. 20 января 1919 года в Петрограде под руководством В. М. Альтфатера было проведено совещание с участием начальника Морского генерального штаба, членов РВС Балтийского флота, старших морских начальников в Кронштадте и Петрограде. Перед собравшимися выступил Альтфатер: — Товарищи! Политическая и военная обстановка требует от нас к началу навигации иметь в боевой готовности отряд из возможно большего числа кораблей для решения оперативных задач в Финском заливе. О необходимости создания такого отряда я уже докладывал Реввоенсовету Республики во второй половине октября прошлого года. Сейчас предстоит предпринять практические шаги в этом направлении. Какие будут предложения? — На мой взгляд, одним из условий готовности флота к весне является прекращение всех операций на море, — сказал начальник морских сил Балтийского моря А. П. Зеленой, — тем более что эти операции стали уже невозможными из-за льда, покрывшего Финский залив. — Целесообразно включить в состав действующего отряда Балтийского флота наиболее боеспособные корабли, в том числе линкоры «Петропавловск» и «Андрей Первозванный», крейсера «Олег» и «Светлана», — вступил в разговор начальник Морского генерального штаба Е. А. Беренс. Свои предложения высказали члены РВС Балтийского флота В. И. Пенкайтис и А. В. Баранов, старшие морские начальники Кронштадта Н. И. Паттон и Петрограда А. Н. Сполатбог. Итоги совещания подвел В. М. Альтфатер. — В целях обеспечения своевременного приведения флота в боевую готовность, — сказал он, — ответственность за проведение в жизнь всех мероприятий возлагается на реввоенсовет Балтийского флота, который должен еженедельно докладывать в морской отдел Реввоенсовета Республики о ходе работы. Операции на море прекратить, чтобы успеть к весне отремонтировать все суда. По результатам совещания был подготовлен и направлен в Реввоенсовет Республики соответствующий доклад. Проект состава Действующего отряда Балтийского флота был утвержден почти без изменений и объявлен приказом РВСР от 15 марта 1919 года. В. М. Альтфатер постоянно держал в центре своего внимания ход работы по восстановлению боеспособности флота и формированию его ядра — Действующего отряда. Балтийские моряки совместно с рабочими Кронштадта и Петрограда сумели в короткий срок отремонтировать корабли и подготовить их к выходу в море. К началу навигации Действующий отряд включал два новых и один старый линкор, крейсер, шесть эсминцев и семь подводных лодок, а всего 51 военный корабль. Отряд в последующем сыграл большую роль в защите морских подступов к Петрограду и в борьбе с флотом интервентов, рыскавшим в Финском заливе. Оценивая деятельность Альтфатера, Е. А. Беренс впоследствии отмечал, что «если Советская Республика сохранила свой военный флот, то здесь главная заслуга и первая честь принадлежит именно Василию Михайловичу».[102] В. М. Альтфатер, решая неотложные практические задачи, находил время и для разработки теоретических основ применения флота. Интерес к теоретическим изысканиям проявился у него еще в период учебы в Морской академии. В ту пору Альтфатер увлекался математикой и дружил с известным кораблестроителем профессором академии А. Н. Крыловым. Жена Альтфатера, Александра Константиновна, вспоминала, что Василий Михайлович и Алексей Николаевич часто «переписывались» математическими задачами. Математические познания пригодились Альтфатеру и в период службы на штурманских должностях. В должности флагманского штурмана начальника действующего флота Балтийского моря В. М. Альтфатер явился инициатором оборудования так называемого стратегического фарватера в шхерах, который был проложен вдоль северного побережья Финского залива и по нему могли проходить даже линейные корабли. В 1919 году В. М. Альтфатер опубликовал в журнале «Морской сборник» статью «О приморских крепостях». Статья содержала анализ основных ошибок, допущенных при постройке морских крепостей. С началом нового, 1919 года забот у командующего всеми Морскими Силами Республики прибавилось. Наряду с формированием Действующего отряда Балтийского флота, В. М. Альтфатер решал вопросы укомплектования, ремонта и пополнения запасов речных и озерных военных флотилий. В первых числах апреля в соответствии с постановлением Совета Обороны Альтфатер совместно с сотрудниками Морского генерального штаба наметил меры по мобилизации морских офицеров, имевших ранее отсрочки, а также младших специалистов и технического персонала. Особое внимание уделял он укреплению морских подступов к Петрограду. Это было обусловлено непосредственной угрозой Петрограду со стороны английского флота, блокировавшего восточную часть Финского залива и оказывавшего поддержку белогвардейским войскам, действовавшим на суше. Английская газета «Таймс» 17 апреля писала: «Лучшим подступом к Петрограду является Балтийское море… а Петроград — ключ к Москве». Морской генеральный штаб под руководством Альтфатера наметил ряд мер по организации обороны Петрограда. Предусматривалось поставить минные заграждения в Финском заливе и на Неве, привести в боевую готовность Балтийский флот, Ладожскую военную флотилию и Кронштадтскую крепость, подготовить к взрыву мосты через Неву. Однако В. М. Альтфатеру не суждено было претворить в жизнь намеченное. В ночь на 20 апреля 1919 года он скоропостижно скончался от инфаркта. Первый командующий Морскими Силами Республики был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Решением Совнаркома от 11 сентября 1920 года для постройки памятника на могиле В. М. Альтфатера было выделено около двух с половиной миллионов рублей. Имя Альтфатера было присвоено вооруженному пароходу «Петроний», канонерской лодке «Донец» и бывшему эсминцу «Туркменец-Ставропольский». Прошло семь десятилетий со дня смерти В. М. Альтфатера. Однако историки еще в большом долгу перед его памятью. Еще предстоит написать книги о флотоводческой деятельности Альтфатера, о его вкладе в создание и развитие Советского Военно-Морского Флота. Дайнес В. О. ─ кандидат исторических наук

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович
Годы жизни: 1883―1939. Советский государственный и военный деятель, дипломат. Член партии с июня 1917 г. В октябре 1917 г. один из руководителей штурма Зимнего. В марте — мае 1918 г. — Верховный главнокомандующий советскими войсками юга России, в январе — июне 1919 г. командующий Украинским фронтом, член РВСР с сентября 1918 г. по май 1919 г…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
26 октября 1917 года. После падения Зимнего дворца и ареста Временного правительства был образован Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. В Комитет по делам военным и морским с П. Е. Дыбенко и Н. В. Крыленко вошел В. А. Антонов-Овсеенко. Ему поручены военный наркомат и внутренний фронт. Ленин знал Антонова-Овсеенко как профессионального революционера, как отважного военного работника партии.Родился Владимир Александрович в 1883 году в Чернигове, в семье капитана Овсеенко, участника русско-турецкой войны. Учился в Воронежском кадетском корпусе, в Санкт-Петербургском пехотном училище, которое давало будущим офицерам основательную подготовку. Кроме специальных предметов — военной истории и географии, тактики, топографии, фортификации, артиллерии, военной администрации, законоведения — юнкера изучали и общеобразовательные. Все это пригодится Антонову-Овсеенко впоследствии — и на военной, и на партийной работе. Тогда, в 1902 году, Владимир Александрович становится членом РСДРП, основывает в училище военно-революционную организацию — ВРО, достает и распространяет нелегальную литературу. А в 1905 году оставляет военную службу, уходит в подполье. Пройдут десятилетия. И всякий раз, заполняя очередную анкету, на вопрос: «Ваше занятие до Октябрьской революции?» — Антонов-Овсеенко отвечает: «Профессиональный революционер с весны 1905 года». Пропаганда в войсках Кронштадтского гарнизона, арест и заключение в военную тюрьму, работа в военной организации ПК РСДРП… Антонов-Овсеенко был первым ответственным редактором газеты «Казарма», членом Петербургского комитета партии. Революционное подполье знало его под именем Стефан Дольницкий, Штык, Никита, Антон Сергеевич Кабанов. После поражения первой российской революции В. А. Антонову-Овсеенко пришлось эмигрировать. В 1910 году он приезжает в Париж. Когда разразилась первая мировая война, Антонов — под этой фамилией знали его российские эмигранты — предпринял выпуск интернационалистской газеты «Наш голос». Выходившая почти ежедневно, преследуемая цензурой, она не раз меняла свое название — «Голос», «Наше слово», «Начало», «Новая эпоха», но сумела продержаться до весны 1917 года. Редакция в целом занимала центристскую позицию, за что Ленин подвергал ее резкой критике, но он же отмечал близость к «Социал-демократу» левого крыла, имея в виду и Антона Гальского. Под этим псевдонимом Владимир Александрович выступал постоянно с боевыми антивоенными статьями. Грянула Февральская революция. К работе в редакции прибавились агитация в войсках, выступления на улицах и площадях Парижа. В апреле 1917 года В. А. Антонов-Овсеенко возвращается в Петроград.
Апрель семнадцатого… Переломный месяц в истории нашей Родины. Приезд Ленина, знаменитые Тезисы вождя партии. 24 мая в «Правде» опубликовано письмо Антона Гальского: «…я не счел для себя возможным примкнуть совместно с другими нашесловцами к „межрайонной организации“ и прошу принять меня в ряды партии, стоящей на разделяемой мною платформе 24―29 апреля…» О войне и солдатских правах, о выборах в городскую думу и политике Керенского, о земле и безработице, о будущем России спорили тогда повсюду. По заданию бюро большевистского ЦК Антонов-Овсеенко выступает на митингах, потом отправляется в Гельсингфорс. Напутствуя Владимира Александровича накануне его отъезда из Питера, Свердлов напомнил, что Финляндия — боевой тыл революции. Здесь стоит Балтийский флот, прикрывающий морские пути к Петрограду. Партия рассчитывает на поддержку гельсингфорсской базы Балтийского флота и гарнизона крепости. В Гельсингфорсе стоял тогда 42-й пехотный корпус. Здесь был большой крепостной гарнизон и много рабочих — портовых, заводских — финнов и русских. Экипаж кораблей насчитывал десять тысяч моряков. Политический флагман флота — старый броненосец «Республика» с крепким большевистским судовым комитетом. С этого корабля и начал Антонов. Потом — выступления на «Диане», «России», «Андрее Первозванном», «Славе»… Но по-настоящему родным стал первый корабль. Недаром эсеры и меньшевики прозвали Антонова «большевистским попом с „Республики“». Один за другим выносят корабли большевистские резолюции. Здесь, в Гельсингфорсе, — штаб революционных моряков — Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт). В нем тогда преобладали меньшевики, но председательствовал большевик Павел Дыбенко. Много сил вложил он в организацию Центробалта, который вопреки противодействию меньшевиков вскоре превратился в действительно представительный руководящий орган Балтийского флота. Установилась связь с кораблями Черного моря. Центробалт послал туда моряков, которые добавили революционного огонька черноморцам. В Гельсингфорсе находилась главная база Балтийского флота: линкоры, вторая бригада крейсеров, большая часть эсминцев, вспомогательных судов. Антонов почти ежедневно выступает на кораблях, участвует в редактировании большевистской «Волны». С 16 по 23 июня в Петрограде работала Всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП(б). С докладом о текущем моменте и по аграрному вопросу выступил Ленин. На конференции Антонов-Овсеенко был избран — вместе с М. С. Кедровым, Н. В. Крыленко, К. А. Мехоношиным, В. И. Невским, Н. И. Подвойским, Е. Ф. Розмирович и другими активными работникамипартии в армии — в состав Всероссийского бюро военных организаций. После расстрела июльской демонстрации Временное правительство вызвало в столицу надежные части с фронта. Приступили к разоружению революционных полков и отрядов рабочих. Черносотенцы громят большевистские газеты. Издан приказ об аресте Ленина. Питер на осадном положении. Тем временем в Гельсингфорсе напуганный размахом революционного движения Совет создает смешанную редакционную комиссию «для уточнения позиции». От большевиков в комиссию вошел Антонов. Резолюция получилась большевистской. Но Совет откровенно правеет. Силы реакции поднимают голову в Гельсингфорсе. Дело идет к ликвидации Центробалта. Революционные суда выведены на «учебные стрельбы». Эсеры и меньшевики окончательно перешли в лагерь контрреволюции. Антонова-Овсеенко вместе с другими видными большевиками арестовывают и препровождают в петроградские «Кресты». Однако уже через месяц, после голодовки политических, Временное правительство вынуждено всех выпустить. Сенатская площадь в Гельсингфорсе. Теперь уже социал-соглашатели спасаются от гнева матросов и солдат. Власть в Гельсингфорсе в руках революционного комитета. Это первый в стране ревком. Он контролирует правительственные учреждения и воинские части Финляндии через комиссаров Измайлова, Савоськина, Сасова, Палагина… На долю Антонова-Овсеенко выпадает труднейшая миссия: он комиссар при финляндском генерал-губернаторе. На Балтике зреет немецкая угроза Петрограду. Центробалт укрепляет подступы к Финскому заливу. Корабли готовятся отразить атаки германского флота. Все совершается без всякого приказа Временного правительства. Насмерть стоят боевые корабли революции у ворот красного Питера. Восемь дней длится неравный бой с громадным германским флотом. Погибли сотни отважных моряков, затонули корабли, но интервенты были остановлены. 10 октября на историческом заседании Центрального Комитета принята ленинская резолюция о вооруженном восстании. Назавтра — открытие Северного областного съезда. О том, какое значение придавал Ленин этому съезду, как много ждал от него, свидетельствует письмо Владимира Ильича к большевикам — делегатам съезда. Дважды повторяет Ленин в своем письме, что лозунг «Вся власть Советам!» есть призыв к восстанию. «Под Питером и в Питере — вот где может и должно быть решено и осуществлено это восстание, как можно серьезнее, как можно быстрее, как можно энергичнее». Открывая съезд, Антонов-Овсеенко от имени организационного бюро сообщил о ходе подготовки и о составе делегатов. Владимир Александрович выступил по четырем важным пунктам повестки дня. О том, как съезд Советов Северной области выполнил свою главную задачу, Антонов позднее писал: «Питер облечен был в надежную броню, предохранявшую его от возможных нападений; установлены были взаимная связь и осведомление…» «Мы пользовались северным объединением для практических революционных нужд, подготовили связи с отдельными Совдепами, давали им поручения и разные задания и если не формально, то уже на деле управляли рабочими, солдатами и крестьянами в громадном крае (больше любого европейского государства) при помощи Советов». В начале октября ЦК приступил к организации Петроградского военно-революционного комитета — будущего штаба восстания. 21 октября ВРК утвердил состав своего руководящего органа — Бюро: председатель П. Е. Лазимир, заместитель председателя Н. И. Подвойский, секретарь В. А. Антонов-Овсеенко, заместитель секретаря Г. Н. Сухарьков, пятым членом Бюро стал А. Д. Садовский. Имеются сведения об участии в этом заседании Ленина. В деятельности Петроградского ВРК партия применяла принцип коллегиальности руководства. Это находило свое подтверждение в той свободе, с которой члены ВРК подписывались и за председателя, и за секретаря комитета. На документах, опубликованных в сборнике «Петроградский ВРК», за время с 21 по 25 октября в качестве председателя и за него подписи ставили кроме Лазимира Антонов-Овсеенко, Мехоношин, Подвойский, Пупырев, Садовский, Свердлов, Скрыпник, Сухарьков, еще больше членов ВРК подписывалось за секретаря. Для стиля работы комитета характерно, что председатель не осуществлял руководство единолично, а секретарь не был ни заместителем, ни помощником председателя в современном понимании этих терминов. В период подготовки вооруженного восстания Владимир Александрович лишь однажды, по уполномочию ЦК, выезжал из Петрограда. 15 октября он участвовал в работе 1-й конференции большевистских армейских организаций Северного фронта в Вендене, где собрались делегаты трех армий и русских гарнизонов в Финляндии, представлявшие 13 тысяч большевиков. В Венден он прибыл по поручению Ленина — выяснить готовность революционных частей Северного фронта к вооруженному восстанию. На другой день, 16 октября, Антонов участвует в работе чрезвычайной конференции Социал-демократической партии Латвии в городе Валке. Владимир Александрович информировал делегатов о решении ЦК начать в ближайшее время вооруженное восстание и поставил перед латышскими стрелками задачу — занять все стратегические пункты 12-й армии и выставить заслон на пути возможного движения контрреволюционных войск к Петрограду. Приступая к практической подготовке вооруженного восстания, ВРК предусмотрел участие в нем армии, отрядов рабочих Красной гвардии и военных моряков. Особое место в деятельности ВРК занимала военно-техническая подготовка. В одном из первых распоряжений комитет предписал завкому патронного завода выдавать боеприпасы только по разрешению ВРК: Лазимира, Дзержинского и Антонова. Сохранились подписанные Антоновым документы на выдачу оружия и патронов районным штабам Красной гвардии и воинским частям. «…Ни одна винтовка без ведома нашего комиссара, — заявил Владимир Александрович на заседании Петроградского Совета 23 октября, — из Кронверкского арсенала выпущена не будет». Однако не все члены ВРК, да и Центрального Комитета партии сознавали необходимость немедленного восстания. Зиновьев, например, пытался убедить Антонова-Овсеенко в том, что выступать не следует. И революционная ситуация-де на Западе не созрела, и положение наше шаткое, и сил недостает, и противник уж очень боеспособный попался… — Если вы сможете доказать, что, взяв власть, продержимся хотя бы две недели, — говорит Зиновьев, — то я буду за восстание. — Спорить бесцельно, — отвечал Антонов. — Мы уже в бою. Надо победить или умереть! Ленину во время встреч на конспиративных квартирах с военными руководителями пришлось подталкивать нерешительных. В памяти Антонова-Овсеенко осталась встреча с Лениным на квартире Дмитрия Павлова 20 октября. В этот день газеты опубликовали ложное сообщение об аресте Ленина. Из воспоминаний В. А. Антонова-Овсеенко: «…Ильич снял парик, очки и искрящимся юмором взглядом сразу окинул нас. — Ну, что нового? Новости наши не согласовывались. В вопросе о нашей готовности к выступлению Невский и Подвойский были настроены довольно скептически. Я уже указывал, что в Питере мы гораздо сильнее, чем это им кажется. Северный съезд показал, что окрестные гарнизоны также с нами. Рассказываю о положении в Финляндии. Моряки с крупных судов настроены весьма революционно, часть пехоты тоже, а команды некоторых миноносцев и подводок малонадежны, свеаборгские артиллеристы все еще в плену у соглашателей. Казаки-кубанцы внушают опасения, но Выборгский гарнизон берется не выпускать их из Финляндии». Из воспоминаний М. Г. Павловой: «Ленин засыпал Владимира Александровича вопросами, его интересовали детали. Он сидел спиной к голландской печи, облицованной белым кафелем. Когда настала очередь Подвойского и он заговорил о необходимости отодвинуть вооруженное выступление дней на десять, Ленин поднялся и стал горячо доказывать пагубность всяких отсрочек». План вооруженного восстания, в общих чертах намеченный Лениным еще в сентябре 1917 года, разрабатывался при участии военных работников партии. Исходя из главной цели восстания — свержения буржуазно-помещичьего строя, — ВРК наметил оперативные задачи по захвату главных опорных пунктов, баз снабжения, центров связи и возможных узлов сопротивления: Петропавловской крепости, мостов, вокзалов, штаба военного округа, Адмиралтейства, банков. В оперативном плане нашли отражение все вопросы, решающие успех: мобилизация боевых сил — солдат, красногвардейцев, матросов, расположение частей революционной армии, охрана ВРК, райкомов партии, штабов, а также типографий и редакций газет, главных коммуникаций. И еще организация заслона против вызванных Временным правительством подкреплений. 24 октября, когда выяснилось, что Временное правительство укрылось в Зимнем дворце и превратило его в опорный пункт, Военно-революционный комитет выработал план атаки дворца. «Принят был предложенный мною план захвата Временного правительства в Зимнем дворце», — писал Антонов в «Известиях» 6 ноября 1918 года. В дни подготовки восстания и решающего наступления руководители ВРК и многие его члены работали круглосуточно, почти без сна, на пределе физических сил. Контрреволюция принимает свои, подчас энергичные меры, но события показали, что созданный вокруг Петрограда революционный заслон представляет собой мощную действенную силу: ни одна контрреволюционная часть, вызванная Временным правительством, в город не попала. Революционное командование позаботилось не только о ближайших резервах — боевым резервом восставшего Петрограда являлся весь Балтийский флот. Именно так понимал свою задачу Центробалт. Когда команды линкоров «Республика» и «Петропавловск» потребовали отправки в столицу, Дыбенко ответил: «Вы — резерв. Потребуетесь, и вас пошлем». Антонов-Овсеенко лично встречал и направлял некоторые отряды балтийцев на позиции. Руководил подготовкой захвата Зимнего дворца Полевой штаб, возглавленный Антоновым-Овсеенко. Кроме того, для обеспечения оперативности руководства создавались мобильные группы в составе Антонова, Благонравова, Чудновского, Дзениса, Еремеева, Подвойского. Отдельные оперативные задания выполняли Каллис, Мальков, Невский, Лацис и другие члены ВРК. Утром 25 октября Антонов-Овсеенко составил ультиматум. Вечером, в начале седьмого, он вызвал в Петропавловку двух самокатчиков — А. Галанина и В. Фролова — и вручил им пакет с ультиматумом. Пакет был адресован главнокомандующему Петроградским военным округом. Объявив от имени ВРК Временное правительство низложенным, Владимир Александрович предложил его защитникам капитулировать. В случае отказа революционные войска, по истечении 20 минут, открывают огонь. Ультиматум скреплен двумя подписями: председателя ВРК В. Антонова и комиссара Петропавловской крепости Г. Благонравова. Около полуночи перед Антоновым-Овсеенко появился Чудновский с отрядом павловцев. Он сказал, что готов вторично пройти во дворец — предложить юнкерам сдаться. Антонов дал согласие. Посылая Чудновского в Зимний, Антонов выполнял волю ВРК, стремившегося избежать напрасного кровопролития. Подробности штурма Зимнего достаточно известны. Приведем лишь свидетельство моряка Н. А. Ховрина: «Дело явно не обошлось бы так просто, если бы перед дверьми не появился вдруг Антонов-Овсеенко. Его лицо, обрамленное длинными волосами, выглядело утомленным, но и в то же время было решительным. Услышав его спокойный, твердый голос, все сразу же почувствовали в нем командира».

Аралов Семен Иванович
Годы жизни: 1880―1969. Советский военный и государственный деятель. Член партии с 1918 г. В сентябре 1918 г. — июле 1919 г. член РВСР, одновременно в октябре 1918 г. — июне 1919 г. военком Полевого штаба РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Во 2-м Обыденском переулке, в гостеприимном доме Семена Ивановича Аралова, часто встречались друзья, прошедшие вместе с ним по дорогам гражданской войны. На этот раз встреча была необычной. Произошла она в 1962 году. Семена Ивановича разыскала одна из первых пионерок Украины — Зинаида Алексеевна Первомайская, которую, как и многих осиротевших в гражданскую войну детей, приютила детская трудовая колония, созданная при реввоенсовете 12-й армии в 1920 году по инициативе Семена Ивановича Аралова и его жены, учительницы Софьи Ильиничны. Долгий и трудный жизненный путь прошел С. И. Аралов, и особое место в нем заняли годы гражданской войны. С января 1918 года С. И. Аралов руководил оперативным отделом (сокращенно его именовали «оперод») при Чрезвычайном штабе Московского военного округа, созданным для формирования отрядов Красной гвардии. Сначала он назывался фронтовым, а затем — оперативным отделом. 18 марта оперод был передан в ведение Наркомвоенмора и начальником оставили С. И. Аралова. В оперод, а впоследствии в Реввоенсовет Республики Семен Иванович был назначен не случайно. К 1918 году у него за плечами было четыре года боевых действий. В июле 1914 года призванный по мобилизации из запаса армейской пехоты, он был направлен командиром роты в 215-й Сухаревский пехотный полк и уже в конце августа повел своих бойцов в бой у города Даркемен на Восточно-Прусской границе. После разгрома немцами 1-й армии 215-й полк был расформирован и Аралова перевели в 114-й Новоторжский полк. В послужном списке штабс-капитана Семена Ивановича Аралова, составленном в августе 1917 года, перечисляются ордена, полученные «за отличия в делах против неприятеля». Свой первый орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом он получил 9 мая 1915 года, а 25 мая был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и 29 мая произведен в поручики. В декабре 1916 года штабс-капитан С. И. Аралов получил пятый орден. 14 февраля 1917 года, за две недели до революции, он получает новое назначение — старшим адъютантом штаба 174-й пехотной дивизии. В личной карте № 206 делегата 2-го съезда политработников Красной Армии, проходившего в Москве 18 декабря 1920 года, в графе «время вступления в РКП (год и месяц)» Семен Иванович Аралов записал: «1904 и 1918». Но впоследствии он всегда указывал одну дату — «март 1918 года». Эта дата вошла и в биографические справки в энциклопедиях — военной и по истории гражданской войны, с указаниями, что «до этого состоял в партии меньшевиков-интернационалистов». Действительно, после Февральской революции Аралов активно включился в работу войсковых организаций. В мае 1917 года его избрали председателем дивизионного комитета 174-й пехотной дивизии, а в июне — председателем социал-демократической фракции армейского комитета 3-й армии. В это время он занимал оборонческую позицию, искренне веря, что Временное правительство во главе с Керенским способно решить все задачи, выдвинутые революцией. Как представитель 3-й армии он принимал участие в работе Государственного совещания в Москве (август). Предпарламента (октябрь), был избран членом ЦИК второго состава. Однако тесная связь с солдатами, постоянные выступления на митингах совместно с большевиками заставили Аралова усомниться в правильности линии Временного правительства, произошла эволюция его взглядов. В автобиографических записях, написанных в 1964 году и хранящихся в фонде С. И. Аралова в Институте военной истории, находим объяснение этому факту. Семен Иванович писал, что в марте 1918 года, вскоре после переезда правительства в Москву, он был принят В. И. Лениным, который подробно расспрашивал его о работе. Из разговора было понятно, что Владимир Ильич хорошо знал о его политических взглядах в различные периоды 1917 года. Оценивая деятельность меньшевиков-интернационалистов в разговоре с Араловым, он дал положительную оценку деятельности армейских демократических организаций и отмечал, что комитеты в армии сыграли свою роль. В заключение беседы Ленин выразил уверенность в том, что теперь Аралов твердо стоит на позиции большевиков, и был удивлен, что это еще не оформлено юридически. «Заявление Ленина меня глубоко тронуло, — писал Аралов. — Я воспринял это со всей серьезностью. С марта 1918 года я считаю себя настоящим коммунистом-большевиком. Позднее товарищи по партийной работе, в частности С. Землячка, да и другие не менее ответственные в партии лица предлагали мне включить в партстаж время работы в партии 1902―1907 годы, но по длительному размышлению я все же пришел к выводу, что примыкание к социал-демократам интернационалистам и ошибки, свершенные в июне 1917 года (Аралов активно агитировал за наступление на фронте. — Т. К.), не дают мне этого морального права».[103] После Октябрьской революции Аралов служил в 114-м Новоторжском пехотном полку, находившемся в то время в Гельсингфорсе. В неопубликованных воспоминаниях он рассказывал об этом времени: «С первых же дней своего приезда в полк я не только полностью встал на платформу большевиков и Советской власти и решительно высказывался в их поддержку и защиту, но и активно включился в политическую и общественную жизнь и работу полка, разъясняя и пропагандируя декреты Советской власти и Совета Народных Комиссаров, объясняя солдатам суть политики и тактики большевиков. Тогда начала работать полковая школа, и я принял участие и в ее открытии и в занятиях с солдатами». В январе 1918 года в полк поступило распоряжение о демобилизации военнослужащих старших возрастов и учителей. Обе эти статьи касались и Аралова — он уволен в запас, так как был старослужащим — призыва 1901 года — и учителем. 25 января 1918 года С. И. Аралов прибыл в Москву в распоряжение московского уездного воинского начальника. Его мечтой было начать учительствовать. Но судьба распорядилась иначе. В эти дни Семен Иванович встретился с комиссаром Московского военного округа Емельяном Ярославским, которого знал еще с 1906 года, когда они вместе работали в военной организации Московского Комитета партии. Аралов писал об этой встрече, которая определила его будущее: «Знал он и о моей работе в комитетах (армейский комитет 3-й армии. — Т. К.) и военмина, и о примыкании к социал-демократам интернационалистам. Подробно расспросив меня о моих взглядах и планах на будущее, Ем. Ярославский повел меня в штаб Московского военного округа и познакомил с его руководителями — старым большевиком Н. И. Мураловым, членом Московского ревкома Аросевым и другими товарищами. После беседы с ними мне предложили заняться организацией фронтового отдела». Речь шла о фронтовом отделе Московского областного комиссариата по военным делам. Впоследствии фронтовой отдел был преобразован в оперативный и передан Наркомату по военным и морским делам. Таким образом, Аралов оказался во главе органа, который до сформирования Полевого штаба Реввоенсовета Республики в течение полугода осуществлял оперативное военное руководство фронтами, налаживал снабжение армии оружием и боеприпасами, оказывал помощь партизанским отрядам, занимался укреплением дисциплины. «Дом на Пречистенке, № 37, где помещался оперативный отдел, походил на улей, — вспоминал Семен Иванович. — С утра до глубокой ночи там было полно народу. Приезжали увешанные гранатами и всеми видами холодного и огнестрельного оружия матросы и солдаты, начальники существующих и несуществующих отрядов, разные самозванные „главковерхи“ — требовали винтовок, пулеметов, патронов, артиллерии и снарядов. Появлялись анархисты и левые эсеры, доказывая, что только они умеют воевать, а остальные никуда не годятся. Непрерывным потоком приходили телеграммы с требованиями оружия, людей, начальников. Голова шла кругом от разговоров, просьб и угроз». Из оперода ежедневно направлялись В. И. Ленину оперативные и политические сводки, информационные бюллетени, доклады по интересовавшим его специальным вопросам. Через оперод он поддерживал связь с действующей армией, руководил боевыми операциями. Аралов вспоминал, как Ленин вызывал его в кабинет для доклада у карты обстановки на фронтах, требовал самых подробных объяснений и успехов и неудач. Он превосходно знал военную обстановку, отчетливо представлял дислокацию частей, помнил командиров и комиссаров. «Ленин учил нас прислушиваться к суждениям командиров и красноармейцев, не отрываться от боевых частей и отрядов, — писал Аралов. — Теперь, говорил он, много инициативных солдат, без инициативы и успех невозможен. Беседовать с ними, считаться с их мнением архиважно. Ленин требовал от нас вести самую беспощадную борьбу с расхлябанностью». Оперативный отдел Наркомвоена решал все вопросы оперативной деятельности Восточного фронта и активно помогал складывающемуся Южному фронту. Но существующая в это время децентрализация в военном ведомстве очень осложняла и затрудняла работу — руководство войсками пытались также осуществлять оперативное управление Всероссийского Главного штаба и Высшая военная инспекция. Этот параллелизм постоянно вносил путаницу. И не случайно возник вопрос о создании единого центра оперативного руководства войсками. Этот вопрос поставил Н. И. Подвойский. 27 августа 1918 года он телеграфировал в Совнарком, ВЦИК, Наркомвоен и Высший военный совет, что объединение командования всеми Вооруженными Силами Республики в самостоятельном органе «не только настоятельно необходимо, но и в случае промедления смерти подобно». Он предложил организовать Ставку Верховного командования, а до ее сформирования управление всеми вооруженными силами и снабжение войск всем необходимым передать Высшему военному совету, соединив его с оперативным отделом Наркомвоена. Ставке же дать широкие полномочия и ответственность ее установить только перед Совнаркомом. С. И. Аралов, как начальник оперода, принял участие в обсуждении вопроса о руководстве Вооруженными Силами Республики. Сначала он также высказался за организацию Ставки. Но, прочитав проект Подвойского, предложил свой вариант. В телеграмме В. И. Ленину, Я. М. Свердлову, Н. И. Подвойскому, Э. М. Склянскому и И. И. Вацетису в тот же день, 27 августа, Аралов писал: «Оперод считает, что передача Высшего военного совета в его полном составе со всеми отделами в распоряжение главкома Вацетиса дает возможность организовать Ставку быстро, без всяких трений и пертурбаций. При такой передаче выиграет и дело снабжения. Что касается создания особого военного аппарата, подчиненного Совету Народных Комиссаров, то этот вопрос настолько серьезен и сложен, что к решению его подойти сразу невозможно». Советское правительство, создавая высший военный оперативный центр, отклонило предложение именовать его «Ставка» и, беря в основу идею создания революционных военных советов в армиях, назвало высший военный орган «Революционный военный совет Республики (РВСР)». Он был образован 6 сентября на основании постановления ВЦИК. Все военные ведомства и учреждения подчинялись Реввоенсовету Республики — высшему коллегиальному органу управления Красной Армией и Флотом. Руководство боевыми операциями на фронтах осуществлял Полевой штаб Реввоенсовета, в который влился на основании приказа РВСР оперод. 8 октября 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил Семена Ивановича Аралова членом Реввоенсовета Республики. Он возглавил Оперативное управление, преобразованное из оперативного отдела Наркомвоена. В первое время ему был подчинен и военно-политический отдел Реввоенсовета. 9 октября постановлением Реввоенсовета Республики С. И. Аралов был утвержден членом Военно-революционного трибунала при РВСР. 24 октября приказом Реввоенсовета Республики член РВСР С. И. Аралов был назначен комиссаром Полевого штаба, а 28 октября приказом № 39 по Полевому штабу было объявлено о его вступлении в должность военкома. Это означало, что и здесь решение всех оперативных вопросов должно проходить при непосредственном участии С. И. Аралова: все директивы Главного командования, все доклады в правительство о положении на фронтах гражданской войны составлялись при его участии, его подписью скреплялись все документы Полевого штаба. Аралову, как члену РВСР, часто приходилось выезжать вдействующую армию — на Восточный, Южный, Западный фронты, в Петроград, Двинск, Архангельск. Иногда поездки были совместные с председателем РВСР Л. Д. Троцким или начальником Полевого штаба Ф. В. Костяевым. В беседе с корреспондентом газеты «Известия» член РВСР С. И. Аралов так оценил значение этих поездок по фронтам: «…Очень большую роль в создании Красной Армии сыграл Троцкий своими объездами фронта, налаживанием связи центра с местами, указаниями центру на слабые места фронта. Где бы ни появлялся тов. Троцкий, положение немедленно изменялось к лучшему, и нередки были случаи, когда благодаря его присутствию мы переходили от поражений к победам. Много посодействовал тов. Троцкий устойчивости нашей армии, ее революционности, ее живой и тесной связи с рабоче-крестьянскими массами».[104] 30 ноября 1918 года ВЦИК образовал Совет Рабоче-Крестьянской Обороны во главе с В. И. Лениным. Новому органу предоставлялась полнота прав в мобилизации всех сил и средств страны в интересах обороны. Одновременно тем же постановлением из состава Реввоенсовета Республики выделялось Бюро из трех человек в составе председателя Л. Д. Троцкого, главкома И. И. Вацетиса и военкома Полевого штаба С. И. Аралова. Бюро Реввоенсовета должно было поддерживать постоянные контакты с Советом Обороны и совместно оперативно решать вопросы обороны страны. Таким образом, устанавливалась прямая связь В. И. Ленина с Реввоенсоветом Республики. Несколько раз, как вспоминает С. И. Аралов, Ленин приезжал в Серпухов, в Полевой штаб: «Беседа Владимира Ильича с сотрудниками штаба РВСР, а также с фронтовыми командирами и комиссарами была теплой, задушевной… Улыбаясь, приветствовал собравшихся словами: „Здравствуйте, товарищи комиссары и командиры!“ Разговаривая с людьми, он интересовался ходом призыва молодежи в армию, суждением рабочих и крестьян о войне, продразверстке. Своим собеседникам Ильич внушал, что надо с особым вниманием относиться к пленным и перебежчикам из армии противника». Близко зная С. И. Аралова как инициативного и честного работника, ЦК РКП(б) и В. И. Ленин поручили ему, как члену Реввоенсовета Республики, выступить на VIII съезде партии. На VIII съезде РКП(б), проходившем 18―23 марта 1919 года в Кремле, в зале бывшего здания судебных установлений, в котором размещался Совет Народных Комиссаров, среди других важных вопросов в повестке дня стоял вопрос: «Военное положение и военная политика». В. И. Ленин выступил с большой речью по этому вопросу. Кроме этого, основные положения военной политики были сформулированы в Отчетном докладе ЦК, в Программе РКП(б) и в тезисах ЦК по военному вопросу. Доклад ЦК РКП(б) о военном положении и военной политике партии сделал Г. Я. Сокольников, который подвел итог работы по строительству и укреплению Красной Армии. Перед открытием съезда, 16 марта, В. И. Ленин вызвал Аралова из Серпухова в Москву. Во время беседы с ним Владимир Ильич подробно разъяснил основные вопросы, которые надо осветить в докладе и главное — доложить съезду подлинную обстановку, не скрывая недостатков, разложения тех или иных воинских частей (например, в 3-й армии, на Северном Кавказе, на Южном фронте, под Царицыном). «Ничего не скрывать — ни хорошего, ни плохого. Партийный съезд, сказал он, должен все знать, чтобы принять правильное решение по основным, узловым пунктам строительства, укрепления Красной Армии… Ленин напомнил, что положение грозно сейчас и будет грозно дальше. Рекомендовал так и сказать: „Грозно“. Он посоветовал рассказать о роли военных специалистов, как старых генералов, так и молодых офицеров, назвать их фамилии, указать, какую пользу они приносят Красной Армии, обучая наших солдат и командиров». Ленин советовал подчеркнуть, что военные специалисты — это интеллигенция, вышедшая из буржуазной и мелкобуржуазной среды, и их настроения и колебания отражают политическое состояние в стране. С ними надо работать, их надо воспитывать, создав им благоприятную обстановку для работы. Необходимо было доложить съезду о вреде партизанщины, остановиться в докладе на таком важном вопросе, как партийно-политическая работа среди красноармейцев и командиров, роль и значение комиссаров и политработников для создания дисциплинированной армии. Вечером 21 марта на пятом, закрытом заседании съезда был заслушан доклад члена РВСР С. И. Аралова. Возле трибуны поместили большую карту, на которую нанесли цветные линии фронтов, зеленым цветом — на начало 1918 года, синим — на конец 1918 года, а красным — к моменту съезда. Аралов сказал, что «за последние два с половиной месяца фронт расширился до 8 тысяч верст, то есть до такого расстояния, какого никогда не было ни в какой войне. Это говорило о большом успехе Красной Армии. Но в последние дни наблюдался поворот к худшему, и я остановился на основных причинах этого». Охарактеризовав начальный период строительства Красной Армии, докладчик отметил, что, несмотря на подвиги отдельных партизанских отрядов, из-за отсутствия единого командования, связи и должной организации войска терпели поражение. И только после того, «когда мы перешли к единому командованию, к организации центра, когда мы добились того, что центр руководил местами и они подчинялись ему», с этого периода наступил перелом, начались первые успехи Красной Армии. Далее Аралов подчеркнул, что одна из причин поражений в настоящее время — это плохое снабжение и санитарное состояние армии, а главное — продолжающаяся разрозненность действий отдельных воинских частей. Много внимания в докладе было уделено роли военных специалистов. «Какую область вы ни возьмете — снабжение, технику, связь, артиллерию, постройку фронтонов, мостов, — для этого нужны военные специалисты, а их у нас нет». Он доложил съезду, что, по подсчетам военного ведомства, в Красной Армии недоставало до 60 процентов военных специалистов. Весна 1919 года ознаменовалась особенно тяжелыми боями. Новое наступление объединенных сил Антанты и белогвардейцев было предпринято одновременно на всех фронтах. Колчак пытался соединиться с Деникиным, который начал форсированное наступление. Петрограду угрожал Юденич. Создалось чрезвычайно опасное положение для Страны Советов. Необходимо было превратить страну в единый военный лагерь, в котором военный союз советских республик создал бы возможность централизованного использования вооруженных сил, людских и материальных ресурсов. Для этого пришлось срочно решать многие новые проблемы. Например, не было единства в формировании воинских частей в республиках. Так, на Украине на основе утвержденных Реввоенсоветом Республики штатов формировались только полевые войска, а все прочие части — по своим особым штатам (Наркомвоен Украины разработал и ввел 46 особых штатов). Такая пестрота формирований частей Красной Армии, создаваемых в советских республиках, затрудняла оперативное руководство боевой деятельностью войск. Мобилизации, не проведенные своевременно на Украине, в Латвии и в Литовско-Белорусской республике, оставили большие участки фронта без необходимых людских ресурсов. Время было упущено, и армии этих республик вынуждены были оставить врагу большую часть освобожденной территории. Наркомвоен Украины, занявшись только военно-административным строительством, не выполнил стратегическую директиву Главного командования Красной Армии о помощи Донбассу, что послужило причиной захвата его Деникиным. В связи с этим 21 апреля 1919 года на заседании Совета Рабоче-Крестьянской Обороны выступил В. И. Ленин с докладом «Об усилении работы в области военной обороны». А через два дня, 23 апреля, на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждалась проблема военного единства советских республик. В тот же день Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики И. И. Вацетис и член Реввоенсовета С. И. Аралов направили из Серпухова В. И. Ленину доклад о необходимости создания единой военной организации советских республик. Они писали: «Противники наши сплотились, у них установилось общее командование и создано полное единоначалие в действиях. Мы же поступаем совершенно иначе: РСФСР как бы расколола свое военное единство на две половины — на западную и на восточную, в то же время раздробила также и свою боевую мощь. В западной половине РСФСР образовался ряд советских республик, принявших в настоящее время определенную физиономию сепаратной автономности в вопросах ведения войны. Эстонцы, латыши, литовцы, белорусы, украинцы создают свои армии, свои аппараты Наркомвоена, из которых каждый действует с присущей ему одному специфичностью…» Вскрыв ошибки, допущенные в советских республиках, И. И. Вацетис и С. А. Аралов пришли к выводу: «В настоящее время гражданская война выкристаллизовалась и приняла решительный характер. Остались на поле брани крайние направления: коммунистическое и монархическое. Вышеприведенное дробление вооруженных сил РСФСР на национальные армии в эту решительную минуту является во всех отношениях нецелесообразным и крайне вредным для нашего успеха». Член РВСР Аралов к докладу сделал приписку, в которой выразил свое мнение по предложениям Вацетиса. Он возразил против его предложения о пребывании наркомвоенов в Москве и против прекращения деятельности Всевобуча, предложив сократить его численность от 50 до 75 процентов. Реввоенсовет Республики вынес на специальное заседание 28 апреля 1919 года вопрос о создании единой военной организации и принял постановление: «Тот режим, который установлен сейчас, чрезвычайно и совершенно не оправдываемый с военной точки зрения самостоятельных соседних правительств в деле формирования, снабжения и отчасти даже оперативном отношении, является совершенно пагубным для дела обороны границ Советской Республики». 4 мая пленум ЦК РКП(б) обсудил вопрос «О едином командовании над армиями России и дружественных социалистических республик» и отметил серьезные ошибки в строительстве вооруженных сил, отсутствие единообразия военного аппарата, что привело к поражениям на фронтах. В постановлении говорилось, что «ЦК считает необходимым восстановить в области военного управления и командования строжайшее начало единства и организации и строгого централизма». Было принято предложение Вацетиса и Аралова о создании на территории республики военных округов, подчинив их Реввоенсовету Республики. Для того чтобы выполнить указания ЦК РКП(б), нужно было проанализировать положение на фронтах на начало мая 1919 года. В связи с этим 7 мая Вацетис и Аралов представили В. И. Ленину новый доклад о мерах по укреплению фронтов. Они предложили правительству провести следующие мероприятия: объявить мобилизацию на Украине и всех мобилизованных отправить в запасные батальоны вне Украины, чтобы после подготовки пополнить ими армии Восточного, Южного и Западного фронтов; ввиду слабости командования Украинского фронта назначить командующему Антонову помощника опытного и подготовленного для выполнения стратегической, организационной и мобилизационной работы в Генеральном штабе; на Западном фронте самым решительным образом проводить принцип единоначалия военного и политического. 2 июня 1919 года на заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) обсуждались перемещения ответственных работников Полевого штаба, а 15 июня на заседании ЦК партии утверждались персональные назначения — вместо Костяева начальником штаба был назначен М. Д. Бонч-Бруевич, членом РВСР (комиссаром Полевого штаба) вместо С. И. Аралова — С. И. Гусев. Им было поручено сократить и изменить состав Реввоенсовета Республики (Ставки), базировавшегося в Серпухове. 3―4 июля ЦК вновь вернулся к вопросу о реорганизации Реввоенсовета Республики. Было решено Полевой штаб и РВСР перевести из Серпухова в Москву для более тесной связи его с Советом Обороны. Сократить состав РВСР с 15 до 6 фактически работающих человек (Л. Д. Троцкий — председатель, С. И. Гусев, И. Т. Смилга, Э. М. Склянский, А. И. Рыков — члены РВСР, главком — С. С. Каменев). Всех прежних членов РВСР, в том числе и С. И. Аралова, от звания члена РВСР освободить. Но еще до этого 16 июня Аралов получил новое назначение — члена реввоенсовета 12-й армии. Однако вопрос о его переводе на Украину встал значительно раньше. 17 мая 1919 года председатель РВСР Л. Д. Троцкий в телеграмме в ЦК РКП(б) из Харькова сообщал о тяжелом положении на Украинском фронте и о двух возможностях, с его точки зрения, изменить обстановку: 1) отстранить Антонова, Подвойского и Бубнова от военной работы и создать новый реввоенсовет Украины; 2) упразднить Украинский фронт. В ответ на это предложение В. И. Ленин 21 мая телеграфировал о согласии удалить Подвойского с Украины в связи с его злоупотреблениями властью и одновременно направил телеграмму в Реввоенсовет Республики, в Серпухов, И. И. Вацетису и С. И. Аралову, определив основные оперативные задачи, стоящие перед Украинским фронтом. 3 июня Л. Д. Троцкий в телефонограмме из Харькова В. И. Ленину и заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому настаивал на необходимости заменить украинское командование и преобразовании 2-й Украинской армии в 14-ю. 4 июня приказом РВСР был расформирован Украинский фронт и его войска сведены в 14-ю армию Южного фронта и в 12-ю армию Западного фронта. 5 июня председатель Реввоенсовета в телефонограмме из Харькова своему заместителю передал предложения утвердить в ЦК РКП(б) следующие назначения, вызванные реорганизацией Украинского фронта: РВС 14-й армии — К. Е. Ворошилов, В. И. Межлаук, С. П. Нацаренус; РВС 12-й армии — Н. Г. Семенов, С. И. Аралов, А. Я. Семашко. Назначение было утверждено приказом Реввоенсовета Республики 19 июня 1919 года, подписанным Э. М. Склянским: «Назначить членом РВС 12-й армии С. И. Аралова с оставлением в занимаемой должности члена РВС Республики». В воспоминаниях С. И. Аралов писал о создании 12-й армии: «В муках и тяжелых боях родилась эта армия. С первых дней ее существования я был свидетелем того, как она мужала, росла и закалялась, приумножая свои ратные дела… Перед моим отъездом В. И. Ленин говорил мне, что самое главное, на что следует обратить внимание, — это политическая работа в войсках, борьба с партизанщиной в армии, установление железной дисциплины в частях… Кроме того, Ленин требовал проявления глубокого уважения к украинскому трудящемуся народу, смотреть за спецами, чтобы не оскорбляли своим великодержавным шовинистическим поведением украинцев, и одновременно следить за тем, чтобы националистическо-буржуазный украинский шовинизм (петлюровщина и проч.) не проник в армию. Ильич советовал научиться украинскому языку и внутреннюю переписку вести на родном для народа языке».[105] Фронт 12-й армии был необычайно велик, и обстановка сложилась крайне тяжелая. На западе она вела бои с петлюровскими бандами и польскими частями, на востоке — с деникинцами, на юге, по побережью Черного моря, против нее стояли греческие и венгерские дивизии, на румынской границе — войска генерала Щербачева. В тылу орудовали многочисленные банды. Как члену реввоенсовета 12-й армии С. И. Аралову приходилось воевать вместе с такими отважными командирами Красной Армии, как И. Э. Якир, Г. И. Котовский, Я. Б. Гамарник, Н. Г. Крапивянский, И. Ф. Федько, И. Н. Дубовой, Н. А. Щорс, и многими другими. Сложность работы реввоенсовета 12-й армии заключалась в том, что она была сформирована из частей 1-й и 2-й Украинских советских дивизий, которые, в свою очередь, были сформированы из партизанских отрядов. Командующим армией был назначен бывший царский генерал, служивший много лет в Генеральном штабе, Николай Григорьевич Семенов, по характеристике Аралова — человек честнейший, преданный Советской власти, спокойный и медлительный, не приспособленный к бурным революционным событиям, к неожиданным наступлениям и отступлениям, подвигам и изменам, необычайной исполнительности солдат и прямому игнорированию приказов командования. Семен Иванович Аралов так характеризовал то время на Украине: «Немецкая оккупация, гайдамаки, петлюровцы, белополяки, французские и английские десанты, казацкие и кулацкие восстания, партизанщина, деникинские войска, бандиты и атаманы самых различных мастей, дезертиры, зеленые — все перемешалось, все кричало, пропагандировало, требовало, стреляло, дралось, изменяло, перебегало от одной группы в другую, наступало, отступало. — Ну и обстановочка, — поглаживая пышные усы, часто говорил „наш генерал“, как мы называли Семенова… Своими военными знаниями, огромным опытом штабной работы он способствовал укреплению дисциплины в полках и дивизиях». О том, что делалось в армии, когда реввоенсовет прибыл в Киев, можно судить по его первому заседанию. Одним из первых приказов Семенова был приказ о новых формированиях. Первый ответ пришел через несколько часов из Одессы: «Бывшему генералу не повинуемся. Начдивизии Худяков». Из 1-й Украинской армии получили дипломатический по форме, а по сути такой же ответ: «Приказ получили, но по местным условиям выполнять его не представляется возможным»; из 3-й армии: «Ждем комиссию». Членам РВС стало ясно — проявилась не только партизанщина, но и установившееся отношение к военспецам. Было созвано заседание реввоенсовета, на котором Н. Г. Семенов, Ф. Я. Кон, О. И. Сафонов потребовали предать неповинующихся командиров суду военного трибунала. С. И. Аралов и В. П. Затонский (27 июня введен в состав РВС) возразили — надо искать другой выход. Выступил Затонский: «Товарищи, поймите этих командиров. Ведь вчера еще они были полными хозяевами в своих частях, „батьками“, и вдруг надо кому-то подчиняться, перед кем-то отчитываться, перед бывшим генералом! Конечно, сразу это не переваришь. Безусловно, это отрыжки партизанщины, но из этого не следует, что нам надо рубить с плеча…» После продолжительного и спокойного обсуждения сложившейся обстановки члены РВС решили немедленно всем разъехаться по частям и разъяснить командирам решения VIII съезда РКП(б) о военных специалистах, об укреплении дисциплины и порядка. Как сообщал С. И. Аралов, во многих частях об этих решениях знали понаслышке, не разобрались и пришлось вести большую разъяснительную работу. Конфликт был улажен. Деятельность Семена Ивановича Аралова как члена реввоенсовета 12-й армии была многогранной. Кроме оперативного руководства боевыми операциями, участия в создании новых и переформировании старых воинских частей, политработы (политуправление подчинялось непосредственно ему) были непрерывные объезды дивизий, в результате чего Главное командование получало многочисленные тревожные телеграммы Аралова, аналогичные отправленной в августе 1919 года: «Вследствие безостановочных боев, движения, плохого снабжения и пополнения дивизии, входящие в состав армии, по своему состоянию требуют экстренных мер… дивизии абсолютно во всем нуждаются». И особо подчеркивал, что сведения о боевом составе дивизий далеко не соответствуют действительности. Как и в Реввоенсовете Республики. С. И. Аралов в Киеве активно включился в работу. Одной из первых была поездка в Одессу для организации 45, 47 и 58-й дивизий. Аралов в первую очередь направился к секретарю Одесского губернского комитета РКП(б) Яну Борисовичу Гамарнику. Он так описал эту встречу: «…я и сейчас вижу его лицо с вдумчивыми глазами, с густой черной, длинной, клином, бородой, густыми волосами. Вид у него был солидного дяди, а ему было всего 25 лет. Роста он был среднего, плотного телосложения. Движения неторопливые, говорил не спеша, спокойно, слушал собеседника внимательно…» А разговор был серьезный: украинские войска из-за отсутствия порядка и дисциплины не смогли остановить наступления деникинских войск. Во многих частях еще остались партизанщина, анархия, не было связи между частями. Поэтому губернская партийная конференция решила мобилизовать в армию 50 процентов членов партии. Обсуждая вопрос о формировании и укреплении дивизий, решили устроить смотр частям на Куликовом поле. Рассмотрели и кадровые вопросы: о необходимости привлекать на должности начальников дивизий способных и сильных в военном отношении молодых людей, таких, как И. Э. Якир, И. Ф. Федько, М. П. Гусаров, П. Е. Княгницкий, Ф. Я. Левинзон. При обсуждении кандидатур Гамарник особенно рекомендовал Иону Якира, называя его «природным военным самородком». Когда Семен Иванович возвращался с совещания, его кто-то громко окликнул на Дерибасовской улице. Он увидел группу товарищей, стоявших на балконе одного дома. Они усиленно махали руками и приглашали зайти. Он поднялся к ним. Высокий черноволосый молодой человек представился сам и представил других. Это был И. Якир. — Товарищ Аралов, — сказал Якир, улыбаясь, — мы «безработные». Прибыли по указанию Совнаркома на советско-партийную работу в Бессарабию из 8-й и 9-й армий, но военная обстановка изменилась и мы оказались без работы. Дайте нам дивизию, и будем громить врага на удивление. Ленин останется довольным. Якир, несмотря на его юношескую порывистость, произвел на Аралова чрезвычайно благоприятное впечатление. Он увидел в нем человека, преданного рабочему классу, Коммунистической партии. Говорил Якир обдуманно, взвешивая каждое слово, чувствовалось, что он пользуется в кругу своих военных большим авторитетом. Семен Иванович предложил Якиру возглавить 45-ю дивизию, ставшую одной из лучших на Украине и во всей Республике, Федько — 58-ю дивизию, а Миронченко — 47-ю дивизию. Также получили предложения о назначениях в этих дивизиях и другие товарищи. В тот же день С. И. Аралов, не теряя времени, связался по прямому проводу с командующим 12-й армией Семеновым, изложил ему содержание беседы и свои предложения о назначениях начальниками дивизий Якира, Федько и Миронченко. А через несколько дней было принято решение РВС 12-й армии о назначении их начальниками дивизий. Командующий 12-й армией Сергей Александрович Меженинов, с которым Аралов с марта 1919 по конец 1920 года был членом РВС 12-й, так описывал одну из поездок членов реввоенсовета армии Берзина и Аралова в конную бригаду, которая «разошлась партизанить»: «Надо было спешить с подбором командиров и политработников, которые помогали бы новоявленному командиру-атаману сформировать бригаду… Быстро составили воззвание к „славным бойцам“ конной бригады и объявили, что все верные делу трудящихся должны собраться в Клинцах, где через несколько дней им сделает смотр РВС армии». Смотр производился выстроенным в одну шеренгу эскадронам, растянувшимся на четыре версты. Понятие строя отсутствовало, все толкались, разговаривали, всадники скакали в разные стороны. В настроении бойцов чувствовалось беспокойство и враждебность. Надо было переломить их настроение. И тогда на импровизированной трибуне оказался Аралов. Он обратился к бойцам с краткой, отрывистой вразумительной речью, в которой разъяснил трудности борьбы с многочисленными врагами. — Вот вы прошли всю Украину, дрались в бесчисленных боях и через год вновь очутились в Клинцах, откуда и начали дело освобождения трудящихся. Чем можно объяснить это? Силой врага? Нет, с врагом кучки, а с нами весь трудовой люд. Слабость внутри нас. Надо организоваться, надо выучиться владеть конем и оружием, тогда никакой враг не будет нам страшен. Начались учения. Лавина черных папах, красных башлыков с приподнятыми шашками рванулась вперед. Что-то стихийное, неудержимое чувствовалось в этом порыве, но трудности полевой езды сказались: многие спешились, многие бежали, хромая, за конем, кое-кто остался на месте. После учения начался разбор. Человек мужественный, С. И. Аралов в критические минуты борьбы стремился быть на ее передней линии. В августе 1919 года положение на юге Украины было столь грозным, что председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий созвал срочное совещание в Киеве. Выяснилась тяжелая картина: 13-я армия разбита, бежит, 14-я — почти небоеспособна, деникинские войска подошли к Харькову. Обсуждался вопрос об удержании Одессы и возможности освободить Правобережье, чтобы не оказаться в окружении петлюровцев. Как вспоминал член РВС 12-й армии B. П. Затонский, мнения разделились: военное командование и C. И. Аралов считали невозможным удержать Одессу, Троцкий же требовал держать оборону во что бы то ни стало. Обвиняя членов РВС в неуверенности и нерешительности, он предложил отправить в Одессу одного из членов РВС, чтобы на месте организовать сопротивление и назначить командующего Одесской группой войск. Затонский так описал сложившуюся ситуацию. «В Киеве не могли решить, кому поручить командование объединенными силами. Для нас с Араловым было совершенно ясно, что предприятие безнадежное и что ехать приходится почти на верную гибель. Тов. Аралов выдвинул свою кандидатуру, но я настоял на том, что ехать нужно мне. Дело в том, что в Киеве у нас положение было очень скверное. Требовалась огромная работа по сплачиванию хоть каких-нибудь сил. Товарищ Аралов, бывший военный, имел гораздо больший опыт в этом деле, я же больше годился тогда на роль „главного уговаривающего“ в сношениях со всевозможными партизанами и просто бандитами». Сохранился документ, раскрывающий и другую грань деятельности Аралова — его дипломатические способности. Приведем этот документ полностью. «Мандат реввоенсовета Юго-Западного фронта. 17 октября 1920 г. Предъявитель сего член реввоенсовета 12-й армии Семен Иванович Аралов согласно указанию Главного командования армиями РСФСР уполномочен РВС Юго-Западного фронта принять участие в работе, созываемой по инициативе Польского командования 18 октября, особой делегации для установления деталей состоявшегося прелиминарного соглашения в качестве председателя означенной делегации, что печатью и подписью удостоверяется. А. И. Егоров…»В состав делегации Главного командования армиями РСФСР (так называемой Южной делегации) кроме С. И. Аралова, председателя, входили: Н. Н. Петин — полковник Генерального штаба старой армии, начальник штаба Юго-Западного фронта, А. И. Медель — полковник старой армии, начальник разведывательного отдела штаба Юго-Западного фронта, А. С. Бондаренко — военный комиссар бригады, И. М. Островский — заместитель начальника особого отдела 12-й армии, М. В. Муретов — начальник 24-й дивизии и пять человек — секретариат делегации. В польской делегации было пять человек. Делегации работали в октябре 1920 года в Бердичеве и рассматривали вопрос об установлении демаркационной линии, о нарушении ее со стороны польских и, главным образом, петлюровских частей на участке Юго-Западного фронта. 25 октября председатель Южной делегации С. И. Аралов телеграфировал командованию Юго-Западного фронта, что в результате переговоров принято компромиссное решение по поводу спорных участков линии фронта. Дипломатические способности главы Южной делегации, его такт и выдержка позволили решить очень важный вопрос — удалось отодвинуть границу с Польшей и освободить без боев часть украинской территории. За работой С. И. Аралова внимательно следил нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин. Вскоре после этого стало практиковаться более широкое привлечение партийных и военных работников на дипломатическую работу. 21 ноября 1920 года Реввоенсовет Республики назначил Аралова членом РВС Юго-Западного фронта. После ликвидации 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта 31 декабря 1920 года он получает новое назначение, не менее ответственное — члена РВС Киевского военного округа и помощника командующего по политической части. Здесь ему в первую очередь пришлось решать кадровые вопросы, так как в центральные учреждения, и в том числе в ЦК, забирали опытных работников, а взамен присылали некомпетентных, плохо знающих специфику работы на Украине, а перед округом стояли большие задачи — борьба с бандитизмом, охрана границы и прочее. «При такой чехарде едва ли может пойти работа», — докладывал Аралов в Харьков. Его беспокоил вопрос о массовом отзыве политработников из Красной Армии, в частности из Киевского округа. 16 января 1921 года, выслушав информацию по прямому проводу от помощника командующего Киевским военным округом С. И. Гусева, что, «по приблизительным подсчетам, с фронта уплыло не менее 12 тыс. коммунистов, что превышает наряд ЦК в два с половиной раза», С. И. Аралов предложил обратиться к Скрипнику с просьбой заменить на Украине председателя рабоче-крестьянской инспекции, который смог бы оперативно решить кадровые вопросы. 18 января 1921 года член РВС Киевского военного округа С. И. Аралов получил предписание заместителя председателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянского: выехать в Москву ввиду назначения для работы в Наркомат иностранных дел. Семена Ивановича не обрадовало новое назначение — ему было жаль расставаться с военной работой, которую он хорошо знал и любил. За поддержкой он обратился к командующему войсками Украины М. В. Фрунзе. Во время переговоров по прямому проводу он сообщил Михаилу Васильевичу о предполагаемом переводе, о протесте против его демобилизации Реввоенсовета Республики. Семен Иванович попросил Фрунзе помочь ему остаться на военной работе. Просьбу М. В. Фрунзе ЦК удовлетворил, и 31 января Аралов получил телеграмму следующего содержания: «Харьков. 31.I. Согласно постановлению ЦК от 28 января Вы оставлены (в) Киевском округе. Командвойск Украины Фрунзе». Однако отсрочка была недолгой. 10 апреля Г. В. Чичерин обратился с письмом к В. И. Ленину с предложением назначить С. И. Аралова, К. К. Юренева и А. Г. Шлихтера на дипломатическую работу. 27 апреля Аралов получил мандат СНК о назначении полномочным представителем РСФСР в Литве. 31 августа 1921 года В. И. Ленин поручил С. И. Аралову как полномочному представителю РСФСР в Литве подписать соглашения между РСФСР и Литвой. И началась дипломатическая деятельность Семена Ивановича — за Литвой последовала Турция (пост полпреда), потом Латвия. С 1925 года он член коллегии НКИД СССР. В 1927 году его переводят на работу в Высший совет народного хозяйства, затем он становится членом коллегии Наркомфина. С 1938 года С. И. Аралов — заместитель директора Государственного литературного музея. Когда началась Великая Отечественная война, Семен Иванович ушел на фронт рядовым народного ополчения Киевского района Москвы. В это время ему был 61 год. За тяжелые кровопролитные бои под Вязьмой он получил орден Красного Знамени. Командуя бригадой, дошел до Берлина. За храбрость и отвагу был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, орденами Польской Народной Республики. С 1946 года в течение десяти послевоенных лет этот энергичный, неугомонный человек был на партийной работе. Уйдя на пенсию, он много времени отдавал литературной работе — писал воспоминания о гражданской войне, о военной деятельности В. И. Ленина, о работе полпредом в Турции — воспоминания яркие, интересные. Умер Семен Иванович Аралов 22 мая 1969 года, на девяностом году жизни. В последний путь его провожали три сына, пятнадцать их детей и внуков, друзья по гражданской и Отечественной войнам, питомцы детской трудовой колонии реввоенсовета 12-й армии. Кузьмина Т. Ф. ─ кандидат исторических наук

Гусев Сергей Иванович
Годы жизни: 1874―1933. Член партии с 1896 г. В 1917 г. возглавлял секретариат Петроградского ВРК. Делегат II Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК. С 21 июня по 4 декабря 1918 г. и с 18 мая 1921 г. по 28 августа 1923 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Члена революционного военного совета Восточного фронта Сергея Ивановича Гусева срочно вызвали в столицу. 11 июля 1919 года Владимир Ильич Ленин, по всей видимости повторно, шифром телеграфировал в Симбирск членам РВС фронта С. И. Гусеву и М. М. Лашевичу: «Почему Гусев не едет, нельзя тянуть». Похоже, Гусев выехал сразу же и уведомил об этом, потому что четвертая за этот день депеша Ленина в Симбирск адресована уже одному Лашевичу…Сергей Иванович Гусев (настоящие имя и фамилия Яков Давидович Драбкин) был хорошо известен Ленину. В 1896 году, будучи студентом технологического института, начал революционную деятельность в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Он — один из руководителей Донского комитета, активный искровец, делегат II съезда РСДРП, в период первой российской революции — секретарь Петербургского Комитета партии (декабрь 1904 г. — май 1905 г.), секретарь Одесского комитета, партийный организатор Железнодорожного района Москвы. Активный участник Октябрьского вооруженного восстания в столице (секретарь Военно-революционного комитета) и гражданской войны (член реввоенсоветов ряда армий и фронтов). …Шел 1919 год. Чтобы оказать действенную помощь Колчаку — он терпел на Восточном фронте неудачи, — страны Антанты и белые войска весной ускорили подготовку наступления на Петроград и в начале июня вышли на ближние подступы к нему. Они организовали мятеж в одном из главных опорных пунктов — форте Красная Горка. Грозная опасность нависла над колыбелью пролетарской революции. На юге действовал Деникин, цель которого была захватить Москву. «Опасность катастрофы ввиду прорыва на юге громадная», — писал 6 июня В. И. Ленин. В этих условиях назрела необходимость укрепления Ставки Главнокомандования и Реввоенсовета Республики. 15 июня состоялось заседание Центрального Комитета партии. Оно рассмотрело несколько важнейших военных вопросов: о перемещениях в высшем командном составе и укреплении реввоенсоветов, о Восточном фронте, о контроле за военными специалистами, о переброске воинских частей. Ленин писал: «Большинство Цека пришло к убеждению, что ставка „вертеп“, что в ставке неладно, и в поисках серьезного улучшения, в поисках средств коренного изменения сделало определенный шаг».[106] А уже 16 июня Владимир Ильич направляет письмо в Оргбюро ЦК РКП(б) и Реввоенсовет Республики. Весьма показательно, адресаты здесь перечислены в такой последовательности: тов. Гусеву, Оргбюро Цека, т. Склянскому. Надо вспомнить, так сказать, субординацию: Оргбюро от имени Центрального Комитета решало все текущие дела, Э. М. Склянский — заместитель председателя РВСР. И все-таки Ленин на первом месте упоминает Сергея Ивановича Гусева. 17 июня Совнарком РСФСР под председательством В. И. Ленина утвердил С. И. Гусева в должности по рекомендации ЦК (через день Владимир Ильич подпишет ему служебное удостоверение). Появился следующий документ, № 419/с от 17 июня 1919 года: «Реввоенсовет Республики постановил: на Востфронте продолжать интенсивное наступление с целью наискорейшего решения поставленной главнокомандующим задачи: разбить войска Колчака. Командующему Восточным фронтом срочно представить главнокомандующему план дальнейших операций, исходя из фактического положения на Востфронте». Подписали: Э. Склянский, И. Вацетис, члены Реввоенсовета Республики С. Гусев, А. Окулов. Это явно результат недавнего обращения С. И. Гусева, М. М. Лашевича и К. К. Юренева к В. И. Ленину: заседание ЦК РКП(б) 15 июня отменило распоряжение И. И. Вацетиса о приостановке наступления и обязало главкома отдать новый приказ. Гусев назначен членом РВСР именно потому, что был организатором протеста в отношении неправильных действий главнокомандующего. И не случайно, конечно, что постановление РВСР о продолжении активных боевых действий подписал Гусев. Тем же решением ЦК Сергей Иванович назначен и комиссаром Полевого штаба РВСР. Центральный Комитет поручил С. И. Гусеву вместе с вновь назначенным начальником штаба М. Д. Бонч-Бруевичем изменить состав и сократить численность работников Ставки, резко улучшить ее деятельность. Грозные события на фронтах требовали новых и новых мер со стороны партии и правительства. По сложившейся тогда традиции пленумы ЦК собирались, как правило, дважды в месяц. И почти все они так или иначе касались военных проблем. Одним из самых знаменательных был пленум Центрального Комитета, проведенный 3 и 4 июля 1919 года. Он разработал кардинальные меры по борьбе с главной опасностью — той, что угрожала с юга. Пленуму предшествовали события экстраординарные. Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики Иоаким Иоакимович Вацетис и начальник Полевого штаба Федор Васильевич Костяев были арестованы. При обсуждении в ЦК пункта повестки дня о главкоме Вацетису предъявили серьезные обвинения, которые грозили ему судом. Надо отдать должное принципиальности Гусева: несмотря на свою недавнюю резкую критику действий командующего, тут Сергей Иванович выступил в его защиту. Положение в Ставке изучила следственная комиссия ВЧК под руководством Ф. Э. Дзержинского. Точка зрения Гусева подтвердилась; с Вацетиса обвинения сняли, в августе он приступил к работе в аппарате РВСР; несколько арестованных бывших офицеров, сотрудников Полевого штаба, были амнистированы. Спор возник при обсуждении кандидатуры нового главнокомандующего. Троцкий предлагал назначить Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича. Безусловно, к тому были определенные причины: генерал-лейтенант царской армии, превосходно подготовленный специалист с богатейшим боевым опытом, уже доказал свою честность перед лицом Советской власти. Однако, говорили на пленуме, политически Михаил Дмитриевич аморфен, характером не силен. С. И. Гусев предложил на этот пост Сергея Сергеевича Каменева, и большинство участников пленума проголосовали «за» — Каменева характеризовали как знатока военного дела, работавшего в полном контакте с представителями партии, прежде всего с членом РВС Восточного фронта Гусевым. Пленум предложил перестроить работу Реввоенсовета Республики, сделать его более гибким и оперативным, составить только из людей, которые фактически бы в нем работали (доселе в РВСР входили, среди прочих, и политработники фронтов, занятые прежде всего исполнением своих основных и прямых обязанностей). В новый состав Реввоенсовета выдвинули Л. Д. Троцкого (председатель), Э. М. Склянского (заместитель председателя), А. И. Рыкова, С. С. Каменева, С. И. Гусева, И. Т. Смилгу. Кроме Троцкого и Склянского, все были новыми. Функции — и официально, и фактически — определились сразу же. Председатель Троцкий ездил по фронтам, его заместитель Склянский председательствовал, участвовал в заседаниях правительства и Совета Обороны, Каменев командовал, Рыков занимался снабжением, Смилга возглавил Политуправление РВСР, только что преобразованное из Политического отдела. Гусев стал, по сути, «освобожденным» членом совета и одновременно комиссаром Полевого штаба; почти все приказы, распоряжения, директивы Главного командования подписаны С. С. Каменевым, С. И. Гусевым, начальником штаба П. П. Лебедевым, назначенным несколько дней спустя по предложению Сергея Ивановича: он знал Павла Павловича Лебедева по Восточному фронту… Рекомендовали командующим Восточным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе, Южным — Владимира Николаевича Егорьева, Западным — Владимира Михайловича Гиттиса. Неудовольствие назначениями выразил Сталин: его не устраивало, что чуть не весь командный состав — за исключением Фрунзе — военспецы, все окончили царскую Академию Генерального штаба, Каменев и Гиттис — полковники, Лебедев и Егорьев — генералы. Напомнил, что месяц назад писал Владимиру Ильичу из Петрограда: военспецам доверять нельзя, учиться у них нечему. Пленум отклонил замечания Сталина, одновременно подчеркнув необходимость повышения роли и уровня подготовки комиссаров. Ставку Главного командования и штаб решили перевести из Серпухова в Москву. По поручению пленума 4 июля 1919 года, вечером, Владимир Ильич выступил в Большом театре на объединенном заседании ВЦИК, Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов, ВЦСПС и представителей фабрично-заводских комитетов Москвы с докладом «О современном положении и ближайших задачах Советской власти». После пленума В. И. Ленин пишет обращение «Все на борьбу с Деникиным!», оно было опубликовано в газете «Известия ЦК РКП(б)» как письмо Центрального Комитета к организациям партии. Владимир Ильич характеризовал обстановку как один из критических моментов социалистической революции; призывал снова сделать Республику единым военным лагерем; намечал предельно четкие пути к достижению победы. 8 июля Совнарком под председательством В. И. Ленина принял постановление о смене главнокомандующего и об утверждении нового состава РВСР. 9 июля Владимир Ильич подписал эти постановления. В тот же день он отправил записку Надежде Константиновне (на агитационном пароходе «Красная Звезда» она плыла по Каме): «От замены главнокомандующего Вацетиса Каменевым… я жду улучшения». Вспоминая о том времени, Карл Христианович Данишевский писал: «На заседании ЦК партии особенно резко и убедительно выступал Гусев… Все реплики Владимира Ильича указывали на то… что именно командование Восточного фронта необходимо назначить на этот ответственный пост (в Реввоенсовет Республики. — В. Е.), потому что оно уже научилось бить противника и вполне показало свою преданность делу революции».[107] Да, из шестерых членов РВСР теперь трое были с Восточного (ибо И. Т. Смилга до недавнего времени также входил в его реввоенсовет). А сам Данишевский тогда же был назначен помощником комиссара Гусева в Полевом штабе РВСР. Итак, главным фронтом Республики стал Южный. Как только организационные проблемы в Ставке и РВСР были решены, 15 июля поличному указанию Владимира Ильича в город Козлов Тамбовской губернии, где размещался штаб Южфронта, направились С. С. Каменев, С. И. Гусев, И. Т. Смилга и вновь назначенный членом РВС фронта Г. Я. Сокольников. Новый главком и Гусев ехали в соседних одноместных купе, но всю дорогу просидели вместе. Было о чем поговорить. Сергей Сергеевич волновался: ему казалось, что назначение сопряжено со всякими сложностями во взаимоотношениях внутри Реввоенсовета, что Склянский его лишь успокаивает, когда говорит, что, дескать, все будет в порядке. С. С. Каменев вспоминал: «Исключительную, неоценимую поддержку оказал мне в этот период член РВСР тов. С. И. Гусев. Он более полно ввел меня в курс дела, он помог мне разобраться вобстановке других фронтов, он избавил меня от очень многих неожиданностей». …Они вернулись из Козлова через несколько дней и вскоре докладывали Центральному Комитету во главе с В. И. Лениным разработанный С. С. Каменевым при активном участии С. И. Гусева план контрнаступления. План получил одобрение. 23 июля Главное командование издало директиву войскам Южного фронта за номером 1116/ш, подписанную главкомом С. Каменевым, членом РВСР С. Гусевым, начальником штаба П. Лебедевым и военкомом штаба К. Данишевским. Директива предусматривала силами левого крыла фронта нанести удар по остановленному противнику в направлении Новочеркасска и Ростова, а вспомогательный удар — на Купянск. Начало контрнаступления намечалось на 2―3 августа. Приказ передали из Серпухова телеграфом, с требованием телеграфом же подтвердить получение. Ответ оказался, мягко говоря, неожиданным. Первым откликнулся новый член РВС фронта Г. Я. Сокольников — на следующий же день. Он выражал несогласие с разработанным Ставкой и утвержденным ЦК планом. Затем — 27 июля — последовала телеграмма Л. Д. Троцкого в адрес Э. М. Склянского: «Командюж Егорьев считает оперативный план Каменева для юга неправильным и, выполняя план, не рассчитывает на успех».[108] Председатель РВС Республики, прикрываясь именем командующего фронтом, ставил под сомнение не только распоряжение Ставки, но и решение ЦК. От Ленина — по прямому проводу: «28. VII.1919 г. Шифром Троцкому… …Политбюро вполне признает оперативный авторитет Главкома и просит Вас сделать соответственное разъяснение всем ответственным работникам». Накануне Главное командование (в том числе и Гусев) потребовало от командюжа незамедлительно ускорить начало наступательных операций, прежде всего на харьковском и екатеринославском направлениях.
А что же было там, на Южном? 6 августа в Киеве под председательством Л. Д. Троцкого состоялось совещание, в нем приняли участие глава Совнаркома Украины X. Г. Раковский, командующий 14-й армией А. И. Егоров, члены РВС 12-й армии С. И. Аралов и В. П. Затонский, штабной работник Н. Г. Семенов. Совещание, не испрашивая разрешения Ставки, постановило отвести советские войска на новую линию и сдать противнику Черноморское побережье с Одессой и Николаевом. Реакция Москвы была незамедлительной. 7 августа. Ленин — Троцкому: «Политбюро Цека, обсудив поднятые Вами серьезнейшие вопросы, предлагает выполнить по этим вопросам директиву Главкома Южфронту и 12 армии, которая будет передана немедленно. Со своей стороны Политбюро настаивает, чтобы Одессу не сдавать до последней возможности».[109] Каменев, Гусев, Лебедев — командующим 12-й и 14-й армиями. № 39/III 7 августа 1919 г. …Оставление Одессы и всего юга Украины… совершенно развяжет руки противнику… и он не замедлит использовать освободившиеся части для противодействия нашему подготовляющемуся главному удару… Должны во что бы то ни стало всемерно сдерживать противника…[110] Выполнить намеченный план не удалось. На это повлиял конный рейд генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова по нашим тылам. Другой причиной неудач были разногласия между советскими командующими армиями и некоторыми политработниками в осуществлении разработанного Ставкой плана операции. Сказались и ожесточенные бои на других фронтах. К сентябрю 1919 года настали самые критические дни. Оживилась внутренняя контрреволюция. Враг рвался к Москве…
С момента перехода Сергея Ивановича Гусева на работу в РВСР Владимир Ильич Ленин, и прежде к нему относившийся с большим уважением, теперь заметно прислушивается к его мнению. Поручая в начале сентября Склянскому «следить за югом», Владимир Ильич добавляет: «2 раза в день говоря с Гусевым».[111] 16 сентября, в самые критические дни, к Гусеву обращается Ленин с подробным письмом, где затронуто множество вопросов, связанных с положением на фронтах и с положением в Реввоенсовете Республики. Здесь и критика деятельности РВСР, и резкий, уничтожающий отзыв о недавно назначенном командовании Восточного фронта (бывший генерал В. А. Ольденрогге, член РВС Б. П. Позерн), и анализ хода боевых действий, и оперативные указания. Подчеркнута необходимость строгого контроля за выполнением принятых решений: «Если это общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель». И даны конкретные указания о подборе кадров, о стиле работы командования и политических органов. Целая программа действий!
Сергей Иванович Гусев умел доверять людям и доверять в самой активной форме, не боясь личной ответственности, не останавливаясь перед резкими возражениями кому бы то ни было, если речь шла о судьбе человека, ценного для революции. Особенно показательны в этом отношении факты принципиальных выступлений Гусева против Троцкого. Троцкий после революции, а затем в годы гражданской войны занимал высочайшие посты в партии и государстве. Член Политбюро Центрального Комитета партии. Народный комиссар по военным делам. Председатель Реввоенсовета Республики. Член Совета Рабочей и Крестьянской Обороны… Пользуясь хотя бы одним из этих четырех мандатов, — да еще если прибавить к тому самолюбие, нетерпимость, властность, — Троцкий мог не просто морально растоптать, но и физически уничтожить человека. И не столь многие отваживались, особенно оставаясь наедине с ним, возражать или просто высказывать свое мнение. Гусев, всю войну подчиненный Троцкому по службе, отваживался, и весьма часто. Вот примеры, относящиеся только к 1919 году. Когда в марте — мае 2-я армия под командованием Шорина, ведя бои против Колчака, вынуждена была отойти в район реки Вятки, Троцкий настаивал на снятии командарма. Сергей Иванович в свое время рекомендовал Шорина на должность. Можно было испугаться, тем более что факты измены военных специалистов случались. Но Гусев, еще оставаясь членом РВС армии, принял ответственность на себя и Василия Ивановича Шорина отстоял… Как уже говорилось, летом были сняты главком И. И. Вацетис и начальник Полевого штаба Ф. В. Костяев. Гусев решительно заявил, что ручается за Вацетиса, зная его по Восточному фронту, что не предполагает за ним решительно никаких личных преступлений.
Враг непосредственно угрожал теперь столице. 4 сентября в городе было объявлено военное положение. 25 сентября Президиум Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов утвердил Комитет обороны Москвы (практически он существовал еще с лета). На следующий день решение было подтверждено постановлением пленума ЦК РКП(б), который записал: «Учредить Совет Московского укрепленного района, подчиненный непосредственно Реввоенсовету Республики». Председателем Комитета обороны (это название — Комитет — содержится и в постановлении ЦК, именно оно и закрепилось, а не Совет) стал Феликс Эдмундович Дзержинский, руководитель ВЧК. В комитет вошли секретарь МК партии, командующий военным округом. Одновременно был образован Московский сектор войск, его командующим, при сохранении поста члена РВСР и комиссара Полевого штаба РВСР, стал С. И. Гусев. Вот выдержки из первого его приказа, изданного в конце сентября. «Московский сектор создается для обороны центральной части Республики, во-первых, от рейдов конницы противника, во-вторых, для упорной борьбы в том случае, если не удастся удержать наступление главных сил противника на Южном и Западном фронтах… Если противник сломит сопротивление наших главных сил на фронте и подойдет к Московскому сектору, то первой задачей войск сектора будет не дать противнику быстро распространиться вдоль железных дорог, особенно ведущих к Москве… Второй задачей войск сектора является: остановить и привести в порядок наши отходящие части и отразить вместе с ними наступление противника на позиции, остов которых составят… укрепленные узлы. Командующий Московским сектором С. Гусев Начальник штаба Барановский».[112]
В сектор входили Московская, Калужская, Рязанская, Тульская губернии, Гжатский и Юхновский уезды Смоленщины — площадь около 130 тысяч квадратных верст, население до революции составляло примерно семь миллионов человек. Оборона этого огромного участка возлагалась всего на четыре дивизии, вдобавок еще не сформированных окончательно. Приказы и директивы Гусева по Московскому сектору интересны и вот в каком отношении. В ряду многих мероприятий командующий сектором намечал формы и способы ведения партизанской войны: создание мелких подвижных отрядов, которые ночными действиями должны были постоянно беспокоить неприятеля, вносить панику, создавать обстановку отовсюду грозящей опасности; строительство окопов с проволочными заграждениями против вражеской конницы; военизирование населения; подготовка пеших и конных отрядов защиты… Определяя эти меры, Гусев проявил дальновидность. Важно и то, что если раньше на захваченной врагом территории партизанское движение возникало стихийно, то здесь отряды создавались заблаговременно, обеспечивались оружием, в них включались коммунисты. Вскоре на подступах к столице оборонительные сооружения строили 120 тысяч рабочих и красноармейцев. Партийная организация города постановила мобилизовать на фронт по 15 тысяч коммунистов от каждого района. Военному делу обучались около сотни тысяч человек. Лучшие большевики стали комиссарами, командирами, агитаторами. Все коммунисты были мобилизованы и переведены на казарменное положение. Основные задачи по организации обороны столицы изложены в циркулярном письме ЦК РКП(б) от 30 сентября. Оно было разослано губернским и уездным комитетам партии, входившим в зону Московского сектора. В письме подчеркивалось, что вновь создаваемые губернские и уездные ревкомы обязаны отправлять ежедневные сводки, причем сводки по губерниям представлять в РВС Республики на имя т. Гусева и копии — в Секретариат ЦК РКП. Работал Сергей Иванович Гусев в здании Реввоенсовета — двухэтажном, с антресолями, с пышной и в то же время строгой колоннадой. В этом бывшем доме Апраксина бывал А. С. Пушкин, до революции размещалось Александровское военное училище (бывшая Знаменка, ныне ул. Фрунзе). А жил Гусев в гостинице военного ведомства в самом начале Тверской. И жил, между прочим, в номере, где любил останавливаться, приезжая из Ясной Поляны, Лев Николаевич Толстой, о чем горделиво поведали старые служители. С ним жила дочь Лиза. Она училась в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова и постоянно отвлекалась для выполнения партийных поручений. Однажды отец взял ее в поездку по участкам Московского сектора. Рассказ Елизаветы Яковлевны дает достаточно полное представление о том, чем доводилось заниматься члену РВСР и командующему сектором в подобного рода поездках. Вот что она рассказывала: «Маршрут наш проходил через города Центральной России… Первая крупная остановка была сделана в Серпухове. Председатель ревкома… доложил тщательно разработанный ревкомом план обороны города от белых банд. …Из Серпухова мы выехали поздно… За темными окнами лежала холодная осенняя ночь… Теперь останавливались часто. Вагон отцепляли на станции, к командующему сектором приходили члены ревкомов и представители местных военных властей. Все были небриты, с ввалившимися щеками, с глазами, запавшими от бессонницы. Вопросы решались быстро. Круг их был чрезвычайно широк. Речь шла о переправах (все переправы на реках надо было подготовить к уничтожению) и о бывших помещиках, которые в последнее время появлялись как из-под земли. В руках у них были добываемые неведомо откуда грамоты, согласно которым им поручалась охрана их поместий как „памятников старины и искусства“. Командующий сектором утверждал постановления ревкомов о том, чтобы всех объявившихся помещиков арестовать и заключить в лагеря для принудительных работ, а в случае сопротивления — расстреливать на месте. Много внимания уделялось созданию мелких партизанских отрядов. — Предупреждаю вас, товарищи, — говорил командующий сектором, — что эти отряды, которые сильны своим множеством и подвижностью, ни в коем случае не должны сливаться и раздуваться в малоподвижные крупные отряды, требующие совершенно иных условий формирования и обучения. Иногда командующего сектором вызывали к прямому проводу. Из-под быстро постукивающего телеграфного аппарата ползла бумажная лента, покрытая буквами… …Командующий сектором производил проверку боевой и тактической подготовки формирующихся в секторе стрелковых дивизий. В их составе было много дезертиров — как добровольно явившихся (их сразу можно было узнать по неловкой старательности, которую они вкладывали во все, что делали), так и приведенных насильственно (эти выделялись расхлябанными движениями и безразличным, тупым взглядом). Значительную часть пополнений составляли только что мобилизованные крестьяне старших возрастов, послужившие уже в солдатах, нередко намыкавшиеся в германском плену… Вот они проходили перед командованием — с винтовками на ремне, кто в солдатской папахе, кто в старой шапке, иные в лаптях, иные даже босиком… Приближаясь к начальству, они подтягивались, четко печатали шаг и на приветствие командующего сектором многие отвечали: „Рады стараться… ваше…“ Самым больным вопросом было снабжение… Но что могли поделать несчастные снабженцы, когда им приносили длиннейшие списки, в которых чего-чего только не было: пулеметы, патроны, винтовки, рубахи суконные, рубахи нательные, брюки, телогрейки, портянки, сапоги, обмотки, ботинки, шинели, ремни поясные, ремни винтовочные, мешки вещевые, мешки сухарные, сумки патронные, двуколки одноконные, двуколки парные патронные, уздечки, упряжь, седла вьючные, седла кавалерийские — и еще десятки наименований. Воевать без всего этого было невозможно. Невозможно, но до́лжно, ибо достать было неоткуда…»[113] …Гусеву пришлись по душе слова Сергея Сергеевича Каменева: «Только удачное сочетание коммуниста и генштабиста дает все сто процентов командования». Главком имел в виду сочетание двоих. А Гусев толковал и по-иному: быть одному в двух лицах. Человек с большим жизненным опытом — ему вот-вот исполнится сорок шесть, — партиец-подпольщик, он стал не только политработником крупнейшего масштаба, но и незаурядным знатоком военного дела. Помогла, конечно, и совместная работа с В. И. Шориным, С. С. Каменевым — они учились у комиссара, он учился у командующих… Огромное влияние оказала на Сергея Ивановича военная деятельность Ленина, особенно когда Гусев непосредственно соприкасался с ним, работая в РВСР. Командуя сектором, Гусев оставался членом РВС не формально, он продолжал руководить и действиями фронтов, особенно Южного. Так, вместе с С. С. Каменевым 27 сентября он подписал сообщение командюжу за № 4579/оп об успешных действиях частей 8-й армии, а 7 октября оба они отдали директиву о ликвидации конных корпусов Мамонтова и Шкуро. 9 октября Гусев скрепил приказ главкома № 4828/оп о наступлении Южного на орловском направлении.
…Снова и снова командующий Московским сектором Гусев объезжал огромный свой район. Несколько раз побывал он в Туле. Судьба этого города очень беспокоила В. И. Ленина: здесь была основная база вооружения Красной Армии. Кроме того, в случае захвата противником Тулы отсюда открывался прямой путь на Москву. Особенно тревожной сделалась обстановка, когда 13 октября деникинцы заняли Орел. 15 октября на заседании Политбюро ЦК партии с участием Ленина обсуждался вопрос о положении на фронтах. Приняли ряд мер военно-политического и стратегического характера: Тулы, Москвы и подступов к ним, Петрограда — не сдавать, составить план мобилизации добровольцев для обороны Тулы, принять энергичные действия по улучшению политической работы в формируемых в Московском секторе обороны дивизиях… Положение осложнялось тем, что, как выразился В. И. Ленин, «в Туле массы далеко не наши», и еще тем, что между местным ревкомом и созданным по распоряжению Гусева военным советом Тульского укрепленного района шли какие-то мелкие распри (довольно обычное для гражданской войны явление). Сергей Иванович знал о письме Владимира Ильича, посланном тульским руководителям: «Значение Тулы сейчас исключительно важно… Поэтому все силы надо напрячь на дружную работу… Крайне жалею о трениях ваших…» Сравнительно недавно сам получив от Ленина основательную взбучку («…убеждаюсь, что наш РВСР работает плохо… Прямо позор!.. Надо сонный темп работы переделать в живой»), Гусев был настроен резко и воинственно. Он прибыл в Тулу, собрал весь руководящий состав: председателя губкома РКП(б) и губисполкома, члена военного совета укрепленного района Григория Наумовича Каминского, его заместителя, члена губревкома Моисея Яковлевича Заликмана, военкома губернии Дмитрия Прокопьевича Оськина, членов военсовета Валерия Ивановича Межлаука (того самого, с кем вместе воевали в Свияжске) и Якова Христофоровича Петерса. Прежде всего выяснилось, что разногласия между ними, о которых писал Владимир Ильич, вызваны то ли непониманием обстановки, то ли борьбою самолюбий. — Как бояре себя ведете, — сердито сказал Гусев, — нашли время спорить, кому выше сидеть. Напоминаю: постановлением Совета Обороны Республики вся полнота власти возложена на ревкомы, военсовет укрепрайона занимается чисто оборонными мероприятиями. И наконец, в письме ЦК об отпоре Деникину говорится без обиняков: коллегиальность должна быть сокращена до минимума, дискуссии и обсуждения забросить до лучших времен. Как мне кажется, все сказано ясней ясного, надо кончать эти распри, в противном случае данной мне властью приму самые решительные меры. Сергей Иванович побывал на учении рабочего батальона, провел собрание коммунистов города (зачитывал и разъяснял циркуляр ЦК партийным организациям), сменил двоих комиссаров, помня адресованные ему ленинские слова о том, что на этот пост надо ставить энергичнейших людей, а не сонных тетерь. Осмотрел оружейный завод и остался доволен: не простаивает, работает на полном ходу. Потребовал от руководителей обо всех неполадках докладывать ему лично: его всегда разыщут, где бы ни находился. Тулу врагу не сдали! А в Москве прошла — в конце октября — Неделя обороны, москвичи, прежде всего коммунисты, уходили на фронт, в рабочие дружины по защите столицы. Отправляли подарки бойцам РККА, оказывали помощь их семьям. Вскоре москвичи узнали радостные вести: началось отступление белогвардейской армии Деникина, разгромлены войска Юденича, наступавшие на Петроград. Опасность для Москвы миновала. 22 ноября Реввоенсовет Республики постановил упразднить Московский сектор. Гусева опять ждало новое назначение…
«Нам надо, чтобы наше наступление из мелкого и частичного было превращено в массовое, огромное, доводящее победу до конца», — говорил В. И. Ленин 24 октября 1919 года. Южный фронт разделили на Южный и Юго-Восточный. И тогда начались раздоры. И. Т. Смилга считал, что возглавляемый им Юго-Восточный фронт, где он был членом РВС, является главным, и потому требовал передачи ему основных резервов. Того же в свою очередь требовал И. В. Сталин, полагая основным «свой», Южный фронт. Но Сталин пошел дальше Смилги. В письме на имя В. И. Ленина он предложил свой план разгрома Деникина и в издевательском тоне говорил о плане, за который сам же голосовал на сентябрьском пленуме ЦК. Словно бы забыв о решении пленума, Сталин «передает авторство» главкому и не стесняется в выражениях и оценках. Он, разумеется, знал, что план в первоначальном, утвержденном в июле виде подписан С. С. Каменевым и С. И. Гусевым вкупе с начальником штаба П. П. Лебедевым. Поэтому в письме «достается» и Гусеву. Можно предположить, что Сталин разобиделся на Гусева, когда на июльском пленуме оказался не введенным в состав РВСР и Гусев как бы занял его место. По сути подвергая в письме ревизии решения пленумов ЦК, Сталин не скупился на выражения. И. В. Сталин — В. И. Ленину, 15 ноября 1919 г.: «Что же заставляет Главкома (Ставку) отстаивать старый план? Очевидно, одно лишь упорство, если угодно — фракционность, самая тупая и самая опасная для Республики фракционность, культивируемая в Главкоме „стратегическим“ петушком Гусевым». Видимо, «обыгрывание» фамилии (Гусев назван петушком) надо полагать за остроумие… Этого, очевидно, показалось недостаточным. И. В. Сталин, Л. П. Серебряков — в Политбюро ЦК РКП(б) 12 ноября 1919 г.: «Ввиду совершенно ненормальных отношений, сложившихся между ставкой… и Южфронтом, проявляющихся подчас… в прямой ненависти главкома и Гусева к командюжу… считаем своим долгом заявить о необходимости либо сменить весь состав Ревсоветюжа, либо сменить ставку или, если последнее считается несвоевременным, сменить Гусева, который, по нашим сведениям, является главным застрельщиком против Южфронта». Политбюро ЦК, рассмотрев эти документы, внесло коррективы в стратегический план. Однако при этом решено сообщить Сталину, что Политбюро считает абсолютно недопустимым подкреплять свои деловые требования ультиматумами и заявлениями об отставках. Центральный Комитет на требования двух фронтов о предоставлении каждому особых преимуществ, прежде всего в смысле резервов, ответил директивой: наступление на Деникина и разгром его осуществляется одновременно силами и Южного, и Юго-Восточного фронтов. Наступление началось 17 ноября 1919 года. Вскоре в нем пришлось принять непосредственное участие и Гусеву, который получил назначение членом РВС Юго-Восточного фронта. Он ехал, чтобы снова служить рядом со старыми товарищами и единомышленниками — Василием Ивановичем Шориным, Иваром Тенисовичем Смилгой, Валентином Андреевичем Трифоновым, начальником штаба Федором Михайловичем Афанасьевым. Будто специально подбирал — все знакомы по Восточному фронту… В середине августа 1920 года Красная Армия потерпела неудачу под Варшавой. Для овладения этим городом командование Западного фронта просило передать в его подчинение 12, 14 и 1-ю Конную армии. Главком С. С. Каменев отдал соответствующий приказ, но руководители Югозапа, в чьем подчинении находились эти армии, приказ выполнить отказались. Через день, 13 августа, главком повторил приказ. Член РВС Юго-Западного фронта И. В. Сталин писал, что распоряжение Каменева «только запутывает дело и неизбежно вызывает ненужную и вредную заминку в делах». Приказ о передаче трех армий Западному фронту 13 августа подписали командующий Югозапа А. И. Егоров и второй член РВС — Р. И. Берзин. Но было уже поздно… Варшаву взять не смогли. Вызванный Секретариатом ЦК в Москву для объяснений, И. В. Сталин в заявлении, адресованном Политбюро, отрицал факт несвоевременного выполнения приказа. 1 сентября 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) удовлетворило просьбу Сталина об освобождении его от должности члена РВС Юго-Западного фронта, назначив на эту должность Сергея Ивановича Гусева. Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 25 ноября 1920 года член реввоенсовета фронта Сергей Иванович Гусев был награжден орденом Красного Знамени «за то, что, неустанно ведя политическое воспитание армии Южного фронта, вложил в красных бойцов тот революционный подъем, который способствовал нашим блестящим успехам, приведшим к окончательному разгрому Врангеля». Вместе с командующим фронтом М. В. Фрунзе и другими членами РВС он принял активное участие в разгроме Врангеля, что явилось фактическим окончанием гражданской войны.
Вскоре после завершения боевых действий против Врангеля ЦК КП(б)У назначил Михаила Васильевича Фрунзе командующим всеми вооруженными силами Украины и Крыма, Сергея Ивановича Гусева — его помощником по политической части. Под их руководством к концу 1920 года были полностью разгромлены кулацкие, анархистские и националистические банды Нестора Махно, Симона Петлюры и других врагов Советской власти. В 1924 году С. И. Гусев был награжден вторым орденом Красного Знамени «за руководство победоносной борьбою против Деникина, Врангеля и Петлюры и за искусную подготовку ликвидации бандитизма на территории Украины». С января 1921 года С. И. Гусев — начальник Политуправления Реввоенсовета Республики (оно существовало на правах Отдела ЦК партии). Наряду с работой по переводу армии на мирное положение, по перестройке деятельности партийных организаций, он приступил к выполнению указания В. И. Ленина, который говорил о необходимости собрать материалы для истории гражданской войны и истории Советской Республики. С. И. Гусев выпустил брошюру «Уроки гражданской войны», где сделал попытку обобщить опыт большевистской партии по строительству армии нового типа, опыт гражданской войны, проанализировать его международное значение. Многие положения этой работы представляют и сейчас интерес не только для ученых, но и для современных командиров и политработников. Совместно с М. В. Фрунзе он разработал к предстоявшему X съезду РКП(б) тезисы «Реорганизация Рабоче-Крестьянской Красной Армии». На съезде Сергей Иванович Гусев был вновь избран кандидатом в члены Центрального Комитета партии. 18 мая 1921 года С. И. Гусев опять назначен членом РВСР, оставаясь начальником Политуправления Реввоенсовета. Он стал также руководителем Комиссии по исследованию и использованию опыта мировой и гражданской войн, выступил инициатором и организатором подготовки капитального труда по истории гражданской войны, выпуска военно-теоретического и исторического журнала «Военная наука и революция», где открыл дискуссию по вопросам реорганизации Красной Армии. Работа С. И. Гусева в Политуправлении РВСР продолжалась год. В январе 1922 его направляют в Среднюю Азию в качестве председателя Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР и Туркестанского бюро ЦК РКП(б), где сообща с местными руководителями и посланцами Москвы многое сделал для экономического объединения трех молодых республик — Туркестана, Хорезма, Бухары, для налаживания национальных взаимоотношений, для нанесения мощных ударов по басмачеству. На XII съезде РКП(б) С. И. Гусев избран членом Центральной Контрольной Комиссии партии, на ее пленуме — членом Секретариата ЦКК. К практической работе в ЦКК он приступил позже, в начале 1924 года, став руководителем инспекции ЦКК по армии и флоту. Именно тогда для обследования положения в Красной Армии ЦК РКП(б) создал под председательством Гусева комиссию, по предварительным итогам работы которой Центральный Комитет партии утвердил новый состав Реввоенсовета Республики. Фактическим руководителем его стал М. В. Фрунзе. Сергей Иванович Гусев был секретарем Центральной Контрольной Комиссии РКП(б), а также членом коллегии объединенного с ЦКК Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). В 1926―1927 годах он заведовал Отделом печати Центрального Комитета ВКП(б). С середины 1927 года (и до конца своих дней) Сергей Иванович Гусев работал в Исполнительном комитете Коммунистического Интернационала, был членом его Президиума. Он входил в состав дирекции Института Ленина, Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и РКП(б) — Истпарта, читал курс лекций в Институте красной профессуры, публиковал статьи по вопросам международного коммунистического и рабочего движения, истории нашей партии. Последняя статья С. И. Гусева — «Тридцать лет большевистской партии» — была напечатана в «Правде» 11―15 июня 1933 года с фамилией автора в траурной рамке. Сергей Иванович Гусев скончался после тяжелой болезни 10 июня 1933 года в Крыму. 14 июня 1933 года в Москве состоялись похороны. Под раскаты артиллерийского салюта урна с прахом С. И. Гусева была установлена в Кремлевской стене. Ерашов В. П.

Данишевский Карл Христианович
Годы жизни: 1884―1938. Партийный, государственный и военный деятель. Член партии с 1900 г. В 1917 г. член Московского комитета РСДРП(б). В июле — октябре 1918 г. член РВС Восточного фронта, в сентябре 1918 г. — апреле 1919 г. член РВСР и председатель Ревтрибунала Республики…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Местом пребывания Полевого штаба Реввоенсовета Республики был выбран небольшой подмосковный городок Серпухов. Вместе со штабистами засели за разработку плана разгрома белочехов, армии генерала Краснова и интервентов на севере Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики И. И. Вацетис и член РВСР К. X. Данишевский. К 7 октября они подготовили доклад о стратегическом положении Советской Республики и задачах Красной Армии в период осенне-зимней кампании. Главком поехал в Москву, чтобы лично доложить Ленину, Свердлову и РВС Республики. К началу 1919 года предполагалось разгромить белых на Дону, на Восточном фронте выйти на рубеж Актюбинск — река Тобол, на севере, как и прежде, вести оборонительные бои. Впервые в районе Брянска и Орла создавалась резервная армия. Окружным военным комиссариатам предписывалось сформировать 11 стрелковых и две кавалерийских дивизии. Вносились предложения по улучшению военных перевозок и санитарной службы, ставилась задача создать Каспийскую флотилию, которая должна была оборонять устье Волги и проводить боевые операции у берегов Кавказа и Туркестана. Встретив главкома, Карл Христианович по его довольному лицу понял, что поездка в Москву увенчалась успехом. — Ленин одобрил наш план, — радостно сообщил Вацетис. — Он обещал нам всестороннюю поддержку. В течение октября всем фронтам были уточнены стратегические задачи. На большинстве приказов и директив, отданных главкомом Республики с сентября 1918 по январь 1919 года, рядом с подписью Вацетиса стоит фамилия Данишевского. Это была не пустая формальность. Карл Христианович глубоко вникал в разработку каждого документа, твердо отстаивал партийные позиции. Надо сказать, что главком отличался очень трудным, неуживчивым характером. Прямой и резкий, он зачастую в разговоре не выбирал выражений, не искал дружбы ни с членами РВСР, ни с командующими фронтов и армий. Не отличался он деликатностью и в обращении с партийными деятелями, рекомендованными на командные должности. Так, например, Вацетис долго не соглашался с назначением комиссара Ярославского военного округа М. В. Фрунзе на должность командующего 4-й армии Восточного фронта. Все это, вместе взятое, мешало нормальным деловым отношениям, созданию дружно работающего коллектива. Но Данишевский мог сработаться с ним, и в этом ему помогала железная выдержка, умение сохранять самообладание при самых сложных обстоятельствах. Отличавшийся сердечностью и простотой в обращении с людьми, Данишевский являлся как бы амортизатором, сглаживающим возникавшие инциденты, а рождалось их, надо сказать, великое множество. Реввоенсовет Республики и главком держали твердый курс на строительство регулярной Красной Армии с привлечением старых военных специалистов. Такая доктрина всецело поддерживалась Советским правительством, и тем не менее она встречала упорное противодействие со стороны многих ответственных партийных работников. Вацетис, а вместе с ним и Данишевский беспощадно боролись с сепаратизмом, своеволием и партизанщиной, совершенно при этом не думая о последствиях, к которым могли привести их разногласия с влиятельными людьми. Острый конфликт возник у них с реввоенсоветом Южного фронта в составе И. В. Сталина, председателя Царицынского Совета С. К. Минина, командующего фронтом П. П. Сытина и его помощника К. Е. Ворошилова. На них была возложена задача — как можно быстрее разгромить армию генерала Краснова. В приказе от 21 сентября Вацетис и Данишевский писали Сытину, «что боевые действия идут разрозненно, ныне, при создании Южного фронта, необходимо создать общий план действий. С этой работой прошу поторопиться, в оперативных делах вы должны пользоваться полной самостоятельностью и несете ответственность». Получив выписку из приказа, Павел Павлович Сытин вместе с назначенным командующим 9-й армией А. И. Егоровым выехали в Балашов, где в это время находился член РВСР К. А. Мехоношин. Вместе они отправились в Царицын. Сталин, Минин и Ворошилов встретили Сытина с откровенной враждебностью. Они настаивали на том, чтобы руководство боевыми действиями осуществлял революционный военный совет фронта. Сытин возражал. Он извлек из портфеля инструкцию, подписанную Вацетисом и Данишевским, и положил ее на стол. — Что это такое? — пренебрежительно произнес Сталин, глядя на бумаги. — Это выписка из решения Реввоенсовета Республики. Прочитайте пункт девятый, где черным по белому написано: «…командующему фронтом Сытину предоставляется полная власть в ведении операций», что «в оперативные распоряжения командующего никто не должен вмешиваться». Сталин взял со стола выписку, мельком глянул на нее и небрежно швырнул обратно: — У нас на этот счет другое мнение. Разногласия определились буквально по всем вопросам. Уже в то время у Сталина отмечалась нетерпимость к чужим взглядам. Сталин и Ворошилов считали главной целью фронта оборону Царицына, поэтому настаивали на том, чтобы штаб фронта располагался именно в этом городе. Сытин, ссылаясь на приказ Реввоенсовета Республики, доказывал, что первейшей задачей является очищение от белоказаков железнодорожной линии Поворино — Царицын, поэтому штаб фронта должен находиться согласно приказу в Козлове. — Нет, в Царицыне, — упирался Сталин. — Отсюда мы будем наступать на Котельниково и Тихорецкую. Видя, что спор заходит очень далеко, в него вмешался член Реввоенсовета Республики Мехоношин. Он предложил до разрешения этого вопроса в верхах придерживаться общего положения о членах военных советов и комиссарах, утвержденного ВЦИК 6 апреля 1918 года. Но Сталин и Ворошилов заупрямились и, отметая все разумные доводы, продолжали стоять на своем. Возвратившись в Балашов, Мехоношин доложил Вацетису о случившемся, и, когда Данишевский, как обычно, рано утром зашел в кабинет главкома, тот показал ему тревожную телеграмму Мехоношина. Карл Христианович прочитал: «Товарищ Сталин, Минин и Ворошилов выдвигают, как наиболее целесообразную в настоящий момент, коллегиальную форму управления фронтом и коллегиальное решение всех оперативных вопросов. Мои и командующего фронтом Сытина разъяснения не привели к желательным результатам. Принимая во внимание, что каждый день отсрочки в образовании объединяющего фронт центра имеет самое пагубное влияние на военное положение на столь серьезном боевом участке, где наши неудачи объясняются главным образом отсутствием Реввоенсовета, считаю необходимым принять самые энергичные меры к решению этого вопроса…» — Так это же самая махровая партизанщина, — возмутился Данишевский. — Этого так оставлять нельзя. Они тут же вместе с главкомом составили текст телеграммы в Царицын: «Реввоенсовет Республики предлагает вам экстренно приступить к выполнению своих функций… и в самое ближайшее время наладить порядок на всем фронте и подготовить войска к решительному наступлению». Но упрямый Сталин и послушный ему во всем Ворошилов вновь не подчинились приказу и даже совершили недопустимое — отстранили Сытина от должности командующего фронтом. Новым командующим фронтом они предполагали назначить Ворошилова. Узнав об этом, Вацетис и Данишевский направили Сталину строгое указание: «Никаких перегруппировок частей войск без разрешения командующего фронтом Сытина не производить». Они еще раз предложили всем членам РВС фронта выехать из Царицына в Козлов, где находился штаб, и работать в тесном контакте с Сытиным. Карл Христианович позвонил в Балашов Мехоношину и от имени Вацетиса попросил его войти в состав РВС Южного фронта и обеспечить единство командования. Однако Сталин и Ворошилов стояли на своем, отвергая любой компромисс. Данишевскому пришлось обратиться за помощью в ЦК РКП(б). Секретарь ЦК Яков Михайлович Свердлов прибыл в Царицын, чтобы на месте разобраться в ситуации. Выяснив существо конфликта, он принял сторону Сытина, Вацетиса и Данишевского. Настойчивая и принципиальная позиция, занятая Вацетисом и Данишевским, принесла свои плоды. Сталин, вносивший разногласия в работу реввоенсовета фронта, был отозван в Москву. Из резерва Главного командования в Козлов и Грязи были направлены три латышских стрелковых полка, на Южный фронт прибыло пополнение из Камышина и Саратова, из 1-й армии Восточного фронта к Царицыну направилась Волжская военная флотилия, которой была поставлена задача уничтожить вражескую переправу у Светлого Яра. 18 ноября 1918 года войска Южного фронта получили приказ, подписанный Вацетисом, Данишевским и Араловым: «Политическая обстановка требует от нас энергичного перехода в наступление всеми армиями: 8, 9, 10, 11 и 12-й. Задача отбросить противника на правый берег Дона». После упорных боев под Царицыном красновцев удалось оттеснить от города. Долго не могли добиться успеха части 8-й и 9-й армий, но в декабре 1918 года и они начали стремительно продвигаться вперед к Новочеркасску. Белоказачья армия генерала Краснова перестала существовать.Осенью 1918 года состоялось совещание, на котором присутствовали члены РВСР и представители почти всех военных ведомств. Речь шла о создании Военно-революционного трибунала, который возглавил бы все военные судебно-следственные учреждения. Приказом РВСР от 14 октября 1918 года председателем Ревтрибунала был назначен К. X. Данишевский, а его членами — К. А. Мехоношин и С. А. Аралов. Подчинялся Ревтрибунал непосредственно председателю РВСР Троцкому. Работать с этим человеком было нелегко. Обладая властной натурой, он не терпел возражений. Многие пасовали в разговоре с ним. Данишевский обладал завидной выдержкой, при любой грубой выходке председателя Реввоенсовета оставался неизменно сдержанным и внешне спокойным. Карл Христианович с головой ушел в новое для него дело. В короткий срок под его руководством была разработана структура фронтовых и армейских ревтрибуналов. Данишевский лично подбирал людей на должности председателей трибуналов. Декретом от 11 декабря 1918 года устанавливалось, что трибуналы являются коллегиальными органами, состоящими из трех членов, в основу их деятельности закладывались такие принципы: целесообразность, беспристрастность, равноправие сторон, гласность. Приговор выносился большинством голосов. Смертная казнь назначалась только при условии полного единодушия членов трибунала. Данишевский так трактовал роль трибунала: «Трибуналы не руководствуются и не должны руководствоваться никакими юридическими нормами. Это — карательные органы, созданные в процессе напряженнейшей революционной борьбы, которые выносят свои приговоры, руководствуясь исключительно принципами политической целесообразности и правосознания коммунистов. Отсюда вытекает беспощадность приговоров. Но, как бы ни был беспощаден каждый отдельный приговор, он обязательно должен быть основан на чувстве социальной справедливости, должен будить это чувство. При огромной сложности задач военных трибуналов на их руководителях лежит и огромная ответственность. Приговоры несправедливые, жестокие, безмотивные не должны иметь места. В этом отношении со стороны руководителей военных трибуналов должна проявляться особая осторожность». Такая трактовка роли трибуналов могла и не раз приводила к трагическим последствиям, к неоправданно суровым приговорам, как это было, например, с Борисом Макеевичем Думенко. В Красной Армии его называли «первой шашкой Республики». Созданный им на Дону партизанский отряд вырос в кавалерийский корпус, не знавший поражений. Деникинцы обещали чины и звания, огромное денежное вознаграждение за голову Думенко. Но случилось непредвиденное — трижды раненный комкор был арестован по ложному навету. Обвинения против Думенко строились на показаниях Шаденко, Буденного и Ворошилова, которые завидовали стремительному росту талантливого командира, его популярности в Красной Армии. Изучив протоколы допросов, Данишевский направился к Троцкому, чтобы убедить его в невиновности Думенко, но председатель Реввоенсовета не принял его, сославшись на плохое самочувствие. Так не стало одного из подлинных героев революции. Трибуналы, не опирающиеся в своих действиях на закон, могли свободно творить произвол. В октябре 1918 года произошел неприятный инцидент с реввоенсоветом 3-й армии Восточного фронта, которая неудачно действовала в боях на пермском направлении. Троцкий направил грозную телеграмму в адрес РВС: «Предлагаю немедленно сообщить, каковы, по вашему суждению, главные причины полной неудачности действий 3-й армии. Опыт других армий свидетельствует, что успеха нет, когда плохи командующие и комиссары. Около двух недель тому назад из Пермской дивизии перебежало несколько офицеров. Я требовал составления послужных списков с указанием места пребывания их семейств для немедленного ареста таковых. Равным образом требовал ответа, расстреляны ли комиссары дивизий и полков, допустившие измену лиц командного состава. Ответа не получил. Требую немедленного разъяснения по всем пунктам». Вскоре в Реввоенсовет Республики пришла ответная телеграмма от членов РВС 3-й армии Смилги и Лашевича. Троцкого в тот момент в Москве не оказалось, он находился на Южном фронте, и телеграмма легла на стол Данишевскому. В ней говорилось о трудном положении армии, чей фронт растянут на 900 верст. Каждый день упорных боев обходится в 300―500 человек убитыми, при общей численности армии в 7 тысяч человек. Пополнение не поступает. Далее члены РВС Смилга и Лашевич писали: «Теперь по вопросу о командирах и комиссарах. Лучше всего будет, когда мы назовем их имена. Они должны быть известны Реввоенсовету Республики. 4-я дивизия — Блюхер, бывший командующий Южно-Уральской армией, получил первый орден Красного Знамени. 5-я дивизия — Ломберг, соратник Блюхера, 3-я дивизия — Эйдеман, видный работник в Сибири, бывший командующий Сибирской армией. Сводная дивизия —Овчинников, Георгиевский кавалер всех степеней. Имеет благодарность от вас за дела против немцев. Комиссары дивизий и бригад: Бакаев, Залуцкий, Зофф, Бела Кун, Мрачковский, Лацис. У нас не вошло в привычку много писать о подвигах наших бойцов, но если это потребовалось бы, то мы уверены, что нам не пришлось бы краснеть за руководителей 3-й армии. Согласно телеграмме мы должны расстрелять помимо других Бакаева и Залуцкого. Этого мы сделать не можем, ибо не считаем их виновными. Просим отдать нас под суд за неисполнение боевого приказа». По законам военного времени подобное ослушание могло для всех кончиться печально, но смелый и аргументированный тон телеграммы заставил Данишевского совсем по-иному взглянуть на событие. Председатель Ревтрибунала Республики взял командиров и комиссаров под защиту. Впоследствии Блюхер стал маршалом Советского Союза, Зофф — комиссаром Морских Сил Республики, Бела Кун — одним из основателей Коммунистической партии Венгрии. Красная Армия состояла в основном из темной крестьянской массы, уставшей от долгой войны. Этим объяснялись и многочисленные случаи дезертирства. Дезертиров ловили и вновь посылали на фронт, но они снова убегали, увлекая за собой других бойцов. Бегство с фронта приобретало огромные масштабы. Об этом красноречиво говорят цифры. С февраля по декабрь 1919 года из Красной Армии дезертировало 1 761 104 человека. «Борьбу с этой стихией, — писал В. И. Ленин, — нельзя вести только пропагандой и агитацией, только организацией соревнования, только отбором агитаторов, бороться нужно и принуждением». Этим занимались ревтрибуналы, которые действовали в тесном содружестве с Центральной комиссией по борьбе с дезертирством. Оставившие самовольно свои части подвергались наказанию от денежного штрафа до расстрела. Хозяева квартир и председатели домовых комитетов, которые укрывали дезертиров, привлекались к принудительным работам на срок до пяти лет. Ревтрибуналы были не только карающими органами. Данишевский призывал своих подчиненных, чтобы они содействовали устранению тех недостатков, которые побуждали людей дезертировать. По их требованию улучшалось снабжение армий, осуществлялся контроль за тем, чтобы семьи красноармейцев полностью получали положенные им по закону льготы. По предложению Данишевского РВСР принял особый приказ, который освобождал от наказания дезертиров, добровольно явившихся в свои части в течение двухнедельного срока. Это гуманное решение вызвало огромный эффект, в армию по собственной воле возвратились 898 533 дезертира. Конец 1918 года ознаменовался крупными успехами Красной Армии на Южном и Восточном фронтах, к лучшему менялась обстановка и на западе Республики. После Ноябрьской революции в Германии начался вывод немецких войск с территории России. В приказе командующему 7-й армией, отданном 16 ноября 1918 года за подписью Вацетиса и Данишевского, говорилось, что политическая обстановка требует немедленного занятия нашими войсками Пскова и Нарвы. Боевой приказ содержал требование развернуть наступление одной колонной от Ямбурга до Нарвы, другой — от станции Дно на Псков. Приближалась пора освобождения Латвии, Литвы и Эстонии. В одной из телеграмм В. И. Ленин писал Вацетису: «С продвижением наших войск на запад и на Украину создаются временные советские правительства, призванные укрепить власть Советов на местах. Это обстоятельство имеет ту хорошую сторону, что отнимает возможность у шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших войск, как оккупацию, а создает благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск. Без этого обстоятельства наши войска были бы поставлены… в невозможное положение и население не встречало бы их, как освободителей». В конце ноября в Серпухов позвонил один из руководителей социал-демократии Латвии Петр Стучка. Он сообщил, что в Риге состоялась 17-я партконференция, которая создала Латвийский Военно-революционный комитет, в городах образованы подпольные Советы, готовится вооруженное восстание. — Товарищи предлагают образовать временное Советское правительство Латвии и вместе с латышскими стрелками прийти им на помощь. Рижские подпольщики сообщили, что они приняли решение образовать правительство Советской Латвии из девяти человек, пять из которых находятся в Риге и четверо — в России. Председателем правительства единодушно был избран Петр Стучка, его заместителем — Карл Данишевский, военным комиссаром — Карл Петерсон, комиссаром внутренних дел — Ян Ленцман. Почти до утра не выходили они из небольшой комнаты на Никитской улице, где помещалось Русское бюро ЦК СДЛ. Составляли текст манифеста, провозглашавшего независимость Советской Латвии. Его скрепили своими подписями Стучка, Данишевский и Ленцман. Захватив с собой текст манифеста, Ленцман тут же выехал в освобожденные районы Латвии, а Стучка и Данишевский поспешили в Кремль к Свердлову. Петр Иванович передал председателю ВЦИК текст манифеста. — Яков Михайлович, мы приглашаем вас в Ригу на съезд Советов. Он откроется 13 января 1919 года в 12 часов дня в Доме рыцарей. Свердлов взглянул поверх очков и весело улыбнулся: — Не рано ли, Петр Иванович, приглашаете на съезд? Вы еще не имеете в своем распоряжении ни одной пяди латвийской земли. — Не извольте беспокоиться, Яков Михайлович. Наш уговор остается в силе. Правильно, Карл? Данишевский утвердительно кивнул головой. — Вот видите. Итак, ждем вас в Риге 13 января в 12 часов дня. Ехать на родину решили через Петроград на Валку, но отъезд задержался на несколько дней, и только поздним вечером 20 декабря состав из нескольких вагонов отошел от Николаевского вокзала и, разрезая кромешную тьму, двинулся к Питеру. К Риге красные войска приближались по двум железнодорожным линиям — от Валка с северо-востока и от Якобштадта с юго-востока. Им противостояли хорошо оснащенные формирования балтийского ландесвера, в состав которого входили немецкие, латышские и русские белогвардейцы. Они оказывали упорное сопротивление. Особенно жестоким был бой у Хинценберга, расположенного в 30 верстах от Риги. Латышские стрелки наголову разбили неприятеля. Рижские рабочие выслали для членов правительства Советской Латвии отбитый у немцев бронепоезд. В Ригу прибыли в 3 часа ночи. Члены правительства разместились в скромных номерах Центральной гостиницы, но отдыхать им не пришлось. Уже через час на Александровской улице состоялось заседание Рижского и Латвийского ревкомов совместно с правительством и ЦК партии. На рассвете в Москву в адрес ВЦИК ушла телеграмма, гласившая, что созыв съезда Советов Латвии, намеченный на 13 января, остается в силе. Зал Дома рыцарей оказался слишком мал для 1-го съезда Советов. Пришлось перенести заседания в городской театр. С приветственной речью от имени ВЦИК выступил Я. М. Свердлов, который сказал: «Ни с одной другой страной в мире мы так тесно не связаны, как с красной Латвией». Доклад о деятельности правительства и его программе сделал Петр Стучка, по вопросу о конституции республики выступил Карл Данишевский. Делегаты съезда высказались за тесный государственный союз с РСФСР. В состав высшего органа Советской Социалистической Республики Латвии — ЦИК вошли П. Стучка, Ф. Розин, К. Данишевский, Я. Берзин. Карл Христианович не только выполнял обязанности заместителя председателя правительства, но и возглавлял комиссариат социального обеспечения. Почти пять лет Латвия была ареной разрушительной войны. Почти все крупные заводы и фабрики из Риги были эвакуированы в Россию, остальные из-за отсутствия сырья закрылись, выплеснув за ворота тысячи безработных. При отступлении немцы опустошили все склады, тысячи тонн муки и сахара выбросили в Двину. Совнарком РСФСР вынес решение о предоставлении Советской Латвии 20 миллионов рублей для восстановления разрушенного хозяйства, с Украины пришли эшелоны с хлебом. Правительство Советской Латвии разработало программу социалистического преобразования. Окунувшись с головой в решение хозяйственных вопросов, Данишевский на какое-то время ослабил внимание к задачам, которые решала армия Советской Латвии. Ему казалось, пройдет неделя-другая и вся республика будет свободной. Укрывшееся в Лиепае буржуазное правительство Ульманиса распространяло свое влияние на крохотный клочок земли и не имело поддержки народа. Но уже в конце января появились первые тревожные симптомы. Эстонские белогвардейцы оттеснили советские войска от Таллинна и начали угрожать Латвии со стороны Валка. Пришлось перебросить против них части 2-й бригады. Вскоре по разведывательным каналам Данишевскому стало известно, что в Лиепаю из Финляндии прибыл немецкий генерал фон дер Гольц, который принял командование над солдатами ландесвера. Из Германии на пароходах доставили несколько тысяч наемников, которым за участие в войне против Советов обещали крупные денежные вознаграждения. В феврале в Лиепае высадились части 1-й гвардейской резервной дивизии. За счет офицеров, прибывших из немецкого плена, пополнился отряд русских белогвардейцев во главе с князем А. П. Ливеном. В ночь с 12 на 13 февраля 1919 года неприятель прорвал фронт, и Советская Латвия оказалась зажатой с трех сторон. На северо-западе — ландесвер, на северо-востоке — белоэстонцы, на юго-западе — белополяки. В этот критический момент председателем Реввоенсовета Советской Латвии был назначен Карл Данишевский, его заместителем — Карл Петерсон. В конце марта 1-я немецкая гвардейская дивизия захватила Елгаву, создав угрозу железной дороге Рига — Даугавпилс. Встал вопрос о судьбе столицы. 26 марта состоялось расширенное заседание Реввоенсовета с участием членов правительства. Заместитель командующего армией П. Авен изложил точку зрения штаба Западного фронта — сдать Ригу, оттянуть войска в Латгалию, где занять более выгодные позиции. Данишевский горячо возражал против такого решения, настаивал на защите Риги до последней возможности. Его поддержали Петр Стучка и Ян Ленцман. После оживленных дебатов пришли к общему мнению — Риги не сдавать. Весна 1919 года была самым трудным периодом для Советской Республики. Армия Колчака приближалась к Волге, на юге все активнее действовали деникинцы, части Северного корпуса Юденича двинулись на Петроград, перешли в наступление белополяки, захватившие Слоним, Пинск, Брест, Волковыск, Лиду, а затем и Вильнюс. В апреле из Франции к ним на помощь прибыла польская армия генерала Ю. Галлера, сформированная еще в годы империалистической войны. В такой сложной ситуации Советская Россия не могла оказать Латвии существенной помощи. В основном ей приходилось рассчитывать на свои силы. По инициативе Данишевского был создан политотдел армии, усилена пропаганда в полках, улучшено снабжение, которым занялся образованный в Республике Совет снабжения. В Риге в здании Николаевской гимназии открылась школа красных командиров. Прошел призыв в армию, которая выросла вдвое, достигнув 45 тысяч человек. Многие из рабочих и батраков никогда не держали в руках винтовки, и нужно было время, чтобы обучить их ратному делу. А времени-то как раз и не хватало. В середине мая противник начал наступление. Данишевский находился в штабе армии в Двинске, когда ему сообщили, что белые ворвались в Ригу. На улицах города вели бой рабочие, военные моряки и курсанты школы красных командиров. По требованию председателя Реввоенсовета командующий армией П. А. Славен двинул к столице свой резерв, но отстоять Ригу не удалось. В ночь на 23 мая наши части отошли за реку Югла. Положение ухудшалось с каждым днем. Армия Советской Латвии оказалась в мешке с узкой горловиной. Враг надеялся сомкнуть кольцо и полностью уничтожить ее, но все его попытки разбивались о стойкость латышских стрелков, которые штыками проложили себе дорогу в Латгалию. По решению ЦК РКП(б), Совета Обороны и ВЦИК в первые дни июня 1919 года началась реорганизация частей Западного фронта. Армия Советской Латвии стала именоваться 15-й армией. Сдав свои дела и распрощавшись с боевыми друзьями, Данишевский возвратился в Москву, чтобы вновь заняться деятельностью Ревтрибунала.
…Шел третий год гражданской войны. Самым серьезным противником в тот период была панская Польша, чьи войска захватили значительную часть Украины и Белоруссии. Советское правительство не раз предлагало полякам заключить мирный договор, установить добрососедские отношения, но они отвергали все предложения. Летом 1920 года Красная Армия мощным ударом разгромила войска Пилсудского и, стремительно продвигаясь на запад, подошла к берегам Вислы. Ранним июльским утром на московской радиостанции была принята радиотелеграмма из Варшавы. В ней говорилось, что польское правительство готово направить свою делегацию для выработки предварительных условий мира и перемирия. Вскоре после этого события Данишевского вызвали в Кремль, в приемную Председателя Совнаркома. Приветливо поздоровавшись, Ленин сказал: — Вы назначаетесь председателем мирной делегации РСФСР и Украины на переговорах с Польшей. Кроме вас в состав делегации включены Скрыпник и Смидович. В Минск, избранный местом встречи, Данишевский уезжал 10 августа, накануне ночью он вновь встретился с Лениным. Владимир Ильич рассказал о том, какую позицию занимают союзники Польши — Англия и Франция, пункт за пунктом разъяснил существо мирных предложений, в тексте вступительной речи Данишевского сделал несколько исправлений и дополнений. 17 августа прибыла в Минск и польская делегация, возглавляемая Иваном Домбским. На следующий день в 19 часов вечера открылась мирная конференция. Переговоры проходили трудно. Польская сторона отвергала почти все предлагавшиеся условия, искала малейший повод для того, чтобы перенести заседание. В один из дней руководитель польской делегации Иван Домбский явился в зал разъяренный. — Мы отказываемся вести переговоры до тех пор, пока не будет официально отменен вот этот приказ, — и он швырнул на стол скомканный лист бумаги. — Мы только что содрали его на одной из улиц Минска. Члены нашей делегации возмущены. Они требуют, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Карл Христианович не понимал, о чем идет речь. Взял в руки смятый лист бумаги, ладонью расправил его на столе. То, что Данишевский прочитал, явилось для него полной неожиданностью. Перед ним лежал приказ реввоенсовета Западного фронта, подписанный командующим фронтом Тухачевским и членом РВС Смилгой. В нем говорилось, что польская делегация, приехавшая в Минск на мирные переговоры, сплошь состоит из шпионов и контрразведчиков. Далее следовали грубейшие выпады в адрес польского правительства. Заканчивался приказ словами, что мир может быть заключен только «на развалинах белой Польши». Дочитав приказ до конца, Карл Христианович извинился перед главой польской делегации за допущенную бестактность и пообещал, что виновные будут наказаны. Едва за Домбским закрылась дверь, Данишевский помчался в штаб фронта, откуда связался по телефону с Чичериным и сообщил ему о неприятном инциденте: — Польская сторона заявила, что при таком отношении к ним дальнейшая работа конференции является бесцельной. Георгий Васильевич, как мог, успокоил Данишевского, сказав ему, что срочно едет к Ленину, с тем чтобы урегулировать этот вопрос. Через два дня фельдъегерь доставил из Москвы и передал Карлу Христиановичу выписку из протокола заседания Политбюро ЦК РКП(б). В ней говорилось: «Политбюро постановляет выразить самое суровое осуждение поступку Тухачевского и Смилги, которые издали, не имея на то никакого права, свой хуже чем бестактный приказ, подрывающий политику партии и правительства. Политбюро поручает РВСР немедленно отменить приказ РВС Западного фронта и поставить этому реввоенсовету на вид за неправильность его действий». Тухачевский принес полякам письменное извинение, и конфликт был улажен. Но уже в ходе следующего заседания стало ясно, что инцидент с приказом поляки хотели использовать как повод для затяжки переговоров. Они вновь и вновь придирались не только к каждому пункту, но и к каждой строке текста мирного договора. Вскоре стали ясны причины такой выжидательной тактики. Собрав крупные силы, белопольская армия прорвала наш фронт и двинулась в глубь Белоруссии. Ситуация изменилась не в нашу пользу. Белополяки подходили к Минску. 28 августа председатель польской делегации, сославшись на то, что ему необходимо встретиться для консультации с членами своего правительства, уехал в Брест. Но по всему было видно, что он вряд ли вернется обратно. Вечером того же дня отбыл в Москву и Данишевский. После нескольких встреч с Чичериным, Караханом и Крестинским Карл Христианович имел свидание и с Лениным. Речь шла о судьбе мирных переговоров. Нужно было изменить место проведения мирной конференции. Ленин высказал мысль, что в новых условиях необходимо сменить главу нашей делегации. Выбор пал на опытного дипломата А. А. Иоффе. Мирный договор был подписан 18 марта 1921 года, но Данишевский узнал об этом событии из газет, находясь в далекой Сибири. Партия направила его на новый участок работы, назначив секретарем Сибирского бюро ЦК РКП(б). В тот период огромная территория Сибири от Уральских гор до Омска была охвачена крестьянским восстанием. Внимательно изучив причины его возникновения, Данишевский пришел к выводу, что к трагическим последствиям привели многочисленные ошибки местных советских и партийных органов. Выступая на 3-й Всесибирской партийной конференции, Данишевский говорил: «Для ускоренного оздоровления партии необходимо очистить партию от разлагающих ее элементов, развернуть борьбу с бюрократизмом, ведомственностью, необоснованными материальными преимуществами партийных и советских работников. Мы нуждаемся в большой свободе внутрипартийной критики, развитии самостоятельности партийных масс, вовлечении всего рабочего класса в организацию и управление хозяйством. Необходимо не только губернские конференции, но и Сиббюро, пленумы губкомов и местных комитетов, не требующих закрытых заседаний, делать публичными для всех членов партии. Каждый член партии должен быть во всех отношениях примерным бойцом, тружеником, товарищем и гражданином». На конференции Данишевский был избран в состав Сиббюро и делегатом на X съезд РКП(б). Встретившись в Москве с Ильичем, он передал ему материалы, связанные с переустройством экономических отношений в деревне. Ленин использовал соображения Данишевского в своем докладе на съезде. На седьмом заседании 11 марта председательствующий Томский предоставил слово Карлу Данишевскому, чья речь была пронизана тревогой за будущее партии. «Наша партия, — говорил он с трибуны, — переживает кризис, партия больна, ее лихорадит. Проявление кризиса — усиление центробежных сил в партии, фракционность, местничество, партизанщина в партии — все это отражает те переживания, те явления, которые имеют место во всей Республике в целом. Местничество, стремление на местах освободиться от влияния центра представляется болезненным, разлагающим нашу партию явлением, не дающим возможности все средства и силы партии употребить на достижение поставленных задач». В конце 1923 года большая группа старых большевиков, состоящая из 46 человек, направила в ЦК письмо, в котором излагала свои опасения за судьбу партии в связи с ростом партийного и государственного аппарата и отсутствием внутрипартийной демократии. В «Платформе-46» давался глубокий анализ состояния государственной экономики, финансов и практики партийного строительства. Под этим документом рядом с подписями Антонова-Овсеенко, Пятакова, Косиора, Преображенского стояла и фамилия Данишевского. Владимир Ильич в ту пору болел, погоду в ЦК определял входивший в силу Сталин. Декларация старых большевиков вызвала у него сильный гнев, он презрительно назвал авторов письма «сборищем обиженных». Созванный вскоре пленум ЦК и ЦКК объявил всех подписавших декларацию фракционерами и обвинил их в раскольнической деятельности. Следует заметить, что ни резолюция, принятая на пленуме, ни полное содержание письма не были опубликованы в печати и до сих пор остаются тайной. Сталину не нужны были большевики, живые свидетели его восхождения на пьедестал славы, помнившие его ошибки, знавшие его пороки. Один за другим попадали они в мрачные камеры Лубянки и Лефортовской тюрьмы. 16 июля 1937 года наступила очередь и К. X. Данишевского. Ему предъявили стандартное обвинение в том, что он с 1921 года являлся кадровым троцкистом и до дня ареста вел активную борьбу с Советской властью, что он «руководил троцкистской организацией, вербовал в антисоветскую организацию новых членов, занимался шпионажем в пользу германской разведки, подготавливал террористические акты против руководителей ВКП(б) и Советского правительства». 8 января 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила К. X. Данишевского к расстрелу, и в тот же день приговор был приведен в исполнение. Спустя почти двадцать лет, 18 июля 1956 года, он был отменен как неосновательный. В трудный период гражданской войны газета «Правда» назвала Данишевского «истинным сыном революционного народа». Таким он остался до конца своей жизни. После долгих лет забвения Родина вновь обрела одного из своих сыновей, которые составляют ее гордость и славу. Соломин Н. И.

Кобозев Петр Алексеевич
Годы жизни: 1878―1941. Советский государственный и партийный деятель. Член партии с 1898 г. В 1917 г. делегат II Всероссийского съезда Советов, участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В июне — сентябре 1918 г. член РВС Восточного фронта. В сентябре 1918 г. — апреле 1919 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Фронт уже был. Фронта еще не было. Нет, это не игра слов, а сама действительность молодой Советской Республики к началу июня 1918 года. Фронт как боевые действия крупного масштаба возник в связи с тем, что значительную территорию Среднего Поволжья охватил вооруженный мятеж чехословацкого корпуса. Откуда тут взялся чехословацкий корпус? Формирование его началось еще до Октябрьской революции из находившихся в русском плену солдат и офицеров австро-венгерской армии. Предполагалось, что это соединение, достаточно вооруженное и экипированное, будет воевать против кайзеровской Германии за освобождение своей родной земли. Но время шло, ситуация изменилась. Между Германией и Советской Россией был заключен в Брест-Литовске мир. И рьяное руководство иностранного корпуса стало добиваться передислоцирования его во Францию… Согласно подписанному 26 марта 1918 года договору, военнослужащим корпуса разрешалось ехать по русской территории поездами как частным гражданам — без оружия, которое требовалось сдать советским органам. Это устраивало обе стороны, гарантировало от серьезных инцидентов. При том, разумеется, условии, что договоренность будет неукоснительно соблюдаться. Маршрут, однако, был возможен один-единственный — через Сибирь, Владивосток, океаны. Пошли эшелоны с Украины, из центральных районов (мест прежнего квартирования) — на восток. Растянулись по железнодорожной магистрали, умышленно задерживаясь на крупных станциях. И началось как по мановению волшебной палочки в одном, другом, третьем пунктах — где под искусственным предлогом, где открыто — беззастенчивое самоуправство: ликвидировались советские и партийные органы, назначались свои комендатуры, открывались все двери для местных белогвардейцев. Противник был многочислен, организован и тем вдвойне опасен. А противостояли ему разрозненные отряды Красной гвардии, рабочие дружины, порою не обученные даже простейшим ружейным приемам, действовавшие на свой страх и риск, не имевшие связи ни с соседями, ни с центром. Единое управление, штаб возникшего фронта, еще предстояло создать. Такую ответственность и масштабную работу выполнить было под силу только центральной власти. И возглавил ее Ленин. Владимир Ильич с первых сообщений понимал всю серьезность событий в Заволжье. Когда же 8 июня мятежники захватили Самару, перерезав главную водную артерию — Волгу, и там объявилось «правительство» под вывеской группы членов Учредительного собрания («Самарская учредилка»), стало совершенно очевидным, что нужны неотложные и кардинальные меры. Было решено создать для борьбы с чехословацким мятежом авторитетное командование в лице Революционного военного совета в составе главкома и двух политических комиссаров. Это был самый первый случай образования коллегиального органа для координации боевых действий: ни в так называемых «завесах», заслонивших Республику вдоль границ, ни в территориальных военных округах ничего подобного не имелось. С этой июньской акции, наверное, и следует вести родословную реввоенсоветов, хотя РВС Республики был образован тремя месяцами позже, в сентябре 1918-го. Важностью предстоящей работы диктовалась необходимость тщательного подбора кандидатов в члены РВС, но и медлить было нельзя. На пост главкома утвердили бывшего подполковника старой армии, левого эсера Муравьева. Особыми доблестями не обладавший, он вместе с тем «был на виду»: в Октябрьские дни 1917 являлся начальником обороны Петрограда, возглавлял бои по ликвидации мятежа Керенского — Краснова, затем на Украине занимал высокие военные должности. За злоупотребление властью был арестован, но от наказания сумел уйти. По настоянию наркомвоена Троцкого решили испробовать его еще раз. Политическими комиссарами в проекте приказа, представленном председателю Совнаркома 11 июня, фигурировали две фамилии, в нашей истории мало известные. Владимир Ильич Ленин завизировал проект, но в окончательном тексте приказа, который был подписан им через день, 13 июня, значатся уже другие лица — Кобозев и Благонравов. Что повлияло на такое изменение? В Биохронике В. И. Ленина отмечено, что 13 июня он «заслушивает доклад наркома путей сообщения П. А. Кобозева о положении на железных дорогах». Долгой ли, короткой ли была их встреча, но лаконичная эта запись, конечно, не раскрывает всего содержания состоявшейся беседы. Вполне вероятно, что во время нее обсуждался и вопрос о переходе Петра Алексеевича на фронтовую работу. Хорошо зная о его революционной деятельности в Латвии, на Северном Кавказе, в Оренбуржье в условиях царского самодержавия, о его смелости и решительности при организации борьбы против казачьего атамана Дутова в ноябре 1917 года, Владимир Ильич не случайно, после обстоятельной беседы с наркомом Кобозевым, без промедления внес поправки в первоначальный проект решения Совнаркома об РВС. В окончательном виде этот исторический документ выглядит так: «Для руководства всеми отрядами и операциями против чехословацкого мятежа и опирающейся на него помещичьей и буржуазной контрреволюции Совет Народных Комиссаров учреждает Революционный военный совет в составе народного комиссара Кобозева, главнокомандующего Муравьева и комиссара Благонравова». Простое сравнение двух вариантов состава РВС многое говорит внимательному читателю: в проекте перечень имен начинался с Муравьева, в официальном тексте впереди Кобозев. И это не пустая формальность. Если в первом случае политкомиссары выглядели неким придатком к главкому (и такое вполне могло произойти), то теперь во главе коллегиального органа фронта становился авторитетный политический руководитель. Петр Алексеевич Кобозев, оставаясь наркомом путей сообщения, наделялся новыми правами полномочного представителя правительства Республики и большевистской партии, возглавлявшей революционную борьбу трудового народа. Кобозев отчетливо сознавал большую ответственность своей новой роли. И прежде всего он подумал о тех, с кем придется вместе работать на фронте. Политкомиссар Георгий Иванович Благонравов сомнений не вызывал. Свою преданность революции он доказал в Октябрьские дни, когда был комендантом Петропавловской крепости и обеспечивал штурм Зимнего дворца. С Муравьевым дело посложнее. Нет, не потому только, что он левый эсер. С их партией большевики сотрудничают в советских органах; нелогично было бы отвергать их участие в делах военных. И нельзя не замечать среди левых эсеров здоровых элементов. Но были и другие, особенно их верхушка. Тот же Муравьев, едва получив новое назначение, зачастил в свой ЦК. За инструктажем? Возможно. Недаром же со стороны левых эсеров последовала претензия на паритетное управление Восточным (чехословацким) фронтом. В частности, Всероссийскому бюро военных комиссаров (предшественник Политуправления РККА) и Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) было предъявлено требование: при подборе работников для фронта включать равное количество левых эсеров и большевиков. Член РВС Благонравов уже наметил двадцать коммунистов для руководящей политработы в войсках, а ему навязывают еще двадцать левоэсеровских кандидатов. Это вдобавок к тем «своим», кого подобрал сам главком в будущий штаб и его учреждения. Тут уж не «паритет», а явный перевес получался. Исходя из всего этого, Петр Алексеевич Кобозев свое мнение о главкоме сформулировал кратко: «Не та фигура». Он считал, что притязания левых эсеров на верховенство необходимо нейтрализовать. Но как? На встрече с В. И. Лениным П. А. Кобозев, поделившись своими мыслями, встретил полное понимание. Владимир Ильич видел правильную тактику в выработке таких правил работы Реввоенсовета, которые обеспечивали бы плодотворное сотрудничество. Поскольку без специалистов военного дела на фронте не обойтись, надо привлекать тех офицеров старой армии, которые не противодействуют рабоче-крестьянской власти. И, привлекая, доверять им, предоставляя, в данном случае Муравьеву, самостоятельность в оперативных вопросах. Но всякий приказ главкома должен скрепляться подписью комиссара РВС. Это и будет проявлением постоянного контроля за действиями и распоряжениями главкома. Относительно претензий на «паритет» условились так. Главнокомандующим Муравьев назначен как военспец, изъявивший готовность служить Советской Республике независимо от его партийной принадлежности. Поэтому он и другие левые эсеры, привлекаемые к фронтовой работе, обязаны руководствоваться не установками своей партии (она решительно выступала против Брестского мира), а указаниями правительства РСФСР. Всякие фракционные действия, использование левыми эсерами своих военных постов во вред Советской Республике должны пресекаться. С таким ленинским напутствием и приступил П. А. Кобозев к своим новым трудным и сложным обязанностям председателя реввоенсовета Восточного фронта.Отправление специального поезда РВС из Москвы было назначено на 14 июня в 17 часов. Но уже с утра в штабном салон-вагоне появились все трое — Кобозев, Муравьев, Благонравов. Петр Алексеевич предложил провести первое официальное заседание реввоенсовета. Главком нахмурился: а что, собственно, обсуждать? Кобозев настаивал: у него есть соображения о неотложных организационных мерах. Муравьев свое — ни он, ни его штаб, дескать, еще не ознакомились с положением и вообще такие заседания следует собирать лишь по его, главнокомандующего, предложению. Кобозев почувствовал, что наивность Муравьева наигранна — он прикидывает, нельзя ли обойти членов РВС, подмять их под себя. Петр Алексеевич спокойно пояснил, что реввоенсовет может собираться по инициативе любого из его членов, а председателя тем более никто не лишал такого права. Чтобы разрядить возникшую было напряженность, он, открывая заседание, сказал: — А знаете ли, товарищи, что кроме нашего главнокомандующего на фронте имеются по крайней мере еще три главкома? Да плюс две военные инспекции с наркомами во главе, и прав у них, пожалуй, побольше, чем у вас, Михаил Артемьевич. Вот нам и надо решить: как избавиться от обилия военного начальства на фронте, которым мы призваны руководить, как сосредоточить всю власть в своих руках? Доброжелательный тон председателя смягчил обстановку. Муравьев повеселел: речь, значит, идет о том, чтобы обеспечить полноту его прав как главнокомандующего. — Шутки шутками, — продолжал Кобозев, — а от этих главкомов и инспекций так просто не отмахнешься, одним декретом об РВС ничего не решишь. И нам следует внимательно рассмотреть прежний опыт, ведь на что-то вначале нужно опереться, а непригодное сразу отсечь. Он опять шутливо заметил, что поработал «заправским начштаба» — ознакомился в оперативном отделе Наркомвоена с фронтовыми документами, уяснил создавшееся на отдельных участках положение. Сделанный Кобозевым обзор был выслушан с большим вниманием. Хмурившийся вначале главком успокоился. Возник вопрос о форме объединения войск, находящихся на крупных участках, где каждый старший военачальник именует себя «главкомом фронта». Войсковые формирования в виде отрядов, дружин непригодны для предстоящих активных, наступательных операций. Все трое признали, что более всего тут подходит боевая организация в форме армии, включающей то или иное число дивизий, с квалифицированными штабами, органами снабжения и другими учреждениями, обеспечивающими надежное управление войсками. В структуре фронта уже определились районы, направления с более или менее сколоченными группами частей. Поэтому на первом же заседании РВС, в еще не отошедшем из Москвы поезде, было намечено образовать три армии, помимо Особой, действовавшей в Нижнем Заволжье. Первая армия должна объединить силы, расположенные в треугольнике городов Пенза, Сызрань, Симбирск. Во вторую армию следовало бы включить части в районе Кинеля и Уфы. Третья объединит войска Р. И. Берзина, упразднив теперешний Северо-Урало-Сибирский «фронт». В результате этого заседания были выработаны два документа РВС, направленные на упорядочение фронтовой организации. Первой официальной директивой была телеграмма в Екатеринбург Р. И. Берзину: его извещали о назначении командующим 3-й революционной советской армией, ему предлагалось «организовать армейский штаб». Вторая телеграмма адресовалась в Уфу наркомвоену Н. И. Подвойскому. Реввоенсовет просил его «принять меры к занятию ст. Кинель» и отдать «приказ оренбургским войскам тоже двинуться на Кинель». Подчеркивалась необходимость «Оренбургской и Уфимской группам быть в связи», так как они составят вместе 2-ю советскую армию. Депеши, подписанные всеми тремя членами РВС, были отправлены из Москвы 14 июня, днем. Несмотря на свою «особость», поезд продвигался медленно. Лишь утром 16-го остановились в Рузаевке. Здесь выяснилось неблагополучие в Сызранской группе войск: она была ослаблена дезорганизаторскими поступками отряда левого эсера Попова, люди которого мародерствовали, хулиганили. Дисциплина пошатнулась даже в 4-м Видземском латышском полку, считавшемся крепким. Все это заставило командование группы вывести свои части за пределы Сызрани. И в город сразу же ворвался противник. Штаб Сызранской группы обосновался на станции Балашейка, куда и направился поезд РВС. На состоявшемся в Балашейке заседании было решено свести войска сызранского направления в 1-ю советскую армию. Командармом, по лестной рекомендации Муравьева, назначили левого эсера А. И. Харченко. Возражать не было оснований, и Кобозев с Благонравовым нашли, что для проверки военно-организаторских данных главкома нужно предоставить ему инициативу. Политическим комиссаром армии был утвержден предложенный Кобозевым большевик с подпольным стажем Оскар Юльевич Калнин. Однако первая же фронтовая «проба» выявила не столько инициативность главкома Муравьева, сколько его авантюризм. Он с ходу заявил, что «завтра же возьмет Сызрань». Подменяя командарма, стал вмешиваться в отдельные его распоряжения, а затем, рассчитывая прославиться, вообще отстранил Харченко от всякого оперативного руководства. Последний не возражал — уехал на станцию Инза заниматься штабными заботами. На заседании РВС Кобозев, Благонравов и Калнин просили Муравьева не спешить с наступлением на Сызрань, сперва подготовить его как следует. Главком заупрямился. Что ж, поневоле, вынужденно, но должен был Петр Алексеевич Кобозев включиться в работу в том же направлении. Вспомнив свои агитаторские навыки, связался с Пензенским губсовдепом, посоветовал обратиться «с горячим словом», поднять боевой дух Смоленского и Московского полков, отошедших от Сызрани, вернуть их снова в тот район. Выяснив, что переброске войск мешают «пробки» на станциях, употребил свою наркомовскую власть для высвобождения хотя бы главных путей и пропуска бронепоездов, воинских эшелонов. И все-таки дело шло медленно, перебросить удалось за два дня всего девятьсот человек. Члены РВС снова высказались за то, чтобы боевую операцию отложить до подхода двух полков от Пензы и 4-го Видземского от станции Безводовка. Но главком категорически стоял на своем и во второй половине дня 18 июня начал-таки наступление. Что же получилось из этой затеи? Сперва блеснул было успех — бронепоезд прорвался на станцию Сызрань-Товарная. Но когда группы бойцов двинулись оттуда на ближайшие улицы, они были отрезаны и расстреляны перекрестным огнем. Выбить противника из города силами одного бронепоезда, без достаточной пехоты, оказалось невозможным. Операцию поневоле пришлось отложить. Поезд реввоенсовета покинул Балашейку и в дальнейшем почти без задержек шел на Казань, где намечалась дислокация всех органов управления Восточного фронта.
Пока налаживалась работа в Казани, Петр Алексеевич Кобозев отправился в Уфимский район. Прибыв в Уфу 22 июня, он, не удовлетворенный информацией губревкома, выехал на боевой участок к Бугуруслану. На станции Аксаково нашел штаб К. Н. Блохина, возглавлявшего те части, которые сдерживали продвижение белочехов от Кинеля. О своем впечатлении телеграфировал в Казань: «Познакомился с командующим этим направлением Блохиным. Человек отступает строго методически, выдержанно… Весь его отряд — горсть, меньше горсти в сравнении с силами чехословаков. Необорудованность его ужасная, кроме винтовок, ничего, а противник наступает с броневиками и старается все время захватить неуловимого Блохина фланговыми маневрами…» Оценив действия красного отряда как «подлинное геройство на общем фоне», Кобозев передал в Казань свое предложение о назначении Константина Никитича Блохина командующим 2-й армией. Одновременно он телеграфировал об этом В. И. Ленину, помня о просьбе Владимира Ильича знакомить его с назначаемыми командирами. От РВС Петр Алексеевич имел полномочия действовать по обстановке, с последующим согласованием. Здесь и впрямь требовались решения безотлагательные. Поэтому, уверенный, что кандидатура Блохина будет утверждена, он позаботился о более или менее нормальных условиях его предстоящей работы. Нежданно обнаружился на станции Чишма штаб бывшего Урало-Оренбургского «фронта». Брошенный своим «главкомом» Яковлевым, этот штаб почему-то считал группу Блохина в своем подчинении и пытался давать ей различные «директивы», не оказывая, впрочем, никакой помощи. Еще один «претендент на руководство» объявился в самой Уфе — созданный губвоенкоматом полевой штаб укрепленного района под начальством военрука Ф. Е. Махина. Он тоже требовал «подчинения», препятствуя в то же время усилению боевого отряда. Беспомощность Махина, не выполнявшего своих прямых обязанностей по подготовке резервов, Кобозев доказал наглядно и убедительно. Он предложил губревкому устроить смотр двум формировавшимся в Уфе пехотным полкам. Выстроились новобранцы почти раздетыми, многие не имели оружия, а кто был с винтовкой — не умели ее держать. При такой неразберихе в управлении и слабых боевых силах чрезвычайно трудно было удержать Уфу, к которой неприятель упорно двигался с двух сторон. Пытаясь связаться с Оренбургом для получения поддержки, Кобозев почти весь день 24 июня провел на телеграфе. Ничего не добившись, он отправился в тот район; ехать пришлось на автомобиле более 250 верст по степному тракту, оставшемуся без всякой охраны. Утром 25-го он прибыл в Оренбург, отыскал командовавшего там Г. В. Зиновьева и председателя губисполкома А. А. Коростылева, с ними уточнил обстановку. Все понимали, что необходимо помочь Уфе, падение которой открывало бы врагу широкий простор и отрезало бы Оренбургскую группу от основных сил Востфронта. К тому же предпринятый было фланговый удар в Бузулукском районе оказался неудачным. Вместе с Зиновьевым, Коростелевым и прибывшим из-под Бузулука В. К. Блюхером Петр Алексеевич Кобозев при оценке сложившегося положения пришел к выводу, что Оренбург придется оставить. Нелегко было так решать участь города, с которым у него связаны личные чувства, но это необходимо ради сохранения войск, нужных на других боевых участках. Разночтения выявились при решении вопроса: куда отводить войска? Местные работники и Зиновьев предпочли район Актюбинска, рассчитывая на новый тыл — Туркестан. Командир уральских отрядов Блюхер стоял за поход на север для соединения с главными силами; при этом учитывалось желание бойцов защищать родные заводы. Обе точки зрения были правомерны, и Кобозеву как члену РВС фронта пришлось согласиться с разделением Оренбургской группы на два потока. История оправдала этот вариант. Ушедшие на север отряды под командой Н. Д. Каширина — В. К. Блюхера, пополненные в пути местными формированиями, совершили беспримерный, героический рейд по тылам белых, перешли фронтовую линию в районе Красноуфимска и составили костяк новой дивизии, воевавшей в дальнейшем против Колчака. Актюбинский отряд Г. В. Зиновьева тоже дождался своего срока — через полгода, окрепший, принял участие в освобождении Оренбурга от дутовцев и затем послужил основой для создания 31-й стрелковой дивизии. …У самого Петра Алексеевича были тут и личные заботы. Его жена Алевтина Ивановна с детьми Колей и Наташей гостила у своей матери в одноэтажном домике на окраинной улице Оренбурга. Но, занятый до предела, он за четыре дня так и не выбрал часа, чтобы навестить семью. И она не ведала о его близости. Только ночью 29 июня явился в тот домик посланец Кобозева и передал наказ собираться в путь. Начались торопливые сборы. «Около часа или двух ночи под окном заурчали автомобили, — вспоминал годы спустя Николай Кобозев. — Вошел отец: гимнастерка подпоясана широким ремнем, сбоку в коричневой кобуре — револьвер. Расцеловав всех, он подхватил чемоданы и вышел. В темноте нас усадили на заднее сиденье. Рядом с шофером уселся человек в скрипучей кожаной тужурке. Бабушка едва успела сунуть нам корзину с едой. Автомобили тронулись». Возвращение в Казань особой радости не принесло. В отсутствие Кобозева главком, что называется, «распоясался». Вопреки мнению председателя РВС он самолично назначал на пост командующего 2-й армией то Яковлева, то Махина, то Харченко. Бездари и бездельники (один за другим переметнувшиеся затем к противнику), выходит, устраивали Муравьева, а рекомендованный Кобозевым стойкий коммунист Блохин не был угоден. И уж совсем возмутился Петр Алексеевич, когда узнал о состоявшемся 29 июня разговоре главкома по прямому проводу с Зиновьевым. На сообщение о перегруппировке оренбургских войск в район Актюбинска Муравьев потребовал: «Никаких отступлений. Сражаться до последнего человека!» В ответ Зиновьев пояснил, что возможности обороны города исчерпаны и эвакуация уже началась. Последовала гневная муравьевская тирада: «Очистить гарнизон от неустойчивых элементов. Если понадобится, перестрелять одну половину войск, а оставшейся половиной по пояс в крови защищать город». Вот так: «расстрелять… по пояс в крови…» За революционной фразой виделось лицо авантюриста, чуждого истинным интересам Республики и народа. Вздорное требование Муравьева встретило твердый, единодушный отпор оренбургских руководителей. Зиновьев категорически заявил, что истребления людей не допустит. На это последовало распоряжение о его аресте, но исполнять сие отказались другие товарищи. Тогда разъяренный Муравьев направил (30 июня) единоличную, без подписи комиссара, телеграмму командующему Особой армией А. А. Ржевскому, в которой приказывал «перерезать путь нашим частям, самовольно бросившим фронт и уезжающим в Ташкент, расправиться с ними самым беспощадным образом». Командарм Ржевский, как и Зиновьев, тоже оказался благоразумным человеком и вредное приказание «положил под сукно». Нелегко, да нужно правильно и быстро разобраться в запутанном клубке разнообразных фактов. И Кобозев сумел это сделать. На состоявшемся после его приезда в Казань заседании реввоенсовета самовольные действия Муравьева были строго осуждены, его незаконные, за единоличной подписью, распоряжения отменены. Главком сказал, что он «во всем согласен» с председателем РВС. Сказать-то сказал, а сам в тот же день под предлогом отчета о своей поездке на фронт настрочил в Москву кляузу на Кобозева, очернил его действия. Сделал он это тайком, но скрытное стало известным, лишний раз напомнив, что за левоэсеровским главкомом нужен глаз да глаз. Вопреки тайным интригам и явным выходкам Муравьева работа по организации управления фронтом, сплочению советских войск приносила первые плоды. Упорядочилось дело со 2-й армией, во главе ее был поставлен Константин Никитич Блохин. Энергичные, решительные командиры возглавили другие армии: 1-ю — Михаил Николаевич Тухачевский, 3-ю — Рейнгольд Иосифович Берзин. Не было, правда, полной ясности с Особой (в дальнейшем 4-я) армией, но и до нее дойдет черед. На боевых позициях усиливался отпор врагу, в тылу формировались резервные части, велась интенсивная подготовка к новым боям. В этих условиях повышалась роль реввоенсовета, и как нельзя кстати было решение правительства пополнить состав РВС. Прибыл из Москвы новый член — один из наркомвоенов, видный большевик Константин Александрович Мехоношин. Со многими боевыми участками он был знаком по прежним поездкам с военной инспекцией, это ему облегчало вхождение в курс дела. Оказавшийся под усиленным надзором, Муравьев стал изощренно лавировать, втайне готовить переворот, который должен был начаться по сигналу из левоэсеровского центра. Расставил, где удалось, своих людей, стягивал в крупные города «послушные» войсковые части, заигрывал с бывшими офицерами, которых в той же Казани было несколько тысяч…
В воскресенье 7 июля в ходе очередного заседания РВС поступили первые сведения об убийстве немецкого посла и начавшемся вооруженном выступлении левых эсеров в Москве. Члены реввоенсовета — коммунисты были возмущены вероломством вчерашних союзников, а Муравьев молчал. Перед ним в упор поставили вопрос: как он относится к действиям ЦК левых эсеров? С наигранным пафосом он заявил, что осуждает гибельную линию, порывает со своей партией и отказывается от членства в ней. Тотчас вызвали по телеграфу Москву — к кремлевскому аппарату подошел Ленин. Ему сообщили о казанских делах и позиции главкома. Владимир Ильич сказал: «Я не сомневаюсь, что безумно-истеричная и провокационная авантюра с убийством Мирбаха и мятежом центрального комитета левых эсеров против Советской власти оттолкнет от них не только большинство из рабочих и крестьян, но и многих интеллигентов». Относительно главкома было дано указание: «Запротоколируйте заявление Муравьева о его выходе из партии левых эсеров, продолжайте бдительный контроль». Так и было сделано. На том же заседании реввоенсовет рассматривал предложенный Муравьевым план генерального наступления. На бумаге все выглядело превосходно: 1-я армия «выбивает белых» из Сызрани и Самары, другие армии, «сдавливая противника», осуществляют «грандиозное окружение» вражеских сил на огромной территории, что позволяет «сразу перенести фронт с Волги к Уралу». Однако громкая речь была встречена без восторга. Деловые, аргументированные замечания членов РВС вынудили главкома согласиться с необходимостью перестроить оперативный план. Муравьев настаивал на своей непременной поездке в 1-ю армию, но никто его не поддержал. День 8 июля проходил в штабе Востфронта на первый взгляд как обычно. Подписывались очередные документы, читались оперативные донесения из армейских штабов, поступали сведения с различных пунктов города. В пятом часу утра 9 июля Кобозева и Мехоношина попросили прийти на вокзальный телеграф. Вызывал из Москвы В. И. Невский, замещавший П. А. Кобозева в Наркомате путей сообщения. Говорил он по своей служебной линии, не желая пользоваться общим телеграфом ввиду секретности разговора. Владимир Иванович информировал, что расследование подтвердило прямую причастность Муравьева к левоэсеровскому заговору. Тревожный сигнал! Вот-вот и в Казани может вспыхнуть мятеж, угрожая не только реввоенсовету, но всему советскому фронту. Дорога каждая секунда. Надо немедленно обезвредить Муравьева. Оставив Мехоношина продолжать разговор, Петр Алексеевич с двумя чекистами ринулся на поиски главкома. Вокзал, поезд — тут его нет. Нет и в штабе. Где же он? Не в дворянском ли собрании? И верно, Муравьев оказался здесь — беседовал с бывшими офицерами. При появлении Кобозева компания прервала разговор. «Похоже, что штаб восстания уже готов!» — мелькнула мысль. Петр Алексеевич понимал, что рискует, но отступать еще опаснее. Отозвал Муравьева в сторонку. — Что это, я арестован? — кивнул на чекистов. — А разве вы считаете, Михаил Артемьевич, что вас можно за что-то арестовать? Говорили оба уклончиво, с недомолвками. Кобозев предложил Муравьеву поехать в штаб: сообщения с фронта вызывают беспокойство. Лишь в штабе — здании на Проломной улице — Кобозев вздохнул с облегчением. Теперь Муравьев никуда отсюда не уйдет, всякий его шаг будет под надзором, связь его с сообщниками прервана. Пока главком, готовясь к заседанию РВС, знакомился с последними оперативными сводками, Петр Алексеевич пригласил к себе нескольких ответственных работников Казани, чтобы выяснить, какие есть силы для противодействия возможному мятежу. Насчитали около 700 человек. Мало. Было предложено вооружить поголовно всех коммунистов города, определить пункты сосредоточения боевых отрядов. В отношении Муравьева решили: чтобы оторвать его от сообщников, надо предложить ему поездку на фронт, которой он сам добивался, а с ним направить надежных людей для ареста его вдали от Казани. Из города начали поступать сообщения о сборищах внутри кремля, выдаче боеприпасов из арсенала, появлении на улицах вооруженных отрядов. Не начало ли мятежа? В 10 часов началось заседание РВС. После доклада о фронтовой обстановке было высказано пожелание, чтобы главком выехал к войскам — лично организовать их, воодушевить… А пока, сказал Кобозев, нужно дать оценку положению в городе. Некоторые части, похоже, подстрекают авантюристы. Обращаясь к Муравьеву, он выразил уверенность, что главком сумеет принять меры для пресечения мятежных выступлений. — Какими силами мы располагаем? — спросил Петр Алексеевич, предоставляя слово приглашенным на заседание военным работникам Казани. Как и час назад, те называли отряды, рабочие группы, преувеличивая теперь реальные цифры. Делалось это для Муравьева, чтобы ввести его в заблуждение. Не исключено, что он догадывался об «игре» с ним и принимал ее. Он видел и чувствовал себя здесь заложником. Если его сторонники будут штурмовать это здание ради освобождения своего вожака, то члены РВС успеют покончить с ним. Выходит, в Казани с мятежом провал. Остается один шанс — вырваться отсюда, а там уж он найдет способ освободиться от комиссарской «опеки»… Пока же он — вынужденно послушен, исполняет все конкретные предложения-требования: выдворил с вокзала бесчинствующих анархистов, согласился на смещение коменданта, раздававшего оружие со складов, на разоружение сербского батальона. Каждый такой шаг ослаблял возможности мятежников, укреплял позиции законной власти. Вдруг в комнату реввоенсовета донесся с улицы конский цокот, послышались выкрики. В открытую дверь балкона было видно, что на прилегающую площадь примчался кавалерийский отряд Трофимовского, покорного слуги и надежной опоры главкома. Ситуация опаснейшая. Довольно одного непродуманного действия, одной искры — и вспыхнет резня. Выручило самообладание Кобозева, его тактическая «игра». Спокойно и уверенно он предложил Муравьеву выйти на балкон и распорядиться о возвращении конного отряда в казарму, чтобы «не мешал работать». «Муравьев был на балконе один, — вспоминал позже Петр Алексеевич, — а мы следили из комнаты за всеми его движениями, ловя каждое его слово и держа револьверы наготове. Муравьев это прекрасно знал и поэтому проделал то, что ему приказали». Наступил вечер, а напряженная работа, вернее, своеобразная борьба продолжалась. Члены РВС стремились сделать все возможное в интересах фронта. Было предложено издать приказ главнокомандующего Восточным фронтом, оповестить армии, что с левоэсеровским мятежом в Москве покончено, призвать революционные войска к решительной борьбе с врагами социалистического Отечества. Муравьев без возражений согласился, даже взял ручку и приготовился писать. Коммунисты ему диктовали, а он, будто механически, записывал неприятные самому гневные и правдивые мысли. Его буквально передернуло, когда пришлось написать такие слова: «И раз навсегда покончить со всеми авантюристическими выступлениями, которые заранее обречены на гибель и будут беспощадно уничтожаться». Кончив записывать, Муравьев, весь в поту, откинулся на спинку стула… Арест же изменника, намеченный на следующий день, увы, сорвался. Случилось это так. Отправиться в обговоренную поездку главком должен был в 9 часов утра 10 июля на штаб-яхте «Межень». Туда загодя явились чекисты и политработники. Непосредственно сопровождать Муравьева должны были член РВС Благонравов и начальник полевого контроля (особого отдела ЧК) Фаэрман. Ближе к полуночи первый из них ушел на квартиру «собраться в дорогу», а второй, называвший себя коммунистом, но оказавшийся левым эсером, отпустил главкома «проститься с женой». Вырвавшись из-под надзора, Муравьев развил бешеную активность, в считанные часы собрал личную охрану, преданных ему штабистов и кое-какие подразделения, явился на яхту и отдал приказание на отплытие около 4 часов вместо 9. Причем удалось увести с собой только что подошедший пароход с Уфимским полком, вызванным с камского участка. Путь двух судов лежал вниз по Волге — к Симбирску. Весть о бегстве Муравьева была для Кобозева оглушительной. С утра 10-го он, явившись в РВС, готовил доклад В. И. Ленину о, по существу бескровной, ликвидации заговора в Казани, как вдруг вбежал бледный, взволнованный Благонравов… Требовались экстренные меры. Полетели срочные телеграммы в Москву и по всему фронту, предприняли попытки догнать ушедшие суда. Кобозев связался со штабом 1-й армии, узнал от комиссара Калнина, что командарм Тухачевский отбыл по вызову в Симбирск; теперь добавилась тревога за судьбу Михаила Николаевича. Вечером 10 июля в Казани была перехвачена радиограмма из Симбирска: Муравьев призывал чехословаков к совместным действиям против Советской власти. Вот он, ставший открытым бой! Приняв этот вызов, Кобозев с товарищами составили и разослали «всем, всем, всем» следующую депешу № 117: «Объявляем бывшего главнокомандующего Муравьева, бежавшего сегодня из Казани в Симбирск вместе с народными деньгами, безумным провокатором, изменником революции. Никакой войны Германии Советы не объявляли, о чем он всюду благовестит. Он сам, назначенный для борьбы с чехословацким мятежом, дал им из Симбирска телеграмму № 2082 58 10/7 от Самары до Владивостока всем чехословацким командирам: „Повернуть эшелоны, двигающиеся на восток, кругом и перейти в наступление к Волге“. Ввиду этой измены всем соприкасающимся с ним вменяется в обязанность на месте пристрелить его как бешеную собаку, врага Советской России. Меры к изоляции Симбирска приняты». Блокирование Симбирска было возложено на 1-ю армию. Для непосредственного руководства этой операцией Кобозев выехал на станцию Рузаевку. В его отсутствие оставшиеся в Казани члены РВС сочли нужным послать еще одно сообщение В. И. Ленину: «Временное главное командование после ликвидации муравьевщины принял на себя революционный военный совет в составе Кобозева, Благонравова и Мехоношина. Необходимо немедленное назначение военного руководителя, опытного боевого настоящего военного специалиста». То, что фамилия Кобозева и без него поставлена первой в важном документе, — не пустая формальность, а признание его руководящей роли в деятельности реввоенсовета. Пресеченные в Казани, сорвались изменнические замыслы Муравьева и в Симбирске. Там решительные и неожиданные для мятежников меры были приняты местными коммунистами во главе с И. М. Варейкисом. При аресте Муравьев открыл стрельбу и погиб в перестрелке. Как только об этой акции стало известно Кобозеву, он выехал в Москву. В столице он пробыл шесть дней. Участвовал в заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина, рассмотревшем вопрос о положении Восточного фронта в связи с изменой бывшего главнокомандующего. Правительство оценило деятельность реввоенсовета: отметило его усилия по формированию регулярных войсковых частей, по ликвидации левоэсеровской авантюры, указало и на промахи, упущения. Утверждая нового главнокомандующего — И. И. Вацетиса, Совнарком выразил доверие сложившемуся ядру реввоенсовета в лице П. А. Кобозева, К. А. Мехоношина, Г. И. Благонравова. Было признано необходимым ввести в состав РВС еще одного члена — Мартына Ивановича Лациса с одновременным исполнением им должности председателя фронтовой ЧК. Из Москвы на фронт Петр Алексеевич выехал вместе с новым главкомом. В Казань они прибыли 19 июля. Начался новый этап деятельности. Его большой жизненный и революционный опыт, практические навыки военно-политической работы, умелое руководство органами управления фронта, мудрость и человечность при решении сложных вопросов, разумеется, были учтены при формировании Реввоенсовета Республики в начале сентября 1918 года. П. А. Кобозев был введен в состав РВСР и одновременно оставался на прежнем посту. Той осенью при всей серьезности военного положения как-то вдруг возникла и покатилась по фронтовым участкам «митинговая волна». Сознавая непоправимый вред митингования на фронте, Петр Алексеевич словом и делом боролся против этой заразной болезни. Примером призывного, агитационного слова может служить переданный из Арзамаса (ставка Востфронта) 22 сентября 1918 года приказ № 10 всем Вооруженным Силам Республики. Как было принято, документ издавался от имени командующего («Я указывал…»), но вместе с главкомом И. И. Вацетисом его подписали члены РВСР К. X. Данишевский и П. А. Кобозев, за начштаба П. М. Майгур. При коллективном авторстве трудно определить вклад каждого в этот документ, однако влияние Петра Алексеевича, «старожила» Восточного фронта, более других вникшего в сущность и психологию местных формирований, тут несомненно. «Уже давно громадное большинство членов Красной Армии пришло к тому заключению, что митинги на фронте, особенно перед боем или во время оного, не только не приносят пользы, но, наоборот, крайне пагубно отражаются на наших операциях и дают противнику лишний шанс к победе. Исходя из этого, Народный комиссариат по военным делам издал декрет, в котором категорически запретил всякие митинги на фронте. Я также неоднократно указывал на недопустимость их в боевой обстановке и призывал воздержаться от этих митингов, особенно от обсуждения боевых приказов во время боя. Несмотря на это, до сего времени хотя и редко, но все-таки повторяются случаи митингования и обсуждения боевых приказов отдельными войсковыми частями, причем зачастую такие случаи оканчиваются очень печально. В одной из армий произошел такой печальный случай. Один из полков этой армии получил боевой приказ о выступлении на позиции. Вместо быстрого его исполнения собрался на митинг и стал обсуждать этот приказ, а в это время противник произвел решительный удар, и в результате наши части вынуждены были очистить позиции и отступить. За такое преступное отношение к боевым приказам военно-полевой трибунал приговорил к расстрелу председателя и секретаря, и приговор приведен к исполнению». Обратите внимание на дату: 22 сентября 1918 года. Как раз в эти дни на Восточном фронте находился председатель Реввоенсовета Республики нарком Л. Д. Троцкий. 19―21 сентября в Николаевске он произвел смотр полков 1-й Николаевской дивизии, отметил их достойную боевую подготовку, наградил золотыми часами врид начдива — командира осмотренной бригады В. И. Чапаева и других воинов. К этому времени назрела боевая операция по освобождению Самары и Сызрани. Ввиду необходимости твердого порядка в прифронтовой полосе председатель РВСР по прибытии в Саратов 22 сентября отдал приказ, объявивший Саратовскую губернию на военном положении. Введенный в действие по телеграфу, приказ был напечатан во всех советских изданиях, вывешен повсюду на видных местах. Перекликающиеся между собой, оба эти документа нацеливали на решительные действия, которые без промедления и последовали. Для участия в Самаро-Сызранской операции выделялись: из 1-й армии — Железная дивизия Г. Д. Гая, из 4-й армии — 1-я Николаевская дивизия С. П. Захарова. Притом часть сил последней выделялась в самостоятельное соединение, названное 2-й Николаевской дивизией, во главе с В. И. Чапаевым, которому ставилась задача заслонить с юга, от белоказаков, самарское направление. Вскоре 1-я дивизия получила название Самарской, а 2-я осталась Николаевской — так они и значатся в последующих документах. В такой обстановке член Реввоенсоветов Республики и Востфронта П. А. Кобозев местом своего пребывания избрал передовые, наступающие войска. По приезде в штаб 4-й армии (г. Покровск — ныне Энгельс) он вместе с командармом Т. С. Хвесиным, политкомиссаром Г. Д. Линдовым и сопровождающими сотрудниками выехал 1 октября в 23.00 в Николаевск. Оттуда начинался путь на Самару, находившийся еще в руках белых. «Необычайно оригинальную картину представляла собой та дивизия, с которой я шел, — писал Петр Алексеевич в газете „Известия ВЦИК“. — Дивизия эта, без всяких преувеличений, представляла по внешнему облику полное подобие армий Степана Разина и Пугачева. Ни намека на обмундирование — высокие шапки с красными ленточками вроде хохлацкого чуба. Самые разнообразные одеяния. Начиная с Николаевска тянутся бесконечные обозы, и так на расстоянии целых 120 верст… К Самаре везут снаряды, боевое питание и пр., в обратном направлении — раненых, пустые подводы и пр. Продвижение все время происходит с боем. Местность равнинная, поэтому в боях проявляется чрезвычайное ожесточение с обеих сторон. Однако до рукопашных схваток дело не доходило, белые отходили, как только выяснялся перевес с нашей стороны. Наиболее интенсивные бои произошли у Утевки. Во время этого боя один из левофланговых полков вырвался вперед, вплоть до Иващенково; часть его взорвала дорогу и этим отрезала белым путь к отступлению. Рабочие Иващенкова, узнав о приближении советских войск, подняли восстание, но так как своими силами справиться с белыми они не рассчитывали, то крикнули клич нашим. Полк интернационалистов, который оказался ближе всего к Иващенково, пришел им на помощь, и, таким образом, усилиями рабочих и полка интернационалистов Иващенково было взято. Этим была предрешена судьба Сызрани, ибо мы образовали глубокий обход врага». Во время похода Кобозев поддерживал связь как с фронтовым командованием, так и с армейскими штабами. В частности, он информировал командарма 1-й М. Н. Тухачевского о продвижении наших частей «для согласования дальнейших действий». Как только поступило донесение о крупном успехе Г. Д. Гая, он 4 октября в 16.00 телеграфировал главкому И. И. Вацетису в Арзамас: «Поздравляю взятием Сызрани усилиями Железной дивизии Гая, снова выдержавшего в точности не только план наступления, но и срок, обещанный им мне в Симбирске при вручении Красного почетного знамени». Заканчивалось сообщение лаконичной фразой: «Сейчас еду в Сызрань». И он поспешил туда… Но вот настал черед и Самары — ее освободили от белогвардейцев 7 октября. Вошедший в город с первыми группами бойцов, Петр Алексеевич немедля послал депешу в адрес Председателя Совнаркома В. И. Ленина, Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова и главкома И. И. Вацетиса. В телеграмме говорилось: «Две армии в благородном соревновании оспаривали друг у друга честь занятия Самары. Пальма первенства осталась за 4-й армией. Самарская дивизия во главе с командармом Хвесиным, комдивом Захаровым и политическим комиссаром Линдовым на 5 часов опередила Железную дивизию Гая, задержавшуюся на переправе через Волгу. Ходатайствую о награждении Самарской дивизии Красным почетным знаменем имени ВЦИК. Подтверждаю геройскую храбрость и воинственность частей дивизии, прошедшей с непрерывными боями по осенней непролазной грязи и слякоти свыше 200 километров». После волжской победы войска Восточного фронта возглавил новый командующий — Сергей Сергеевич Каменев. Опытный, мудрый и хладнокровный, он нашел в лице Кобозева достойного соратника. Были моменты, приходилось оспаривать поступавшие из центра распоряжения о передислокации войсковых частей, — «новичку» протестовать перед прямым начальством несподручно, а «старожил», менее связанный субординацией, мог себе это позволить. Петр Алексеевич настойчиво доказывал, что Востфронт следует не ослаблять, а усиливать техникой и людьми. И это принесло пользу: советские войска через короткий срок продолжили наступление, освободив в январе 1919 года Оренбург и Уральск. Первый город взяли части Железной дивизии Гая, получившей к тому времени порядковый номер 24, а столицу уральского казачества освободили полки бывшей Самарской дивизии, ставшей 25-й, под командой молодого начдива Г. К. Восканова. Открывалась близкая перспектива соединения с Туркестанским краем. Связь его с Туркестаном была кровной и крепкой. Еще весною, прибыв в Ташкент с правительственным мандатом чрезвычайного комиссара, он энергично провел ряд мер по укреплению органов Советской власти, формированию войсковых частей, налаживанию народного хозяйства. Человек в высокой степени справедливый и чуткий, он завоевал большой авторитет среди трудящихся. Когда на V краевом съезде Советов 1 мая 1918 года было провозглашено образование Туркестанской Автономной Республики как составной части РСФСР, председателем ее ЦИК единодушно избрали Петра Алексеевича. И хотя обстоятельства заставили переключиться на военные дела, он и в эти критические месяцы не забывал про свой пост первого президента Туркестана. Два последующих года (1920―1922 гг.) Петр Алексеевич работал в Наркомате путей сообщения, отдавая силы и опыт налаживанию железнодорожного транспорта. Затем его откомандировали на Дальний Восток, где он занимал руководящие посты председателя Совета министров ДВР и председателя Дальревкома. Когда Дальневосточная республика свою временную роль сыграла и все противники в том регионе были побеждены, П. А. Кобозев вернулся в Москву. С 1923 года в течение 18 лет он находился на научно-педагогической работе. В конце 20-х годов занимался проблемой освоения хибинских апатитовых руд. При проектировании канала Москва — Волга разработал и обосновал свой, более экономный вариант трассы — Дмитровский. Скончался Петр Алексеевич 3 января 1941 года в возрасте 63 лет. Жохов М. А.

Курский Дмитрий Иванович
Годы жизни: 1874―1932. Советский партийный и государственный деятель. Член партии с 1904 г. Председатель Совета солдатских депутатов 4-й армии Румынского фронта, член ВРК в Одессе. В 1918―1920 гг. — комиссар Всероглавштаба и Полевого штаба РВСР, в декабре 1919 г. — январе 1921 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
О Дмитрии Ивановиче Курском писать непросто. Сам он, отличаясь большой скромностью, воспоминаний и мемуаров не оставил. Хотя рассказать ему было о чем — вместе с В. И. Лениным он работал в первых составах Советского правительства, создавал первые законодательные акты Республики, выполнял многочисленные ответственные поручения главы государства. Нет, к сожалению, воспоминаний об этом и в дневнике А. С. Курской — жены Дмитрия Ивановича, изданном под названием «Воспоминания о пережитом». Но сохранились документы, которые разрабатывал или подписывал он, его письма, речи, статьи, воспоминания тех, кто шел рядом с ним по трудным дорогам гражданской войны. Они позволяют в какой-то мере выяснить сопричастность Дмитрия Ивановича Курского к некоторым важнейшим событиям тех лет, его позицию при решении ряда принципиальных вопросов. Официальное назначение Дмитрия Ивановича членом Реввоенсовета Республики было оформлено постановлением Совета Народных Комиссаров 2 декабря 1919 года, тогда же он получил соответствующее удостоверение за подписью В. И. Ленина. Однако документы свидетельствуют о том, что в эту ответственную военно-политическую должность он вступил значительно раньше. Например, на ряде директив Главного командования Красной Армии, датированных ноябрем 1919 года, имеются его подписи как члена Реввоенсовета Республики. А директива командованию Восточного фронта, предписывавшая передислокацию части войск на Западный и Южный фронты, и того ранее — 10 июня 1919 года. Одновременно Д. И. Курский продолжал выполнять обязанности наркома юстиции РСФСР (он вступил в эту должность еще в 1918 г.). Почему же именно Курскому были доверены оба этих чрезвычайно ответственных поста? Думается, что для ответа на этот вопрос стоит немного сказать о жизненном пути Дмитрия Ивановича Курского, о тех вехах его биографии, которые способствовали формированию его личности, выработке мировоззрения, характера. Упорство в достижении поставленной цели было у него в генах. Отец Дмитрия отправился пешком из Красноярска в Петербург (Сибирской железной дороги тогда еще не было), чтобы получить в столице высшее образование, и, несмотря на великие трудности, добился своего — выдержал конкурсные экзамены в технологический институт и стал инженером. Но жизнь его оборвалась рано, и семья из четырех человек осталась без средств к существованию. Детям пришлось самим пробивать дорогу. Проучившись пять лет в Прилукской гимназии Полтавской губернии, Дмитрии выдержал конкурсные экзамены в коллегию Павла Галагана в Киеве, куда принимали только высокоодаренных детей, и поселился в интернате. Коллегию Дмитрий окончил с золотой медалью и уже к тому времени овладел несколькими иностранными языками. Затем Дмитрий прибыл в Москву, не пешком, как отец, а по железной дороге, но с таким же пустым карманом. Вскоре, в 1895 году он был арестован за участие в студенческих волнениях и помещен в Бутырскую тюрьму, где находился несколько месяцев. Занятия в студенческом марксистском кружке, общение в тюремных застенках с профессиональными революционерами оказали существенное влияние на формирование его общественно-политических взглядов. В 1900 году Дмитрий окончил юридический факультет (также с золотой медалью) и подлежал оставлению при университете для подготовки к научной деятельности, однако помешала «политическая неблагонадежность». Пришлось искать работу самому. Сначала удалось устроиться на службу в так называемый «контроль» — одно из учреждений министерства путей сообщения, затем в адвокатуру — помощником присяжного поверенного. Именно в это время решилась и личная судьба Дмитрия Ивановича, он познакомился с Анной Сергеевной — будущей женой и верным товарищем по революционной работе. В адвокатуре Курский защищал интересы рабочих, пострадавших от увечий на производстве, помогал им сформулировать коллективные требования к предпринимателям об улучшении условий труда. Приходилось ему выступать в судах и в качестве защитника по политическим делам. Твердо встав на позиции большевиков, в 1904 году Дмитрий Иванович Курский вступил в РСДРП. В этом же году его призывают в армию, но вскоре отправляют в запас «на лечение», на самом деле, скорее всего, из-за неблагонадежности младшего офицера в условиях войны с Японией. Далее предоставим слово А. С. Курской: «1905 год застал меня уже матерью троих детей и студенткой Педагогических (Тихомировских) курсов. Семья и учеба не отвлекали меня от революционных устремлений… …Наша квартира стала явочной. Явочными назывались в то время такие квартиры, куда приходили товарищи по партийным делам. Здесь они по заранее установленному паролю получали адреса собраний и ночевок. На явки к нам приходили ответственные организаторы районов для получения денег, литературы, сведений о месте предстоящих собраний Московского Комитета. В нашей квартире бывали также приезжие из других городов… То, что мой муж Д. И. Курский был адвокат, имевший официальные часы приема клиентов, было очень удобно для конспиративной работы…»[114] Как член литературно-лекторской группы Московского Комитета партии, Дмитрий Иванович участвует в составлении листовок, сборе и обработке материалов для газеты «Голос труда», выступает с лекциями, в том числе в Подмосковье. В годы реакции, наступившие после поражения революции, Курский был избран в состав Московского областного бюро ЦК партии, участвовал в работе редакции газеты «Рабочее знамя», расходившейся не только в Москве и Подмосковье, но и во многих других городах страны. Не прекращает он и адвокатскую практику, с немалым для себя риском участвует в качестве защитника в политических процессах. С наступлением нового революционного подъема Курский, стремясь укрепить связи с рабочими, становится юрисконсультом нескольких профсоюзов — металлистов, печатников, деревообделочников, торговых служащих и некоторых других. «Д. И. Курского, — пишет А. Г. Носков, — мы, работники московских профсоюзов того времени, вспоминаем всегда добрым словом. Внешне несколько суровый, чему способствовали его „по-хохлацки“ опущенные усы, он был человеком большой душевной красоты, умевшим сочетать простоту и чуткость в отношениях с людьми с большевистской принципиальностью и партийным трудолюбием. Для нас, молодой тогда поросли революционеров, преобладавших в профсоюзах, он являлся не только официальным представителем московского большевистского руководства, но другом и наставником во всех делах. Многие из нас вступили в РСДРП в пору царизма благодаря идейному влиянию Д. И. Курского и законно считают его своим партийным отцом». Рассказал А. Г. Носков и об участии Дмитрия Ивановича в создании близ станции Голицыно подпольной типографии. Активное участие принимал Курский и в выборах рабочих депутатов в IV Государственную думу: готовил предвыборные собрания, выступал на них. С началом первой мировой войны он, как офицер запаса, был призван на военную службу и отправлен на Западный фронт. Февральская революция застала Дмитрия Ивановича Курского в окопах Румынского фронта. В июне семнадцатого года ему удалось повидаться с семьей, накоротке, проездом в Петроград на I Всероссийский съезд Советов, и на обратном пути. Он рассказывал тогда: «Первый съезд Советов для нас, фронтовиков, должен был разрешить вопрос о переходе власти к Советам, что означало конец войне. Состав съезда не благоприятствовал разрешению этого вопроса: из тысячи с лишним делегатов большевиков было всего 105. Мы, делегаты с фронта, знали, что продолжать войну невозможно. В этом духе выступали многие товарищи. Можно себе представить мое волнение, когда на этом съезде я впервые в жизни встретился с Владимиром Ильичем Лениным…» В связи с избранием членом Революционного комитета Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа Курский переезжает в Одессу, где участвует в подготовке Октябрьской революции. «Вчера, — пишет он жене, — на общем собрании были приняты предложенные мной резолюции, и во мне крепнет удовлетворение своим опытом, а главное, сознание ответственности за свое руководство. Иду уверенно вперед и стараюсь не разбрасываться… скоро живительная гроза освежит и омолодит мир! Надеюсь, что скоро будем вместе. Вместе переживем и радость борьбы, и тяжесть разрухи, и счастье творчества новой жизни». А обстановка в Одессе складывалась не простая. Одних офицеров там сосредоточилось до 11 тысяч. Центральная рада, чтобы не допустить установления Советской власти, готова была объявить Одессу «вольным городом». В том же направлении усиленно действовали и представители союзных консульств. Тем не менее 27 октября объединенный пленум Советов рабочих, солдатских и матросских депутатов провозгласил власть Советов. И хотя для повсеместного ее установления потребовалось немалое время, почин был сделан. Внеся коренную ломку в политическую, экономическую и духовную жизнь страны, Октябрьская революция сразу же приступила к созидательной работе, важное значение в которой отводилось и органам юстиции. Вернувшись в Москву, Д. И. Курский возглавил правовой отдел Моссовета, называвшийся в первое время Комиссариатом по судебному ведомству, организационные функции которого распространялись не только на Москву и Подмосковье, но и на ряд прилегающих областей. Комиссариат разместился в Кремле, на первом этаже здания Сената. Трудными были первые недели его деятельности. Мешал саботаж старых чиновников, оставивших множество неразрешенных дел и бумаг, на разбор которых пришлось потратить уйму времени. Для борьбы с уголовной преступностью Курский предполагал оставить пока прежний следственный аппарат и временно продолжить занятия мировых судей, а некоторых из них предложить кандидатами в народные судьи при избрании их первого состава Моссоветом. Но подавляющее большинство следователей и мировых судей не захотели сотрудничать с новой властью. Пришлось опечатать помещения Московской судебной палаты и окружного суда. Руководствуясь ленинским декретом о суде № 1, Курский твердо проводит линию на организацию местных судов, избираемых гражданами, на создание юридических отделов в тех губерниях, где их еще не имелось. В начале апреля 1918 года Дмитрий Иванович Курский был назначен заместителем наркома юстиции РСФСР. «Перед Народным комиссариатом юстиции в новом его составе, — писал он в те дни, когда из Наркомюста вышли левые эсеры, — образовавшимся непосредственно после переезда рабоче-крестьянского правительства в Москву, встала задача наладить, правильнее сказать, создать заново прежде всего свой собственный аппарат… Пришлось с первых же шагов взяться за подбор нужных организаторских сил… Инструкторами приглашены товарищи, возвратившиеся с фронта, не только разделяющие платформу Советской власти, но и проявившие себя как организаторы в Октябрьской революции. Большинство их с юридическим образованием, что значительно облегчает усвоение ими нужных знаний». Осенью 1918 года, уже будучи наркомом юстиции РСФСР, Курский подготовил проект нового декрета — Положение о народном суде РСФСР, обосновал его в докладе на заседании ВЦИК. Народный суд должен был стать не только ближе к населению, но и более действенным средством выполнения поставленной В. И. Лениным задачи по обеспечению строжайшего проведения дисциплины и самодисциплины трудящихся. Еще ранней весной жена Д. И. Курского уехала с детьми на несколько месяцев в Выксу, чтобы подкрепить пошатнувшееся здоровье. Приведем несколько фрагментов из писем Дмитрия Ивановича, относящихся ко второй половине 1918 года. 14 июня. «…Владимир Ильич засадил председательствовать в Совнаркоме, редактирую ряд работ по своей специальности… В виде отдыха раз в неделю иду в театр, и пока неизменно в „Аквариум“, где имеется очень хорошо организованная драматическая труппа, — правда, ставящая комедии, а главное, есть искренний и правдивый талант — Грановская. И в ее игре женские натуры, неглубокие, но своеобразные, часто очень привлекательные, как искусно очерченные типы в книге, расширяют рамки деловой обстановки и жизни или уюта своего уголка, дают отдых и освежают для того, чтобы с новыми силами браться вновь за дела и работу, в которой нахожу столько удовлетворения…» Август. В связи с выездом по поручению ЦК партии в Казань. «В Казань я приехал 2 августа. На следующий день взялся за работу. Скоро мы убедились, что стратегические планы, хотя бы и очень хорошие, — одно, а действительность, кричавшая о явной неподготовленности Казани к обороне, — другое. 5 августа, когда наши противники уже делали попытку высадить десант в самой Казани, в нашем распоряжении было только одно исправное артиллерийское орудие. Все это объясняется муравьевщиной и скрытым саботажем. Я обратился по прямому проводу в Москву с просьбой прислать помощь. Она пришла, но с опозданием, и 6 августа после жестокого уличного боя наши оставили город…» Конец сентября. «Жизнь в политике обернулась сейчас острыми углами (Курский, видимо, имеет в виду покушение на жизнь В. И. Ленина со стороны Каплан, которую он допрашивал одной из первых. — Авт.)… Время выдвинуло таких гигантов, как Ленин, и все по нему равняются. Поэтому опрокидываются бесчисленные препятствия, и в перспективе у нас очень реальные контуры нового строя. Бывают удивительные, глубоко интересные моменты, когда делаются совершенно небывалые, даже, казалось бы, немыслимые шаги вперед. Иногда нас отбрасывают и назад. Борьба в бурю по океану вселенной! Многое хочется осуществить сразу же! Поэтому работаешь не щадя сил…» 14 октября. «Владимир Ильич выздоровел, если не окончательно (у него еще болит рука), то настолько, что взялся опять председательствовать в Совете Народных Комиссаров, и наши заседания приобрели прежний интерес». 6 ноября 1918 года Курские были в Колонном зале Дома союзов на торжественном заседании Всероссийского Центрального и Московского Советов профессиональных союзов. Там они слушали речь В. И. Ленина. Особенно запомнились его слова: «Много сделано, но много еще осталось сделать впереди. Идите смелей, товарищи, вперед по тому пути, по которому вы шли до сих пор, привлекайте к работе все новые и новые массы! Дайте… им всем, и партийным и непартийным, возможность работать и учиться в новом пролетарском государстве, управлять и создавать богатства».[115] Труден был год восемнадцатый. Не раз нависала смертельная опасность над Республикой Советов и в следующем году, девятнадцатом: приходилось отбивать наступления Колчака, Деникина, Юденича, иностранных интервентов. Все чаще приходилось заниматься военными вопросами и наркому юстиции Курскому. Так, по поручению Совета Обороны он разбирался с вопросом о переправе через Волгу в районе Симбирска, имевшей стратегическое значение, участвовал в расследовании действий реввоенсовета 5-й армии Восточного фронта, выполнял многочисленные поручения Совета Народных Комиссаров по принятию мер, направленных на борьбу с хищениями, порчей продуктов, злоупотреблениями местных властей и т. д., что способствовало улучшению снабжения Красной Армии, укреплению тыла. Особо следует сказать о его деятельности по выполнению декрета СНК от 10 апреля 1919 года «О призыве на военную службу в городах Москве и Петрограде и Петроградской, Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Костромской, Иваново-Вознесенской и Рязанской губерниях всех рабочих и крестьян 1890―1896 годов рождения, не эксплуатирующих чужого труда». Состоявшийся через три дня пленум ЦК партии, рассмотрев по докладу В. И. Ленина военный вопрос, принял решение: немедленно командировать в эти губернии группу руководящих партийцев для развертывания там самой энергичной мобилизационной и агитационно-пропагандистской работы. Среди названных лиц значилась и фамилия Д. И. Курского. Выдвинув лозунг «Все силы на помощь Восточному фронту!», то есть на борьбу с Колчаком, ЦК партии поручил Оргбюро взять выполнение всех мобилизационных заданий под неустанный контроль. О результатах проделанной в Тверской губернии работы Курский представил в Секретариат ЦК соответствующий отчет, в котором, в частности, указал: «Немедленно по приезде, в 23 часа, я отправился в губернский военный комиссариат, где получил предварительные сведения о том, что мобилизация в гор. Твери назначена на 17 апреля, а в уездах — на 18 апреля… 17 апреля… моя деятельность свелась кинспектированию как организации самой мобилизации, так и фактического проведения ее в жизнь… Выяснилось, что в момент мобилизации, т. е. 17 апреля утром, еще не имелось нужного обмундирования для призываемых… Путем переговоров с отделом утилизации удалось в тот же день получить достаточный на первое время комплект обмундирования… Отношение призываемых товарищей рабочих к мобилизации сознательное, сосредоточенно-серьезное… В тот же день вечером участвовал в совещании представителей губкома, губисполкома и губвоенкома по вопросам о проведении мобилизации и получил отчет о работе местной партийной организации в связи с мобилизацией… На совещании в губкоме были намечены и разрешены следующие вопросы: 1. Об организации из призываемых особых рабочих частей (рот), причем мной было выяснено значение самой ускоренной подготовки именно таких частей… ввиду того, что имеющиеся части представляют собой пестрый состав, мало подготовленный политически. 2. Были назначены местные партийные работники (из офицеров) для политической и организационной работы в частях, формируемых из мобилизуемых в настоящее время рабочих. 3. Была намечена организация добровольческих отрядов, причем… на значительные результаты возможно рассчитывать в том случае, если записавшиеся добровольцами будут отпущены по окончании операции с Колчаком и не будут задерживаться на более продолжительные сроки». На предприятиях города Твери (фабриках Морозовской и Берга, Русско-Балтийском заводе), отмечает он далее, с большим подъемом прошли митинги, посвященные мобилизации. Такие же митинги намечено провести в ближайшее время в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Осташкове, Бежецке и Старице. «Суммируя общий результат поездки, — писал он в заключение, — нахожу, что в гор. Твери как партийная организация, так и советские органы (губисполком, в частности губвоенком) обладают достаточными местными силами, чтобы справиться с задачами, выдвигаемыми положением на Восточном фронте, и выполнить директивы Центрального Комитета». В течение 1919 года на фронт было отправлено 49 030 красноармейцев и 563 командира. Среди них было много коммунистов (65 процентов от численности губернской партийной организации). Коммунистический добровольческий батальон, выехавший в мае в Самару, участвовал в решающих боях против Колчака под командованием М. В. Фрунзе. Выполнял Дмитрий Иванович и другие поручения, касавшиеся мобилизации. Так, в связи с обращением к В. И. Ленину командования Южного фронта с просьбой разрешить провести в прифронтовых районах призыв в армию лиц, достигших 18-летнего возраста, Курский проверял по поручению Владимира Ильича сведения Всероссийского главного штаба о посланных на Южный фронт пополнениях. После этого Ленин телеграфировал 8 июля в реввоенсовет Южного фронта: «Всероглавштаб дал мне точную справку, проверенную Курским, что с 15 мая до июля выполнено нарядов для Южфронта на семьдесят тысяч, а с первого до седьмого июля на двадцать две тысячи. Если не получили, примите спешно особые меры и известите меня тотчас, настаиваете ли все-таки на призыве восемнадцатилетних, не лучше ли пока взять других».[116] 30 октября того же года Курский по поручению В. И. Ленина делал доклад на заседании Политбюро о мобилизации студентов. Мы видим, что посты и наркома юстиции, и члена Реввоенсовета Республики были доверены Дмитрию Ивановичу Курскому с учетом опыта его предшествующей деятельности, богатого опыта работы и в органах юстиции и в военно-политической области.Итак, Д. И. Курский — член Реввоенсовета Республики. Много времени он проводит в одном из московских зданий на Знаменке, где с назначением на пост главнокомандующего С. С. Каменева разместился Полевой штаб Реввоенсовета Республики — основной рабочий орган главкома. И хотя Курский не был новичком в военном деле, многие премудрости штабной работы пришлось постигать заново, разбираться в обилии информации, многочисленных названиях и номерах воинских частей и подразделений. Его основные задачи заключались в обеспечении проведения в жизнь главкомом и Полевым штабом установок Политбюро, Совета Обороны и СНК по стратегически важным вопросам, в осуществлении партийно-политического контроля. А для этого, разумеется, требовалось быть в курсе всех дел. Поэтому Курский регулярно присутствовал на оперативных докладах главкому, которые делались штабистами два раза в сутки — в середине дня и в полночь. Причем ночные доклады, как правило, затягивались надолго, так как большая часть информации с фронтов поступила к ночи. Во время докладов часто принимались директивные распоряжения командующим фронтами, а при обнаруживавшихся неясностях и разногласиях главком Каменев и Курский уходили на телеграф, располагавшийся в том же здании, и вели переговоры по прямому проводу. Вот один из таких эпизодов. Д. И. Курский зашел в аппаратную, чтобы переговорить с командующим Кавказским фронтом М. Н. Тухачевским. — Здравствуйте, товарищ Тухачевский… главком сейчас придет, а пока не откажите сообщить, что у вас нового? — Здравствуйте, товарищ Курский! Командарм-8 потерял связь с начдивом-9. Последний через командарма-13 сообщил, что противник двумя колоннами повел наступление… Район Ростов — Нахичевань нами удерживается, но противник прорвался западнее ст. Александровка… Сокольников организует концентрическую атаку со стороны Ростова и Институтской, но не слишком уверен в успехе. Ему приказано решительными действиями во что бы то ни стало вновь овладеть течением Дона на его участке… В общем, в ростовском направлении обстановка тяжелая. Командюгзап обещает помочь в ростовском направлении… Несмотря на высокий потолок, в аппаратной душно — все время люди; вороха разноцветных лент, которые из «Юза» вытекают чуть ли не беспрерывно. В аппаратную вошел Каменев. Взяв в руки шершавую ленту, быстро просмотрел ее, проворчал: — Егоров со Сталиным только обещают… Дмитрий Иванович хорошо знал — об этом был уже разговор с С. И. Гусевым, на место которого он пришел в Реввоенсовет, — что взаимоотношения С. С. Каменева со Сталиным не сложились с самого начала. Одной из причин было то, что Сталин предпочитал иметь дело не с военспецами, а с такими командирами, как, например, Буденный. Каменев же — бывший полковник, а начальник Полевого штаба П. П. Лебедев — генерал-майор старой армии. Сталин им просто не доверял. По той же причине не был вполне уверен и в своем ставленнике А. И. Егорове, незаметно, но властно отобрав у него оперативное руководство фронтом. Имелись у них разногласия и по вопросу использования трудовых армий. Но разногласия можно как-то преодолеть, а вот нежелание помочь в нужный момент соседям наносило ощутимый ущерб делу. Став у «Юза», Каменев дал довольно сильный разнос Тухачевскому, предложил срочно разобраться в возникшей путанице и доложить. Аппарат долго молчал, но вот диски задвигались и лента пошла вновь. Тухачевский не без запальчивости уточнил многие позиции, заверил, что принимает меры. Покручивая огромные усы, Каменев поглядывал на Курского, принимавшего ленту из его рук. — Всего-то три недели как назначен Тухачевский, — сказал главком, подводя итог разговору. — Но в дела влез, напористый… Через несколько часов в Полевой штаб пришла весть о сдаче Ростова противнику. Бесстрастный «Юз» зафиксировал поражение. Война есть война. В тот же вечер главкома и Курского вызвали в Кремль, к Председателю Совета Обороны. Разговор, однако, пошел сначала о севере. — Вот, полюбуйтесь… — показал Владимир Ильич телеграмму командующего 6-й армией А. А. Самойло об освобождении Архангельска и продолжающемся наступлении на онежском направлении. — А Деникин ожил и взял обратно Ростов… Я ведь только позавчера предупреждал Троцкого… В Сибири ни шагу на восток далее, все силы напрячь для ускоренного движения войск на запад, в Россию… Каменев переглянулся с Курским, он помнил сообщение Дмитрия Ивановича о том, что Ленин направил такую телеграмму наркомвоену и копию ее — члену реввоенсовета 5-й армии Восточного фронта И. Н. Смирнову. Сказал: — Полевой штаб разрабатывает директиву о приостановлении наступления на Востфронте сразу по занятии Иркутска. — Так что под Ростовом? — По размышлении, Владимир Ильич, серьезного не произошло. Это местный успех Деникина. — С такими командармами, как Сокольников… — Сокольникову ищем замену… — Две недели уже!.. Командовать должны военспецы. Дорого обходятся подобные опыты. В свое время я дал себя уговорить… Сожалею. Но и вам урок! Отстаивайте свою точку зрения настойчивее… Что сейчас может помочь Ростову и Новочеркасску? — Ростову может помочь только Юго-Западный фронт… Своих резервов у Тухачевского под рукой нет, еще на подходе… Две директивы, подписанные Каменевым, Курским и Лебедевым, о необходимости оказания Кавказскому фронту помощи (путем переброски Латышской и 42-й дивизий) были направлены командованию Юго-Западного фронта еще в первой декаде февраля. Зная, что положение на Кавфронте усложняется, а директивы главного командования остаются невыполненными, Ленин отправил Сталину 20 февраля телеграмму, на которую получил ответ следующего содержания: «Мне не ясно, почему забота о Кавфронте ложится прежде всего на меня… Забота об укреплении Кавфронта лежит всецело на Реввоенсовете Республики, члены которого, по моим сведениям, вполне здоровы, а не на Сталине, который и так перегружен работой».[117] В связи с этим Владимир Ильич вынужден был послать в тот же день Сталину вторую телеграмму (шифром по прямому проводу): «На Вас ложится забота об ускорении подхода подкреплений с Юго-Запфронта на Кавфронт. Надо вообще помочь всячески, а не препираться о ведомственных компетенциях».[118] — А как молодой комфронта, как Тухачевский? Не растерялся? — Отнюдь нет, Владимир Ильич. Ершится. — Ершится, говорите? Если дельно — хорошо. Поддерживайте молодых, растите. Они надежда наша… Всего лишь два дня находился Ростов-на-Дону в руках противника; 23 февраля он был выбит из города 8-й армией и отброшен на левый берег реки. Борьба на Северном Кавказе продолжалась еще месяц и завершилась в конце марта полным разгромом деникинских войск и освобождением Новороссийска. Успешно шли дела и на Юго-Западном фронте, войска которого освободили от белогвардейцев южную часть Украины, овладели Одессой. Но Крым оставался пока еще у врага. И тем не менее наступила передышка.
Курский в это самое время занимался делами Наркомюста: работал над Положением о революционных трибуналах, над изменениями декрета об учреждении комиссии о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях. Но вскоре все его внимание было отдано вновь Реввоенсовету. Этого требовала изменившаяся обстановка. 25 апреля 1920 года армия Пилсудского, реорганизованная и технически оснащенная на средства США, Франции и Англии, начала совместно с петлюровцами военные действия на Украине. Используя существенный перевес в численности, польские войска 6 мая захватили Киев, ряд других крупных городов. И вновь Дмитрий Иванович — в круговерти штабной работы. Обстановка на театре военных действий вылилась в тяжелейшее испытание, при котором подливал масла в огонь член реввоенсовета Юго-Западного фронта Сталин. Политбюро одобрило план, согласно которому главным фронтом в борьбе с польскими войсками считался Западный (комфронта Тухачевский), а Юго-Западный фронт — вспомогательный. Сталин же, подчинив своей воле комфронта Егорова, стремился действовать по своему усмотрению, часто игнорируя, а то и совсем не исполняя директивы Главного командования. От этого расшатывалась дисциплина среди командиров, возрастала дезорганизованность. Курский, вернувшись с Юго-Западного фронта, куда выезжал с поездом главкома, еще раз убедился, что Сталин тяготеет к местничеству и самостийности. Его особое внимание привлекла запись разговора главкома Каменева со Сталиным по прямому проводу: Сталин. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Ваш последний номер получен, там есть некоторые не вполне ясные места, и… считаю нужным задать несколько вопросов: 1. Мне кажется, что вы меняете направление удара Конной, передвигая его вправо, в отмену старого направления в сторону Бердичева? Верно ли? 2. Вы назвали Крымскую армию резервной, значит ли это, что мы можем без ущерба брать из ее состава части. По нашим данным, Врангель готовится к наступлению, собственно, к прорыву Перекопского фронта одной группой своих частей, другую же группу направляет в район Одессы — Николаева для десанта. Исходя из этого, мы решили, что надо быть готовыми ко всему и Крымская армия, к сожалению, не может быть признана пока что резервной. Кто из нас прав, или, может быть, я не так понял ваш номер? 3. Теперь я считаю установленным — главное направление будет не на юге, а на севере… сообразно с этим естественно, что требования юго-запада должны быть сокращены в рамках, допустимых, конечно, интересами юго-запада. 4. Насчет Конармии тоже не все ясно. Если у нее не должно быть ни тыла, ни флангов… то не значит ли это, что она, т. е. Конармия, должна делать главным образом рейды по тылам, вроде Мамонтовских? Каменев. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. По первому вопросу… у меня с Егоровым был разговор именно в том духе… что надо разбить сперва одну из групп противника, либо одесскую, либо киевскую. Егоров склонился разбить киевскую, с этой целью даже было предположено группу Якира подчинить Буденному. В окончательной директиве… вырисовалось, что Якир действует самостоятельно, направляя главный удар на Белую Церковь, Конная армия направляется в Житомир опять как самостоятельная и Уборевич — направление Вапнярка — Гайсин… При этой картине все три коня тянут в разные стороны, предоставляемые самим себе… Уборевич и Якир имеют перед собой превосходные силы противника. Я считаю, что совместные действия Буденного с Якиром и с некоторой помощью 12-й армии у нас в киевском районе дадут превосходство сил, которое необходимо для разгрома… киевской группы противника… В конце разговора Сталин не преминул сказать, что комфронта Егоров все время находился рядом, что «если говорю с вами я, то только потому, что номер ваш вызван моей запиской, за которую отвечаю я». Заметил также, что по вопросу украинской группировки сегодня же будет говорить с правительством. Через восемь дней войска Юго-Западного фронта освободили Киев и стремительно стали продвигаться в сторону Львова, что создало благоприятные условия и для наступления войск Западного фронта, которые освободили Белоруссию и 1 августа взяли Брест-Литовск. В соответствии с планом ведения войны и в связи с возросшей опасностью со стороны Врангеля на Политбюро 2 августа 1920 года было принято постановление об объединении в составе Западного фронта советских армий, действовавших против белополяков, и о создании самостоятельного Южного фронта для борьбы с Врангелем. В. И. Ленин сразу же направил Сталину телеграмму: «Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность Врангеля становится громадной, и внутри Цека растет стремление тотчас заключить мир с буржуазной Польшей. Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать Ваше заключение. С Главкомом я условился, что он даст Вам больше патронов, подкреплений и аэропланов».[119] В ночь на 3 августа в соответствии с постановлением Политбюро командованию Юго-Западного фронта была дана директива «с форсированием армиями Запфронта р. Нарева и овладением Брест-Литовском наступает время объединения в руках Командзапа управления всеми армиями, продолжающими движение к р. Висле, т. е. передачи в ближайшие дни 12-й и 1-й Конной армий из Югзапфронта в распоряжение Командзапа».[120] Директиву подписали Каменев, Курский и Лебедев. Содержание полученных телеграмм вывело Сталина из себя: бросай, значит, налаженное дело, отдавай другим лавры победителя; жалко отдавать Конармию — попадет она в руки Тухачевского, у которого нет и не может быть хороших отношений с Буденным, рассыплется Конармия на отдельные дивизии — и нет ее. Да и Буденный, пожалуй, все сделает, чтобы не попасть в подчинение Тухачевскому. Не стесняясь в выражениях, Сталин начал писать ответ Ленину: «Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать на фронте еще максимум две недели, нужен отдых, поищите заместителя. Обещаниям Главкома не верю ни на минуту, он своими обещаниями только подводит. Что касается настроения ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, что наша дипломатия иногда очень удачно срывает результаты наших военных успехов». Отметим тон февральского сообщения Сталина (о Ростове), нотки капризности в некоторых других его телеграммах Ленину и этот, прямо скажем, грубый ответ. И отметим также, что письма Ленина Сталину становятся более официальными и, местами, прохладными. «Не совсем понимаю, — писал Владимир Ильич Сталину в связи с возникшим конфликтом, — почему Вы недовольны разделением фронтов. Сообщите мотивы. Мне казалось, что это необходимо, раз опасность Врангеля возрастает. Насчет заместителя сообщите Ваше мнение о кандидате. Также прошу сообщить, с какими обещаниями опаздывает Главком. Наша дипломатия подчинена Цека и никогда не сорвет наших успехов…»[121] 5 августа Курский, являвшийся членом Ревизионной комиссии ЦК партии, присутствовал на пленуме ЦК РКП(б), который утвердил постановление Политбюро о переходе 1-й Конной, 12-й и 14-й армий в подчинение командующего Западным фронтом. Вместе с главкомом Каменевым им была составлена директива о подготовке указанных армий для передачи Западному фронту в целях обеспечения его левого фланга при решающем наступлении на Варшаву. Пока же потребовали вывести 1-ю Конную армию в резерв для отдыха. Однако ни эта, ни другие директивы главкома, на большинстве которых стоит и подпись члена Реввоенсовета Курского, выполнены не были. К тому же 1-я Конная армия вплоть до 20 августа продолжала безуспешные бои за овладение Львовом. А за три дня до этого польские войска начали контрнаступление, прорвав фронт на левом фланге, который намечалось укрепить армиями Юго-Западного фронта. В результате войска Западного фронта, оторвавшиеся от своих баз, вынуждены были отступить. Отошли затем со своих позиций, так и не овладев Львовом, и войска Юго-Западного фронта. Стабилизировать положение удалось лишь в конце августа. А еще 14 августа Секретариат ЦК направил Сталину телеграмму, в которой указывалось: «Трения между Вами и Главкомом дошли до того, что… необходимо выяснение путем совместного обсуждения при личном свидании, поэтому просим возможно скорее приехать в Москву».[122] 17 августа Сталин прибыл в столицу, а 1 сентября Политбюро обсудило «его просьбу» об освобождении от военной работы; он был освобожден от должности члена РВС Юго-Западного фронта, но оставлен членом Реввоенсовета Республики. О неудачах Красной Армии в войне с Польшей много говорилось на IX партконференции РКП(б). В годы культа личности было немало написано работ историками и военачальниками, ряд из них отличаются тенденциозностью и явным угодничеством Сталину. Лишь после XX съезда партии стали появляться объективно написанные публицистические и исторические статьи. Добавим еще, что были репрессированы или попали в опалу многие военачальники, которые высказались в печати об операции на Висле не в пользу Сталина. Н. Е. Какурин, написавший вместе с В. А. Меликовым книгу «Война с белополяками» (1925 г.), подвергся аресту и умер в тюрьме (судьба В. А. Меликова авторам не известна); погибли в результате незаконных репрессий А. С. Бубнов и Р. П. Эйдеман, редактировавшие вместе с С. С. Каменевым и М. Н. Тухачевским 3-й том «Гражданской войны», вышедший в свет в 1930 году, причем Каменев попал в число «врагов народа» после своей смерти. Оказалось в тени и имя известного военного теоретика В. К. Триандафилова, выступившего в 20-е годы с острой статьей по тому же вопросу в журнале «Война и революция» (в 1931 г. он погиб в авиационной катастрофе). Д. И. Курский не писал о войне, но и его не миновала опала, но об этом скажем чуть позже.
А пока вновь обратимся к осени 1920 года. Вернувшись с юга Украины, куда выезжал по поручению ЦК партии для оказания помощи командованию Южного фронта в подготовке наступления против Врангеля, Дмитрий Иванович Курский вновь сосредоточился на работе в Наркомюсте. Являясь одним из ближайших и верных помощников В. И. Ленина, он неуклонно проводил в жизнь его ленинскую линию по вопросам борьбы с преступностью, нарушениями в области гражданских правоотношений, создавал и развивал советское право, призванное способствовать строительству социалистического общества. Сохранились письма, записки и высказывания Владимира Ильича, адресованные широкому кругу партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных работников, в которых Ленин высоко оценивает деятельность Курского. В письме от 26 октября 1921 года, адресованном членам Политбюро, Ленин писал: «Я считаю вывод товарища Курского единственно правильным. Предлагаю провести его добавочным постановлением СНКома». Или еще: «Надо об этом выспросить Курского. Он был иного мнения».[123] Но бывали со стороны Ленина и строгие, даже очень строгие высказывания, особенно когда это касалось необходимости усиления борьбы с волокитой и бюрократизмом. Приведем еще один отрывок из воспоминаний А. С. Курской: «Работал Дмитрий Иванович с огромным подъемом, так как чувствовал направляющую руку Ильича. Нередко по ночам Ленин вызывал его к себе на квартиру. С портфелем, наполненным проектами новых законов, отправлялся он к Владимиру Ильичу, волнуясь и спеша». В конце января 1920 года Курский руководил IV Всероссийским съездом деятелей советской юстиции. На нем он выступил с докладом о роли и значении советской юстиции в связи с новой экономической политикой. Отметив, что решающим фактором, который выдвигает юстицию на передовые позиции, является новая экономическая политика, он сказал: «Было бы слишком просто рисовать себе эту политику как нечто решенное уже в начале 1921 года. Мы теперь имеем возможность установить, что эта экономическая политика уже пережила, по меньшей мере, два фазиса (имеются в виду замена продразверстки продналогом и организация товарообмена через кооперацию. — Авт.)… Но хозяйственное развитие пошло неизмеримо дальше. Все более и более обрисовывается значение чисто финансовой проблемы… которая и в западноевропейских странах стоит теперь в центре внимания. Почему это так? Потому что с каждым днем мы все более и более переходим в область широко развертывающейся денежной системы. Мы уже имеем такие учреждения, как Госбанк, Кооперативный банк, и мы уже ставим задачу организации специальных банков под контролем Госбанка. Мы уже поставили определенную задачу развития внешней торговли таким образом, чтобы к ней привлекались под контролем Комиссариата внешней торговли не только государственные органы, но и кооперативные организации. Мы, наконец, в последние дни стали перед фактом учреждения первого акционерного общества, построенного на тех началах, которые подсказаны необходимостью сожительствовать с капиталом западных стран. Я имею в виду комбинированное акционерное общество, где пайщиками являются Советская Республика и представители иностранного капитала…».[124] Одобрительно отозвавшись о такой форме хозяйствования, Курский выразил надежду, что это позволит поднять производительные силы страны. Однако для налаживания таких взаимоотношений требуются соответствующие юридические нормы, которые бы учитывали особенности экономики Советской России: с одной стороны, крупное производство, с другой — достаточно широкая сеть мелкой промышленности и довольно развитая мелкая торговля. «В настоящее время, — говорил Д. И. Курский на съезде, — наши законодательные учреждения стоят перед задачей выработки положений, которые в деталях должны урегулировать правовое положение государственных предприятий и их объединений — трестов. Положение о государственных предприятиях уже разработано и вносится на рассмотрение законодательных органов. В стадии разработки находится также положение о торговле — внешней и внутренней. Эти акты не будут теми краткими декретами, которыми мы довольствовались в прошлые годы. Нет, это будет целая система норм. Затем вам известно, что IX Всероссийский съезд Советов поручил Народному комиссариату юстиции разработать свод постановлений, которые должны регулировать земельное устройство и земельные отношения, причем наиболее серьезным новшеством в этом законодательстве является допущение при известных условиях временной переуступки земли крестьянам…» Он сообщил также о ведущейся работе по пересмотру Кодекса законов о труде, проанализировал вынесенный на обсуждение участников съезда проект Уголовного кодекса, остановился на вопросах, касающихся демократизации процессуального законодательства, на основных вопросах судебной реформы. «Таким образом, — подытоживал нарком, — мы имеем сейчас основное материальное условие, которое является необходимой предпосылкой революционной законности. Если мы будем только говорить о революционной законности, а законов не будет, то это будет весьма эффектное слово, но не больше. Необходимо иметь твердую и в достаточной степени разработанную систему норм, чтобы… проводить ее в жизнь». Все крупнейшие и важнейшие законы и нормативные акты того времени были разработаны при непосредственном творческом участии или под руководством Курского. По его докладу XI Всероссийским съездом Советов был одобрен окончательный текст Основного Закона — первой Конституции СССР. Как нарком юстиции, а с мая 1922 года еще и как прокурор РСФСР, Курский отдал много сил, энергии и труда становлению и развитию советских правоохранительных органов, а следовательно, и государства. Большую культуру и взыскательность к себе Курского отметил в беседе с авторами очерка Б. Н. Хлебников, также работавший в Наркомюсте РСФСР в 20-е годы. Не без юмора он сообщил «по секрету», что в Наркомюсте Дмитрия Ивановича называли заглазно «интеллигентом», в хорошем понимании этого слова. К концу 20-х годов Сталин начал постепенно избавляться от соратников В. И. Ленина. К тому же высокообразованных людей, интеллигенцию в целом он не любил, в душе глубоко презирал, поэтому постепенно стал превращать «прослойку», как было принято называть интеллигенцию, в безропотную прислужницу. Уже кое-кого он переместил; вынашивал мысль о коренных «чистках», которые бы позволили избавиться от других, неугодных ему партийных и государственных деятелей; пристально следил за старыми кадрами, людьми, совершавшими революцию, особенно за теми, кто, по его мнению, не поступится ленинскими принципами. Для утверждаемого им режима, основанного на неограниченной личной власти, Сталин не считался ни с чем: ни с революционными заслугами, ни с законами, не говоря уже о понятиях нравственности, справедливости, гуманности. С этих позиций нарком юстиции Курский, который руководил еще и Институтом советского права, никак не мог устраивать «вождя всех народов» и его ближайшее окружение. И все же по сравнению с судьбами многих других соратников В. И. Ленина ему, можно сказать, повезло — в начале 1928 года Дмитрия Ивановича Курского направили в «почетную ссылку», на дипломатическую работу в Италию. Наркомом юстиции РСФСР вместо него был назначен А. К. Янсон — человек заслуженный, но не имевший юридической подготовки. Его через три года сменят, переведут на хозяйственную работу, затем необоснованно репрессируют. По возвращении из Италии Дмитрий Иванович Курский на 59-м году жизни скончался. Случилось это 20 декабря 1932 года. Глазунов М. М. Митрофанов Б. А.

Мехоношин Константин Алексеевич[125]
Годы жизни: 1889―1938. Советский партийный и государственный деятель. Член партии с 1913 г. В 1917 г. член Военной организации при ЦК РСДРП, член Петроградского ВРК. С ноября 1917 г. заместитель наркома по военным делам… Член РВС ряда фронтов и армий, одновременно в сентябре 1918 г. — июле 1919 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Имя Константина Александровича Мехоношина, как и большинства героев данной книги, во времена культа личности было вычеркнуто из истории революции, из исторической памяти народа. Но и тогда, когда старшему поколению вернули, а молодому открыли возможность знать подлинных вождей революционных масс, творцов и защитников Октября, фамилия Мехоношина, как правило, встречалась лишь в специальной исторической литературе. Константин Мехоношин не водил с шашкой наголо в атаку бесстрашных красноармейцев, не был блестящим оратором, не упоминался в числе партийных оппозиционеров. Вероятно, поэтому большинству читателей имя его до настоящего времени практически неизвестно. Историческая справедливость требует рассказать о нем. И не только потому, что он был одним из организаторов и руководителей вооруженных сил революции и Красной Армии. Знакомство с личностью Мехоношина дополняет обобщенный портрет революционера-ленинца, расширяет наши представления о нравственных и интеллектуальных истоках социалистической революции. Имеется редкая возможность вместо обычной краткой биографической справки привести отрывки из автобиографии, написанной самим Константином Александровичем Мехоношиным. Вот первые строки ее: «Я родился 31 октября 1889 г. в Александровском заводе бывшего Соликамского уезда Пермской губернии. Отец и мать в то время были учителями в заводской школе. Впоследствии мать продолжала педагогическую работу, отец стал счетоводом, а затем бухгалтером. В 1906 г. Пермской организацией РСДРП я был привлечен к революционной работе и участвовал в организации ученической организации. В 1906―1907―1909 гг. я выполнял многочисленные задания партийной организации в области партийной техники: переносил и хранил взрывчатые вещества, оболочки бомб, переносил литературу, печатал на гектографе в течение длительного времени прокламации и другие воззвания… Кроме того, работал по партийным связям. В дальнейшем вел и агитационную работу как в Перми, так и в Кизеловском заводе и в Березниках… В 1913 г. я вступил в партию. После окончания университета в 1914 г. я отправился в научно-исследовательскую экспедицию на Каспийское море, откуда возвратился в Петербург в конце 1915 г. В декабре месяце этого года я был взят на военную службу рядовым в запасный батальон лейб-гвардии гренадерский полк и вел работу среди солдат, создав там нашу партийную организацию. После Февральской революции я продолжал работу в военной организации и был членом Всероссийского бюро военных организаций при Центральном и Петроградском комитете нашей партии… В дни Октябрьской революции я был членом Военно-революционного комитета Петроградского Совета…» Известно, что руководящее ядро Военной организации большевиков составило основу Военно-революционного комитета, а затем Наркомата по военным делам, Коллегии по организации и формированию Красной Армии, Высшего военного совета и, наконец, Реввоенсовета Республики. К. А. Мехоношин — один из немногих, кто входил в состав всех этих органов руководства Вооруженными Силами Советской Республики. Константин Александрович был прав, когда писал: «Историк, пожелавший лишь по одним архивным документам изучить минувшие события, оказывается в крайне затруднительном положении. Пережитая эпоха чрезвычайно характерна в том отношении, что ее наиболее яркие и подчас наиболее содержательные этапы как раз менее всего располагают к тем формам работы, которая фиксируется в письменном документе. И поэтому среди других материалов воспоминания являются также своего рода документами большой исторической ценности. Не раз, наверное, благодаря им удастся связать в единое целое и понять внутренний смысл того или иного периода».[126] Рассказывая о К. А. Мехоношине, мы по возможности прибегнем и к этому источнику. В начале сентября К. А. Мехоношин был избран в исполком Петроградского Совета и президиум солдатской секции. Член Петроградского Военно-революционного комитета М. П. Ефремов вспоминает: «В солдатской секции он был, пожалуй, наиболее образованным: учился в Петербургском университете, хотя и не закончил его — исключили за революционную деятельность. Да и по партийному стажу превосходил многих — большевиком стал еще в 1906 г. Все это предопределило Мехоношину положение вожака в президиуме солдатской секции. Без совета с ним здесь не решался ни один сложный вопрос, а таких вопросов было в то время очень много». Нам очевидны некоторые фактические неточности данных воспоминаний, но они показывают, каким Мехоношин представлялся участникам революционных событий. После образования Военно-революционного комитета одной из важных задач его было установление контроля за деятельностью штаба Петроградского военного округа. Мехоношин вспоминает: «В памяти особенно запечатлелся один момент, который я считаю началом активных действий. 22 или 23 октября ВРК постановил назначить новых комиссаров к командующему войсками Петроградского округа — Полковникову. Избранными оказались Садовский, Лазимир и я. В мандатах и особом обращении в штаб от имени ВРК указывалось, что все приказы командующего должны скрепляться подписью одного из комиссаров и что без них приказы будут считаться недействительными».[127] После того как Полковников отказался принять условия ВРК, всем частям гарнизона было разослано постановление ВРК об обязательном исполнении приказов, лишь заверенных подписью комиссара. Был канун вооруженного восстания. 25 октября В. И. Ленин провозглашает победу революции. «Я стоял, тесно сжатый со всех сторон, возле Константина Александровича Мехоношина, — вспоминает М. П. Ефремов. — Он тоже хлопал в ладони, улыбался, что-то кричал мне на ухо, но расслышать ничего нельзя было. Обычно спокойное белое лицо Мехоношина порозовело, резче обозначились белесые брови и ресницы; светлые глаза его сияли восторгом». ВРК становится органом ВЦИК, изменились его структура и функции. Структура аппарата ВРК неоднократно менялась вплоть до прекращения его деятельности 5 (18) декабря в связи с передачей его функций укрепившимся наркоматам, ВЧК. К. А. Мехоношин участвовал в организации подавления контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова. Мы не имеем точных сведений о его работе в эти дни, но в постановлении ВРК от 1 ноября 1917 года говорилось: «С 1 ноября сформировать штаб Военно-революционного комитета в составе следующих лиц и должностей: 1. Командующий войсками по обороне Петрограда — Муравьев 2. Помощник командующего войсками — Антонов 3. Начальник штаба ВРК — Мехоношин 4. Помощник начальника штаба — Бонч-Бруевич · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 12. Передвижение войск — Подвойский…» Этот документ отражает признание организаторской деятельности К. А. Мехоношина в дни подавления мятежа. Он — начальник штаба ВРК, его имя — рядом с именем Антонова-Овсеенко, Подвойского, Бонч-Бруевича. 20 ноября 1917 года Председателем СНК В. И. Лениным и секретарем СНК Н. Горбуновым было подписано удостоверение, гласившее, что «предъявитель сего мандата К. А. Мехоношин назначен Советом Народных Комиссаров товарищем народного комиссара по военным делам по общему управлению Военным министерством».[128] Среди множества вопросов, решавшихся Наркомвоеном, важнейшими были вопросы организованной демобилизации старой армии и создание Вооруженных Сил Советской Республики. С каждым днем становилось все ясней, что старая армия, особенно ее фронтовые части, неспособна обеспечить оборону Республики. 22 декабря Верховный главнокомандующий Н. В. Крыленко сообщал о непрекращающемся уходе с позиций солдат Румынского фронта. В этот же день коллегия Наркомвоена собрала экстренное совещание, в котором принял участие и В. И. Ленин. Было решено временно приостановить работу по организации милицейских формирований и все силы направить на создание новой постоянной армии. На следующий день, 23 декабря, состоялось экстренное собрание представителей Наркомвоена, Всероссийского бюро фронтовых и тыловых военных организаций при ЦК РСДРП(б) и Главного штаба Красной гвардии Петрограда. Собрание приняло решение о том, что необходимо издать декрет об организации новой армии, и для технической работы по ее созданию выделило штаб, общее руководство возложило на Наркомвоен в лице Н. И. Подвойского и К. А. Мехоношина и представителей Красной гвардии. 15 января 1918 года СНК принял декреты о создании РККА и Всероссийской коллегии по организации и управлению РККА. «На указанную коллегию возлагается направление и согласование деятельности местных областных и краевых организаций по формированию, учету вновь формируемых боевых единиц, руководство формированием и обеспечением новой армии вооружением и снабжением, санитарно-медицинская помощь, финансовое заведование, разработка новых уставов, инструкций и т. д.».[129] 25 января 1918 года декретом СНК была назначена руководящая пятерка Всероссийской коллегии. В нее вошли члены коллегии Наркомвоена Н. В. Крыленко, К. А. Мехоношин, Н. И. Подвойский, О. А. Трифонов, И. Ю. Юренев. Какова была позиция К. А. Мехоношина в период переговоров в Бресте о мире? В январе 1918 года на занятиях курсов агитаторов-организаторов совдепов и отрядов Красной гвардии при ЦК партии в Смольном обсуждался вопрос о заключении мира с Германией. Это занятие проводил Ленин. Выступил К. А. Мехоношин. Сказал, что только недавно побывал на фронте. «Реальной боевой силы, — заключил Мехоношин, — у нас нет. Фронт обнажен, воевать мы не можем». Ночью 23 февраля 1918 года, в 3 часа 45 минут, началось поименное голосование членов ВЦИК по вопросу о подписании Брестского мирного договора. Накануне большевистская фракция произвела замену ряда членов ВЦИК, было введено 26 кандидатов в члены ВЦИК. Среди вновь введенных членов Исполнительного Комитета были Мехоношин и Подвойский. За договор проголосовало 116 большевиков, против 85 голосов (в основном левые и правые эсеры, меньшевики и др.). 26 человек воздержались. Голоса 26 вновь введенных членов ВЦИК, возможно, оказались очень важными в этом голосовании. Перед военным руководством Советского государства стояли неотложные задачи — организация обороны, руководство военными операциями, демобилизация старой, создание, организация и снабжение новой Красной Армии. С целью координации решения всех этих задач в марте 1918 года был создан Высший военный совет (ВВС). Для укрепления политического руководства Красной Армии 18 марта 1918 года СНК назначил председателем ВВС и наркомом по военным делам Л. Д. Троцкого. Членом ВВС стал Н. И. Подвойский, заместителями членов ВВС были назначены К. А. Мехоношин и Э. М. Склянский. Военным руководителем ВВС был М. Д. Бонч-Бруевич. В непосредственном ведении К. А. Мехоношина были проблемы организации снабжения, связи, разработки структуры управления армейскими частями. Архивы сохранили некоторые сведения о диапазоне решаемых им вопросов: от распоряжений о выдаче аккумуляторов и «двух жил шведского кабеля» до назначения военных руководителей районов, от просьбы к товарищам телеграфистам во время дежурства находиться на своих местах до обсуждения и разработки принципов организации и руководства Красной Армией. 24 апреля 1918 года для разрешения возникавших на местах спорных вопросов по организации и формированию войск Наркомвоен сформировал Высшую военную инспекцию (ВВИ). Председателем Высшей военной инспекции был назначен Н. И. Подвойский, а его заместителем К. А. Мехоношин. К. А. Мехоношин до лета 1918 года находился в Петрограде. Здесь же, в аппарате, вместе с Е. Д. Стасовой работала его жена Вера Леонидовна Павлова. Они недолго будут вместе. Через год, весной 1919 года, Вера Леонидовна Павлова — начальник политотдела 11-й армии — умрет от тифа в Астрахани. Но этот год все дороги войны они пройдут вместе. Приказом от 26 июня 1918 года, подписанным Л. Троцким, «член коллегии Народного комиссариата по военным делам тов. К. А. Мехоношин отправляется на Урал и в Поволжье для проведения инспекции военного дела на местах…». Стоит особо остановиться на отношении Мехоношина к военным специалистам, вообще к проблеме подготовки командных кадров Красной Армии. Летом 1918 года, в частности во время пребывания его на Урале, К. А. Мехоношину приходилось непосредственно заниматься этими вопросами. По данным Всероглавштаба, потребность Красной Армии в командном составе к лету 1918 года превышала 55 тысяч человек. В Перми проживало тогда около двухсот бывших офицеров. К. А. Мехоношин почти ежедневно встречался с многими из них, стараясь привлечь их к делу строительства Вооруженных Сил Республики Советов. Как вспоминает бывший член Высшей военной инспекции В. Т. Тараскин, «успеху дела в немалой степени способствовало и умение Мехоношина держаться с людьми. Всегда ровный, владевший искусством слушать, запоминать и оставаться самим собой, ни под кого не подделываясь, он как-то незаметно, исподволь располагал к себе собеседника. А в конечном счете многие ценные для новой армии бывшие царские офицеры согласились сотрудничать с Советской властью и были направлены в различные воинские части. Нескольких генштабистов Константин Александрович забрал в Высшую военную инспекцию». Отношение к военным специалистам Мехоношина становится особенно наглядным в сравнении с позицией в этом вопросе М. А. Муравьева. В Октябрьские дни 1917 года Муравьев внесопределенный вклад в разгром мятежа Керенского — Краснова. Зимой 1918 года он возглавлял подавление мятежа Центральной рады на Украине. В середине апреля его назначили военным руководителем в состав Закавказского военного совета. Но уже в конце апреля была создана специальная комиссия, расследовавшая деятельность Муравьева на Украине. Приведем отрывок из показаний следственной комиссии Ф. Э. Дзержинского: «…обвинения сводились к тому, что худший враг наш не мог бы нам столько вреда принести, сколько он принес своими кошмарными расправами, расстрелами, самодурством, предоставлением солдатам права грабежа городов и сел. Все это он проделывал от имени Советской власти, восстанавливая против нас все население…» Но, вопреки этому, комиссия сочла возможным объяснить эти меры как ответ на террор контрреволюции, а поведение Муравьева — как следствие его нервной болезни, при этом особый упор делался на эффективность его военного руководства. 9 июня 1918 года ВЦИК прекратил следствие по делу Муравьева, а 13 июня, когда СНК образовал реввоенсовет по руководству операциями против белочешского мятежа, главнокомандующим был назначен М. А. Муравьев, а членами реввоенсовета Г. И. Благонравов и П. А. Кобозев. В начале июля в состав реввоенсовета Восточного фронта вошел и К. А. Мехоношин. Вероятно, учитывали при этом, что Муравьев не раз выражал недовольство особой опекой со стороны комиссаров. В телеграмме от 5 июля Троцкий подчеркивал, что Мехоношин выехал на Восточный фронт как член реввоенсовета, а не как представитель Наркомвоена. Почему именно Мехоношин был послан на усиление реввоенсовета фронта? В какой-то мере ответ на этот вопрос дает следующее объяснение Троцкого: «…я считал, имея в виду особенный характер Муравьева, что в качестве комиссара нужно назначить человека большой энергии и весьма выдержанного». Мы не ставим себе целью выяснить, правомерно ли было назначение Муравьева на должность главнокомандующего, и остановились на личности Муравьева не только потому, что она наиболее одиозна и, к сожалению, не единственная в ряду авантюристов от революции. Муравьев — антипод Мехоношина. По чертам характера, методам решения вопросов они резко отличались, но в вихрях революции не один раз оказывались рядом. В их сопоставлении отражается сложность революции как нравственного явления. Вскоре К. А. Мехоношин столкнулся с другой стороной проблемы «военспецов». Но уже на Южном фронте… В начале сентября он был назначен членом нового высшего руководящего военного органа — Революционного военного совета Республики (РВСР), председателем которого стал Л. Троцкий. 17 сентября был учрежден РВС Южного фронта в составе командующего фронтом П. П. Сытина (бывшего генерал-майора), а также К. Е. Ворошилова, И. В. Сталина и С. К. Минина. Суть конфликта в РВС нового фронта заключалась в отказе Сталина, Ворошилова и Минина признать приказ РВСР о правах командующего фронтом, о стратегических задачах фронта и, в связи с этим, о местонахождении штаба фронта. В решении РВСР было прямо сказано, что «командующему фронтом Сытину предоставляется полная власть в ведении операции» и что «в оперативные распоряжения командующего никто не должен вмешиваться». Члены же РВС фронта настаивали на коллегиальности решения всех, в том числе и оперативных, вопросов. Далее в связи с более широкими стратегическими задачами фронта по решению РВСР его штаб должен был переехать из Царицына в Козлов. Члены РВС фронта настаивали на оставлении штаба в Царицыне. 29 сентября Сытин и Мехоношин, как член РВСР, прибыли из Балашова в Царицын, где провели совещание со Сталиным, Ворошиловым и Мининым. Ввиду возникших и обострившихся разногласий Мехоношин предложил впредь до разъяснения вопроса РВСР проводить работу на основе общего положения о членах военных советов и комиссарах, утвержденного 6 апреля 1918 года. Но члены Военного совета — Сталин, Ворошилов и Минин — не согласились с этим. Более того, 1 октября они вынесли постановление об отстранении Сытина от должности командующего и рекомендовали на эту должность Ворошилова. Вернувшись в Балашов, Мехоношин сообщает в Москву: «Вследствие выяснившейся неопределенности для назначенных членов РВС Южного фронта товарищей Сталина и Ворошилова положения о реввоенсоветах в части, касающейся взаимоотношений членов Совета и командующего, в отношении невмешательства со стороны первых в оперативную деятельность последнего на первом заседании Совета в Царицыне было решено впредь до получения исчерпывающих указаний по этому вопросу, отложить образование РВС фронта… Мои и командующего фронтом Сытина разъяснения, что, не касаясь даже по существу вопроса, надлежит исполнить приказ РВСР, не привели к желательным результатам. Мною было предложено впредь до разъяснения немедленно приступить к работе согласно приказу. Одновременно с этим, не прекращая работу, представить доклад в РВСР, а в случае разногласий с ним — в СНК. Мое предложение также было отвергнуто. Принимая во внимание, что каждый день отсрочки в образовании объединяющего фронт центра имеет самое пагубное влияние на военное положение на столь серьезном боевом участке, где наши неудачи объясняются главным образом отсутствием РВС, считаю необходимым принять самые энергичные меры к разрешению этого вопроса в ту или иную сторону». Позиция Мехоношина определялась необходимостью строгого соблюдения военной дисциплины. Сам по себе вопрос о соотношении коллегиальности и единоначалия в то время для многих еще представлялся недостаточно ясным. Особенно после мятежа Муравьева, а затем преступных авантюр Сорокина. Главным в конфликте был вопрос партийной и военной дисциплины. Об этом же телеграфировал Свердлов Сталину, Ворошилову и Минину, сообщая об обсуждении вопроса в ЦК 2 октября: «…не приходится доказывать необходимость безусловного подчинения… Все решения РВС обязательны для военсоветов фронтов. Без подчинения нет единой армии. Не приостанавливая исполнения решения, можно обжаловать его в высший орган — СНК, ВЦИК, в крайнем случае в ЦК».[130] В этот же день, то есть 2 октября, Троцкий посылает в Царицын телеграмму: «Приказываю Сталину, Минину немедленно образовать РВС Южного фронта на основе невмешательства комиссаров в оперативные дела, штаб поместив в Козлове. Неисполнение в течение 24 часов этого предписания заставит меня предпринять суровые меры». Одновременно направляется телеграмма в Балашов: «Поезд Военной инспекции, Мехоношину. Впредь до выполнения Мининым и Сталиным приказания… предлагаю тов. Мехоношину войти в РВС Южного фронта и обеспечить единство командования… Председатель РВС Троцкий». Чтобы не оттягивать дальше создание РВС Южного фронта, был образован новый его состав: командующий Сытин, члены совета Мехоношин и Легран. Местопребывание РВС — город Козлов. Сталин 6 октября был отозван в Москву. В этот же день он по прямому проводу сообщает Ворошилову: «…сегодня ночью через два часа поеду со Свердловым в Козлов… остальные выяснения там, и, по-моему, можно решать вопрос без шума, в рамках сложившихся формальностей».[131] Да, с Ворошиловым он был вполне откровенен. Конфликт надеялся решить «в рамках сложившихся формальностей», ждал своего часа, рассчитывал на изменения в соотношении сил. Конфликт в РВС Южного фронта не забыл. И К. А. Мехоношин вспомнил об этом конфликте со Сталиным в разговоре с сестрой Людмилой, когда та сообщила ему о возможности ареста. Было это в августе 1937 года… Что же касается внешних причин конфликта, то они привели к неожиданной развязке. В начале ноября 1918 года Сытин на посту командующего фронтом был сменен Славиным, но, не успев сдать обязанностей, был арестован Леграном. Мотивы ареста излагались в телеграмме Мехоношина и Леграна на имя Троцкого: «В связи со сбивчивыми показаниями и объяснениями Сытина по поводу командированных им лиц без ведома и согласия членов Реввоенсовета и самовольной отправки в Тамбов вагона с невыясненным грузом Сытин подвергнут временному домашнему аресту…» 14 ноября Сытин выехал в Москву, где был назначен начальником военно-административного отдела управления делами РВСР. Конфликты в реввоенсоветах всех уровней были нередки на протяжении всей гражданской войны. Данный же конфликт привлекал и привлекает сегодня особое внимание историков в связи с участием в нем Сталина, проявленного им упорства. Гнетущая сила его поведения в этой ситуации, в то время скрытая от многих, могла стать, но не стала важным предупреждением об опасности сосредоточения власти в руках этого человека…Приказом от 10 декабря 1918 года по Полевому штабу РВСР был объявлен список лиц, назначенных в Революционный военный трибунал при РВСР. Председателем трибунала был назначен К. X. Данишевский, членами трибунала Аралов С. И., Мехоношин К. А., заместителем членов — Смирнов И. Н. Это назначение — еще одно признание моральных, политических и деловых качеств Мехоношина. В период гражданской войны К. А. Мехоношин в наибольшей степени проявил себя как организатор. Для его стиля работы и в годы войны, и в последующем характерен, говоря сегодняшним языком, комплексный подход к решаемым вопросам. Особенно полно этот стиль работы проявился в Астрахани. С этим городом у Мехоношина было связано многое. И первая научная работа в составе экспедиции профессора Книповича в 1914―1915 годах, и последняя выездная научная конференция ВНИРО в начале 1937 года. И тот научный подход к работе, которому его учил Книпович еще в 1914 году, в 1937 году явился объектом жестоких нападок со стороны другого, административного руководства. Но от принципов своей научной работы Мехоношин не отказался. Полтора года гражданской войны, правда с полугодовым перерывом, у Мехоношина прошли в Астрахани. Здесь в мае 1919 года он похоронил жену — Веру Леонидовну Павлову. 13 февраля 1919 года К. А. Мехоношин был назначен председателем РВС Каспийско-Кавказского фронта. Одной из причин этого назначения тоже можно считать конфликт в прежнем руководстве — между бывшим председателем РВС Шляпниковым и секретарем губкома партии Н. Н. Колесниковой. В телеграмме в адрес РВСР Мехоношин сообщал: «14 февраля принял дела от товарища Шляпникова, вступил в исполнение обязанностей. Констатируя, что создавшееся чрезвычайно тяжелое положение ККФ явилось единственно результатом отсутствия снабжения политработников, красных командиров и военспециалистов, докладываю, что лишь с помощью прибывших со мной работников и привезенного снабжения, а также при условии выполнения главных требований центральными управлениями буду иметь возможность привести в исполнение организационный план по приведению армии в боеспособное состояние».[132] Сложнейшая военная ситуация в районе Астрахани усугублялась острыми экономическими, социальными, национальными, санитарными и другими проблемами. В этой обстановке по предложению Мехоношина был создан временный военно-революционный комитет во главе с С. М. Кировым. Ревком являлся высшей властью в Астраханской губернии. Создание его было чрезвычайной мерой, позволившей наладить координированное руководство всеми сферами жизни губернии. Через два месяца, когда появилась возможность нормальной работы советских органов, ВРК был расформирован. Много сил отдал К. А. Мехоношин укреплению обороноспособности, налаживанию хозяйственной жизни, борьбе с эпидемиями и контрреволюционными выступлениями в Астраханском крае. После расформирования 11-й армии в июне 1919 года он был назначен членом РВС Южного фронта. Об этом периоде работы Мехоношина в Астрахани писал бывший член РВС 11-й армии Ю. П. Бутягин в докладной записке В. И. Ленину 25 июля 1919 года: «Одновременно отзывается тов. Мехоношин — единственно авторитетное лицо для всех активных военных работников, сумевший в исключительно тяжелые дни кошмарной болезни 11-й армии, восстания белогвардейцев 10 марта и дальнейших сложных реорганизаций армии объединить, вдохновить на крайне самоотверженную работу все живое нашей партии».[133] Деловой и глубоко откровенный характер записки не оставляет сомнений в искренности и непреувеличенности этой оценки. Но потребовалась еще одна телеграмма в декабре 1919 года — в ЦК партии за подписью Кирова, Бутягина, Раскольникова и Бабкина, чтобы Мехоношин вновь был направлен в Астрахань. В телеграмме говорилось: «Убедительно просим направить т. Мехоношина для работы в 11-й армии или Юговостфронта. Тов. Мехоношин прекрасно знаком с нашей армией и пользуется большой популярностью среди работников». Сам Мехоношин рвался в Астрахань. Об этом говорят первые слова его телеграммы Кирову: «Мое назначение состоялось. Через несколько дней выезжаю…» В составе 11-й армии они вместе весной 1920 года дошли до Баку. Северный Кавказ был освобожден. Но в том же 1920 году К. А. Мехоношину пришлось испытать горечь неудач и поражений. Вторую половину года он работал в составе РВС 3-й армии Западного фронта. Осенью положение Западного фронта осложнилось, особенно после того, как центр стал уделять основное внимание Южному фронту, борьбе против Врангеля. В октябре в разговоре с Мехоношиным по прямому проводу член РВС Запфронта Смилга сказал: «Москва считает, что продолжение войны с Польшей будет зависеть от положения на Южном фронте». С Западного на Южный фронт были переведены многие политработники, военные руководители. Это не могло не отразиться на настроении войск, да и командного состава. В разговоре со Смилгой по прямому проводу Мехоношин заметил: «…меня очень интересует вопрос личного характера, дело в том, что если предполагается на западном фронте в течение ближайшего времени затишье, то меня не устраивает пребывание в 3-й армии. Я думаю в этом случае просить ЦК о переводе меня на ту работу, которая в данный момент носит ударный характер». Он по-доброму завидовал Смилге, назначенному членом РВС Южного фронта… Мы остановились лишь на некоторых эпизодах из жизни и работы К. А. Мехоношина в годы гражданской войны. И конечно, не смогли в полной мере раскрыть многие грани его личности. А стоило бы сказать и о самозабвенности театрала в осажденной Казани, и о заботах о пайке для И. В. Мичурина в прифронтовом Козлове, об организации санатория для больных солдат в многострадальной Астрахани — все это содержится в воспоминаниях людей, что шли с ним трудными, огневыми дорогами. Хотелось бы привести еще несколько строк из автобиографии К. А. Мехоношина: «В 1926 г. я работал в Польше в качестве военного атташе в Полпредстве СССР. В 1928 г. после заграничной работы я был назначен заместителем, потом председателем сектора обороны Госплана СССР и членом его президиума. В 1931 г. перешел на работу в Наркомсвязь в качестве члена коллегии наркомата и с 1934 г. руковожу в качестве директора Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии…» Очень огорчен был К. А. Мехоношин, когда ему пришлось в 1931 году покинуть Госплан. Здесь масштабы и сложность работы соответствовали его организаторскому и исследовательскому потенциалу. Не всегда сочетание его человеческих и деловых качеств органично влияло на результаты работы, которых от него ждали и требовали. Недостаток решительности в исполнении жестких, конкретных директив в сложных, экстремальных условиях, сложившихся во время весенней путины на Каспии в голодном 1921 году, вероятно, дал повод В. И. Ленину заявить: «Никуда не годен Мехоношин для работы центра». Ситуация осложнялась тем, что в стране вводился нэп, а здесь, на Каспии, требовалось продолжить действовать методами «военного коммунизма». И наконец, последние строки автобиографии: «В настоящее время я работаю по своей специальности как биолог и руковожу Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства и океанографии. 10. XI.1936 г. К. Мехоношин».
В страшном 1937 году он пошел на конфликт с наркомом А. И. Микояном, отстаивая право ВНИРО заниматься комплексной наукой, а не сиюминутными задачами. Это говорит о многом. Учитывая сам момент конфликта, можно думать, что это был протест, возможно несознательный, но протест против затягивающейся петли авторитарности. Пойти на серьезный конфликт с наркоматом в период, когда для арестов не требовалось даже формального повода, означало бросить вызов страху, примиренчеству, вседозволенности, беззаконию. Молох сталинщины уничтожил К. А. Мехоношина. Селиверстова Л. Н. ─ кандидат исторических наук

Невский Владимир Иванович
Годы жизни: 1876―1937. Член партии с 1898 г. В 1917 г. член Всероссийского бюро военных организаций при ЦК РСДРП, член Петроградского ВРК. В октябре 1918 г. — мае 1919 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Пожелтевшие листы архивных документов — декреты Совнаркома, директивы, распоряжения и указания РВСР и Совета Рабочей и Крестьянской Обороны. На многих из них рядом с подписями Ленина, Троцкого и других — автограф Владимира Ивановича Невского. В труднейшие дни 1918 года, когда Советская Республика декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была провозглашена военным лагерем, Невский, в то время занимавший пост народного комиссара путей сообщения, был включен в состав Совета Обороны и Реввоенсовета Республики. Путь Невского в революцию был прям, хотя и не прост. Его судьба — это судьба профессионального революционера, отдавшего жизнь рабочему движению, революции, борьбе за народное благо. Родился он в 1876 году в прекрасном русском городе Ростове-на-Дону. Здесь, на границе казацкой вольницы, собирались многие торговые люди. Феодосий (настоящее имя Невского) рос в семье одного из тех удачливых купцов, что собственной инициативой и энергией сколотили немалые состояния. Отец его, Иван Кривобоков (такова подлинная фамилия Владимира Ивановича), трижды прогорал и трижды вновь поднимался на ноги, ворочая значительным капиталом. Семья, в которой формировались характер и миропонимание революционера, была своеобразным миром, где наряду с необыкновенной религиозностью уживался купеческий разгул и наряду с буржуазностью причудливым образом теплился и огонек весьма радикального демократизма. Учиться сына Иван Кривобоков отдал в городское реальное училище, а затем, считая, что денег на ветер не бросают, перевел в гимназию. Уже в 1894 году Феодосий организовал кружок саморазвития, участники которого читали Белинского, Добролюбова, Чернышевского, журналы «Колокол» и «Полярная звезда», устанавливали контакты с рабочими, знакомились с нелегальной литературой народников. В годы учебы в Московском университете на естественном факультете он продолжает политическое самообразование, изучает «Коммунистический манифест», становится одним из организаторов социал-демократического кружка. В 1899 году полиция ликвидировала кружок, и Феодосий Иванович был арестован и сослан под гласный надзор полиции в родной город, где установил связь с Донским комитетом РСДРП и стал руководителем одного из рабочих кружков. В январе 1900 года он возвращается в университет и снова включается в революционную работу, создает социал-демократическую организацию. Через год последовал второй арест и ссылка в Воронеж, где Феодосий участвует в создании новой организации, примкнувшей к ленинской «Искре». Осенью 1904 года Феодосий Иванович уезжает за границу. В Женеве в октябре 1904 года он впервые встречается с В. И. Лениным и Н. К. Крупской, знакомится с П. Н. и О. Б. Лепешинскими, В. Д. Бонч-Бруевичем, В. В. Воровским и многими другими большевиками. По заданию Бюро комитетов большинства вместе с другими товарищами он был направлен в Россию. В письме к А. И. Елизаровой от 12 февраля 1905 года Н. К. Крупская писала о товарищах, отправленных из Женевы в Россию: «Все это люди очень дельные, а Спица (Спица — партийная кличка Ф. И. Кривобокова) лучше всех, посланных нами, страшно ценный человек. Его надо взять в Комитет и назначить ответственным пропагандистом». Он ведет партийную работу в Петербурге, Орле, Брянске, Екатеринославе, Ростове и других городах, где выступает с докладами о положении в партии, с агитацией за созыв III съезда. Нелегально живет в Ярославле, в Ростове-на-Дону, в Москве. На Таммерфорсской конференции Феодосий Иванович был делегатом от Воронежа. В большевистских газетах «Волна», «Вперед» и других публикует статьи и корреспонденции, в которых разоблачает контрреволюционную сущность либеральной буржуазии, раскрывает цели борьбы партии большевиков. С конца 1905 до начала 1908 года нелегально работал в Петербурге за Московской и Невской заставами (отсюда и его псевдоним), был членом Петербургского комитета РСДРП, членом исполнительной комиссии ПК. Невский был делегатом IV (объединительного) съезда РСДРП от Воронежа. В начале 1908 года Невский был снова арестован. После освобождения некоторое время живет в Ростове-на-Дону, потом переезжает в Харьков, где ему удается, хотя и без свидетельства о благонадежности, получить диплом об окончании университета. Невского, как талантливого химика, оставляют при университете, он готовит магистерскую диссертацию по физической химии. Одновременно, вместе с другими революционерами, восстанавливает большевистскую организацию в городе, осуществляет постоянную связь с Краковом, где жил тогда Ленин, информирует его о партийных делах, выполняет его указания. В январе 1913 года на совещании членов Русского бюро ЦК и редакции «Правды» В. И. Невский был избран в состав редакционной тройки, которой поручалось выправить ошибки в деятельности редакции «Правды». Невский ведет переписку с В. И. Лениным, не раз выезжает за границу для встреч с ним, участвует в Краковском и Поронинском совещаниях ЦК с партийными работниками. В 1912 году его кооптируют в состав Русского бюро ЦК партии. Аресты, допросы, тюрьмы, военные суды, побеги — удел революционера-подпольщика. В дореволюционные годы Невскому пришлось пережить 11 арестов, 7 лет заключения в тюрьмах, несколько ссылок, более 20 лет жизни под надзором полиции. В. И. Невский — один из создателей Военной организации большевиков, любимейший оратор солдатских масс, «кумир солдат» Петроградского гарнизона, как назвал его Н. И. Подвойский на VI съезде партии. В. И. Невский активно сотрудничал в редакциях большевистских газет — «Рабочий и солдат», «Пролетарий», «Солдатская правда», «Рабочий путь», «Солдат», «Деревенская беднота», «Правда». В напряженные предоктябрьские месяцы он подготовил и опубликовал свыше пятидесяти злободневных политических статей и брошюр. В. И. Невский принимал участие в работе III Петроградской общегородской конференции РСДРП(б), на которой выступил с докладом о Красной гвардии. В основу этого доклада были положены ленинские указания о подготовке вооруженного восстания. В ходе подготовки его был создан Военно-революционный комитет (ВРК). В него от Военной организации вошел В. И. Невский. В дни Октября, выполняя ленинский план революционных действий, он руководил захватом железнодорожных вокзалов в столице, участвовал в занятии штаба Петроградского военного округа и в других важных операциях, обеспечивших успех восстания. После победы Октябрьской революции Невский работает в Наркомате по военным и морским делам, участвует в подавлении контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова, создает первые отряды Красной Армии. С июля 1918 года он — нарком путей сообщения, одновременно (с октября 1918 г.) являлся членом Реввоенсовета Республики. Судьба революции, исход боевых операций на многочисленных фронтах гражданской войны, полыхавшей на гигантских просторах страны, зависели от четкости работы транспортных артерий, от каждого паровоза и вагона, которые удавалось невероятными усилиями поставить в строй. И этот строй был составной частью воинских сил, мобилизованных на защиту завоеваний Октября. К сожалению, о том, какого напряжения требовала организация четкого функционирования железнодорожного транспорта в дни всеобщего хаоса и разрухи, написано до обидного мало. Мы зачастую судим о состоянии дел в этой важнейшей отрасли народного хозяйства и животворной системе обеспечения армейских тылов и мобильности соединений действующей армии лишь по картинам запустения и невероятного людского столпотворения, обыгрываемым во многих фильмах и литературных произведениях. Переполненные станционные постройки и перроны, вагоны всех классов и теплушки, охраняемые красноармейцами спецгрузы и литерные составы… Казалось, все неслось в разных направлениях без руля и ветрил. Но коль все в конечном счете доходило до конечных пунктов и армия, и города, и многочисленные городки и поселки, несмотря на взрывы, разрушения, саботаж, диверсии, получали необходимое, коль скоро высшее командование имело возможность перебрасывать боеприпасы, оружие, полки и дивизии, обеспечивать проезд поездам командующих, уполномоченных и составам с продовольствием, то за всем этим стояла титаническая и напряженная работа Наркомата путей сообщения, и прежде всего наркома, Владимира Ивановича Невского. Высшие партийные и государственные органы предоставили ему чрезвычайные права. Он имел мандаты не только РВСР и Совета Обороны, но и ЦК партии, чрезвычайно высоко ценившего организаторские способности Невского, мандат ВЦИК, членом Президиума которого он был. Наконец, мало кто знает, что особая роль Невского в эти дни объяснялась еще и тем, что он являлся заместителем Председателя ВЦИК. В 1918―1919 годах Невский входил и в Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, как уполномоченный ЦК партии и ВЦИК выезжал на фронты. В. И. Невский не прекращал и публицистической деятельности. Он редактирует журнал «Вестник путей сообщения», где публикует политические статьи. С весны 1919 года он возглавил созданный по решению VIII съезда РКП(б) специальный отдел ЦК партии по работе в деревне. Невский имел большой опыт работы среди крестьянских масс, приобретенный в ходе подготовки к Октябрьскому вооруженному восстанию. «…Каждый из нас, выдвинутый событиями наверх, выдвигался именно потому, что умел лучше, полнее и совершеннее других выражать чаяния масс, потому, что каждый из нас не думал о себе и в любую минуту готов был умереть за интересы трудящихся» — так Невский относился к выдвижению на руководящие посты. Начиная с 1920 года главной для Невского становится работа на идеологическом фронте. В 1920―1921 годах он — ректор Центральной школы советской и партийной работы, получившей позднее название Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, с 1922 года — заместитель заведующего Истпартом ЦК РКП(б), с 1925 по 1936 год — директор Библиотеки имени Ленина в Москве. Постоянно избирался в состав членов ВЦИК и ЦИК СССР. В. И. Невским написано свыше двухсот работ на историко-партийные и историко-революционные темы. 19 февраля 1935 года В. И. Невский был арестован и после более чем двухгодичного следствия 25 мая 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен как «активный участник антисоветской террористической организации правых» к высшей мере наказания. За три месяца до суда Невский написал подробное заявление наркому внутренних дел СССР, в котором отвергал предъявленные ему обвинения как ни на чем не основанные. Однако это заявление не было приобщено к делу и скрыто от суда. Замечательный революционер, ученый-марксист, человек, который сам делал революцию, пламенный борец за дело Октября, представитель ленинской когорты стал жертвой навета, лжи и жестокой несправедливости. 18 лет правда о выдающемся революционере была скрыта от народа. На основании проведенной Прокуратурой СССР проверки и исследования дела Военная коллегия Верховного суда СССР установила, что В. И. Невский осужден неправильно, по огульному подозрению и по безосновательному обвинению, сфальсифицированному бывшим работником НКВД СССР Глебовым, который 28 января 1940 года был осужден за применение запрещенных законом методов следствия, фальсифицирование дел и шантаж. 1 июня 1955 года Военная коллегия отменила приговор в отношении Невского и прекратила дело за отсутствием состава преступления. КПК при ЦК КПСС признала необходимым реабилитировать Невского (посмертно) в партийном порядке. Пастухова Н. В. Ушаков А. И.

Окулов Алексей Иванович
Годы жизни: 1880―1939. Член партии с 1903 г. Член ВЦИК 2-го созыва. В январе — мае 1918 г. член Президиума ВЦИК, особоуполномоченный ВЦИК по формированию частей Красной Армии в Сибири. Член РВС ряда фронтов и армий, в январе — июле 1919 г. член РВСР и член Реввоентрибунала Республики…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
13 декабря 1938 года Алексей Иванович Окулов, заключенный отделения Амурлага в городе Свободный, направил Генеральному прокурору СССР Вышинскому жалобу в порядке надзора — с просьбой об освобождении в связи с болезнью. Свое послание он закончил такими словами: «Я этого не заслужил. Я бескорыстно отдал свою жизнь Революции, работал как революционер, я никогда ничего не добивался лично для себя — ни власти, ни почестей, ни материальных благ. Все, знающие меня и мою семью, должны засвидетельствовать, что я нигде и никогда не выставлял себя впереди (исключая случаев прямой опасности, когда я бывал впереди, — это тоже должны засвидетельствовать знающие меня). Величайшей моей гордостью было ничем не запятнанное мое честное революционное имя. И теперь хотят отнять его у меня».[134] На многие годы имя этого человека — многогранного, с высоким чувством гражданственности, талантливого писателя, партийного и военного деятеля — было предано забвению. Лишь в 1970 году на страницах Ленинского сборника XXXVII была опубликована речь В. И. Ленина по военному вопросу на VIII съезде партии в 1919 году, где сказано: «Окулов проводил линию ЦК». Но в годы гражданской войны судьба дважды столкнула его с И. В. Сталиным в конфликтных ситуациях. Сталин все помнил и ничего не прощал… В 1937 году Окулову было предъявлено обвинение в троцкизме. За этим последовало заключение. Алексей Иванович родился в Минусинске в 1880 году. Его мать, Екатерина Никифоровна, не стесняла свободы своих детей, предоставляя им возможность учиться в России и за границей. Постепенно под влиянием своих дочерей, главным образом Глафиры Ивановны, она превратилась из властной хозяйки дома и золотых приисков в человека, не только симпатизировавшего революционному движению, но и оказавшего впоследствии, особенно во время колчаковщины, содействие красным партизанам. Окуловская семья принадлежит к числу революционных семей России. С самого детства молодые Окуловы были окружены политическими ссыльными — сначала народовольцами, потом и большевиками. Среди них были В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, В. К. Курнатовский. Встречи, разговоры, обмен литературой — все формировало сознание молодых людей в революционном духе. Глафира Окулова вступила в партию в 1898 году, Алексей — в 1903 году, по рекомендации Н. Э. Баумана. В 1905 году Алексей Окулов руководил боевой дружиной, которая арестовала губернатора и несколько дней удерживала власть в городе. В 1906 году после поражения Декабрьского восстания в Москве он перебрался в Петроград, где в 1906―1907 годах под партийной кличкой Антон вел нелегальную пропаганду. Впоследствии, в своей автобиографии Алексей Иванович так опишет этот период: «При провале Южной конференции большевиков в Киеве, с которой я был связан, под угрозой, в случае ареста, смертного приговора за организацию и командование боевой дружиной (в 1905 г. в Вологде. — Т. К.) я эмигрировал. По 1913 год я пробыл в эмиграции, в Париже, где был членом группы содействия РСДРП(б), занимался научной и литературной работой. В 1913 году я нелегально вернулся в Россию и скоро был арестован в Петербурге. Меня судила выездная сессия Московской судебной палаты в Вологде. За давностью лет обвинение в организации боевой дружины не было доказано, и по приговору я получил 31/2 года крепости, которые и отбыл в Вологодской и Таганской тюрьмах». В 1916 году, сразу после освобождения из тюрьмы, Окулов был доставлен к воинскому начальнику и зачислен в царскую армию. Однако через несколько месяцев вновь был арестован за пропаганду большевистских идей в войсках и передан Московскому военно-окружному суду. Обвинение в пропаганде доказать на суде не удалось, и его направляют «за нарушение дисциплины» в дисциплинарный батальон, но неожиданно по болезни дают месячный отпуск. Он уезжает в Красноярск. Это был февраль 1917 года. Алексей Иванович сразу включился в революционную работу. Он был избран председателем Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом Красноярского районного бюро РСДРП(б), в августе 1917 года — членом Областного бюро большевистских организаций Средней Сибири. «И далеко по Средней и Восточной Сибири шло влияние Красноярской организации, и по всей Сибирской магистрали, даже на самых маленьких станциях, были известны имена деятелей Красноярского Совета, имена агитаторов и пропагандистов Красноярской партийной организации — имена Вейнбаума, Б. Шумяцкого, Дубровинского, Бограда, А. Окулова, Гл. И. Теодорович (Окуловой)…» — напишет впоследствии старый большевик А. В. Померанцев в сборнике «Центросибирцы».[135] Впоследствии образы своих красноярских друзей и соратников по революционным дням семнадцатого года Алексей Иванович Окулов ярко и с большой теплотой воссоздаст в своих стихотворениях, опубликованных в газете «Красноярский рабочий» в 1920 году, в книге «Заметки Иванова» (М., 1936), посвященной гражданской войне, в автобиографической повести «Юность» (М., 1958). На II съезде Советов А. И. Окулов был избран членом Президиума ВЦИК и направлен в Сибирь на формирование отрядов Красной Армии. С этого момента он перешел на военную работу. С. И. Аралов, возглавлявший в 1918 году оперативный отдел Наркомвоена, был тесно связан с Алексеем Ивановичем Окуловым по работе в Наркомвоене, Реввоенсовете, на фронтах гражданской войны. Там зародилась и окрепла дружба этих незаурядных людей. «Самое раннее воспоминание об Алексее Ивановиче Окулове у меня сохранилось со времени его участия в боевом Латышском отряде, — писал впоследствии Аралов. — Латышский отряд во главе с Окуловым, Эйдеманом, Усиевичем был послан В. И. Лениным в Сибирь за продовольствием. Я помню сборы. Ленин торопил… Эшелон выехал из Москвы в мае 1918 года. Первоначально в команде было не больше 40 человек… Передвигались латышские стрелки различным порядком: то в поездах, то на пароходах, то и пешим путем. В городе Тара столкнулись с белогвардейцами. Команда латышей, во главе с А. И. Окуловым, смелым налетом уничтожила банду. Из городской тюрьмы были освобождены 10 коммунистов, которые и присоединились к окуловской команде. На пути встретили отряд Шлихтера, посланный В. И. Лениным за хлебом для питерских рабочих. Отряды соединились для совместной работы, борьбы…»[136] А борьба развернулась острая, ибо, добравшись до Омска, отряд оказался в гуще чехословацкого восстания. Для руководства борьбой с белочехами и защитой Омска 26 мая 1918 года был создан Военно-оперативный штаб Западной Сибири во главе с А. И. Окуловым. В него вошли В. М. Косарев, А. Я. Нейбут, Р. П. Эйдеман, А. А. Карлов, позднее — А. Г. Шлихтер и Г. А. Усиевич. На следующий день, вечером 27 мая, Окулов направил свое первое донесение в Наркомвоен: «Положение серьезное, от Центросибири мы уже отрезаны, с минуты на минуту можно ожидать перерыва сообщения с вами. Немедленно снеситесь с нами по прямому проводу. Двигайте броневые поезда. Мы решили защищать Омск до последнего человека. Все рабочие стали под ружье». У Окулова — писателя, партийного работника — в экстремальной ситуации проявился военный талант и дипломатические способности. Его оценки военной обстановки были точны, действия и распоряжения четки и уверенны. Сутки потребовались Алексею Ивановичу, чтобы разобраться в обстановке и взять в свои руки руководство военными действиями и оборону Омска. Если еще 27-го он просит Наркомвоен «дать распоряжения и инструкции», то 28 мая уже доложил, что среди чехословаков мобилизуются все силы, они наладили связи с русской реакцией, с областниками, что отсутствие готовых воинских формирований в Западной Сибири и технических средств делает невозможной решительную попытку разоружения чехословацких дружин. И далее он сообщил: «Выжидаем, ведем переговоры, сражаемся, организуемся, стараемся вызвать раскол чехословацкого крестьянства и командного состава. Нас обложили кольцом. Где нет сил сдерживать напор — разбираем пути. Сообщить точное число эшелонов к западу не могу, около 13, к востоку — неизвестно, вблизи нас — пять… Восточная Сибирь занята Семеновым. Мы боремся, обладая кучкой войска».[137] Впоследствии он так опишет этот период: «Я последовательно командовал защитой Омска, обским речным флотом, который я вывел в Тавду, защитой гор. Тюмень, а после сдачи гор. Екатеринбурга белым по приказу эвакуировал Тюмень и явился в распоряжение ЦК». Окулов был направлен на Южный фронт. Предыстория его назначения была такова. В сентябре обострилась борьба с Деникиным. 11 сентября 1918 года создан Южный фронт. Командующим назначили бывшего генерала П. П. Сытина, которому Реввоенсовет Республики предоставил «полную власть в ведении операций». Реввоенсовет Южного фронта был образован 17 сентября 1918 года постановлением РВСР в составе И. В. Сталина, председателя Царицынского Совета С. К. Минина и помощника командующего К. Е. Ворошилова. Известно, что Сталин в то время был против централизованного управления войсками, против использования военных специалистов. Именно это стало причиной конфликта, возникшего на Южном фронте. 21 сентября главком И. И. Вацетис и член РВСР К. X. Данишевский приказали П. П. Сытину создать общий план действий и в оперативных делах пользоваться полной самостоятельностью в связи с тем, что боевые действия шли разрозненно. Членам же РВС фронта 27 сентября было предложено «в самое ближайшее время наладить порядок на всем фронте и подготовить войска к решительному наступлению». Однако Сталин и Ворошилов, вопреки указаниям главкома и Реввоенсовета Республики, не допустили Сытина к выполнению возложенных на него обязанностей, без него начали не подготовку к наступлению, а перегруппировку частей Сытина. На фронте сложилось фактическое двоевластие. Главное командование приказало Сталину приостановить вмешательство в военные дела, выехать в Козлов для совместной работы с командующим фронтом. Но Сталин и Ворошилов не выполнили этого приказа, заявили, что они признают только «коллегиальную форму управления фронтом и коллегиальное решение всех вопросов». В Царицын был направлен член Реввоенсовета Республики Мехоношин, который 28 сентября принял участие в первом заседании РВС Южного фронта. При обсуждении вопросов о разделении фронта на армии, об организации военных советов и штабов армии, о правах командующего фронтом возникли серьезные разногласия между Сытиным, с одной стороны, и Сталиным, Ворошиловым и Мининым — с другой. Заседание было прервано. Все попытки примирить стороны и разъяснить, что необходимо исполнять приказы РВСР, не дали желательных результатов. Сталин, Ворошилов и Минин требовали отстранения Сытина от должности главнокомандующего фронтом и назначения на эту должность Ворошилова. 2 октября конфликт на Южном фронте обсуждался на заседании Центрального Комитета РКП(б), на котором было принято предложение Я. М. Свердлова вызвать Сталина к прямому проводу и указать ему, что подчинение Реввоенсовету абсолютно необходимо. 3 октября Главное командование (Вацетис, Аралов, Данишевский) доложило о сложившейся обстановке председателю РВСР Л. Д. Троцкому: «Такое игнорирование распоряжений Реввоенсовета Республики и нежелание работать в контакте с командующим фронтом считаю недопустимым, тем более что решения реввоенсовета Южного фронта идут явно в ущерб намеченной операции».[138] В ответ на это Троцкий 4 октября в телеграмме Председателю ЦИК Я. М. Свердлову (копия В. И. Ленину) потребовал отозвать Сталина с Царицынского фронта. «Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч солдат, — писал он. — Тем не менее я оставлю его командующим десятой Царицынской армией на условии подчинения командарму Южной Сытину». Далее Троцкий обязал «царицынцев» два раза в день представлять оперативные и разведывательные сводки, грозя в противном случае отдать под суд Ворошилова и Минина, а Сталину напомнил, что он пользуется только правами члена РВС 10-й армии. Но конфликт разрастался, и 5 октября Троцкий опять телеграфировал Свердлову о поступающих жалобах Вацетиса на Сталина, который продолжал отдавать боевые приказы и этим разрушал все стратегические планы главкома. Разрешение конфликта из-за дезорганизаторских действий Сталина, Минина и Ворошилова затягивалось. Они написали письмо Ленину о том, что РВСР отдал Южный фронт в руки Сытина, требовали «пересмотреть вопрос о военных специалистах». С этим требованием не могли согласиться ни ЦК, ни Ленин, поэтому 6 октября Сталин был вызван в Москву к Владимиру Ильичу, который осудил неповиновение членов РВС Южного фронта и их самочинные действия. 9 октября Сталин написал заявление об отставке его с поста члена Реввоенсовета Республики и реввоенсовета Южного фронта и известил об этом РВСР, однако уже 11 октября в телеграмме Свердлову он выражал сожаление, что подал заявление об уходе с этих постов. В. И. Ленин, внимательно следивший за сложившейся ситуацией на Южном фронте, потребовал принять решительные меры для оказания помощи Царицыну. Одной из действенных мер стабилизации положения на фронте была замена и укрепление состава реввоенсовета Южного фронта. Кандидаты в члены реввоенсоветов фронтов и армий тщательно отбирались, обсуждались на заседании Совета Народных Комиссаров и РеввоенсоветаРеспублики. В результате реввоенсовет Южного фронта был обновлен, в его состав были введены: 3 октября — К. А. Мехоношин, 9 октября — П. Е. Лазимир, 14 октября — А. И. Окулов, 20 октября — А. Г. Шляпников, 10 ноября — Б. В. Легран. Сытин оставался командующим фронтом до 11 ноября, когда был отозван в Управление делами РВСР. Прежние члены РВС были постепенно отозваны на другую работу — И. В. Сталин в Москву, К. Е. Ворошилов назначен командующим 10-й армией, С. К. Минин — членом РВС этой же армии.[139] Позже, в 1937 году, Алексею Ивановичу Окулову припомнят его назначение на Южный фронт. В жалобе на имя Вышинского он так напишет: «…товарищи из райкома заговорили о моей военной работе во время гражданской войны. Они случайно знали, что я одно время командовал 10-й Царицынской армией. Они спросили, при каких обстоятельствах это было. Я ответил, что сменил там Ворошилова и Сталина, которые были отозваны ЦК на другой участок Южного фронта. Товарищи из райкома спросили меня, чем вызвалось это отозвание тт. Ворошилова и Сталина. Я ответил, что подлинных мотивов не знаю, но предполагаю, что в 10-й армии необходимо было подтянуть партизанское командование, с которым тт. Ворошилов и Сталин связаны были различными старыми отношениями, а мне, человеку совершенно чужому, сделать это было легче. Тогда один из райкомовцев начал повторно (два или три раза) подсовывать мне один и тот же нелепый вопрос: „Так выходит, что Вы тт. Сталина и Ворошилова „разогнали“ из 10-й армии?“ Вопрос этот носил явно злобный и провокационный характер. Я ответил, что ЦК никого сменять в командовании 10-й армии мне не поручал и мотивов своих распоряжений не излагал».[140] Принятые ЦК РКП(б) и Реввоенсоветом Республики меры дали некоторые положительные результаты. 15 октября войска на Царицынском участке Южного фронта перешли в наступление. Однако положение на фронте продолжало оставаться угрожающим: в ряде частей осталась слабой дисциплина, сохранялись остатки партизанщины, не выполнялись боевые приказы. Членом реввоенсовета 10-й армии Алексей Иванович Окулов оставался до 26 декабря 1918 года. Когда он вернулся с Южного фронта, то представил доклад о царицынских событиях в Реввоенсовет Республики. Прочитав доклад Окулова, председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий обратился к В. И. Ленину с просьбой внимательно изучить этот доклад о Царицынской армии, ее деморализации К. Е. Ворошиловым при содействии И. В. Сталина и серьезно отнестись к назначению нового командования. С. И. Аралов вспоминал о встрече с Окуловым в Реввоенсовете, в Серпухове, сразу после его возвращения с фронта: «Окулов взял меня под руку и мы пошли на берег Оки. Сели на какой-то обрубок бревна. — Я не хотел рассказывать в штабе, — отметил Алексей Иванович, — видел, узнал очень неприятные дела, вернее страшные, совершенные противниками кадровой, дисциплинированной армии, стоящими за партизанщину, противниками ленинской установки приглашения военных специалистов для руководства, командования и обучения наших бойцов… В руководстве были тогда в Царицыне старые члены партии: Минин, Сталин, Ворошилов… Что произошло: преданных командиров из старых военных кадров гнали, уничтожали, вывозили на баржах, что привело к тому, что оставшиеся уходили, убегали и военные части оставались без командиров, терпели поражения».[141]После Южного фронта Алексей Иванович Окулов получает новое назначение, и опять на военную должность. В семейном архиве Окуловых как дорогая реликвия хранится мандат Совета Народных Комиссаров, подписанный В. И. Лениным: «2 января 1919 года Совет Народных Комиссаров постановил назначить тов. А. И. Окулова членом Реввоенсовета Республики». Как члену РВСР, Алексею Ивановичу много приходилось выезжать из Серпухова на фронты, в армии, проводить военные и партийные мобилизации, а иногда подталкивать снабжение армий продовольствием и боеприпасами. Его часто направляли во вновь сформировавшиеся части, и он информировал РВСР об истинном положении дел с формированиями. На общих заседаниях Реввоенсовета он не раз говорил о слабой партийной работе в воинских частях, о необходимости мобилизации членов партии для укрепления Красной Армии. При обсуждении вопросов о дисциплине в армии требовал решительных действий в борьбе с расхлябанностью, местничеством, с остатками партизанщины. Ставил вопросы технического оснащения Красной Армии: об ускорении постройки самолетов, танков, орудий, всего того, чем располагали белые армии. Он настойчиво проводил в жизнь ленинскую линию использования военных специалистов из бывших царских офицеров и генералов. На VIII съезде РКП(б), на заседаниях «военной оппозиции» и закрытом заседании по военному вопросу с защитой мнения ЦК партии в военном вопросе выступил член Реввоенсовета Республики А. И. Окулов. Он показал на ряде примеров небоеспособность дивизий, сформированных без кадров военных специалистов. С. И. Аралов так вспоминал о выступлении Окулова: «Он сказал, что регулярная армия может существовать только при условии самого разумного использования труда специалистов. Отсутствие командного состава на фронтах приводит к тому, что солдаты идут не в бой, а на бойню. Из-за нехватки опытных кадров резервы остаются необученными и драгоценнейшие наши кадры истекают кровью… Он указал на то, какие политические ошибки и преступления совершаются по невежеству. Вместо приглашения видных специалистов — их нередко отбрасывали на баржах, восстанавливая против Советской власти». Недостатки в военной работе Окулов показал на примере деятельности 10-й армии под Царицыном, куда он был послан ЦК РКП(б) в качестве члена РВС Южного фронта и 10-й армии. «Наша армия может существовать как армия регулярная, — говорил Окулов, — только при условии самого широкого, самого полного и самого разумного использования труда всяких специалистов». Принятая VIII съездом партии резолюция по военному вопросу обобщила опыт, накопленный партией в строительстве Красной Армии, определила очередные задачи и перспективы военного строительства. Съезд поручил Центральному Комитету партии немедленно принять меры по реорганизации Полевого штаба Реввоенсовета Республики для установления более тесной связи с фронтами, урегулировать работу РВСР, упорядочить работу Всероссийского главного штаба, устранить недостатки в его деятельности, усилить в нем представительство партии. Вскоре после съезда председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий обратился в ЦК РКП(б) с просьбой ввести в Совет Всероссийского Главного штаба и в Бюро военной печати двух кадровых партийных работников — И. Т. Смилгу и А. И. Окулова, зарекомендовавших себя людьми принципиальными и энергичными. Об ответственности работы, которую выполнял Алексей Иванович как член Реввоенсовета Республики, говорят такие факты: 19 апреля 1919 года В. И. Ленин подписал удостоверение Совета Обороны члену РВСР А. И. Окулову о командировании его для проведения ревизии формирующихся дивизий и с просьбой об оказании содействия ему в работе со стороны всех советских учреждений. В марте — апреле 1919 года на Украинском фронте сложилась тяжелая ситуация на участке Киев — Фастов. И Окулову, как члену РВСР, поручено провести ревизию формирования запасных дивизий, а также подготовить, в случае необходимости, вывоз с Украины военного имущества, чтобы предотвратить его расхищение. 28 апреля Алексей Иванович из Киева направил телеграмму Ленину с просьбой дать ему чрезвычайные полномочия по вывозу с Украины военного имущества. Ленин предложил обсудить этот вопрос на заседаниях Совета Труда и Обороны и Реввоенсовета Республики. Выполнив это задание, Алексей Иванович получил новое — от Реввоенсовета Республики — 19 мая его назначили членом РВС Западного фронта. И здесь у А. И. Окулова возник конфликт со Сталиным (который в то время являлся чрезвычайным уполномоченным ЦК РКП(б) и Совета Обороны в Петрограде) и председателем Петроградского Совета Г. Е. Зиновьевым. Петрограду угрожала опасность: командующий Западным фронтом Надежный 22 мая отдал приказ об удержании Красной Горки и восстановлении положения на Нарвском участке фронта. Причем в каждую группу войск назначил членов РВС фронта Окулова, Семашко, Андерсона. 25 мая Надежный и член РВС фронта Окулов приказали так перегруппировать войска, чтобы восстановить положение на Нарвском участке и обеспечить безопасность Пскова и Двинска. Алексей Иванович Окулов быстро сориентировался в обстановке на фронте, увидел неразбериху со снабжением частей, неравномерность получения пополнений, что указания командования не выполняются. Об этом он 3 июня телеграфировал В. И. Ленину и в Реввоенсовет Республики. Получив тревожную информацию о положении на Западном фронте, Ленин в тот же день телеграфировал Сталину: «Окулов указывает на оторванность 7 армии от Реввоенсовета Западного фронта, что вносит путаницу и снимает ответственность с работников фронта, лишает их энергии в работе. Петроградский округ, подчиненный Запфронту, все свои запасы дает 7 армии, не предоставляя их фронту и для остальных армий… Окулов предлагает либо полное подчинение 7 армии фронтовому командованию, либо выделение ее на особое положение с прямым подчинением Ставке. Зная постоянную склонность Питера к самостийности, думаю, что Вы должны помочь Реввоенсовету фронта объединить все армии».[142] В ответ на это Сталин потребовал отозвать Окулова с Западного фронта. Это требование В. И. Ленин обсудил с заместителем председателя РВСР Э. М. Склянским. Зная нетерпимость Сталина к любой критике его действий, Ленин просит Склянского принять меры, «дабы конфликт не разросся, а получил правильное направление». Кроме этого, Ленин дополнил телеграмму Склянского Сталину указаниями помочь РВС Западного фронта наладить снабжение, объединить все армии фронта под единым командованием и урегулировать конфликт с членом РВС Западного фронта А. И. Окуловым. Фактически на Западном фронте Сталин, проводя ту же политику, какую они с Ворошиловым проводили в Царицыне, создал такую же конфликтную ситуацию. 4 июня члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Л. П. Серебряков и Е. Д. Стасова по прямому проводу передали в Харьков шифрованную телеграмму председателю Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкому о конфликте Сталина с Окуловым, о необходимости максимума сплоченности в Питерской военной организации и о принятом постановлении ЦК временно отозвать Окулова и направить его в распоряжение Троцкого. Телеграмма аналогичного содержания была послана В. И. Лениным чрезвычайному уполномоченному ЦК РКП(б) и Совета Обороны в Петрограде И. В. Сталину. Членом РВС Западного фронта Окулов оставался до 21 июня 1919 года. 9 июля вместо него членом РВС становится И. В. Сталин. В своей оценке ситуации на Западном фронте Окулов оказался прав. Через четыре месяца политика Сталина, игнорировавшего приказы командующего Западным фронтом, его непрерывные требования передать 7-й армии все имеющиеся людские и продовольственные запасы в ущерб всем другим частям создали сложную ситуацию на Петроградском фронте. 4 ноября 1919 года Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев об этом информировали В. И. Ленина. В связи с этим Ленин указал секретарю ЦК РКП(б) Н. Н. Крестинскому, что «…привилегированное положение питерской армии уже начало разлагать другие армии».[143] Выполняя указания ЦК, Троцкий назначил Алексея Ивановича Окулова уполномоченным РВСР по формированию 43-й Отдельной дивизии резерва главнокомандующего. Впоследствии Окулов писал об этом: «Я попросил о назначении меня на строевое командование. В ответ на это Троцкий назначил меня начальником 43-й Особой резерва главнокомандующего дивизии. Все издевательство, которое заключалось в этом пышном названии, я не замедлил оценить на практике: местом формирования дивизии мне был указан гор. Сызрань, тогдашний тифозный заградитель Восточного фронта, где во всех домах лежали тифозные больные, и речи не могло идти о формировании в такой обстановке дивизии, боевого состава — свыше 20 000 человек».[144] Но приступить к формированию дивизии Алексею Ивановичу Окулову не пришлось — пополнения не поступали, существовал только штаб дивизии и около двухсот нестроевых красноармейцев. В это время происходит реорганизация Реввоенсовета Республики. 9 июля 1919 года принимается постановление ЦК РКП(б), по которому в составе РВСР остается только шесть человек. А. И. Окулов получает новое назначение. Во время кавалерийского рейда Мамонтова, когда Деникин взял Орел и угрожал Туле, где был единственный оружейный завод, снабжавший Красную Армию, Окулову приказано немедленно вступить в командование Тульским укрепленным районом, причем в качестве гарнизона была названа 43-я дивизия, которая в природе фактически не существовала. На долю Окулова опять выпадает сложная задача. Чтобы понять все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, достаточно познакомиться с телеграммой, отправленной 10 января 1920 года из Тулы В. И. Ленину, в которой говорится о катастрофическом положении в снабжении продовольствием и воинских частей укрепленного Тульского района, и рабочих оружейного завода, о полном отсутствии фуража, расстройстве транспорта. Окулов обратился к Владимиру Ильичу с просьбой оказать срочную помощь, считал необходимым увеличить численность гарнизона. Ленин предложил заместителю председателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянскому вынести этот вопрос на обсуждение Совета Обороны. В начале января 1921 года Оргбюро ЦК РКП(б) приняло решение о назначении А. И. Окулова вторым комиссаром Академии Генерального штаба. Однако Алексей Иванович обратился в ЦК РКП(б) с просьбой об административно-военном назначении, и 12 января пленум ЦК удовлетворил его просьбу. Он был назначен окружным военным комиссаром, а потом командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа, готовящего пополнение для польского фронта. Впоследствии, отвергая обвинения в троцкизме, Окулов так напишет о своей работе: «…аппарата у меня не было никакого. Мне пришлось под личную ответственность взять из лагеря пленных колчаковцев и поставить их на самые ответственные места, вплоть до начальников военно-окружных управлений. В конце концов округ удалось организовать, и в самый разгар его работы, после благодарности, полученной за образцовое пополнение, посланное на фронт, Троцкий, без всякой мотивировки, штаб округа расформировал, передав его функции остаткам штаба 5-й армии, которые оставались еще в Красноярске».[145] После этого Алексей Иванович Окулов уходит с военной службы. Два года он читал лекции в Университете трудящихся народов Востока, затем два года, в 1926―1927 годах, был членом правления Главзолота, затем — ученым консультантом правления Всекохудожник. И все это время занимался писательским трудом. Будучи тяжело больным, получал персональную пенсию. На партийном учете состоял во Всекохудожнике, где в 1936 году выступление Окулова на партийном собрании стало для него роковым. Дело было так. При выдвижении одного из кандидатов в члены бюро ему был дан отвод на том основании, что в личной беседе кандидат выразил сожаление, что «такой способный человек, как Пятаков, оказался врагом революции». И на собрании договорились до того, что способным человеком, вообще говоря, может быть только коммунист с партбилетом. «Этот подхалимский вздор, — писал Окулов, — возмутил меня своим лицемерием и показался мне в высшей степени вредным в политическом отношении. Я взял слово. Я хотел повторить то, что много раз слышал из уст В. И. Ленина: что размалевывать врагов под дураков и идиотов („шапками закидаем“) — это не тактика большевиков, а усыпление бдительности, что это ведет к утрате чувства реальности и проч. Дальше я хотел остановиться, как это много раз делал в своих докладах, на причинах возникновения троцкизма и т. д. Я начал свою речь буквально так: „Троцкий — подлец и в личном смысле и политически. Но он человек талантливый…“ Тут в аудитории начался шум, я подождал с минуту, а потом сошел с трибуны». Через два месяца А. И. Окулова исключили из партии, а в декабре 1937 года Особое совещание НКВД по Московской области осудило его по статье 58―10 Уголовного кодекса и приговорило к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Заключение Алексей Иванович отбывал в отделении Амурлага, в городе Свободный. В письмах к дочери Ирине Алексей Иванович Окулов писал 15 мая 1938 года из распределительного пункта «Свободный»: «Я столько пережил в жизни тяжелого и незаслуженного, что немного больше или меньше, это не делает разницы. Не может быть, чтобы мое дело не было пересмотрено, что какой-то мерзавец ложным доносом мог погубить человека с моим прошлым. Воссияет справедливость, уверен в этом». Алексей Иванович Окулов умер 10 января 1939 года в ссылке в городе Свободном. Кузьмина Т. Ф. ─ кандидат исторических наук

Подвойский Николай Ильич
Годы жизни: 1880―1948. Член партии с 1901 г. С ноября 1917 г. по март 1918 г. нарком по военным делам. 1918―1919 гг. председатель Высшей военной инспекции РККА, наркомвоенмор Украины. С сентября 1918 г. по июль 1919 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987)
Назначение 30 сентября 1918 года Николая Ильича Подвойского членом Революционного военного совета Республики не вызывало ни сомнений, ни вопросов. Разве что: почему не раньше? Среди большевиков (в партии он состоял с 1901 г.) Подвойский значился как специалист по военным делам. После Февральской буржуазно-демократической революции явился одним из создателей и руководителей Военной организации при Петроградском комитете и Центральном Комитете РСДРП(б), много сил вложил в подготовку Красной гвардии. В канун восстания он был избран в Петроградский Военно-революционный комитет и его бюро. С первых дней пролетарской диктатуры активно участвовал в формировании аппарата Наркомвоена, демократизации старой армии и овладении Военным министерством, затем вошел во Всероссийскую коллегию по организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а с марта 1918 года в Высший военный совет. Правда, не было у него ни наследственной «военной косточки» (отец — сельский учитель, потом священник, отстраненный в 1908 г. от службы за хранение революционной литературы в церкви), ни военного образования (учился в духовной семинарии и в Ярославском юридическом лицее, откуда был исключен за революционную деятельность), ни дня военной службы. Но зато было яркое революционное прошлое, участие в стачечных боях. Были аресты, тюрьмы, эмиграция, не сломившие волю, не поколебавшие беспредельной преданности делу большевистской партии, борьбы за свободу и лучшее будущее народа. А это — немало! Хотя для руководства строительством вооруженных сил такого огромного государства, как Россия, профессиональная военная подготовка, наверно, не явилась бы лишней. Впоследствии жизнь неоднократно заставляла вспоминать об этом. С апреля 1918 года Н. И. Подвойский — председатель Высшей военной инспекции (ВВИ), созданной для контроля и помощи в организации на местах комиссариатов по военным делам (военкоматов), которым предстояло развернуть работу в губерниях, уездах, волостях по строительству Красной Армии. В приказе Наркомвоена № 303 от 24 апреля о цели первой поездки комиссии ВВИ говорилось: «Член коллегии Народного комиссариата по военным делам и член Высшего военного совета тов. Н. И. Подвойский командируется для производства инспектирования во всех местностях Российской Федеративной Советской Республики всех воинских частей и органов управления Рабоче-Крестьянской Армии — для выяснения постановки дела организации, формирования, всеобщего обучения, боевой подготовки, всех видов снабжения, а также степени соответствия руководящих органов управления и должностных лиц армии в выполнении ими возложенных на них задач. Тов. Н. И. Подвойскому предоставляется право самостоятельного разрешения всех вопросов, связанных с инспектированием армии, и издание относящихся сюда приказов и постановлений за своею личною подписью». В связи с началом боевых действий на востоке и юге страны группам ВВИ, возглавляемым Н. И. Подвойским, пришлось участвовать и в формировании боевых частей, и в сражениях. Постановлением ВЦИК от 30 сентября 1918 года Революционному военному совету Республики (РВСР) подчинялись все военные учреждения, в том числе Высшая военная инспекция. Но фактически ВВИ с момента образования РВСР являлась его «постоянным правомочным органом… по инспектированию армии и всех ее учреждений, как в центре, так и на местах, во всех областях их военной и политической работы». Так указывалось в подготовленном с участием Н. И. Подвойского Положении о ВВИ РККА, утвержденном РВСР 16 сентября 1918 года. Высшая военная инспекция по этому положению состояла из двух отделов — политического и военного. В первом из них работали такие авторитетные коммунисты, как В. Г. Юдовский, С. С. Данилов и другие (в ноябре 1918 г. политотдел ВВИ был слит с Всероссийским бюро военных комиссаров). Военным отделом руководил бывший генерал-лейтенант М. А. Соковнин (окончил Академию Генерального штаба в 1892 г.), в этом отделе сотрудничали в разное время такие крупные военные специалисты, как М. В. Акимов, А. А. Балтийский, В. Ф. Новицкий, Н. В. Соллогуб и другие. По авторитетности и профессиональной подготовленности инспекторов ВВИ была способна решать самые сложные и важные вопросы строительства РККА. Когда принималось положение РВСР о ВВИ, она практически в полном составе находилась на территории Северо-Кавказского военного округа и в районе созданного 11 сентября 1918 года Южного фронта, а сам Н. И. Подвойский еще не успел поправиться после ранения. Сохранившийся в архиве источник — возможно, вариант или машинописная копия письма Подвойского в ЦК РКП(б) Я. М. Свердлову (определено по тексту) — содержит описание действий инспекции, самого автора и назначенного по его рекомендации командующим Южным фронтом бывшего генерала П. П. Сытина. С приходом Сытина на эту должность работа инспекции на фронте, говорились в письме, «развернулась весьма успешно», «инспекция с делегированными ЦК партии коммунистами и Сытиным укрепила Южный фронт…», и «прочные основы для победоносного движения на Дон нами заложены». Одновременно в письме Подвойский выражал обиду в связи с указанием «товарища Троцкого на ненормальность и недопустимость моей (Подвойского. — М. М.) работы по организации оперативных органов, их упорядочению и долгое мое пребывание на Южном фронте».[146] Впрочем, против возвращения в Москву Николай Ильич не возражал. Наоборот, считал это необходимым в связи с утверждением Положения о ВВИ, а свои полномочия — исчерпанными в связи с назначением революционного военного совета Южного фронта в составе товарищей Сталина, Ворошилова, Минина и Сытина (оно состоялось 17 сентября). Читатель вправе задуматься: почему фамилии членов РВС фронта расположены в такой последовательности? Вряд ли это рецидив прошлого отрицательного отношения Подвойского к военспецам, тем более что в адрес командующего, Сытина, в письме было столько похвал. Перед нами еще один документ, но написанный Подвойским на имя председателя РВСР уже по возвращении в Москву. Сообщая о получении копии доклада командующего Южфронтом Сытина, председатель ВВИ счел себя обязанным в качестве изучившего обстановку Южного фронта высказать свое мнение. Это было очень важно, так как речь шла о серьезном конфликте в РВС Южного фронта. Суть конфликта состояла в том, что И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и С. К. Минин отказались признать данные Реввоенсоветом Республики полномочия П. П. Сытину на командование войсками фронта и заявили, что считают наиболее целесообразной коллегиальную форму управления фронтом и коллегиальное решение всех оперативных вопросов. Выводы «изучившего обстановку» и столь хвалившего Сытина ответственного лица были таковы: «1) должно отозвать от командования Сытина, 2) в отступление от принятой Реввоенсоветом Республики инструкции потребовать выставления реввоенсоветом Южфронта кандидата на должность командующего на условиях подчинения первого всем решениям коллегии, предоставив, таким образом, командование армиями Южного фронта самому Реввоенсовету в лице тт. Сталина, Минина и Ворошилова и возложив на весь Реввоенсовет всю тяжесть ответственности за операции на этом фронте».[147] Следовательно, новый член Реввоенсовета Республики Н. И. Подвойский начал свою деятельность с того, что одобрил нарушение приказа РВСР. Сталин этого не забыл. Троцкий, вероятно, тоже. 2 октября 1918 года вопрос о Южном фронте обсуждался на Бюро ЦК, а затем на заседании всего состава ЦК РКП(б). По его поручению Я. М. Свердлов в этот же день телеграфировал в Царицын принятое постановление, где, в частности, говорилось, что «все решения Реввоенсовета обязательны для военсоветов фронтов. Без подчинения нет единой армии», указывалось на возможность обжалования в высшие органы и подчеркивалось: «Никаких конфликтов не должно быть».[148] Возвратившаяся в начале октября в Москву ВВИ постепенно выросла численно и изменила порядок своей работы. Чтобы одновременно инспектировать военное строительство в различных районах страны, было создано девять комиссий. Они не ограничивались контролем, а участвовали в исправлении недостатков, в случае необходимости назначали из своего состава специалистов на вакантные должности, чтобы безотлагательно наладить работу местных органов военного управления, особенно окружных и губернских военкоматов. Правды ради заметим, что председатель РВСР Л. Д. Троцкий считал это неправильным, указывал, что штаты ВВИ «должны быть сжаты до крайней возможности», а для замещения должностей на местах ей может быть придан «некоторый подвижный резерв». По мнению Троцкого, органы полевого и местного управления были «развиты достаточно». Подвойский же являлся сторонником дальнейшего расширения аппарата. Сформированное по его приказу от 15 октября 1918 года Особое совещание подготовило проект реформы аппарата местного военного управления, проводившейся в конце 1918 года — начале 1919 года. В ходе реформы штаты уездного военкомата увеличивались с 94 сотрудников до 154, а губернского — со 168 до 254. Это требовало привлечения дополнительно до 27 тысяч подготовленных в военном отношении работников, что в условиях расширения фронтов и необходимости значительного увеличения численности армии вряд ли можно было считать целесообразным (практически эти штаты нигде и не оказались заполненными). В то же время в качестве безусловно положительной стороны деятельности ВВИ необходимо отметить, что полученные в процессе работы на местах сведения о мобресурсах, запасах оружия, боеприпасов, обмундирования, о результатах призывов и формирования частей были крайне необходимы РВСР для анализа хода военного строительства и определения дальнейших задач, а также организации помощи войсковому командованию и местным военным органам в проведении мобилизаций, сколачивании частей, снабжении их всем необходимым, подборе командных кадров. Так, комиссии № 1 и № 9, работавшие под руководством В. Г. Юдовского в ряде уездов Московского и Орловского военных округов (конец октября — начало декабря 1918 г.), собрали материал, позволивший сделать глубокий анализ добровольческого набора в РККА, сравнить качественный состав добровольцев в промышленных и земледельческих уездах по социальному положению, партийности, образованию, срокам поступления в армию. Другим конкретным примером деятельности ВВИ может служить представленный Совету Рабоче-Крестьянской Обороны (СРКО) доклад «Состояние рабочих резервных полков в Москве». В предисловии Н. И. Подвойского, датированном 7 декабря 1918 года, справедливо указывалось, что при создании массовой Красной Армии «необходимо вести дело так, чтобы, посылая на фронт революционный пролетариат и крестьян, не обессиливать местные организации, не оставлять работу незаконченной и не отрывать, без крайней надобности, рабочих от станков». В докладе отмечались серьезные недостатки в учете мобилизованных, организации их размещения, военной подготовки, политического воспитания, что послужило основанием для вывода: наличие таких недостатков «делает полки небоеспособными». Направляя в СРКО и Реввоенсовет Республики доклад о состоянии Петроградского военного округа к 15 декабря 1918 года, Н. И. Подвойский указал, что напряженная внешняя и внутренняя обстановка на северо-западе страны привела к «развитию в округе политических органов управления в ущерб техническим и породила чрезвычайную подозрительность политического надзора и революционную самостоятельность органов военного управления». Результатом явилась безудержная инициатива в отправке на фронты «разных частей и команд, зачастую наспех сколоченных, так что об организационной и планомерной работе трудно было и думать». Вместе с тем, как правильно отмечалось в докладе, с мобилизованными, особенно крестьянами, не велось регулярной политической работы по разъяснению сущности Советской власти, необходимости ее защиты; они часто были предоставлены сами себе и подвергались воздействию контрреволюционной пропаганды — даже в Петрограде. Подобные примеры деятельности ВВИ можно было бы продолжить. Дополним лишь, что в служебной книжке Н. И. Подвойского имеется такая запись 2 октября: «Дать телеграмму всем военным комиссарам, чтобы они ежемесячно представляли обзоры всех сторон жизни своей части или учреждения и своей деятельности». Это помимо многочисленных сведений, поступавших по «табелям донесений» во Всероссийское бюро военных комиссаров и Всероглавштаб. Значение получаемой информации, разумеется, трудно переоценить, но одновременно мы не можем не заметить, что сбор сведений для докладов вышестоящим органам становился главным в деятельности ВВИ. Впрочем, Подвойский не скрывал тогда, что «Высшая военная инспекция, стремясь возможно скорее дать общую картину современного состояния военного дела в Республике, вынуждена вести все свои работы в спешном порядке».[149] Поспешность, как известно, нужна была далеко не всегда. Впрочем, об этом скажем немного позже. По возвращении в Москву Н. И. Подвойский с первых чисел октября часто беседует по различным вопросам лично с В. И. Лениным. Известны по Биохронике ленинские заметки во время разговора о поездке ВВИ в Саратов и Балашов, его поручение Подвойскому регулярно информировать о Красной Армии, сообщение последнего об организации Академии Генерального штаба (до 7 октября), беседа о культпросветработе в РРКА (вторая половина октября), представление соответствующих сведений (30 октября), разговор по вопросам организации «глубокой разведки» (после 22 октября), наконец, получение Лениным двух докладов, выполненных в связи с поставленной им задачей по увеличению численности Красной Армии: «Программа работ Коммунистической партии по созданию трехмиллионной армии» и «Формирование трехмиллионной армии» (22―23 октября). Эти доклады, представляющие важные документы, нередко комментируются в исторической литературе; в конце 1918 года — начале 1919 года они были размножены типографским способом, а в сокращенном виде публиковались в периодике. «Лейтмотивом моих докладов, — говорилось в препроводительном письме к В. И. Ленину, — является необходимость самой интенсивной и всесторонней, но вместе с тем строго планомерной работы по строительству армии. Эта работа не должна упускать из виду злободневных потребностей текущего революционного момента, но, с другой стороны, должна происходить, имея в виду необходимость революционной войны на сплошном, кольцевом фронте, окружающем нашу Республику, необходимость длительной организационной подготовки мощной вооруженной силы, которая могла бы успешно действовать по внутренним операционным линиям».[150] Чтобы представить значение данных источников в строительстве Советских Вооруженных Сил, перечислим сначала разделы первого из них, предназначавшегося для ЦК РКП(б): Мобилизация республики. Интенсификация труда. Работа в деревне. Организация и воспитание армии. Агитация и пропаганда. Задачи коммунистической партии. Отметим, что все вопросы рассматривались в докладе с достаточной полнотой и более или менее подробно. В первом разделе, например, указывалось, что сможет дать для армии не только город, промышленность, но и деревня, сельское хозяйство. В разделе об интенсификации труда подчеркивалось, что благодаря ей «освободится, по меньшей мере, половина многотысячной армии служащих, которую надо двинуть в новую армию и в деревню». Массовая Красная Армия «должна быть доведена до высокой степени совершенства как в техническом смысле, так и по духу». Предусматривалось, что задания предстоит дать Реввоенсовету Республики, Наркомпроду, ВСНХ, Центральному управлению снабжения, Социалистической академии, профсоюзам. Не обошлось и без излишних преувеличений, пафоса. Рабочим, например, предлагалось «пойти на неограниченную эксплуатацию своих сил» и вместе с красноармейцами «нести свое здоровье и жизнь для мировой социалистической революции»[151] и т. п. Но это — в духе времени… Во втором из названных докладов ценным было прежде всего наличие цифровых данных, а также анализ имевшихся недостатков в создании Красной Армии, но именно эти материалы и оказались вычеркнутыми при публикации доклада в виде статьи, поэтому вкратце остановимся на них. Напомним сразу, что начальник мобилизационного управления Всероглавштаба (ВГШ) П. П. Лебедев докладывал 7 декабря 1918 года в Высшую военную инспекцию, что «численность армии до настоящего времени точно установить не удалось», и приводил лишь некоторые данные на 1 октября. Но Н. И. Подвойский уже в двадцатых числах октября писал: «В настоящее время Вооруженные Силы Советской России достигают в общей сложности 450 тыс. чел., призвано для новых формирований 300 000, будет пополнено в уже существующих частях 75 000 человек, итого в ближайшем будущем при напряженной работе, к новому году может быть создана армия почти в 1 000 000 человек, и не на бумаге, а на деле, так как все расчеты сделаны, соответствующие контингенты имеются…». Бумага стерпела и эти расчеты, хотя откуда взялось, например, число 300 тысяч, сказать трудно. А общая численность войск Республики, по данным мобуправления ВГШ, представленным в ВВИ 27 января 1919 года, к половине месяца составила лишь 788 315 человек. А ведь сведениями Подвойского пользовался Ленин! Что касается освещения трудностей в строительстве РККА, в частности анализа причин «красноармейских бунтов» в 19 волжских и центральных городах (Саратове, Самаре, Твери, Хволынске, Тамбове и др.), оно было правильным. Скажем, «употребление красноармейских частей, которые уже тогда состояли в большинстве из крестьянских элементов, против местных же крестьян, ибо Красная Армия формировалась главным образом по принципу территориальности, ускорило ее разложение как нельзя более». И все-таки при чтении этих документов, особенно связанных с конкретными расчетами, нет-нет да и мелькнет мысль о недостаточной военной подготовленности автора, о поспешности его обещаний. И еще. Уже в препроводительной к докладам, пожалуй, чрезмерно высоко поднимается роль Высшей военной инспекции и впервые ставится вопрос о желательности «подчинить ее непосредственно ЦИК или Совнаркому».[152] Иными словами, речь шла о том, чтобы выйти из подчинения Реввоенсовету Республики, стать над ним или хотя бы рядом с ним. Председатель ВВИ организовал широкую систему информации в государственном и военном аппарате. «Наладьте связь так, — писал он управляющему делами инспекции Модестову, — чтобы я знал, что делается и предполагает делаться в Совнаркоме, ВЦИК, у Склянского, в Военно-законодательном совете, штабе Реввоенсовета, Московском окружном и городском комиссариатах, Совнархозе, Наркомпросе»;[153] добавим еще постоянные доклады непосредственно Ленину, — вряд ли все это могло понравиться любому из начальников. Во второй половине ноября под руководством Н. И. Подвойского составляется и тщательно редактируется письмо в адрес председателя Совета Обороны, На одном из черновиков — пометка рукой Подвойского: «В(есьма) спешно. К А. К. Очень прошу направить так, чтобы удовлетворить т. Ленина».[154] Документ открывался словами: «За последнее время к Высшей военной инспекции обнаружилось самое непозволительное отношение со стороны председателя Реввоенсовета, его заместителя и Реввоенсовета в целом, а вслед за сим такое же отношение позволяют себе выражать и руководители некоторых центральных учреждений». В качестве подтверждения этого указывалось на такие факты, как упразднение политотдела инспекции, манипуляции с ее штатами, отказ прикомандировывать военных специалистов для инспекционных комиссий и др. Скромно выражалась готовность уступить «свое место более достойному» («если буду признан несоответствующим») и провозглашалось, что сама ВВИ «должна получить еще больший размах, еще большую широту», а именно: «ВВИ должна развернуть свою работу до Высшей инспекции Республики». О зарождении этой идеи мы уже говорили и раньше. Но сейчас она приобрела более четкие формы. Заметим сразу, что необходимость контрольного органа в масштабах республики в общем-то становилась все более очевидной. Подвойский справедливо указывал на появление «весьма большого числа инспекций и инспекторов, посылаемых на места всевозможными учреждениями», на проекты ряда наркоматов создать свои инспекции по образцу ВВИ, на целесообразность организовать вместо всех отдельных инспекций единую общереспубликанскую с соответствующими секциями. Но путь к этому автор проекта видел в… развитии аппарата ВВИ, превращении именно его в Высшую инспекцию Республики (ВИР). Причем, по опыту ВВИ Высшей инспекции Республики предстояло в случае необходимости «браться за непосредственную органическую и организационную работу», которая будет сокращаться по мере совершенствования госаппарата. Заключительная часть документа настолько примечательна, что мы позволим себе привести ее полностью: «Высшая инспекция Республики должна состоять при Совете Рабочей и Крестьянской Обороны, так как военное дело стоит сейчас в нашей Республике и во всем мире в центре революции, так как Республика — военной лагерь. Эта инспекция, и только она, переведет работу Совета из декларативной и прокламационной в разносящую по нашей Республике, а в недалеком будущем и по другим республикам мира мысли и распоряжения Совета Обороны, сначала Российского, а позднее мирового, и железной рукой заставит приводить в жизнь все решения Совета. Только при помощи Высшей инспекции Республики Совет Обороны сможет организовать тыл и воздействовать на ведение войны и строительство Красной Армии так, как повелевает сейчас международная обстановка». Подпись. Дата — 7 декабря 1918 года. Приложения: проект «Постановления ВЦИК об учреждении Верховной инспекции Республики», проект «Положения о Верховной инспекции Республики». Выделенные нами в приведенной выдержке слова показывают, как мечтал Н. И. Подвойский стать «железной рукой» Владимира Ильича «во всем мире». Но этим мечтам не суждено было сбыться. Ленин был не такого склада, чтобы обидеться, когда работу созданного всего лишь за неделю до этого Совета Обороны назвали «декларативной и прокламационной», или увлечься гигантоманией. Серьезный вопрос надо было изучить по-серьезному. 19 декабря ЦК РКП(б) обсудил вопрос об организации инспекции, подтвердил плохое состояние контроля, отсутствие объединяющего органа и создал комиссию для изучения вопроса об объединении деятельности разных контрольных организаций и Наркомата госконтроля с целью проведения в жизнь фактического контроля. В комиссию вошли: кандидат в члены ЦК партии А. А. Иоффе, председатель ВВИ Н. И. Подвойский, замнаркомвнудел А. Г. Правдин, представители ВЦИК, инспекции железных дорог и продовольствия. Отношения Ленина и Подвойского не изменились. По письму председателя ВВИ Ленину от 21 декабря на очередном заседании Совета Обороны был решен вопрос о включении представителей инспекции в состав центральных комиссий по приисканию помещений для РККА и по снабжению армии лошадьми и т. д. Но вот 2 января 1919 года В. И. Ленин и Я. М. Свердлов получают телеграмму: «Ввиду необходимости обеспечить единство военной организации члены украинского правительства ходатайствуют о назначении тов. Подвойского украинским комиссаром по военным делам. Прошу в этом смысле решения ЦК партии… Предреввоенсовета Троцкий». Ответ последовал не сразу. В середине января на Украину выехала группа ВВИ во главе с В. Г. Юдовским для оказания помощи в организации военкоматов, а 26 января он был назначен председателем ВВИ Украины. Н. И. Подвойский же продолжал в это время работать в Москве, выступал на заседании Совета Обороны 22 января по вопросу об упорядочении транспорта военных грузов, а 30 января на заседании СНК произошел примечательный обмен записками Подвойского с Лениным: Подвойский. Владимир Ильич! Я сегодня прочитал в «Правде», «всем, всем, всем…» объявляется, что некий Подвойский вместе с неким Межлауком назначены наркомвоен Украины. По нескромности предполагаю, что радио имеет в виду меня. Может быть, Вы удовлетворите мое естественное любопытство? Ленин. Видимо, Вас. Я знаю только, что Вас просили. Справьтесь у Свердлова. Подвойский. Я знаю тоже, что просили меня — и Пятаков и Раковский. Но я сказал обоим, что я член Коммунистической партии и мною распоряжается ЦК. Но мне неизвестно постановление ЦК о командировании меня на Украину. Вы полагаете, что я должен ехать на Украину? Если да, то на короткое время или для длительной работы? Может быть, Вы разрешите переговорить мне не только с т. Свердловым, но и сВами, и в положительном случае, — когда могу с Вами переговорить? Ленин. Со мной бесполезно, ибо я не знаю. Свердлов даст справку, было (решение) или еще нет.[155] Итак, вопрос оказался предрешенным, и Ленин не счел нужным тратить время на разговоры. Поздно вечером 10 февраля В. И. Ленин прочел телеграмму секретаря наркомвоена Украины Н. И. Подвойского о выезде его поезда из Москвы в Харьков, направленную в семь разных адресов. Ленинская реакция — в записке Э. М. Склянскому: «Запретить сию игру в телеграммы». Итак, Подвойский едет на Украину. Вместе с ним 11 февраля прибыло до 200 человек, предназначавшихся для аппарата Наркомвоена Республики. Такой порядок был принят в РСФСР при комплектовании вновь образовывавшихся военных комиссариатов на местах, некоторых полевых штабов. Но в национальной республике, учитывая ее сложное политическое и военное положение, это было встречено, мягко говоря, без должного понимания, а сам Подвойский — без привычного уважения, в том числе со стороны некоторых членов правительства Украины. На наш взгляд, основания для этого были (независимо от личности) — нельзя забывать о ленинском требовании «архитакта» по отношению к нерусским национальностям. В. Г. Юдовский послал тревожную телеграмму в Москву, в том числе о необходимости расширения полномочий Подвойского. Последний получил ответ от Я. М. Свердлова: «Полномочия Ваши заранее определены украинским правительством назначением Вас военком. Особых полномочий не требуется. Раковскому дана мною телеграмма о создании условий, благоприятствующих Вашей работе». В этот же день — 17 февраля — приказом № 46 наркомвоен Украины Н. И. Подвойский объявил, что, будучи «волей украинской рабоче-крестьянской Советской власти» назначенным на этот пост и ознакомившись с созданными военными учреждениями, он «вступил в исполнение своих обязанностей». На данном посту он оставался членом Реввоенсовета Республики, что облегчало координацию усилий братских народов и государств в области военного строительства. 28 февраля Н. И. Подвойский выступил на совещании с украинским командным составом. Кратко охарактеризовав обстановку, он сделал вывод, что в распоряжении военного руководства имеются «буквально недели», чтобы подготовиться к столкновению с сильным, упорным врагом. Армия — сложный цельный организм, где отдельные дефекты сказываются на общем состоянии, поэтому она должна строиться по единому плану при опоре «на рабоче-крестьянское население». Предстояло создать «армию здоровую, армию, крепко спаянную, не только технически мощную, но и духовно и политически…». Особое значение имело создание нового командного состава, стоящего на позициях трудового народа. Каждого солдата следует подготовить так, «чтобы он каждую минуту мог стать командиром». Авторитет командиров должен базироваться на их личных качествах, а не на палочной дисциплине. От командного состава требовался творческий подход к решению военных вопросов, тем паче в боевой обстановке. Командиры должны изучать военную историю, так как «история дает нам возможность толкования и применения исторических событий, чтобы быстро ориентироваться в трудные моменты и прийти к тому исходу, который диктуется историческими возможностями». Далее подчеркивалась необходимость обладать сильной волей, быть тесно связанным с массами воинов, самому уметь подчиняться вышестоящим начальникам, организовать действенное политическое и воинское воспитание личного состава, то есть все сделать для того, «чтобы наша Красная Армия была достойной социалистической армией на новых началах».[156] Все сказанное Подвойским было особенно важно для Украины, где массовая регулярная армия только начинала создаваться и вокруг вопросов военного строительства шла острая политическая борьба (местные левые эсеры выступали против регулярной армии, за возвращение к выборности командиров, войсковым комитетам и т. д.). Но вот относительно ближайших конкретных задач новый наркомвоен Украины оказался верен себе. «В пять дней, — заявил он на совещании, — мы должны обучить нашу армию и получить результаты, которых не получала ни одна армия ни при одном режиме. Пять дней — малый срок, но для революции нет препятствий… Мы должны работать изо всех сил и подготовиться к тому экзамену, который будет нам произведен. Первый экзамен будет 5 марта, а второй — там, на фронтах». Дело в том, что одним из первых деяний Н. И. Подвойского на Украине была подготовка декрета… о праздновании годовщины Красной Армии, «имеющей быть 5 марта».[157] Очевидно, «первым экзаменом», о котором он говорил, считался парад, предполагавшийся в этот день или в день открытия III Всеукраинского съезда Советов — 6 марта 1919 года. Заметим сразу, что съезд стал на точку зрения большевиков и призвал направить все усилия на создание регулярной Красной Армии, широкое развертывание в ней партийно-политической работы. В принятой Конституции УССР закреплялся принцип всеобщей воинской повинности. По военному вопросу на съезде выступал В. И. Межлаук, указавший, что доклад «должен быть сделан не мною, а моим товарищем по Народному комиссариату Подвойским», но он заболел. Было зачитано письмо Подвойского съезду. Расскажем о некоторых сторонах деятельности Н. И. Подвойского на Украине. Одной из важнейших задач наркомвоен Украины считал создание развернутого военного аппарата на местах. В этом были даже превзойдены масштабы РСФСР — скажем, в губернских военкоматах дополнительно вводились отделения службы связи и должности помощника губвоенрука (для налаживания контакта с крестьянскими массами). На территории УССР к 1 июня 1919 года действовали Харьковский окрвоенкомат (с 7 февраля), Киевский (с 10 марта) и Одесский (с 9 апреля); 10 губернских, 88 уездных, 1530 волостных военных комиссариатов. Этот огромный аппарат должен был организовать прежде всего мобилизационную работу. С ней дело обстояло сложно. Уже в ходе первых (мартовских) мобилизаций в Харьковской губернии, как отмечалось в докладе Н. И. Подвойского 23 июня в Совет Рабоче-Крестьянской Обороны УССР, «военнообязанные действительно являлись на сборные пункты в большом количестве, но там начинались импровизированные митинги, шла открытая сильная противосоветская агитация, нарастало возбуждение, принимавшее местами обостренный характер (Сумы, Валки, Богодухов, Мерефа, Змиев), и в конечном результате мобилизованные расходились по домам, оставалось же в распоряжении уездвоенкомов самое ничтожное количество». Среди принимавшихся мер назывались: продление срока призыва, мобилизация по волостям и… «усиление репрессий». Да, здесь Подвойский попытался действовать «железной рукой», но это могло помочь только «согнать» военнообязанных, но не создать крепкую армию Советов. Трудности мобилизации были связаны и с действием банд, и с неналаженностью снабжения, и с политической неподготовленностью населения. Наркомвоену Украины хорошо было известно, что к 1 июня 1919 года в Харьковском военном округе мобилизовано 44 563 человека, в Киевском — 6915 (в Одесском мобилизация не проводилась). Но это его не смущало. В прогнозах он, как и раньше, оперирует десятками и сотнями тысяч. В расчетах на ближайшее будущее он предполагает, что «придется призвать до 670 тысяч военнообязанных» (!). Среди главных задач было и сведение воедино многочисленных повстанческих отрядов, партизанских частей и сформирование регулярных дивизий. Серьезной трудностью здесь явилось непонимание необходимости борьбы с партизанщиной и создания регулярной армии со стороны не только масс, но даже некоторых руководящих работников Украины, например А. С. Бубнова и К. Е. Ворошилова. На состоявшемся во второй половине марта VIII съезде РКП(б) они входили в так называемую «военную оппозицию»; известно также, что по многим вопросам Ворошилова поддерживал Сталин. По плану формирования Вооруженных Сил Республики предполагалось сформировать одну дивизию и 1/3 часть дивизии (на базе интернациональной дивизии), бригаду кавдивизии, ряд полков, местные караульные батальоны в губерниях и караульные роты в уездах. Н. И. Подвойскому этого показалось явно мало. План формирования украинских стрелковых дивизий был увеличен в 4 раза, кавалерийских на треть; кроме того, по разрешению нового наркомвоена к 1 июня в округах создавались 8 караульных полков, 39 батальонов, 76 рот и 2 команды. В результате 13 мая последовало указание о мобилизации сверх плана 25 тысяч человек, это было сделано без учета возможностей военкоматов, наличия вооружения и снаряжения. Заметим, что в Москву по этому вопросу в апреле пошла фактически дезинформация. «Из материалов Подвойского я вижу, что военного имущества на Украине, даже не считая Одессы, имеется масса, — писал В. И. Ленин 22 апреля 1919 года, — надо не копить его, а тотчас формировать и донецких рабочих и новые части…».[158] В. А. Антонов-Овсеенко, кому адресовалась телеграмма, принял меры к усилению формирований и переформирований на Украинском фронте. Что касается боевых задач, то Ленин писал о них еще за несколько дней до этого Председателю СНК Украины X. К. Раковскому: «Прорыв через Буковину и взятие Ростова. Надо все силы посвятить этим двум задачам — подтвердите Подвойскому и Антонову».[159] Учитывая огромное значение борьбы за Донбасс, ЦК РКП(б), В. И. Ленин неоднократно давали указания украинскому правительству и командованию Украинским фронтом о всемерной помощи Южному фронту. Так, 23 апреля 1919 года вопрос об Украине рассматривался на заседании Политбюро. В первом пункте решения говорилось: «Дать украинскому ЦК и украинскому военному командованию два задания: а) занять Донецкий бассейн и б) установить непрерывную связь с Венгрией». Относительно этой связи Н. И. Подвойский впоследствии докладывал, что «для сношений с Венгрией организовано военное сообщение с Будапештом, откуда после наших двух полетов прилетел Самуэли».[160] Но ряд конкретных задач, к сожалению, не встречал должного понимания наркомвоена Украины. Он, например, направил мобилизованных в Харьковском военном округе 11 737 рабочих не на Южный фронт, а на укомплектование 4-й и 5-й Украинских стрелковых дивизий. Ленин, как известно, назвал эти действия Подвойского «идиотскими», а отказ отправить в Донбасс военные силы «игрой в самостийность». 5 мая ЦК РКП(б) объявил Антонову-Овсеенко и Подвойскому «суровый выговор… за то, что вопреки обещаниям и несмотря на многократные настояния» для освобождения Донбасса ровно ничего серьезного не сделано, и предупредил, что, если не последует напряжения всех сил, виновники будут преданы партийному суду. Было бы неверно полагать, что на все такого рода решения и указания Н. И. Подвойский не реагировал. Уже 10 мая замнаркомвоенмор Украины (так он стал именоваться с освобождением Черноморского побережья) В. И. Межлаук телеграфировал Ленину о приказе Подвойского перебросить в Донбасс дивизию. В тот же день за подписью Ленина была направлена телеграмма Наркомату по военным и морским делам Украины о постановлении Совета Обороны провести в течение двух недель мобилизацию 20 тысяч рабочих в Харькове, Екатеринославе, Киеве, Одессе, Николаеве для направления их в запасные батальоны на Южный фронт (на другой день Ленин разъяснил, что речь идет не только о рабочих, но и о крестьянах, не эксплуатирующих чужого труда). 12 мая Подвойский запросил РВСР о необходимости срочной высылки 300 миллионов рублей на нужды формирующихся дивизий, на что Ленин лично дал указания Наркомфину немедленно дать ответ. В середине месяца Ленин официально поручает Подвойскому формирование 5-й и 6-й Украинских дивизий для оказания помощи Южному фронту. В это время в Киев прибыл председатель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий. 21 мая В. И. Ленин телеграфировал ему: «По сообщению из Украины, многие безобразия там производятся деятельностью Подвойского. Рузер, Ломов и другие утверждают, что девять десятых безобразий происходит от его распоряжений, вмешательства во всякие дела, потворства захватам, незаконным конфискациям, распущенности и т. д. Если сообщения эти хоть сколько-нибудь соответствуют действительности, в чем я почти не сомневаюсь, то настаивайте со всей энергией на немедленном удалении Подвойского и его сотрудников».[161] Это было весьма своевременно, поскольку обещания, данные Подвойским и Антоновым, не выполнялись, военная обстановка на Украине усложнялась, деникинцы концентрировали силы для соединения с восставшими казаками. 28 мая ЦК РКП(б) принял постановление, в котором оценил обстановку и сделал вывод: «Каждую минуту промедления военной помощи Южфронту со стороны Украины считать преступлением, за которое несут полную ответственность Антонов и Подвойский». ЦК партии потребовал сосредоточения всех сил на помощи Донбассу, вплоть до максимального сокращения действий на западе, поголовнейшей мобилизации рабочих, срочной — в течение 24 часов — отправки эшелонов с подкреплениями на Южный фронт. Антонов и Подвойский обязывались «ежедневно давать телеграфно самые точные сведения о посылаемых ими подкреплениях и пополнениях Реввоенсовету Республики в Москву, Полевому штабу в Серпухов и реввоенсовету Южного фронта». Напомним, что происходившее на Украине, а также в Прибалтике заставляло ЦК РКП(б) вплотную заниматься проблемами перспектив советского военного строительства. Еще 4 мая 1919 года ЦК обсудил вопрос «Об едином командовании над армиями как России, так и дружественных социалистических республик» и принял директивы Центральным Комитетам Компартий Украины, Литвы и Белоруссии, Латвии, Эстонии. В директивах указывалось на недопустимость «столкновений местных и национальных притязаний с военными задачами социалистической революции в целом» и необходимость осуществления в области военного управления и командования строжайшего начала «единства организации и строгого централизма». Территория каждой советской республики должна была представлять военный округ, подчиненный РВС РСФСР на общем основании; для всех республиканских наркомвоенов, таким образом, становились обязательными постановления и приказы всех органов, непосредственно руководимых Реввоенсоветом РСФСР (ВГШ, ЦУС, Политотдела РВСР и др.). Реорганизация военного управления и командования на Украине послужила предметом рассмотрения на объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) 2 июня. Известно, что с идеей создания военного союза республик выступила 18 мая 1919 года Украина; ее поддержали другие республики. 1 июня 1919 года ВЦИК РСФСР принял постановление «Об объединении военных сил советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии». 2 июня 1919 года Комиссия ВЦИК по объединению советских республик рассмотрела проект Реввоенсовета РСФСР и предложила ему провести реорганизацию и объединение военного управления на территории всех советских республик на основе предложенного проекта, который, заметим сразу, отвечал требованиям постановления ЦК РКП(б) от 4 мая и принятых тогда директив. Какова же была реакция Н. И. Подвойского, когда Л. Д. Троцкий ознакомил его со всеми этими документами? 10 июня Подвойский послал объемистое письмо В. И. Ленину, в котором прежде всего объявил решение ЦК «чудовищно вредным для революции», вызванным неправильными сведениями. Это последнее позволяет предположить, что речь шла не об идее единства, выраженной в постановлении ВЦИК, вряд ли она вызвала возражения Подвойского, скорее всего в его представлении слились воедино положения из постановления ЦК РКП(б) от 28 мая и отдельные моменты из директив ЦК, которые касались лично его положения и низводили его роль до окрвоенкома, что было сильным ударом по самолюбию. Однако, как ни превалировала в письме обида и желание реабилитировать, даже возвеличить себя, нельзя не увидеть в письме Подвойского и ряд объективных оценок положения на Украине и имевшихся в связи с этим больших трудностей: «Вследствие жестокого продовольственного кризиса в городах, безработицы в Донбассе, Екатеринославской, Харьковской, Херсонской, Таврической губерниях, заговоров враждебных партий и кулаческо-антисемитской пропаганды вся Украина превратилась к весне в контрреволюционный лагерь (думаю, что это уже гипербола. — М. М.), в котором контрреволюция легко овладела даже фронтовыми повстанческими частями». Правильные соображения о необходимости пробуждения в трудящихся классах сознания «своего положения и необходимости защиты» переплетались в письме с задачей «утвердить в населении идею законопослушности», а на первый план выдвигалось создание «правильного аппарата» и караульных подразделений «с общим числом 30 000 штыков». Справедливо указывая на значение подготовки своих командных кадров для Красной Армии (открытие 18 командных курсов, где учились 6 тысяч человек и было выпущено уже 300 человек), Подвойский тут же пытался оправдаться в том, что не смог наладить снабжение, и особенно помощь Южному фронту. По главному же вопросу в письме, занимающем 8 страниц, всего одна фраза: «Нами проводится мобилизация рабочих». Зато наркомвоен Украины снова указывает, что «при самой напряженной работе никто не смог бы создать на Украине, да еще за два с половиной месяца, такую армию, как российская», «нашу деятельность тормозили на каждом шагу», «наш военно-административный центр стал самым мощным и организованным среди других учреждений Украины»[162] (а мы, дескать, лучше всех… — М. М.) и т. д. Да, тон его писем почти всегда одинаков. Характерно, что В. А. Антонов-Овсеенко в своем письме в ЦК РКП(б) от 18 июля 1919 г. отметил, в частности, что наркомвоен Украины не помог в переорганизации армии, а «развернул гигантский аппарат, но такого темпа работы, что плодов ее надлежало ждать разве через год». Сохранился документ, свидетельствующий, что Ленин считал целесообразным освободить Подвойского от должности наркомвоена Украины, а Троцкий санкционировал его оставление, поддавшись уговорам представителя ЦК РКП(б) в правительстве Украины А. А. Иоффе. В адрес последнего 29 мая Ленин отправил телеграмму: «Я считаю преступлением с вашей стороны, что вы уговорили Троцкого оставить Подвойского. Ни одно обещание не исполняется…»[163] И далее шли подтверждения этого и указания на дальнейшие важнейшие задачи. Но Ленин не стал настаивать на немедленном снятии Подвойского. Более того. В июне он неоднократно обращался к нему, как и к другим деятелям Украинской Республики, когда речь шла об обеспечении хлебом других фронтов, и в июле — в связи с разорением совхозов некоторыми военкоматами и воинскими частями. 8 июля 1919 года, когда происходило значительное сокращение числа членов РВСР, среди освобожденных оказался и Н. И. Подвойский.[164] Но некоторое время он еще продолжал работать на Украине. 24 июля Троцкий телеграфировал в ЦК РКП(б) свои предложения по Укрнаркомвоену. На этот раз он окончательно счел целесообразным отозвать Подвойского, «дав ему агитационное задание в какой-либо прифронтовой полосе»; по его мнению, портфель наркомвоена при этом временно мог принять X. Г. Раковский, при котором сохранялся бы небольшой секретариат по военным делам. Политбюро согласилось с отозванием Подвойского, «о чем давно решил ЦК», говорилось в ответном сообщении от 26 июля секретаря ЦК РКП(б) Е. Д. Стасовой, но заменить Подвойского должен был временно его заместитель И. Л. Дзевялтовский. «Раковского же считаем неудобным, ибо он большая политическая фигура». Надо отдать должное Троцкому, что в следующей записке, переданной по прямому проводу в Москву 29 июля, он, подтвердив свое согласие на отзыв Подвойского, тут же указал: «Отнюдь не предполагая изменить принятого решения, считаю своим долгом заявить, что нарекания на Подвойского крайне преувеличены». Эта оценка особенно важна, так как Троцкий сделал ее не на основе чьих-то слов, а при ознакомлении с делами на месте: были учтены поездки Подвойского на фронт, его многочисленные выступления перед воинами, рабочими и крестьянами. Не желая этим как-то особо выделить Троцкого, наоборот, сопоставляя его действия с Лениным, мы хотели бы подчеркнуть, насколько крупные руководители того времени считали необходимым внимательно относиться к кадрам, обстоятельно взвешивать и объективно оценивать положительное и отрицательное в их делах — ведь речь шла о судьбе каждого человека. 2 августа вопрос о Наркомате по военно-морским делам Украины снова рассматривался на объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б). Очевидно, в двух аспектах: сохранения на какое-то время наркомата и замещения должности наркома — это следует из приведенной выше переписки. Неудивительно, что Ленин решил запросить мнение по этому вопросу наркома по делам национальностей И. В. Сталина, находившегося тогда на Западном фронте в качестве члена РВС фронта. Такой вывод подтверждается тем, что поручение о запросе Ленин дал 5 августа Подвойскому — это нашло отражение в Биохронике. Но там пометка: «О чем идет речь, не установлено». В наших руках — запись переговоров по прямому проводу управделами Наркомвоенмора Украины Модестова с управделами РВС Западного фронта Малия. По поручению Подвойского Модестов просит ускорить ответ Сталина на телеграмму от 6 августа, на что Малий сообщает об отправленном ответе и повторяет его: относительно Подвойского Сталин «считает присутствие тов. Подвойского на Украине ущербом для дела и находит необходимым его пребывание (в) Москве. Относительно Украинского наркомвоена писал, что ничего не имеет против его сохранения, но только с тем, чтобы роль его была сведена к роли окружвоенкома. Для успокоения тыла находит (необходимым) принятие репрессивных жестоких мер».[165] Сколько подлинных сталинских черт отразилось в этих нескольких строчках из 1919 года! Датировать их можно точно: 6 августа. Потому что уже в этот день объединенное заседание Политбюро с Оргбюро ЦК РКП(б) с участием В. И. Ленина рассмотрело вопросы о переводе Н. И. Подвойского на работу в Главное управление военными учебными заведениями и о назначении народного комиссара по военно-морским делам Украины. На этом можно было бы и закончить документальный очерк об одном из членов Реввоенсовета Республики первого периода деятельности. В дальнейшем Н. И. Подвойский долгое время (1919―1923 гг.) был начальником Всевобуча (его Главного управления) и частей особого назначения: периодически — на фронтах: членом РВС 7-й армии (октябрь — декабрь 1919 г.), 10-й армии (февраль — март 1920 г.). За заслуги в гражданской войне награжден орденом Красного Знамени (1922 г.). В дальнейшем — на партийной и советской работе. В 1924―1930 годах избирался членом Центральной контрольной комиссии. Был и членом ВЦИК. С 1935 года — персональный пенсионер. Вся жизнь Н. И. Подвойского — пример честного служения народу. Но на его судьбе не могли не сказаться перипетии борьбы внутри партии, в ее руководящих кругах. Попытки активного участия в ней порой приводили к тому, что он оказывался далеко не в лучшей роли. Забвение того, во что превращается зерно меж двух жерновов, нередко стоило многого. Губительно действовали и преувеличенная оценка своих заслуг (особенно в условиях сталинщины, когда многие сторонники Ленина были репрессированы), и стремление «объять необъятное», приводившее к огромным планам, значительно меньшим делам и, что наиболее важно, малым результатам. Молодцыгин М. А. ─ кандидат исторических наук
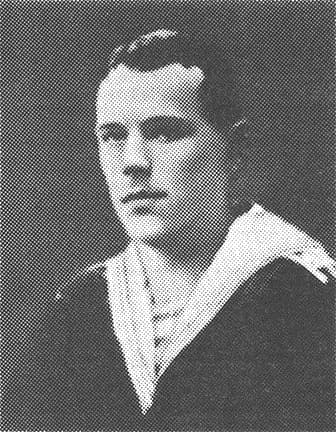
Раскольников Федор Федорович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
Когда в начале сентября 1918 года создавался Реввоенсовет Республики, в его составе самым молодым оказался 26-летний морской офицер Федор Раскольников — в недавнем прошлом мичман российского военного флота. Чин этот по нынешним меркам примерно соотносим со званием младшего лейтенанта. Опыт корабельной службы был у него явно маловат, боевой «стаж» на фронте исчислялся всего лишь полутора месяцами. И все же сочли необходимым включить его в состав коллегиального органа высшей военной власти. Назначение это ни в коей мере не было случайным. Надо учитывать, что Реввоенсовет был не просто военным, но и политическим органом управления армией и флотом. А уж если говорить о политическом опыте, об умении горячим, ярким словом повлиять на людей, повести их за собой, четко организовать дело — то всего этого Раскольникову было не занимать. Этот молодой человек еще в дни подготовки Октябрьской революции показал себя зрелым общественным деятелем, завоевавшим огромный авторитет в рабочей, солдатской, матросской среде, что позднее позволило Ленину на IV конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы сказать, что Раскольникова «прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе». Но для того чтобы лучше уяснить себе, какие именно качества позволили Федору Раскольникову в бурные месяцы семнадцатого года вырасти в крупную политическую фигуру революции, стоит остановиться на трудной поре его детства, когда начал формироваться и крепнуть волевой, собранный, мужественный характер, привлекавший к нему впоследствии многих людей.Подлинная фамилия Раскольникова Ильин. Он получил ее от матери — Антонины Васильевны Ильиной, женщины незаурядной, с нелегкой, противоречивой судьбой. Дочь генерал-майора, она связала свою жизнь в гражданском браке с протодиаконом Сергиевского всей артиллерии собора Федором Александровичем Петровым, который как священнослужитель не имел права венчаться вторично. Оба ребенка в семье — Федор и его младший брат Александр — официально считались внебрачными детьми, что создавало для них немало сложностей. Отца они лишились рано, и матери одной пришлось добывать средства для пропитания и прилагать неимоверные усилия, чтобы сыновья смогли учиться. Восьмилетнего Федора удалось устроить в приют принца Ольденбургского, где обучение шло по программе реального училища. Впоследствии в воспоминаниях он назвал это своеобразное учреждение кошмарным из-за царивших в нем нравов — здесь учеников ставили перед классом на колени, а училищный поп драл их за уши. В этих стенах в нем впервые проснулся дух протеста и неповиновения, и здесь он сделал первые шаги на пути реального сопротивления существующим порядкам — дважды участвовал в ученических забастовках, за что едва не вылетел из училища. «Политические переживания во время революции 1905 года, — писал он, — и острое сознание социальной несправедливости стихийно влекли меня к социализму. Эти настроения тем более находили во мне горячий сочувственный отклик, что материальные условия жизни нашей семьи были довольно тяжелыми». И еще один примечательный момент. Хотя его родители были глубоко религиозными людьми, Федор под влиянием прочитанных книг, к которым он пристрастился в училище, самостоятельно пришел к атеизму. Первым переломным этапом в жизни Федора Ильина — впоследствии крутых переломов в судьбе ему пришлось изведать немало — стало поступление на экономическое отделение Петербургского политехнического института, куда он был зачислен в 1909 году. И дело не в том, что он избрал для себя инженерную специальность, а в том, что здесь он вступил на тернистый путь революционной борьбы: связался с подпольной студенческой большевистской группой и начал выполнять ее поручения — обеспечивал явки, места для собраний, распространял листовки, вел агитацию среди однокашников. Одновременно с изучением дисциплин официального курса постигал марксистскую литературу — читал книги Плеханова, штудировал «Капитал» К. Маркса. Вступил в ряды Российской социал-демократической партии и с тех пор оставался верен ее идеалам, принципам, нравственным критериям до последнего своего вздоха. С той же поры он стал сотрудничать в легальной большевистской газете «Звезда», которая издавалась в Санкт-Петербурге. Впервые появившись в редакции, студент Политехнического института выразил свои стремления несколько высокопарно, заявив, что он полностью солидарен с направлением газеты и отдает себя в распоряжение редакционной коллегии. Дежурный редактор Константин Степанович Еремеев отнесся к желанию студента с пониманием и предложил начать с нескольких строк в разделе хроники. Начинающий журналист был немного обескуражен, но, познакомившись поближе с Еремеевым (в редакции его все дружно называли дядей Костей), нашел в его лице прекрасного учителя. Но и ученик оказался на редкость способным — начав с хроникерской трех-четырехстрочной информации, он постепенно перешел к заметкам и статьям. Подписывал он их псевдонимом Раскольников. Есть версия, что псевдоним этот возник будто бы из клички, которой наделили его однокашники к моменту окончания училища при приюте принца Ольденбургского за длинные волосы и широкополую шляпу, что, по их мнению, придавало ему сходство с известным героем романа Достоевского. Так это или иначе, но с периода «Звезды», а затем и «Правды» псевдоним стал вытеснять подлинную фамилию. «Правда», ставшая газетой ежедневной, потребовала от сотрудников редакции более высоких нагрузок, и одним из первых почувствовал это Раскольников — ему предложили стать ее секретарем. Появились новые обязанности — надо было принимать посетителей, отвечать на многочисленные письма и конечно же самому писать статьи. Но секретарем довелось пробыть недолго — ровно через месяц после выхода первого номера газеты его арестовали. Дело пошло по наезженной колее судопроизводства и окончилось приговором о ссылке на три года. Но в феврале 1913 года Раскольникова, ввиду трехсотлетия дома Романовых, амнистировали, и он вновь вернулся в редакцию. Все больше втягиваясь в редакционную работу, он уже не мыслил свое существование вне газеты, хотя институт был закончен и представлялась возможность идти по инженерной стезе. Для дальнейшего обогащения знаниями записался было в состав слушателей Археологического института, но на деле все больше отдавал себя газетной работе. Нет сомнения в том, что в этот период на него оказали огромное влияние работавшие в «Правде» К. С. Еремеев (Раскольников называл его «крестным отцом» в партийно-литературной деятельности), прекрасный публицист М. С. Ольминский, М. И. Ульянова, М. А. Савельев, И. И. Скворцов-Степанов и другие партийные литераторы. «Мое участие в газете, — вспоминал Раскольников, — усилилось весной 1914 года, со времени приезда из-за границы Л. Б. Каменева. К этому времени стали появляться мои большие статьи, написанные по заказу редакции и обычно пускавшиеся фельетонами в подвальном этаже газеты». Теперь Раскольников в «Правде» бывает почти ежедневно, несколько реже посещает журнал «Просвещение», где также печатаются его статьи. Казалось бы, жизненная линия вполне четко определилась и теперь, пройдя столь основательную партийную и политическую школу, можно будет полностью отдать себя литературной работе. И наверное, так оно и было бы, если бы не война… Она вновь круто переломила судьбу Раскольникова. Россия выполняла программу воссоздания сильного флота, намеченную еще в канун войны, уже в ходе военных действий. Для вступающих в строй кораблей нужны были офицерские кадры в таком количестве, которое никак не мог обеспечить привилегированный Морской корпус, куда по традиции принимались лишь представители дворянского сословия. Спешным образом были созданы Отдельные гардемаринские классы. В них зачислялись подлежащие призыву выпускники гимназий, реальных училищ, а также студенты. Раскольников имел высшее политехническое образование, но, поскольку он продолжал курс обучения в Археологическом институте, его причислили к студентам и определили в Отдельные гардемаринские классы. Учившиеся в них в отличие от Морского корпуса носили не белые, а черные погоны, за что их в морской офицерской среде называли «черными гардемаринами», не без намека на «черную кость». Однако курс обучения в классах был хотя и сокращенным по времени, но куда более глубоким, а главное, здесь отводилось больше времени учебным плаваниям, и не в тесных рамках Финского залива, а на Тихом океане. Раскольников дважды был в таких плаваниях — на крейсере «Орел» он прошел тысячи миль от Камчатки до берегов Индии, побывал в Японии и Корее. Годы обучения сделали из него военного человека, и это на длительный период определило жизненный путь Раскольникова. Но и в Отдельных гардемаринских классах он сохранил связь с революционным подпольем — в зимние месяцы, когда шли занятия в учебных аудиториях, во время увольнений и отпусков встречался с партийными работниками, выполнял задания Петербургского комитета РСДРП. К этому времени относится начало его дружбы с членом комитета недавним студентом Семеном Рошалем — человеком горячим, импульсивным, глубоко преданным делу революции. Рядом с ним Раскольников казался особенно сдержанным, спокойным, рассудительным. Впрочем, разница в характерах нисколько не мешала их дружеским отношениям, тем более что в идеалах и принципах они ни в чем не расходились. В конце декабря 1916 года охранка арестовала Рошаля вместе с несколькими другими руководителями большевистской организации, но «черный гардемарин» в этот раз не попал в поле зрения жандармов. Выпускные экзамены в гардемаринских классах совпали по времени с победой Февральской революции. Среди выпускников — полный разброд: занятия больше не проводятся, приказов от начальника никаких не поступает, об увольнениях даже спрашивать не надо. Раскольников не задумывается о том, что ему делать. «С радостным чувством покидал я затхлые казармы, чтобы присоединиться к восставшему народу», — писал он позже в книге воспоминаний. Не без труда гардемарин разыскал вышедший из подполья Петербургский комитет своей партии, первые заседания которого проходили тогда в помещении Биржи труда на Кронверкском проспекте. И сразу включился в работу. Участвовал в заседаниях, устанавливал по заданию ПК связи с воинскими частями. Уже первые встречи с солдатами показали ему, что там, в казармах, готовы слушать оратора любой партии, лишь бы он говорил о революции и свободе. И уже тогда понял, что для политического пробуждения многотысячного гарнизона потребуется длительная и нелегкая работа, а для проведения ее необходимо создать специальную военную большевистскую организацию. Позднее, когда она была создана, сначала как орган ПК, а затем и ЦК РСДРП(б), в ее деятельности активно участвовали и сам Раскольников, и его младший брат Александр Ильин-Женевский, ставший к тому времени прапорщиком. Когда с 5 марта 1917 года начала выходить возрожденная «Правда», Раскольников поспешил в редакцию, где встретил его старый наставник К. С. Еремеев, тут же рассказавший, какие материалы нужны сейчас. Снова на страницах газеты стали появляться одна за другой статьи Раскольникова. Он уже подумывал о том, чтобы переключиться целиком на работу в Центральном партийном органе. Но вскоре получил партийное поручение: ехать в Кронштадт и возглавить там большевистскую газету «Голос правды». Дело для него было знакомым, и он с удовольствием отдался ему, в короткий срок создав чрезвычайно популярное издание, пользовавшееся неизменным спросом не только в Кронштадте, но и Петрограде, Гельсингфорсе, Выборге, Ревеле и других городах. Многие материалы в газете написаны его рукой — и передовые, и фельетоны, и исторические статьи, и заметки из местной жизни. Матросы и солдаты с удовольствием читали их, пересказывали, рекомендовали другим. Казалось, судьба и в новых обстоятельствах предопределила ему быть профессионалом-газетчиком. Но случилось так, что как раз в Кронштадте появилось и быстро развилось то качество натуры, о котором, возможно, он и сам раньше не подозревал, — оказалось, что Раскольников умеет находить и налаживать самые тесные контакты с массами на митингах и собраниях, проходивших в ту пору чуть ли не ежедневно, умеет убедить солдат и матросов в правоте своих слов и повести их за собой. Словом, у него проявилось незаурядное ораторское дарование, а это имело в тех условиях огромное значение: кто только не пытался завладеть вниманием кронштадтцев, увлечь их своими лозунгами и призывами. Лучшие ораторы от различных партий приезжали сюда, пытаясь обратить кронштадтцев в свою «веру». Не получалось. Не помогали ни увещевания, ни угрозы. Кронштадт, вырвавшийся в дни Февральской революции из оков палочной дисциплины, унизительной муштры и изощренной системы наказаний, переживал период «митинговой демократии», и часто стихия выплескивалась через край, не считаясь с доводами разума. В этих условиях особенно нужны были люди, чье слово воспринималось с доверием. Любимцем кронштадтских матросов, солдат и рабочих был Семен Рошаль. Темпераментный, порывистый, в чем-то даже экзальтированный, он легко улавливал эмоции митинговой толпы, и ему не раз удавалось повернуть ее настроение. Но и Раскольникова — оратора совсем иного склада, склонного к рассудительности, — любили слушать, ценя простоту, доходчивость, правдивость его слов. Они, как бы дополняя друг друга, действовали сообща, и с каждым днем крепло их товарищество, возникшее еще в предреволюционную пору. Раскольников был не только редактором газеты и агитатором — его ввели в состав Кронштадтского комитета большевиков, а в Совете избрали товарищем (заместителем) председателя. В Кронштадте сложилась сильная группа партийных работников, присланных сюда из Петрограда. Это были люди, прошедшие тюрьмы, ссылку, каторгу, суровую школу нелегальной работы, подлинные организаторы рабочих масс. У них Раскольников многому научился. Но далеко не всегда им ни всем сообща, ни порознь удавалось сдержать стихийные революционные порывы. 16 мая случилось непредвиденное — Кронштадтский Совет по предложению фракции беспартийных вынес резолюцию о том, что должность назначенного Временным правительством комиссара упраздняется и Совет берет в свои руки всю полноту власти. Большевистская фракция (правда, в отсутствие Раскольникова и Рошаля) тоже голосовала за это предложение, вызвавшее бурное ликование кронштадтцев. Но совсем иную реакцию это постановление вызвало в правительственных кругах, у руководителей соглашательских партий. Буквально на следующий день на страницах буржуазных и эсеро-меньшевистских газет появились сенсационные сообщения об «отделении Кронштадта от России», о «воцарившейся там анархии». Ленин был чрезвычайно встревожен сложившейся ситуацией. И объяснять ему, как могла появиться подобная резолюция, пришлось руководителю большевистской фракции Кронштадтского Совета Федору Раскольникову. С Владимиром Ильичем он познакомился еще в день его приезда в Петроград, не раз слышал его выступления, но разговаривать с глазу на глаз не доводилось. Теперь при встрече постарался как можно более четко обрисовать положение, сложившееся в Кронштадте, рассказал, что и до принятия резолюции комиссар Временного правительства Пепеляев практически не играл никакой роли, а всей полнотой власти обладал местный Совет. Но Раскольников вынужден был согласиться с замечанием Ленина о том, что декларирование Советской власти в одном Кронштадте, сепаратно от всей остальной России, — утопия, явный абсурд, что большевистская фракция просто обязана была не допустить принятия подобного постановления. Временное правительство, воспользовавшись ситуацией, постарается поставить кронштадтцев на колени. А этого допускать нельзя. В заключение разговора Ленин обязал Раскольникова каждый день звонить ему по телефону из Кронштадта и докладывать важнейшие факты кронштадтской политической жизни. Ленинский наказ был выполнен — несмотря на бешеную травлю со стороны буржуазных газет, на угрозы Временного правительства и руководства Петросовета, кронштадтцы выстояли. Руководители всех фракций местного Совета дружно объясняли всем, кто их спрашивал и допрашивал, что они вовсе не ставят себе целью отделение от России. Что же касается резолюции, то отменять ее не будут. Вскоре после этого инцидента Раскольников, с согласия Ленина, возглавил делегацию кронштадтцев, которая побывала в Выборге, Гельсингфорсе, Або и Ревеле. Выступая на городских площадях, на заседаниях Советов, на кораблях и в казармах, рассказывал правду о Кронштадте, призывая к защите революционных завоеваний. Эта поездка сыграла немалую роль в большевизации Балтфлота и ближайших к Петрограду гарнизонов. Надвигались новые события, и 3 июля Раскольникову пришлось держать один из самых серьезнейших экзаменов в своей жизни. Тот день с утра не предвещал ничего необычного. Но после полудня в Кронштадт приехали представители 1-го пулеметного полка и, собрав на Якорной площади митинг, сообщили ошеломительную весть: их полк при поддержке других частей гарнизона вышел с оружием на питерские улицы и там уже льется кровь. А кронштадтцы в это время отсиживаются у себя на острове… От таких речей Якорная площадь в буквальном смысле слова вскипела. Криками одобрения встретили прозвучавшее с трибуны предложение: разбирать оружие и двигаться на пароходах в Питер. Раскольников, успевший позвонить в ЦК РСДРП(б), узнал, что пулеметчики выступили самостийно, несмотря на возражение Военной организации большевиков. Ему и его товарищам по партии, знавшим обстановку в стране, было ясно, что момент для восстания еще не настал, что ни армия, ни провинция не поддержат сейчас прозвучавших на петроградских улицах призывов к свержению Временного правительства и немедленному установлению власти Советов. В этих условиях стихийное, неорганизованное выступление неизбежно потопят в крови, и сама судьба революции будет поставлена на карту. Но наэлектризованная Якорная площадь не желала слушать никаких доводов. Даже любимого своего оратора Семена Рошаля матросы и солдаты согнали с трибуны криками: «Долой!» Впервые со времени Февральской революции кронштадтцы не захотели слушать большевиков, волна эмоций напрочь отметала доводы разума. Спас положение Федор Раскольников, которому все же удалось переломить настроение толпы. Он не стал, как предыдущий оратор, возражать против отправкикронштадтцев в Питер, а перевел разговор в другую плоскость: как лучше эту отправку осуществить. До того как принимать столь ответственное решение, говорил он, надо связаться по прямому проводу со столицей и получить подробные исчерпывающие сведения о том, что там происходит. И если выяснится, что участие кронштадтцев в питерских событиях необходимо, то следует внести в это дело строжайшую организованность, подготовить плавучие средства, произвести учет и распределение оружия. Предложения митинг принял, и многотысячная толпа разошлась по казармам и кораблям до утра. А ночью Раскольников снова связался по телефону с ЦК, сообщил, что выступление удалось лишь оттянуть, но назавтра его уже предотвратить не удастся. В Центральном Комитете знали, что на фабриках и заводах, в казармах Петрограда царит единое настроение: завтра выходить на улицы. В ту ночь было принято постановление о том, чтобы принять участие в выступлении, но превратить его в мирную, организованную вооруженную демонстрацию. Об июльской демонстрации разговор особый. А что касается Раскольникова, то именно ему 4 июля было доверено идти во главе многотысячной колонны кронштадтцев. Девять дней спустя Временное правительство бросило его в тюрьму, предъявив обвинение в организации вооруженного восстания. Но следует отметить, что этот арест еще выше поднял его популярность среди рабочих, солдат и матросов. Кронштадтский период в его жизни сыграл особую роль — здесь он стал признанным трибуном, вырос в крупного политического организатора, которому верили массы, за которым шли. И это сыграло огромную роль в последующей его судьбе. На свободу он вышел 13 октября, а всего за три дня до этого Центральный Комитет партии большевиков принял решение о вооруженном восстании. Последующие дни были насыщены до предела. Раскольникова избрали председателем бюро Советов Северной области, он активно включился в работу «военки», вошел в состав Военно-революционного комитета при Петроградском Совете, выехал по заданию ЦК в Новгород и Лугу. Случилось, однако, так, что ни в вооруженном восстании, к которому он готовил людей и готовился сам, ни в штурме Зимнего, ни в исторических заседаниях II Всероссийского съезда Советов участвовать ему не довелось — еще 20 октября сильнейшая простуда с высокой температурой уложила его в постель и о свержении Временного правительства он узнал дома, от навестившего его товарища. Несмотря на то что его шатало от слабости, он приехал в Смольный для получения нового задания. На революцию надвигалась первая серьезная угроза — наступление на Петроград войск Керенского — Краснова. Вместе с В. Володарским Раскольников поднял егерский полк против мятежников, а вскоре и сам отправился на фронт под Царское Село. А в ночь на 28 октября Ленин, приехавший в штаб Петроградского военного округа, вызвал мичмана Раскольникова, чтобы посоветоваться с ним, какие суда Балтийского флота с их артиллерией можно использовать для обороны Петрограда. Почему по такому серьезному вопросу пришлось советоваться с мичманом? Да потому, что революция всего три дня назад свершилась, аппарат управления (в том числе и военный) еще не создан, что невозможно обратиться к адмиралам или офицерам морского ведомства, которые явно враждебно относятся к провозглашенной власти Советов. А здесь — единственный, безусловно заслуживающий доверия морской офицер-большевик. Раскольников готов к вопросам Ленина, отвечает собранно, со знанием дела. И тут же получает поручение: немедля ехать в Кронштадт и срочно сформировать сильный отряд с пулеметами и артиллерией. Это было первое воинское формирование, которое ему довелось возглавить и повести в бой на Пулковских высотах, где были остановлены, а затем и отброшены красновские казаки. А два дня спустя, снова по предложению Ленина, ему поручено возглавить новый отряд моряков (на этот раз в основном из Гельсингфорса), направляемый на помощь рабочим и солдатам Москвы. Конец 1917-го и начало следующего года были периодом приобщения Раскольникова к государственной деятельности. Комиссар Морского генерального штаба, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, заместитель народного комиссара по морским делам. Время неустоявшееся, зыбкое, полное неожиданных перемен и тревожных событий. Идет слом старого государственного аппарата, а создающийся новый пока еще действует во многом ощупью. Раскольников в этот период занят преобразованием Морского генерального штаба, который пришлось очищать от контрреволюционного офицерства, активно участвует в реорганизации всего морского ведомства, ликвидирует обветшавший Адмиралтейств-совет. Разворачивается демобилизация старого флота, и одновременно идет усиленная работа по созданию флота молодой Советской Республики. 18 февраля 1918 года немецкие и австрийские войска, нарушив заключенное в Бресте перемирие, начали наступление по всему русско-германскому фронту. И почти сразу же оказался под ударом Ревель, в порту которого зимовала значительная часть Балтфлота. С помощью ледоколов боевые корабли удалось вывести сквозь льды в Гельсингфорс. Но и над главной базой флота вскоре нависла угроза — на побережье Финляндии началась высадка частей германского экспедиционного корпуса. Вместе с другими членами коллегии Народного комиссариата по морским делам Раскольников участвует в разработке операции, не имеющей прецедента: по проводу боевых кораблей через ледяные поля, протянувшиеся на сотни километров, в Кронштадт и Петроград. И она блестяще была осуществлена — удалось спасти для Советской Республики 236 боевых, вспомогательных, транспортных судов. 13 апреля, когда беспримерный Ледовый поход уже был близок к завершению, на заседании Совнаркома Раскольников доложил правительству об основных этапах осуществления этой операции. Но весною 1918 года создалась угроза захвата Черноморского флота — германо-австрийские войска приближались к его главной базе — Севастополю. По настоянию морской коллегии Высший военный совет направил шифрованную телеграмму о немедленной эвакуации кораблей в Новороссийск. На флоте начался разлад. Основная его часть все же выполнила приказ, а те корабли, что остались в Севастополе, были интернированы немцами. Наступление германских войск продолжалось и после занятия Крыма — высадившийся на Тамани десант теперь уже угрожал Новороссийску. 9 июня был получен германский ультиматум с требованием, чтобы к 19 июня флот вернулся в Севастополь для интернирования. Неподчинение ультиматуму грозило разрывом Брестского мира и наступлением немецкой армии на Советскую Россию. Ситуация казалась безысходной. И тогда из Москвы были посланы в Новороссийск две радиограммы. В той, что была передана открытым текстом, говорилось о необходимости подчиниться ультиматуму, но во второй, зашифрованной, представителю морской коллегии И. И. Вахрамееву, незадолго до того командированному на Черноморский флот, содержалось предписание: корабли затопить. Однако ни ему, ни главному комиссару флота Н. П. Авилову-Глебову не удалось обеспечить выполнение этого приказа — они встретили сильнейшее сопротивление контрреволюционного офицерства, украинских буржуазных националистов, эсеров, анархистов, агитировавших против уничтожения кораблей. Кроме того, прибывший из Екатеринодара представитель Кубано-Черноморской республики заявил на митинге: «Если флот утопит свои суда, то солдаты фронта поднимут на штыки матросов». Обстановка стала предельно угрожающей — неумолимо приближался крайний срок немецкого ультиматума, со дня на день германский десант мог двинуться от Тамани. Тогда Совнарком поручил привести в исполнение приказ об уничтожении флота находившемуся в Царицыне И. В. Сталину. Но тот в телеграмме, отправленной В. И. Ленину 15 июня, ответил, что ввиду тяжелого положения в городе он «не счел целесообразным выехать в Новороссийск, послал туда вместо себя Шляпникова, снабдив его всеми документами». Фактически Сталин уклонился от выполнения трудного и уже ставшего опасным поручения Совнаркома. Вот при таких обстоятельствах и получил Раскольников ленинское распоряжение — немедленно, экстренным поездом отправиться в Новороссийск. Вручая мандат, Ленин пожелал ему успеха. Еще в пути уполномоченный Совета Народных Комиссаров понял, какую невероятной сложности задачу ему предстоит решить. На станции Тихорецкая, близ Ростова, командующий участком фронта жестко сказал: «Если вы потопите Черноморский флот, то я не пропущу вас обратно». В Екатеринодаре он встретил А. Г. Шляпникова, который счел нужным предупредить: «Как бы вас в Новороссийске за борт не сбросили!» Уже рядом с пунктом назначения, на станции Тоннельная, встретился с уехавшими, справедливее сказать, бежавшими из Новороссийска Вахрамеевым и Авиловым-Глебовым, которые посоветовали ему возвращаться в Москву, ибо там, куда он направляется, его обязательно расстреляют. Раскольников прекрасно понял, насколько серьезны все услышанные в пути предупреждения, но поехал дальше. 18 июня 1918 года, на рассвете, Раскольников был уже в Новороссийске, где его явно никто не ждал. В порту, увидев несколько стоявших у каменной стенки миноносцев, пошел по сходням на первый из них. Это был эсминец «Керчь». Здесь-то и произошла его встреча с человеком, с которым ему суждено было пройти впоследствии сквозь многие суровые испытания гражданской войны. Командир «Керчи» Владимир Андреевич Кукель рассказал ему о том, что минувшей ночью комфлота Тихменев, ссылаясь на результаты проведенного среди команд референдума, отдал приказ о возвращении флота в Севастополь. Доводы Тихменева были весьма шаткими — при проведенном накануне опросе 450 человек высказались за потопление кораблей, 500 — за интернирование, а тысяча опрошенных, не найдя ответа, воздержалась. Под вымпелом комфлота ушли в Севастополь линкор «Воля» и семь миноносцев (один из них команда затопила по дороге). Большинство кораблей осталось в Новороссийске, но настроение людей неустойчиво. Окончательное решение во многом зависит от позиции, которую займут моряки линкора «Свободная Россия». И Раскольников отправился на линкор. Встретили его настороженно. О своем выступлении, переломившем настроение матросов, он впоследствии рассказал скупо, изложив кратко лишь суть рассуждений, и закончил рассказ словами: «Никаких возражений не было. За потопление поднялся лес рук. Команда приняла решение единогласно. Многие матросы при этом плакали». К решению моряков «Свободной России» присоединились и на миноносцах. В тот же день остававшиеся в Новороссийске корабли были затоплены. В книге «Правда о потоплении Черноморского флота в 1918 году», вышедшей пять лет спустя после этих драматических событий, В. А. Кукель счел необходимым отметить, что только приезд Раскольникова, его выступления позволили резко переломить настроение окончательно деморализованных к тому времени матросских масс. Другой участник этой операции — С. М. Лепетенко писал о том, что многие матросы-черноморцы считали: явись Раскольников в Новороссийск хотя бы на день раньше, флот удалось бы затопить весь полностью. После того как корабли с поднятым на мачтах сигналом «Погибаю, но не сдаюсь» легли на дно Цемесской бухты, Раскольников организовал отправку спасенного имущества, дивизиона быстроходных катеров. Сам с отрядом матросов пробился в Царицын. Многим из них впоследствии довелось воевать под его руководством на Волге и Каме, на Каспийском море. По возвращении в Москву он сразу же получил новое задание — Центральный Комитет партии направил его на Восточный фронт членом партийно-следственной комиссии, наделенной чрезвычайными полномочиями, а 16 июля Совнарком принял решение о назначении Раскольникова членом реввоенсовета Восточного фронта, который летом 1918 года стал главным для Советской Республики. К тому времени части мятежного чехословацкого корпуса и белогвардейские отряды захватили крупнейшие города Сибири, Урала, Поволжья. Особенно тревожно было положение на Волге — враг, заняв первоначально Сызрань и Самару, неуклонно продвигался вверх по реке, овладел Симбирском, а к началу августа вышел к Казани, обошел ее, отрезав пути отступления оставшимся в городе красноармейцам и командирам. Вместе с другим членом реввоенсовета фронта, К. X. Данишевским, Раскольников с трудом пробился из окружения. Со взятием Казани для противника открывался прямой путь на Нижний Новгород. Раскольников, прибывший в Нижний, делает все зависящее от него, чтобы наладить помощь казанскому участку фронта. К этому периоду относится направленная на его имя телеграмма Ленина, в которой председатель Совнаркома требует в первую очередь с утроенным вниманием следить за снабжением сражающихся под Казанью частей, за ускоренной посылкой резервов. Военный моряк Раскольников, анализируя положение дел на Волге, отчетливо видит, что своим быстрым продвижением вверх по реке противник в значительной мере обязан помощи созданной белогвардейцами флотилии, которую возглавил бывший царский адмирал Старк. Наспех вооруженные речные суда красных не могли сдержать ее натиска, отходили с боями, обнажая фланги сражающихся частей Красной Армии. «Сейчас для нас самое важное, — докладывает он Ленину, — создание сильной флотилии». Можно сказать, что Раскольников и явился ее создателем, а с 23 августа вступил в командование ею. В Сормове срочно вооружались артиллерией буксиры и пароходы, речные баржи становились плавучими батареями. И что очень важно, на многие суда ставились морские орудия, более дальнобойные и скорострельные, чем используемые во флотилии Старка полевые пушки. Значительно усилили боевую мощь красной флотилии переведенные с Балтики через Мариинскую водную систему миноносцы Балтфлота. Уже в период организации флотилии выявились характерные черты Раскольникова как военачальника. Прежде всего, от многих других военных руководителей его отличало особое внимание к партийно-политической работе. В сущности, в его лице слились воедино и командир и комиссар. Верными его помощниками стали балтийцы П. И. Смирнов, И. Н. Колбин, черноморец С. М. Лепетенко. А надежным его заместителем стал матрос Балтийского флота Николай Григорьевич Маркин, которого Раскольников хорошо знал еще по работе в Кронштадте. Командующий флотилией хорошо понимал, что ни в ее организации, ни в боевых действиях ему не обойтись без опытных, знающих дело специалистов из числа бывших офицеров царского флота. И он сумел создать прочный костяк таких специалистов. В конце августа флотилия приступила к активным боевым действиям, и командующий сам отправился на рекогносцировку в район Верхнего Услона. Назначение Раскольникова членом Реввоенсовета Республики совпало по времени с началом наступления войск Восточного фронта на Казань. 5 сентября корабли флотилии, обеспечивая продвижение сухопутных частей, подавили артиллерийским огнем вражеские батареи и заставили отойти белогвардейский бронепоезд. Молодой член РВСР непосредственно участвовал в этом бою, находясь на мостике миноносца «Прыткий». А вскоре начались непрерывные схватки с флотилией адмирала Старка, в которых она терпела одно поражение за другим, отступая сначала по Волге, а потом отходя вверх по Каме. Многие белогвардейские суда были потоплены или повреждены в этих боях, но и красная флотилия несла урон. Самая большая потеря произошла 1 октября. «В тот день шедший головным вооруженный пароход „Ваня-коммунист“, на котором находился Н. Г. Маркин, неподалеку от селения Пьяный Бор попал под огонь замаскированной на берегу вражеской батареи и был расстрелян прямой наводкой. Шедший вторым миноносец „Прыткий“, на мостике которого стоял Раскольников, успел выйти из-под огня. Но подбитый пароход, потеряв управление, кружил на месте, на нем начался пожар. И тогда „Прыткий“ вернулся — командующий флотилией, пойдя на смертельный риск, приказал взять гибнущее судно на буксир. Попытка не удалась — уже некому было подхватить брошенный трос. Вода вокруг „Прыткого“ кипела от снарядов. Участвовавшая в этом бою Лариса Рейснер позднее удивлялась: „Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни“». В этом бою погибло большинство моряков из команды расстрелянного белыми парохода, погиб и любимец всей флотилии Николай Маркин. Но их товарищи продолжали поход, громя вражеские суда, береговые батареи, высаживая десанты в тыл противника. К середине октября все наличные речные силы адмирала Старка вынуждены были уйти на реку Белую. По приказу Раскольникова ее устье было надежно заминировано, а флотилия двинулась вверх по Каме. 17 октября миноносцы «Прыткий», «Прочный» и «Ретивый» под командой Раскольникова, подняв на мачтах андреевские флаги вместо красных, совершили глубокий рейд во вражеский тыл и увели от деревни Гольяны «баржу смерти», на которой находились 432 человека, обреченных белыми на расстрел. После окончания кампании командующий флотилией отвел ее суда на зимовку в Нижний Новгород и 10 ноября был отозван в Москву, где активно включился в работу Реввоенсовета Республики по руководству Красным Флотом. Здесь он встретился с Василием Михайловичем Альтфатером, с которым уже работал в первые месяцы после Октября, когда Раскольников был комиссаром Морского генерального штаба, а Альтфатер — помощником начальника. В те дни он оценил опыт и знания этого человека, познававшего основы военно-морского дела еще в баталиях русско-японской войны, прошедшего школу штабной работы. Теперь бывшему мичману и бывшему контр-адмиралу предстояло совместно разработать новую структуру управления флотом. 19 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров под председательством Ленина рассмотрел вопрос о реорганизации центральных управлений морского ведомства. Проект, составленный на основе докладов Альтфатера и Раскольникова, был одобрен. Коллегия Наркомата по морским делам упразднялась, а вместо нее создавался Морской отдел Реввоенсовета Республики из двух человек — командующего всеми Морскими Силами Республики Альтфатера и политического комиссара Раскольникова. Однако управленческими делами в Москве Раскольников занимался недолго — его в срочном порядке направили на Балтийский флот для проведения операции, задуманной председателем РВСР Л. Д. Троцким, которому стало известно, что в Финском заливе в районе Ревеля появились английские военные корабли. Троцкий считал необходимым срочно нанести по ним удар. Причем он настаивал, чтобы Раскольников принял в операции непосредственное участие. Набег на Ревель готовился в спешном порядке, в конечном счете, если не считать кораблей обеспечения, в нем приняли участие лишь два эсминца — «Спартак» и «Автроил». Они вышли в Финский залив, а после полудня 27 декабря всякая радиосвязь с ними была потеряна. Оба корабля не вернулись на базу. В тот же день на заседании Реввоенсовета Республики была создана Особая комиссия для выяснения судьбы посланных кораблей. Уже тогда, что называется по горячим следам, был сделан вывод: «план был недостаточно разработан, вся операция рисуется очень рискованной». Вскоре от перешедших фронт местных жителей стало известно, что оба эсминца взяты в плен. Но как могло такое случиться — об этом приходилось только гадать. В начале февраля 1919 года в Совнарком неожиданно поступила телеграмма из Лондона от самого Раскольникова, в которой сообщалось, что он захвачен англичанами и содержится как заложник вместе с комиссаром «Автроила» Нынюком. После переговоров, проведенных Советским правительством через нейтральные страны, было достигнуто соглашение, и 27 мая на советско-финляндской границе у станции Белоостров состоялся обмен Раскольникова и Нынюка на 19 попавших в плен английских офицеров. История неудачного рейда двух эсминцев в район Ревеля достаточно полно раскрыта в опубликованных документах и воспоминаниях очевидцев. Операция осуществлялась без должной подготовки, при крайней нехватке топлива и некомплекте команд. «Спартак», не дождавшись «Автроила», в одиночку ушел к Ревелю, где был встречен пятью легкими английскими крейсерами, каждый из которых превосходил его силой огня. Отстреливаясь, эсминец стал отходить, но напоролся на подводную каменную гряду, обломал лопасти винтов и полностью потерял ход. Окруженный английскими крейсерами, корабль сдался. В историю военно-морского флота России была вписана далеко не лучшая ее страница. Впрочем, комиссия, расследовавшая обстоятельства провала операции, не предъявила никаких обвинений Раскольникову по поводу сдачи кораблей в плен. Через две недели после возвращения в Советскую Республику Раскольников назначен командующим Астрахано-Каспийской флотилией в крайне тяжелое для нее время. Весною 1919 года Волга была перерезана неприятелем в нескольких местах и, по образному выражению одного из участников событий, «превратилась прямо в слоеный пирог». Неспокойно было и в самой Астрахани, где размещалась главная база флотилии. В марте белогвардейцы подняли в городе мятеж, попытавшись захватить боевые корабли, но военные моряки подавили его. В мае войска Деникина вышли к Царицыну и на дальние подступы к Астрахани. С другой стороны на город нацелилась отдельная Уральская армия, а с Каспия угрожали корабли вражеского флота. 21 мая в Тюб-Караганском заливе суда противника внезапно напали на группу кораблей флотилии, стоявших на рейде у форта Александровский, и почти всю ее уничтожили. С этого времени начались частые бомбежки Астрахани вражескими самолетами, вылетавшими с острова Чечень, где англичане оборудовали авиабазу. Ленин был очень обеспокоен положением дел в Астраханском крае. Командированному туда чрезвычайному уполномоченному Совета Труда и Обороны А. И. Рыкову он сообщал: «На днях Раскольников и специальная комиссия выедет в Астрахань для обследования позорно-трусливого или преступного бездействия и поведения. Абсолютно все меры, чтобы не сдать Астрахань, должны быть приняты». Командующему Морскими Силами Республики Е. А. Беренсу прибывший в Астрахань Раскольников докладывал: «Принял флотилию в расстроенном состоянии… Принимаются все меры для приведения всей флотилии в состояние боевой готовности». И действительно, реорганизация наличных сил была проведена в кратчайшие сроки. По предложению Раскольникова все корабли, действовавшие на Волге и Каспии, приказом Реввоенсовета Республики были объединены в составе образованной Волжско-Каспийской военной флотилии, в которую в августе входило 122 боевых судна, разделенных на пять отрядов. Каждый из них выполнял намеченные командующим флотилией задачи. Особенно тяжелые испытания выпали на долю Верхнеастраханского отряда, оказавшегося в осаде у Черного Яра. Эта группа кораблей под командой бывшего офицера царского флота А. К. Векмана надежно прикрыла Черный Яр артиллерийским огнем, срывая день за днем атаки белогвардейских войск. Отличился в боях на сухопутном фронте и отряд моряков под командой И. К. Кожанова, который остановил в 20 верстах от Астрахани наступавшие части Уральско-Астраханского корпуса генерала Тетруева, а позже в отчаянной схватке захватил основную базу белоказаков на северном побережье Каспия — село Ганюшкино, где была взята в плен пятитысячная группировка противника со всей артиллерией, шестью гидросамолетами и большими обозами. Слаженные действия всех сил флотилии, умелое руководство Раскольникова, героизм моряков помогли 11-й армии удержать охваченную эпидемией, испытывающую резкую нехватку продовольствия, медикаментов, боеприпасов, горящую от воздушных бомбежек Астрахань. В эти трудные месяцы непрерывных сражений родилась и окрепла дружба Раскольникова с Сергеем Мироновичем Кировым, возглавлявшим оборону города. Весной 1920 года, после того как на всем своем протяжении Волга была очищена от белогвардейских войск, почти все корабли Волжско-Каспийской флотилии сосредоточились в Астрахани. Раскольников стал готовиться к выполнению новых задач — на этот раз уже целиком на морском театре действий. Но не забывает он и о своих обязанностях члена Реввоенсовета Республики, о решениях проблем по восстановлению Военно-Морских Сил страны. В РВСР рассмотрена его записка, в которой Раскольников анализирует сложившуюся ситуацию. Он справедливо полагает, что руководители белогвардейского движения, столкнувшись с перспективой ухода из всех портов на Черноморском побережье, либо потопят, либо уведут корабли за границу. В таких условиях базой для воссоздания Военно-Морских Сил страны должен стать Балтийский флот, и на восстановление его следует направить все силы и средства. По рекомендации Раскольникова командующим всеми морскими силами решено было назначить Александра Васильевича Немитца — бывшего контр-адмирала, который летом 1917 года сменил Колчака на посту командующего Черноморским флотом, а во время гражданской войны хорошо проявил себя в боях с белогвардейцами. Назначение А. В. Немитца, как показали последующие события, оказалось весьма удачным. С открытием навигации на Каспии Раскольников вывел корабли флотилии в открытое море. 2 апреля они пришли на рейд занятого с суши красными частями порта Петровск (ныне Махачкала). А два дня спустя, держа свой флаг на эсминце «Карл Либкнехт», он отправился в поход к полуострову Мангышлак. Близ форта Александровский путь ему преградили два вспомогательных крейсера противника, значительно превосходившие эсминец артиллерийским вооружением. Но комфлота без колебаний вступил в бой и обратил их в бегство. Гарнизону форта Раскольников предъявил ультиматум, который был принят — в плен сдались два генерала, 77 офицеров и свыше тысячи белоказаков. Вскоре моряки флотилии овладели Эмбинскими нефтяными промыслами, а десантники Кожанова высадились на острове Чечень. 1 мая жители освобожденного Баку с восторгом встретили входящие в бухту корабли флотилии. Первым вошел в гавань эсминец «Карл Либкнехт» под флагом командующего. Все побережье Каспия, вплоть до границы с Персией, было освобождено от белогвардейцев и интервентов, но на южном, персидском берегу все еще находились английские войска — сильный гарнизон был в Реште; около двух тысяч солдат и офицеров с артиллерией, бронеавтомобилями и авиацией располагались в Энзели, в порту которого находились уведенные русские суда, а в береговых складах лежало имущество, вывезенное из Петровска и Баку. Советское командование решило нанести удар по базе интервентов в Энзели и вызволить находящиеся там ценности. Проведение операции было поручено Раскольникову, и он безукоризненно осуществил ее 18 мая, заставив капитулировать английский гарнизон — после артиллерийского обстрела казарм и штаба, высадки десанта, отрезавшего англичанам путь к отступлению. В результате энзелийской операции Советской России были возвращены все угнанные корабли бывшего белогвардейского флота, 4 гидросамолета, более 50 орудий, 20 тысяч снарядов, радиостанции и различное военное имущество. «Вы блистательно справились с возложенной на вас боевой задачей», — говорилось в телеграмме Ленина Раскольникову. Такой высочайшей оценки вождь революции удостаивал немногих. Здесь, под Энзели, окончился боевой путь прославленной флотилии и ее командира. Окончился, как писала Лариса Рейснер, трехлетний поход, начатый под Казанью и Свияжском, растянувшийся на тысячу верст. В приказах Реввоенсовета о награждениях Раскольникова отмечены основные вехи этого славного пути. Первый орден Красного Знамени — «за отличное боевое руководство флотилией в кампании 1918 г.», «за активную оборону низовьев и дельты Волги в 1919 г.» (отдельной строкой отмечен его подвиг в спасении «баржи смерти» под Гольянами). Второй орден — за энзелийскую операцию. Флагманский корабль Раскольникова — эсминец «Карл Либкнехт» за бой с двумя вражескими кораблями у форта Александровский был первым в советском флоте награжден Почетным революционным Красным знаменем, а уже после Энзели такой же награды была удостоена вся флотилия. В июле 1920 года Раскольникова назначили командующим Балтийским флотом, и фактически уже с этого времени ему больше не довелось воевать на фронте. Но хотя Балтфлот находился в стороне от театра военных действий, в нем самом назревали процессы, которые несколько месяцев спустя привели к кризису. Приняв командование, Раскольников быстро убедился в том, что в боевом отношении флот — всего лишь тень прежних военно-морских сил Балтийского моря. Спасенные в Ледовом походе весной восемнадцатого года корабли теперь в большинстве своем были мертвы, ржавели у причалов. Но и те, на которых находились команды, не имея топлива, стояли без движения, с механизмами, изношенными вконец. Матросы жили впроголодь, свирепствовала цинга. Очевидец тех дней писал в журнале «Красный флот»: «В 1920 г. суда стояли на Кронштадтском рейде без паров. Команды, сходя на берег, кидались искать ягод и грибов, чтобы хоть как-нибудь утолить голод. Ряды косил сыпняк. И все бы это выдержал флот, если бы не перерождение кадров. Моряки новой формации были далеко не прочным элементом».[166] В этом-то и заключалась главная опасность. На замену тысяч матросов, всем сердцем преданных революции и ушедших защищать ее на фронты гражданской войны, пришли новые, оторванные от революционных традиций флота. Новобранцы поступали главным образом из деревни, поголовно охваченной к тому времени недовольством политикой «военного коммунизма». В сохранившихся сводках комиссара Кронкрепости и докладах политотдела базы за период с августа по декабрь 1920 года можно легко уловить тревожные акценты: брожение на кораблях и в частях, упадок дисциплины, дезертирство, случаи контрреволюционной агитации. Но дело не только в этом. Отвлекаясь от флотских дел, Раскольников активно включился в дискуссию о профсоюзах, которую Ленин назвал «непозволительной роскошью» для того тяжелого периода, который переживала страна. Участвовавший в ней Раскольников был сторонником платформы Троцкого. А пока шли собрания и споры, руководство Балтфлотом было ослаблено, исподволь падал авторитет и самого командующего, и политических органов. На платформе Троцкого Раскольников оставался недолго — ленинская аргументация помогла ему глубже разобраться в событиях, и вскоре он публично признал ошибочность своей позиции. Решения состоявшегося в марте 1921 года X съезда он полностью поддержал, а позже, когда возникла троцкистская оппозиция, вместе с другими ленинцами вел последовательную и бескомпромиссную борьбу с ней. Однако о его ошибке вспомнили семнадцать лет спустя, навесив на него ярлык троцкиста. И только в 1963 году было восстановлено его доброе имя. С военной службой Раскольников расстался в январе 1921 года, когда приказом Реввоенсовета Республики был освобожден от должности командующего флотом. А с весны, с назначением его полномочным представителем в Афганистан, начался новый период его жизни. Федор Федорович проявил себя как незаурядный дипломат, занимая должность полпреда страны в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. Много занимался он и литературной работой. Им написана одна из лучших книг об Октябрьской революции — «Кронштадт и Питер в 1917 году». Он опубликовал очерки-рассказы о событиях гражданской войны, ряд статей по истории революционной мысли в России, исследования по международным вопросам. Небезуспешно дебютировал Ф. Раскольников и в драматургии, написав пьесу «Робеспьер» и инсценировав роман Л. Н. Толстого «Воскресение». Последние месяцы жизни Федора Федоровича Раскольникова прошли на чужбине, после того как в апреле 1938 года, освобожденный от обязанностей полпреда, он решил не возвращаться из Болгарии в Москву, где его ждала неминуемая расправа. Умер он 12 сентября 1939 года в одной из клиник Ниццы и похоронен в этом же городе. Архипенко В. К. ─ доктор исторических наук

Розенгольц Аркадий Павлович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
Материалы о жизни и деятельности А. П. Розенгольца можно найти лишь в публикациях до трагических для ленинской гвардии 30-х годов. Нет справки о нем и в Энциклопедии гражданской войны, хотя его вклад в победу Республики Советов над белогвардейцами и интервентами был весьма значителен. Дело в том, что, привлеченный к фальсифицированному суду о так называемом антисоветском правотроцкистском блоке, он был исключен из партии и расстрелян в марте 1938 года. Судьба Аркадия Павловича Розенгольца типична для представителей поколения, возглавившего социалистическую революцию в России, хотя каждый из них прожил свою, неповторимую жизнь. Аркадий Павлович Розенгольц родился в 1889 году в городе Витебске. Уже во время учебы в Киевском коммерческом институте он познакомился с нелегальной литературой, с трудами Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина. Юноше было шестнадцать лет, когда он стал членом большевистской партии. Было это в героическом 1905 году. И с той поры он остался верен ей до своего трагического конца. К моменту Октября Розенгольц уже был сложившимся профессиональным революционером, его не могли сломить ни царские тюрьмы, ни ссылки. Розенгольц участвовал в создании Советов рабочих и солдатских депутатов, в формировании отрядов рабочей милиции и Красной гвардии. Он был членом Московского Военно-революционного комитета, одним из руководителей вооруженного восстания в Москве. В последнем слове на неправедном судилище в 1938 году, за три дня до расстрела, Розенгольц говорил: «Мои самые ранние воспоминания — это обыски жандармов. Уже в десятилетнем возрасте моя детская рука была использована для того, чтобы ночью прятать, а утром вынимать нелегальную литературу оттуда, куда не могла проникнуть рука взрослого… Я вступил в большевистскую партию, когда мне было всего 15―16 лет… В Октябрьскую революцию я привел к Моссовету первую войсковую часть — самокатный батальон». С началом гражданской войны большевистская партия по необходимости стала «воюющей партией». Многим профессиональным революционерам, дотоле не знакомым с военным делом (не всем им довелось служить в царской армии даже в годы первой мировой войны), по зову партии и собственной совести пришлось стать военными деятелями. Именно из их среды выросли выдающиеся организаторы и руководители молодой Красной Армии, ее прославленные полководцы и комиссары. В их ряду стоит и имя А. П. Розенгольца. Он не был кадровым военным, не изучал военного дела. Но огромный организаторский талант, гигантская работоспособность, политическое чутье и здравый смысл позволили ему стать одним из крупнейших советских военных деятелей, рожденных великой революцией. Не случайно ЦК партии, лично В. И. Ленин высоко ценили эти качества А. П. Розенгольца, направляя его в самые горячие места гражданской войны, где решалась судьба революции. Пожалуй, наиболее ярко описан один из периодов его жизни в рассказе Ларисы Рейснер «Свияжск». «…Самый опасный фронт Республики, висевший на железнодорожной нитке, пылал охваченный той неслыханной героической вспышкой, которой хватило еще на три года голодной, тифозной и бездомной войны. В Свияжске был не только Троцкий, сумевший дать новорожденной армии железный костяк, сам приросший к месту, решивший не трогаться, что бы там ни случилось, сумевший показать этой кучке защитников еще более глубокую, металлическую невозмутимость, — там собрались старые партийные работники, будущие члены Реввоенсовета Республики и реввоенсоветов армии, о которых историк гражданской войны будет писать как о маршалах Великой Революции. Розенгольц и Гусев, Иван Никитич Смирнов, Кобозев, Межлаук, другой Смирнов и еще много товарищей, фамилии которых забылись. Из моряков — Раскольников и покойный Маркин. Розенгольц в своем вагоне сразу, чуть ли не с первого дня оброс канцелярией Реввоенсовета, обвесился картами, затрещал машинками, бог знает откуда появившимися, — словом, стал строить крепкий, геометрически правильный организационный аппарат, с его точной связью, неутомимой работоспособностью и простотой схемы. И впоследствии, в какой бы армии, на каком бы фронте ни расклеивалась работа, — сейчас же, как пчелиную матку в мешке, привозили туда Розенгольца, сажали в разоренный улей, и сразу же он начинал неудержимо отстраиваться, выводить ячейки, жужжать телеграфными проводами. Несмотря на шинель и большущий пистолет за поясом, в самой фигуре и белом, немного мягком лице Розенгольца не было ничего воинственного. И огромная его сила лежала вовсе не в том, а в органической способности возрождать, связывать, доводить до взрывчатой скорости темп остановившегося, засоренного кровообращения». В архивах почти не сохранилось документов, связанных с жизнью и деятельностью А. П. Розенгольца, они были уничтожены после 1937 года. Та же участь постигла книги, в которых упоминалось его имя. Но в Полном собрании сочинений В. И. Ленина и его Биографической хронике фамилия Розенгольца упоминается десятки раз. Август 1918 года. Заседание Совнаркома, которое вел Ленин. Рассматривается положение на Восточном фронте. Мятежный чехословацкий корпус и присоединившиеся к нему белогвардейцы, захватив значительную часть Поволжья, Урала, Сибири, готовились к походу на Москву. Обстановка стала угрожающей. Необходимо было объединить разрозненные войсковые части Советской Республики. Для решения этой задачи СНК вводит в состав реввоенсовета Восточного фронта А. Розенгольца и И. Смирнова. Их энергичные усилия позволили в кратчайший срок поднять боеспособность красноармейских частей, создать перелом на фронте. Вскоре Ленин получает телеграмму от Розенгольца: «Войска Красной Армии заняли населенные пункты Игумново и Савино и продвигаются с боем вперед. Неприятельские флотилии отступили вниз по Волге. Казань окружена с трех сторон и будет взята, вероятно, в ближайшие дни». Через двое суток Казань действительно была взята. И спустя совсем немного времени, в сентябре 1918 года, по предложению Ленина А. Розенгольц был назначен членом только что учрежденного Революционного военного совета Республики. Он был политкомиссаром при командовании 5-й армии, членом реввоенсовета Восточного фронта, 8-й армии Южного фронта, которой командовал М. Н. Тухачевский. В марте 1919 года А. П. Розенгольц присутствует на VIII съезде РКП(б) в качестве делегата с решающим голосом, избранного от конференции РКП(б) 8-й армии. На съезд он прибыл как человек, умудренный богатым военно-организаторским и политическим опытом, получивший боевую закалку в горниле ожесточеннейших сражений. Поэтому он решительно поддерживает ленинскую военную политику на создание регулярной Красной Армии, выступает против «военной оппозиции», отвергавшей строгую дисциплину и использование военспецов царской армии. «Товарищи, работающие на фронтах, — говорил Розенгольц на заседании 21 марта, — путем целого ряда опытов убедились в необходимости привлечения военных специалистов к делу, в невозможности обойтись без них. И нужно сказать, что в течение свыше трех месяцев тому назад армия и не только армия, но и фронт представляли из себя картину полного разложения. Я говорю о Южном фронте, где наблюдалось смешение отрядной системы вплоть до отрицательного отношения к использованию военных специалистов. У нас в этой политике плюсом является то, что мы создали регулярную армию. Не надо этого забывать. И естественно, что в тех тезисах, которые были выражены Центральным Комитетом, было выражено желание разрешить вопросы, которые сыграли в нашей военной политике большую роль». Розенгольц одобрил тезисы Троцкого,[167] заявив: «…я предлагаю взять тезисы Троцкого за основу…» Судя по стенограмме съезда, именно Аркадий Павлович от имени большинства съезда зачитал и предложил принять резолюцию VIII съезда «По военному вопросу». Эта резолюция, доработанная затем согласительной комиссией съезда, определила курс партии в области военного строительства на весь период гражданской войны. Когда белогвардейская армия генерала Юденича летом 1919 года перешла в наступление на Петроград, Розенгольц был направлен членом реввоенсовета 7-й армии, оборонявшей колыбель революции. Ленин шлет Розенгольцу телеграмму: «Приняты ли все меры, чтобы удержать Питер во что бы то ни стало? Обещанные вам подкрепления подгоняем, но для их подхода нужно время. Осуществите исключительное напряжение сил». И действительно, благодаря огромному напряжению сил питерских рабочих и Красной Армии первое наступление Юденича на Петроград было отбито. Затем были Кавказский и Западный фронты, война с белополяками. «В отношении приведения частей в порядок жалею, что здесь нет Розенгольца, который… сейчас был бы полезен в 16-й армии», — говорилось в докладной записке главкома С. С. Каменева, направленной 24 августа 1920 года Э. М. Склянскому. За заслуги в строительстве Красной Армии и борьбе с интервентами и белогвардейцами А. П. Розенгольц был награжден дававшимся тогда немногим боевым орденом Красного Знамени. В приказе РВСР от 15 января 1920 года говорилось: «В первых рядах работников военного ведомства в течение последних полутора лет стоял Аркадий Павлович Розенгольц. В ряде армий, состоящих первоначально из разрозненных и недисциплинированных отрядов, т. Розенгольц путем настойчивой и систематической организационной работы, рука об руку с передовыми пролетариями-красноармейцами достигал исключительных по своему значению результатов: в армиях устанавливались необходимая организационная связь, твердый порядок, исполнительность и дисциплина. За указанное время т. Розенгольц не раз был переводим из армии в армию с целью повышения боеспособности наиболее отсталых, наименее организованных и боеспособных соединений, и всюду его работа давала чрезвычайно ценные результаты. Твердостью, выдержкой и личной неустрашимостью в самых трудных боевых условиях т. Розенгольц снискал заслуженное уважение всех работников Красной Армии. Ныне, когда т. Розенгольц постановлением правительства назначен на ответственную работу в Народном комиссариате путей сообщения и, таким образом, покидает ряды военного ведомства, Революционный военный совет Республики считаетсвоем долгом перед лицом всей страны отметить исключительные заслуги т. Розенгольца награждением его орденом Красного Знамени». Удивительно разносторонней была деятельность этого революционера. Будучи членом Президиума ВЦИК, он участвует в комиссии по разработке первой Конституции РСФСР. К первой годовщине Октябрьской революции по предложению В. И. Ленина на Советской площади в Москве был установлен обелиск Свободы. На нем — отлитая в бронзе Конституция РСФСР, о которой А. В. Луначарский сказал: «Это наш обет, цель, программа». Символично, что в 30-х годах большинство подписей авторов Конституции, в том числе Розенгольца, было срублено, а затем и сам обелиск разрушен. На его месте был сооружен чопорный памятник Юрию Долгорукому. После окончания гражданской войны партия направляет A. П. Розенгольца как крупного организатора на восстановление народного хозяйства. Первоочередного внимания требовал пришедший в полное расстройство железнодорожный транспорт. B. И. Ленин считал, что А. П. Розенгольцу следует особо поручить организацию ремонта паровозов. Несколько лет А. Розенгольц работает на транспорте и подготавливает постановление ЦК РКП(б) о реорганизации работы Наркомпути. Затем много сил отдает становлению гражданской авиации, являясь с 1923 года начальником Красного Воздушного Флота страны. Он показал себя дальновидным руководителем, определив основные проблемы, которые надо решить на этом пути: становление авиационной науки, создание авиапромышленности, охватывающей комплекс отраслей техники, подготовка летных и технических кадров и, наконец, обеспечение наземного оборудования. Розенгольц сплотил энтузиастов самолетостроения, организовал работы в государственном масштабе. Это позволило уже летом 1924 года ввести в состав Красного Воздушного Флота новую эскадрилью, названную именем Ильича. И опять новая работа — в 1925 году А. П. Розенгольца «бросают» на дипломатическую деятельность. В течение двух лет в связи с тяжелой болезнью и смертью Л. Б. Красина он является фактически полпредом СССР в Англии. После разрыва дипломатических отношений с этой страной он возвращается в Москву и в 1929 году назначается наркомом внешней торговли СССР. Многие его мысли и выступления актуальны и сегодня. Так, например: «В нашей внешней торговле во второй пятилетке мы не пойдем на расширение импорта без значительного изменения финансово-кредитных условий размещения наших заказов, без удлинения сроков кредита, без изменения самой формы кредита, без превращения их из товарных кредитов в финансовые кредиты». Не менее актуальны и его мысли о борьбе с бюрократизмом, изложенные в докладе на XI съезде КП(б) Украины в 1930 году: «В нашем аппарате имеем столько рухляди, столько пережитков старого, что порой трудно этому поверить, и, когда ЦКК приходится выбрасывать негодные элементы из нашего советского дома и производить его ломку, работники аппарата — зачастую и коммунисты — с величайшей энергией сопротивляются этому и пугают нас, что, ежели мы выкинем какие-нибудь старые, гниющие леса, советская стройка не сумеет устоять». Удивительно, насколько злободневен этот доклад почти шестидесятилетней давности: «…были ликвидированы главки, эти совершенно отжившие бюрократические и негодные формы управления. ЦК — РКИ в течение двух лет пришлось вести систематическую борьбу за расширение прав предприятий. С одной стороны, тресты не хотели давать прав предприятиям, а иногда и директора предприятий не проявляли необходимой самостоятельности, стараясь избежать ответственности». И наконец: «Реорганизация советского аппарата должна проводиться с соблюдением условий принципа ответственных исполнителей. Ныне у нас дело так ведется и организация так запутана, что иногда концы с концами не сведешь, когда нужно выяснить, кто виноват за тот или иной непорядок. Виноваты десять человек, а фактически виновника не найдешь. Был у нас случай с закупкой ванн „Грахама“ для стекольной промышленности. Оборудование стоимостью в 1 миллион рублей стоит без толку в течение нескольких лет. Когда мы стали выяснять, почему без пользы стоит оборудование, не лучше ли его продать обратно за границу, если оно нам не нужно, нам ответили: „За границу его не продашь, так как не найдешь такого дурака, который купил бы это оборудование“. Тогда мы решили найти „советского дурака“, закупившего это оборудование. Работала комиссия, детально выясняла, но виновных не могла найти: все оказались невиновными; какой-то клубок безответственности, когда за дело отвечают 30―50 человек. Необходимо аппарат перестроить и ввести систему ответственных исполнителей». Налицо обычные сбои сформировавшейся уже административно-командной системы, а один из ее активных деятелей, негодуя, не улавливает коренных причин. Надеется поправить дело «косметическим ремонтом». Такова драма целого поколения революционеров — творцов нового общественного строя. В 1934 году, выступая на XVII съезде ВКП(б), А. П. Розенгольц сообщил, что впервые СССР имеет активные сальдо торгового баланса и валютная задолженность страны уменьшается. Он полон энергии, новых мыслей и планов. Но приближалось время сталинского террора, прикрытое революционными лозунгами и патетическими фразами. К описанию этого периода американский советолог Конквист (Конквест) очень метко выбрал эпиграф из строфы М. Ю. Лермонтова: «Свободу сделал ты орудьем палача». Руку палача А. П. Розенгольц почувствовал уже в 1935 году. Его старшая дочь Елена была зверски убита приспешниками Л. П. Берии во время отдыха на Кавказе. Он пытался найти убийцу, но все было тщетно. Сыну Аркадия Павловича, вспоминается, что отец, и так не очень улыбчивый, становился в те годы все мрачнее. Он ясно понимал суть процессов, происходящих в партии и стране, видел, что «кремлевский горец» ведет планомерное уничтожение ленинских соратников, и… ждал своей очереди. Единственный из всех осужденных на процессе Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других, он не подал прошения о помиловании. 15 марта 1938 года, в 49 лет, он был расстрелян. Могила его и поныне неизвестна. В феврале 1988 года пленум Верховного суда СССР отменил позорный приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 марта 1938 года. Решением Комитета партийного контроля А. П. Розенгольц восстановлен в рядах партии с 1905 года. Аркадий Павлович Розенгольц разделил судьбу большинства творцов Октябрьской революции — старой ленинской гвардии. Подвиг и трагедия этих людей — бесценный источник уроков и для нас, и для будущих поколений. Волобуев П. В. ─ член-корреспондент АН СССР. Ратмиров-Розенгольц В. А.

Рыков Алексей Иванович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
В феврале 1988 года Верховный суд СССР рассмотрел протест Генерального прокурора СССР по делу десятерых осужденных полвека назад, в марте 1938 года, как участников так называемого правотроцкистского блока, признал их невиновными. Установлено, что процесс был построен на грубых нарушениях закона, что осужденные не совершали приписанных им преступлений против народа и государства. А процесс этот на полвека перечеркнул имена людей, авторитет которых в стране был очень высок. Среди них был и Алексей Иванович Рыков, один из ближайших соратников Ленина, которого он сменил на посту главы Советского правительства. Этот пост Рыков занимал с 1924 по 1930 год. В жизни и судьбе этого человека был недолгий, но очень важный период, когда он в разгар интервенции и гражданской войны стал уполномоченным Совета Труда и Обороны по снабжению армии и флота. Но прежде чем рассказать об этой его должности, самыми беглыми штрихами набросаем вехи жизни А. И. Рыкова. Во-первых, потому что о нем, как и о многих жертвах эпохи сталинизма, до сих пор мало известно. И во-вторых, это позволит лучше понять, на кого пал выбор для назначения в Реввоенсовет — высший орган, руководивший обороной страны в трудный час испытаний.Алексей Иванович Рыков родился в 1881 году в Саратове. Отец его, крестьянин Вятской губернии, умер от холеры, когда Алексею было всего девять лет, четырьмя годами ранее он лишился матери. Но родственники помогли мальчику окончить гимназию, где Алексей начал заниматься революционной деятельностью. Это стало причиной снижения оценки за поведение, в результате путь в столичные университеты для Алексея Рыкова был закрыт. Он поступает на юридический факультет Казанского университета, где входит в состав социал-демократического комитета. В 1901 году — первый арест, высылка в Саратов, где при разгоне демонстрации он был жестоко избит черносотенцами. В 1903 году Рыков приехал в Женеву и около двух месяцев жил на квартире у В. И. Ленина. Долгие и плодотворные беседы с вождем партии навсегда запали в сердце молодого революционера. Ленин снабдил Рыкова нелегальным паспортом, адресами и явками в России. Вскоре он возглавил Северный комитет РСДРП, работал в партийных организациях Ярославля, Рыбинска, Костромы, Кинешмы, Сормова и других городов. Большевистская организация Москвы направила его делегатом III съезда партии. На этом съезде он впервые вошел в состав ЦК РСДРП. В 1905 году Рыков становится членом Петербургского Совета рабочих депутатов. В декабре 1905 года в Москве вместе с М. Ф. Владимирским возглавил Московское областное бюро ЦК РСДРП, на IV съезде РСДРП был избран членом ЦК от большевиков. 1 мая 1907 года Рыков был арестован на заседании финансовой комиссии МК РСДРП. После длительного пребывания в Таганской тюрьме в июле 1908 года был выслан в Самару на два года. В июне 1909 года Рыков принял участие в работе совещания расширенной редакции «Пролетария», на котором поддерживал Ленина. В августе 1909 года Рыков доложил о результатах совещания Московскому окружному комитету РСДРП, принял активное участие в подготовке конференции РСДРП партийных организаций Центрального промышленного района. 7 сентября 1909 года по доносу провокатора он был вновь арестован и сослан в Пинегу, откуда бежал в декабре 1910 года. Вскоре он уехал в Париж. В августе 1911 года Рыков направлен в Россию для подготовки общепартийной конференции, но в Москве был арестован. Девять месяцев находился в Бутырской каторжной тюрьме. И снова одна ссылка следовала за другой, пребывание на воле было недолгим. Только в Архангельскую губернию его ссылали четыре раза, и каждый раз он бежал. «Не успел я сесть на студенческую скамью, как попал в каталажку. С тех пор прошло 12 лет, но из них я около 51/2 лет в этой каталажке прожил, кроме того, три раза путешествовал этапом в ссылку, которой тоже посвятил три года своей жизни. В краткие просветы „свободы“ передо мной, как в кинематографе, мелькали села, города, люди и события, и я все время куда-то устремляюсь на извозчиках, лошадях, пароходах. Не было квартиры, на которой я прожил бы более двух месяцев. Дожил я до 30 лет и не знаю, как выправлять себе паспорт. Понятия не имею, что такое снять где-то постоянную квартиру». Так писал Рыков в 1912 году. Впереди были новые аресты, новые этапы. Дважды ссылали Рыкова в Нарым, осенью 1915 года новый побег. Уже шла империалистическая война. А. И. Рыков с ее первых дней ведет переписку с Лениным и Крупской, разделяя их позиции по вопросам войны и мира. Февральская революция принесла Рыкову, как и другим политическим заключенным, долгожданную свободу. В апреле 1917 года он прибыл в Москву, активно включился в работу Московской большевистской организации, был делегатом VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), активно работал в МК РСДРП(б), был заместителем председателя Московского Совета рабочих депутатов. Как член ЦК, избранный на VI съезде РСДРП(б), он принял непосредственное участие в подготовке и проведении вооруженного восстания в Петрограде. В первом Советском правительстве, созданном II съездом Советов, А. И. Рыков занял ключевой пост наркома внутренних дел. Он был в числе тех, кто настаивал на создании коалиционного социалистического правительства. Не согласившись с аргументацией Ленина, Рыков вышел из состава ЦК и правительства вместе с рядом других большевиков. 25 февраля 1918 года постановлением СНК РСФСР Рыков был утвержден членом коллегии при Наркомате продовольствия. В конце мая 1918 года при Наркомпроде было создано управление главного комиссара и военного руководителя продовольственных отрядов во главе с Г. М. Зусмановичем. Продармейцы приравнивались к бойцам Красной Армии, выполняли большую работу по организации деревенской бедноты, вели агитационно-пропагандистскую работу, боролись со спекуляцией, доставляли хлеб в пролетарские центры страны. Продовольственные отряды сыграли важную роль в укреплении молодого Советского государства. Если с 1 ноября 1917 года до 1 августа 1918 года удалось заготовить около 30 миллионов пудов хлеба, то с августа 1918 года до августа 1919 года было заготовлено 111 миллионов пудов. 3 апреля 1918 года декретом СНК РСФСР Рыков был назначен Председателем ВСНХ. О том, как создавался аппарат ВСНХ, говорится в воспоминаниях заведующего научной частью ВСНХ М. Я. Лапирова-Скобло. «Сотрудников нет, — писал он. — Ничего не устроено, не налажено. Всюду пыль, грязь. И вот среди этого беспорядка появляется Алексей Иванович Рыков в своем потертом пиджачке. Ко всему присматривается, обо всем расспрашивает, везде распоряжается и торопит, торопит… Ну и гнали же мы. Не давал нам покоя Алексей Иванович. Надо прямо сказать: Алексей Иванович сам создал Высший совет народного хозяйства: и аппарат подбирал, и планы организации вырабатывал, и с сотрудниками знакомился. Решительно все, вплоть до мебели». С первых дней своего существования ВСНХ стал главным центром осуществления национализации промышленности, способствовал формированию централизованной системы управления. Дальнейшее развитие народного хозяйства было немыслимо без широкого использования старых специалистов. 10 июня 1918 года СНК РСФСР поручил Рыкову разработать и опубликовать «принципиальные основы нашей политики в деле привлечения инженеров» к сотрудничеству с Советской властью. При ВСНХ действовала комиссия по борьбе с саботажем и должностными преступлениями. Она, в частности, систематически проверяла своевременность прихода на работу рабочих и служащих различных предприятий, выясняла причины прогулов и опозданий. Председателю ВСНХ приходилось решать самые разнообразные вопросы. Например, он направляет 650 вагонов селитры в Петроград, грузовики, мотоциклы и бензин в Астрахань, уголь в Кронштадт, бензин в Кинешму, мазут из Саратова и Нижнего Новгорода в балтийские и каспийские порты, командирует около 1000 рабочих для пополнения судовых команд Балтийско-Мариинской системы, выводит из состояния краха спичечную промышленность. Рыков участвует в реорганизации ВЧК и Ревтрибунала, национализации и монополизации внешней торговли, присутствует на заседаниях СНК, СТО, РВС, ВЦИК и других учреждений. Он — непременный участник партийных съездов и конференций. На VIII съезд партии он был избран Калужской партийной организацией. Во время выдвижения кандидатов в состав нового ЦК один из делегатов съезда напомнил, что в трудный период для партии Рыков вышел из состава ЦК. Поэтому его не стоит избирать в новый состав ЦК. В защиту Рыкова выступил И. А. Скрыпник. Он отметил, что в ходе стремительного развития революции многие товарищи колебались и «не всегда наиболее достойным и твердым являлся именно тот, кто шел за нашими товарищами — вождями». К таким относились Каменев, Зиновьев. «И если на определенное время т. Рыков, как и некоторые товарищи, колебались и шатались, если они думали найти половинчатую позицию в нашей революции, не будем за это их судить».[168]
К зиме 1918/19 года начал ощущаться острейший недостаток в снабжении Красной Армии всем необходимым. ВСНХ предпринял ряд попыток поправить положение, но все они не дали должных результатов. Причина заключалась прежде всего в истощении народного хозяйства страны, в отсутствии должной координации между органами военного производства и распределения. 9 июля 1919 года специальным декретом ВЦИК А. И. Рыков назначен чрезвычайным уполномоченным Совета Рабоче-Крестьянской Обороны по снабжению Красной Армии и Красного Флота (Чусоснабарм). Располагался он по адресу: Покровский бульвар, 4. Одновременно Рыков был введен членом РВС Республики. Это было сделано в целях объединения дела снабжения вооруженных сил, поднятия производительности заводов, работающих на оборону, для быстроты и правильности распространения предметов снабжения как в тылу, так и на фронте. Ему подчинялись все военные органы снабжения, а также Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии (Чрезкомснаб), Центровоензаг и все военные заводы. Рыкову, как Председателю ВСНХ, были подчинены наиболее крупные военные организации: Совет военной промышленности (Промвоенсовет), Центральный отдел военных заготовок (ЦОВЗ) и Центральное управление по снабжению Красной Армии (ЦУС). Это дало возможность этим организациям расширить производство, более быстро и планомерно выполнять поступающие заказы. Такая же координация действий была налажена на местах, где действовали уполномоченные Чусоснабарма. Заказы, имевшие местное значение, выполнялись в короткий срок, без согласования с московскими организациями. Заместителем Рыкова по ЧУСО стал большевик с 1907 года Николай Болеславович Эйсмонт, бывший также членом Президиума ВСНХ. В результате принятых мер дело снабжения Вооруженных Сил молодой Советской Республики улучшилось. Поскольку опыта производства и снабжения армии в экстремальных условиях у молодой Советской России не было, Рыков внимательно изучил, как это дело было организовано в годы первой мировой войны в России и других воюющих странах. В результате он пришел к выводу, что в буржуазном обществе эта практика привела к необычайному обогащению отдельных групп предпринимателей. В России это были Земсоюз, Земгор и целый ряд других объединений промышленных предприятий. В стране не было создано единого и цельного плана снабжения армии и защиты государства. Рыков писал в ряде статей о вопиющих злоупотреблениях, когда снаряды не подходили к пушкам, замки́ не годились для артиллерии и т. д. После победы Октябрьской революции эти задачи приходилось решать в условиях полной и безусловной блокады России. Эту задачу можно было выполнить только путем наиболее целесообразного использования собственных сил. Рыков подчеркивал, что никакая Красная Армия, никакая чрезвычайная комиссия не смогут удержать революционных завоеваний, если не будет укреплена экономическая жизнь страны. Только на этой базе можно снабдить Красную Армию всем необходимым. Но далеко не все военные заводы работали с должным напряжением, далеко не везде удавалось достигнуть высокой производительности труда, а это происходило в период, когда обстановка на фронтах была исключительно напряженной. В своем первом приказе Чусоснабарм 14 июля 1919 года предупреждал, что никакой реорганизации органов снабжения не будет, лишних бумаг не писать и не присылать, а «сосредоточить все внимание на усилении работы ныне существующих органов снабжения красного фронта».[169] Бумажная волокита в основном была устранена. В этом, в частности, заключается одна из причин отсутствия достаточного количества источников о многообразной деятельности ЧУСО. Неудивительно, что в исторической литературе о работе этой организации имеются лишь отдельные упоминания. После победы социалистической революции наблюдался известный сепаратизм и наличие определенной анархии в снабжении армейских соединений. Отсутствовал единый аппарат снабжения, военное производство было распылено между предприятиями, не зависимыми друг от друга. Отдельные военные заводы продолжали оставаться в руках частных лиц. В связи с этим был создан Совет военной промышленности, возглавивший работу всех оборонных заводов. На Совет было также возложено осуществление военного производства, борьба с анархией, наиболее целесообразное использование военной промышленности в интересах армии и флота. Был разработан четкий план распределения военной продукции, всячески пресекались попытки самовольного захвата вооружения, продовольствия и т. д. отдельными воинскими соединениями. Но твердый революционный порядок в снабжении установился не сразу. Создание ЧУСО совпало с моментом, когда прежние военные запасы были израсходованы, распределение не было организовано, производство на Красную Армию было распылено между Морским комиссариатом, Военным комиссариатом, ВСНХ. Чусоснабармам на фронтах было поручено объединить в своих руках и распределение, и производство. Первым делом были высланы из Москвы представители снабженческих организаций воинских частей. Распределять могли только центральные органы. Эти методы первоначально встретили сильный отпор. Только на практике армия убеждалась в необходимости и целесообразности нового метода снабжения. В результате Красная Армия, хотя и увеличилась до 5 миллионов человек, получала достаточное количество снаряжения и продовольствия. Чусоснабарм систематизировал все реквизиции, сделал их менее болезненными. Везде, где было возможно, взамен реквизированных товаров выдавались другие. Рыков упорно и настойчиво добивался создания четкой системы централизованного снабжения армии, действующей на многочисленных фронтах. Он считал, что «снабжать армию можно, только имея отчетливое представление о производственных возможностях страны: заготовлять для армии — только при условии детального знакомства с потребностями армии и системой распределения».[170] Чусоснабарм получил исключительно большие полномочия. Ему были подчинены все военные заводы, все органы снабжения. В его распоряжение было предоставлено 2 миллиарда рублей. Положительную роль сыграл тот факт, что на все фронты были также назначены чусоснабармы, являвшиеся полномочными заместителями Рыкова. Одновременно они входили в состав РВС фронтов. Так, чусоснабармом на Восточном фронте был назначен К. Г. Максимов, на Западном — П. И. Судаков, на Украинском — Л. З. Аккерман, на Туркестанском — И. Е. Любимов и т. д. В РВС 14-й армии по согласованию с Троцким был введен Е. А. Преображенский. Чусоснабармы фронтов предпринимали активные усилия по широкому использованию местных возможностей для улучшения снабжения армейских соединений. Необходимо отметить, что в армии наблюдались многочисленные случаи самовольного захвата отдельными воинскими подразделениями различного имущества, что наносило огромный вред республике. Во все воинские подразделения Рыков разослал приказ, в котором строго предупреждал, что «виновные будут привлекаться к суду по законам военного времени». Но порядок в распределении продукции для армии налаживался с трудом. 5 июля 1919 года Рыков отметил плохую работу Центровоензага, который был формально подчинен ВСНХ, на деле же подчинялся военному ведомству. Несмотря на то что на всех фронтах ощущалась острейшая нужда в обмундировании и снаряжении, Центровоензаг имел на 1 июля 354 тысячи пар сапог, 235 тысяч исподних брюк, 110 тысяч гимнастерок, 100 тысяч нательных рубах, 100 тысяч шаровар, 65 тысяч шинелей, 800 комплектов упряжи, 715 кавалерийских седел и несколько тысяч повозок. 31 августа 1919 года РВС 10-й армии сообщал Рыкову, что снабжение армии находится в неудовлетворительном положении. Для укрепления ее боеспособности необходимо 60 тысяч шинелей, 30 тысяч ботинок, 30 тысяч рубах и т. д. 30 сентября 1919 года РВС Южного фронта обратился к Рыкову с просьбой «обеспечить непрерывность руководства всеми вопросами снабжения», закрепить за фронтом ряд военных заводов. В начале года Троцкий с большой тревогой сообщал, что на Восточном фронте солдаты буквально замерзали. В это же время на складе в Вязьме имелось более 500 тысяч комплектов теплого обмундирования. Были выявлены возмутительные случаи самоуправства руководителей отдельных воинских соединений. Так, в Полтаве одна дивизия захватила 500 тысяч комплектов белья, в Бердичеве полк разграбил запасы кожи, которых бы хватило на изготовление десятков тысяч пар обуви. В марте — апреле на Украине наблюдались солдатские бунты из-за недостатка продовольствия. В июле 1919 года рабочие важнейшего оборонного завода в Сормове получали только по 4 фунта муки. Рыков настойчиво добивается от Наркомпрода, председателя Нижегородского губсовнархоза Е. М. Альперовича выдавать рабочим по 25 фунтов муки на рабочего и 18 фунтов на каждого члена семьи в месяц. Отдел снабжения 13-й армии самовольно реквизировал в Орле 30 вагонов кожи, в Ливнах — шорное и сапожное имущество, в Курске — 125 пудов нефти. Реквизиции и конфискации сопровождались арестами и расстрелами. Эти незаконные акции приводили ко всеобщей дезорганизации, подрывали авторитет Советской власти. Обо всех этих незаконных действиях председатель Орловского губисполкома телеграфировал Рыкову. «Буду карать беспощадно», — сообщал Рыков в ответной телеграмме. По его распоряжению начальник снабжения 13-й армии был арестован, его помощнику было предписано явиться в Москву и дать соответствующие разъяснения по поводу этих возмутительных действий. Самоуправство отдельных воинских подразделений распространялось и на представителей иностранных государств. В то же время Советская власть неоднократно заявляла, что иностранцы никаким обложениям и реквизициям на военные нужды не подлежат. 9 декабря 1919 года несколько красноармейцев явились в портняжную мастерскую шведского подданного Лидваля и заявили, что весь товар конфискуется в пользу Красной Армии. 31 мая 1920 года Рыков направил телеграмму в порты Черного моря с категорическим предписанием не производить никаких реквизиций и конфискаций на иностранных торговых пароходах, указал, что виновные будут привлекаться к строжайшей ответственности. На телеграмме была также подпись Ленина. Против нарушителей воинской дисциплины принимались самые решительные меры. Рыков в специальном вагоне посетил ряд районов страны, где в воинских подразделениях наблюдались подобные безобразия. За его подписью на все фронты был разослан приказ, в котором подчеркивалось, что участившиеся случаи конфискации имущества отдельными воинскими частями наносят невосполнимый урон Советской Республике. Рыков в категорической форме предупреждал, что «виновные будут привлекаться к суду по законам военного времени». В армии было тяжелое положение с продовольствием, каждый килограмм хлеба ценился на вес золота. В то же время в середине июля 1919 года на станции Режица было обнаружено 14 вагонов хлеба, который зачерствел и пришел в негодность, ибо долгое время поезд курсировал из Невеля в Пыталово и обратно. Рыков так расценил данный факт: «Это неслыханное преступление перед Красной Армией и революцией». Чусоснабарм приказал срочно расследовать этот факт и строго наказать саботажников. Все они вскоре оказались в великолукской тюрьме. 16 августа 1919 года Рыков указал рыбинскому военкому на недопустимость незаконного присвоения казенного имущества. Он подчеркнул, что за подобные бесчинства будет немедленно предавать суду. 12 июля 1919 года Рыков сообщал Троцкому о необходимости отменить приказ начальника Тамбовского укрепрайона, подчинившего себе губвоензаг и все склады. Этот шаг Рыков расценивал как незаконный и дезорганизаторский. 1 июля 1919 года Рыков протестовал против самовольного захвата в Туле склада, который обслуживал экстренные нужды армии. Еще до назначения на пост чусоснабарма Рыков активно боролся против незаконных реквизиций. 5 ноября 1918 года он сообщал главнокомандующему И. И. Вацетису, что армейские подразделения самовольно захватили ряд пароходов, которые крайне необходимо использовать в последние дни навигации для перевозки продовольственных и нефтяных грузов. Так, в Казани были реквизированы пароходы «Повелитель», «Буря», «Гоголь», «Коммунистка», «Коммуна» и «Иван Сусанин», в Симбирске — «Аскольд». Аналогичные события произошли в Котласе, Царицыне и других портах. Но все же главным в деятельности Рыкова на посту чусоснабарма была многогранная работа по налаживанию производства для обороны и его наиболее целесообразного распределения. Препятствий к этому было неисчислимое количество. Резко уменьшилось количество рабочих, особенно квалифицированных. К весне 1918 года число работающих в крупной промышленности сократилось вдвое. Культурный и общеобразовательный уровень рабочего класса был невысок. В 1918 году среди рабочих-мужчин лишь 35―40 процентов имели начальное образование. Среди женщин-работниц более половины были неграмотны. К январю 1919 года в Петрограде осталось только 55 тысяч рабочих. В Московской губернии численность рабочих уменьшилась на 42 процента, в Иваново-Вознесенской — на 75,5 процента. Именно в этих районах рабочие были наиболее сознательными и квалифицированными. К весне 1922 года было сокращено 25,7 процента всех рабочих промышленности ВСНХ. С осени 1919 года стал осуществляться перевод на военное положение крупных предприятий. Рабочие объявлялись мобилизованными. Самовольное оставление работы считалось дезертирством и каралось по законам военного времени. Постоянные мобилизации в действующую армию рабочих играли крайне дестабилизирующую роль в налаживании производства важнейших промышленных товаров, крайне необходимых для армии. Так, завод в Петрограде по производству телеграфных аппаратов в связи с этим обстоятельством находился на грани закрытия. Количество рабочих к августу 1919 года сократилось с 350 до 110 человек. Рыков ставит вопрос перед правительством о необходимости освободить от призыва в армию и возвратить на завод мобилизованных квалифицированных рабочих, а также дать им тыловой армейский паек. 19 августа 1919 года Рыков писал Троцкому, что мобилизация квалифицированных рабочих разрушающе действует на деятельность оборонных предприятий, способствует катастрофическому падению производительности труда. Он напоминал, что необходимо точно и своевременно указывать не только количество, но и место доставки продукции оборонных предприятий. В то же время он призывал пресекать случаи спекуляции солдатами оружием и обмундированием. К концу гражданской войны в армии сложилось напряженное положение с обмундированием для красноармейцев. Особенно не хватало шинелей. 18 сентября 1920 года Рыков направил приказ руководителям всех фабрик, производящих шинели, незамедлительно перейти на 10-часовой рабочий день всем рабочим и служащим, «приложить все усилия для выполнения задания, напрячь все силы для фронта. Пусть каждый помнит, что каждая выпущенная шинель или телогрейка идет на фронт и увеличивает нашу мощь». В соответствии с приказом принимались меры по справедливой оплате труда, премирование проводилось натурой. В приказе подчеркивалось, что приняты меры по обеспечению семей рабочих, которым «предоставляется максимум того, что может дать в настоящее время Республика. Саботажники и разгильдяи понесут наказание по всей строгости революционных законов». Чтобы ускорить изготовление военного обмундирования, Рыков председательствует в Главодежде, издает по этому ведомству ряд приказов, добивается снабжения Главодежды всем необходимым оборудованием и сырьем, распространения льготных пайков на рабочих. Вместе с председателем коллегии Главного управления текстильных предприятий В. П. Ногиным Рыков многое сделал для снабжения продовольствием рабочих фабрик, производящих сукно для Красной Армии. Большое внимание Рыков уделял улучшению работы Тульского, Ижевского, Тамбовского, Симбирского, Калужского, Рязанского и других оружейных заводов. Практически он посетил все оружейные заводы. Вскоре армия стала получать необходимое количество разнообразного оружия и патронов. Но решать все эти проблемы было нелегко. Из-за недостатка сырья пришлось закрыть хорошо оборудованный орудийный завод в Царицыне и на его базе создать мастерские по ремонту орудий. Основная масса рабочих была уволена, остались только наиболее квалифицированные. 2 июня 1919 года Рыков писал Ленину о необходимости любой ценой удержать Астрахань, ибо там имелись значительные запасы тканей, металла, около 7 миллионов пудов соли. По распоряжению Ленина в Астрахань была направлена специальная комиссия для обороны города. Рыков отметил, что было налицо позорное и преступное бездействие, высоко оценил работу Кирова и Мехоношина. Он предупреждал РВС 11-й армии, что, если Волга будет перерезана белогвардейцами, положение Астрахани будет критическим. Он сообщал Ф. Ф. Раскольникову, что у неприятеля большое количество аэропланов, что боеспособность Каспийской военной флотилии незначительна, многие корабли нуждаются в ремонте. В годы гражданской войны и империалистической военной интервенции большую роль играла кавалерия. В связи с переходом значительной части казачества на сторону контрреволюции председатель РВС Троцкий выдвинул лозунг: «Пролетарий, на коня!» Лозунг получил поддержку руководящих органов Республики. Необходимо было в кратчайший срок создать красную кавалерию. При активном участии Рыкова произвели необходимое количество амуниции, были подготовлены лошади, обучены конноармейцы. Кавалерийские соединения Красной Армии внесли немалый вклад в защиту завоеваний Великого Октября. Белые армии имели грозное по тем временам оружие — английские и французские танки. Было налажено производство и первых советских танков. Находили и другой выход. Под руководством Рыкова и Троцкого было налажено бронирование тракторов «Катерпиллер». Особое значение придавалось бесперебойной работе железнодорожного, морского и речного транспорта. Многие распоряжения по этим проблемам Рыков направлял совместно с наркомом путей сообщения Л. Б. Красиным. По стране перемещалось огромное количество грузов, прежде всего предназначенных для многочисленных фронтов. Еще 1 ноября 1918 года Совнарком РСФСР назначил Рыкова членом чрезвычайной транспортной комиссии. Возглавляя ряд важнейших государственных и военных постов, Рыков проявил себя талантливым организатором, осознающим высокую ответственность за судьбу своей страны. В связи с 10-летием РККА ЦИК СССР наградил его орденом Красного Знамени. Ленин высоко оценивал деятельность Рыкова на посту чусоснабарма. Он подчеркивал, что дело снабжения армии «Рыков стал вытягивать единолично». Известно, что в 1920 году Рыков, вопреки Ленину, отстаивал необходимость коллегиального управления промышленностью. Этот вопрос обсуждался на IX съезде партии и был решен в пользу единоначалия в управлении производством. Позже Ленин писал, что «освобожденный от „маленького“ избытка коллегиальности в ВСНХ, Рыков показал себя единоличной властью как чрезвычайный комиссар снабжения». Председатель РВС Троцкий неоднократно высоко оценивал роль Рыкова на посту чусоснабарма. Так, 12 января 1920 года он говорил: «Под руководством т. Рыкова наша расстроенная промышленность дала максимум того, что она могла дать… Вся организация снабжения была сосредоточена у Рыкова».[171] Характерно, что успешная работа Рыкова по снабжению Красной Армии получала высокую оценку даже в белогвардейской печати. 16 августа 1921 года ВЦИК постановил ликвидировать чусоснабармы. Он с благодарностью отметил заслуги его работников перед революцией, особенно тех, кто работал на фронтах. С 1921 года Рыков был заместителем Ленина по СНК, с 1922 года становится членом Политбюро. Он был среди тех большевиков, кто разрабатывал и осуществлял основные направления внутренней и внешней политики страны после смерти Ленина. Предложения об усиленной перекачке средств в промышленность из сельского хозяйства он назвал «позорной теорией», которая стала бы гибельной для дела строительства социализма. По поручению ЦК Рыков открывал и закрывал XIV и XV съезды партии, председательствовал на заседаниях многих пленумов ЦК. Его авторитет в партии и в народе был исключительно велик. В сочинениях Ленина его фамилия упоминается 198 раз, в Биографической хронике В. И. Ленина — 352. Рыков был убежден, что при правильной политике мы можем и должны построить социализм в одной стране. На XV съезде партии в докладе «Директивы по составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства» им была изложена программа социалистического строительства, основанная на ленинской концепции строительства социализма. Он был убежден, что социалистическое строительство возможно только на основе новой экономической политики. Но с начала 1928 года по инициативе Сталина и его окружения стали широко применяться «чрезвычайные меры». Рыков поддержал их, так как не видел другого выхода из создавшегося положения. Эти меры он считал временными. Решительно выступая против возвращения к методам «военного коммунизма», он осудил предложения о ликвидации новой экономической политики как «необычайно вредной и опасной», призвав установить в стране «революционную законность». Но эти и другие взгляды Рыкова встретили решительное противодействие Сталина, который считал репрессии необходимым элементом социалистического строительства, призывал насильно насаждать колхозы, ликвидировать кулачество как класс. Умеренная политика Рыкова, Бухарина, Томского и других большевиков была сталинским большинством определена как «правый уклон». В декабре 1930 года Рыков был выведен из состава Политбюро, освобожден от должности Председателя СНК СССР и СТО. С 1931 года он работал наркомом связи. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году он был обвинен в антипартийной и антисоветской деятельности, а в марте 1938 года расстрелян. В условиях перестройки Рыков полностью реабилитирован, восстановлен в партии. Горелов И. Е. ─ доктор исторических наук

Серебряков Леонид Петрович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
4 декабря 1986 года был реабилитирован один из крупнейших военно-политических работников партии Леонид Петрович Серебряков. Он один из тех, кого не только физически уничтожили, но и попытались вычеркнуть из истории как «врага народа». Последние полвека (до реабилитации) о нем не упоминалось даже в энциклопедических словарях. Надо полагать, что эти же руки умело поработали и в Центральном государственном архиве Советской Армии, так как, кроме разрозненных документов, где упоминается фамилия Серебрякова или имеется его подпись, ничего не сохранилось. При изучении фонда этого архива можно встретить личное дело Серебрякова Леонида Петровича, однако не спешите радоваться. Это просто совпадение. Объемистая папка принадлежит однофамильцу и тезке — делопроизводителю одной из частей Красной Армии. А личное дело Л. П. Серебрякова разыскать до сих пор не удалось, хотя в картотеке архива оно числится. За последние два года появились некоторые отрывочные публикации и о Л. П. Серебрякове. Среди них большой интерес представляют публикации И. Лейберова, Н. Лимонова и дочери Л. П. Серебрякова Зори Леонидовны — научного работника, историка, которая прошла через самые страшные и длинные коридоры сталинских тюрем и ссылок. Но эти статьи, будем надеяться, только первый шаг к большой исследовательской работе по изучению биографии Л. П. Серебрякова. Итак, кто же он, Леонид Петрович Серебряков? Для сегодняшних читателей не известны даже самые общие сведения о его жизни. А пятьдесят с лишним лет назад его знала почти вся страна. Родился Л. П. Серебряков 11 июня 1888 года (по некоторым сведениям, в 1890 г.). С юных лет приобщился к марксизму. В 1905 году вступил в РСДРП. Дооктябрьский период революционной деятельности Л. П. Серебрякова был «богат» частыми арестами, двухлетней ссылкой, выполнением ответственных и опасных партийных заданий по налаживанию связи и подпольной работы в городах юга России, в общем, «обычная» работа профессионального революционера. Наиболее ярким штрихом в жизни Леонида Петровича в этот период было его участие в работе VI Пражской конференции. Здесь он познакомился с Лениным. В последующем они станут не только соратниками, но и друзьями. Не один час они провели вместе и за шахматной доской. После Праги снова арест и ссылка в Нарым. Осуществив удачный побег, Серебряков снова окунулся в подпольную работу. Новое задание было связано с восстановлением разгромленных жандармами партийных организаций Закавказья. Это задание непосредственно исходило от Ленина, и ЦК поручил его испытанному революционеру. Леонид Петрович успешно справился и с этим партийным поручением. Попытаемся по некоторым документам проследить дальнейшую деятельность Леонида Петровича. В Центральном государственном архиве Советской Армии (ЦГАСА) найдена записка в Центральный штаб московской Красной гвардии, адресованная тов. Пече и датированная 7 января 1918 года.[172] Автор записки — член Президиума Московского совета Л. Серебряков. А буквально через несколько дней, 25 января, он шлет уже донесение из Одессы как комиссар Румынского фронта и Одесской области. В этой телефонограмме, направленной Н. И. Подвойскому, Серебряков сообщал: «Избранный ЦИК Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Румынского фронта и Одесской области вступил во главе комиссариата командования Румфронта и Одесской области. Из ставки ни инструкций, ни распоряжений не получено, провода не работают, положение опасное со стороны Румфронта и Киева… Могу ли ждать поддержку боевыми единицами советских войск. На запрос по радио о высылке подкрепления Запфронта в Одессу ответа два дня не получили. Большая нужда ощущается в артиллеристах. Из области не получено подкрепления, надежда малая. Кругом бои…».[173] Даже эти два документа свидетельствуют о той ответственной работе, которую выполнял Л. П. Серебряков по заданию ЦК партии. Леонида Петровича Серебрякова избирали членом Оргбюро, секретарем ЦК РКП(б), членом Президиума и секретарем ВЦИК. В период гражданской войны Л. П. Серебряков являлся членом реввоенсовета Южного фронта, членомРеввоенсовета Республики. Он был одним из первых начальников Политуправления Рабоче-Крестьянской Армии. Но настолько старательно вычеркивалось из истории имя этого человека, что даже в наши дни, когда праздновалось 70-летие образования Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота (май 1989 г.), в одной из публикаций журнала, где приводился список бывших начальников этого ведомства, Л. П. Серебряков не упоминается. Между тем подлинные архивные документы, которые удалось обнаружить буквально через месяц после образования Политуправления, зафиксировали подпись начальника Политуправления РВСР Л. Серебрякова. Вот один из этих документов, датированный 19 июня 1919 года: «Телеграмма. Всем комиссарам штабов армии и фронтов. Предлагается строго разграничить политсводки от оперативных, помещая в последних лишь сведения оперативного, отнюдь не политического характера. Начальник Политуправления РВСР Л. Серебряков. Начальник политотдела Катанян».[174] Второй документ — это Положение о политической секции Военного Воздушного Флота при Политическом управлении Революционного военного совета Республики, которое было представлено начальнику ПУРа для утверждения. Изучив внимательно это положение, Л. П. Серебряков, вероятно, пришел к выводу, что нет необходимости раздувать штаты, то есть увеличивать управленческий аппарат, и наложил резолюцию: «Положение не утверждается. Вместо секции утвердить при ПУРе РВСР должность политического инспектора воздушного флота». Подпись на документе — Л. Серебряков. Дата — 24 июня 1919 года. Нам не удалось пока обнаружить приказы о назначении Л. П. Серебрякова начальником Политуправления РВСР в 1919 году (если они вообще сохранились). С какого и по какой месяц он был на этой должности? Мы полагаем, что на этом посту Серебряков был с июня по декабрь 1919 года, так как имеется документ, подписанный им 23 декабря 1919 года уже в качестве члена РВС Южного фронта. Однако совсем недавно в фонде секретариата РВСР мы увидели учетную карточку члена коллегии наркоматов РСФСР (в разделе РВСР), заполненную собственноручно Л. П. Серебряковым, где указаны: должность — начальник Политуправления, служебный адрес — Сретенский бульвар, д. 6, домашний адрес — II дом Советов, кв. 2, с указанием телефонов. И что самое главное, дата заполнения анкеты — 11 февраля 1920 года. К этому времени Леонид Петрович Серебряков уже был и секретарем ЦК РКП (б). Следует учесть, что в годы гражданской войны практиковалось совмещение нескольких должностей. Более точно установлены факты и даты вторичного назначения Л. П. Серебрякова начальником Политуправления РВСР. Так, 5 января 1922 года вышло постановление СНК: «Член РВСР т. Гусев Сергей Иванович освобождается от занимаемой должности ввиду назначения его на другую должность. Тов. Серебряков Леонид Петрович назначается членом Реввоенсовета Республики». А 9 января 1922 года был издан приказ начальника Политуправления РВСР № 5: «Сего числа должность начальника Политуправления РВСР сдал тов. Серебрякову Л. П.» Подпись — С. Гусев. Ниже: «Должность принял Л. Серебряков».[175] 2 октября 1922 года Л. П. Серебрякова на этом посту сменил В. А. Антонов-Овсеенко. Таким образом, почти весь 1922 год Леонид Петрович был начальником Политуправления и руководил всей партийно-политической работой в Красной Армии. Вместе с тем есть много статей и книг, анализирующих состояние партийно-политической работы в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции, в которых ни слова не говорится о первых организаторах этой работы. Вне сомнений, в объективной истории гражданской войны должное место займет имя видного деятеля партии и государства, одного из славной когорты комиссаров — Л. П. Серебрякова — человека, преданного своему делу и требовательного к себе и своим подчиненным. О последнем свидетельствует ответ Л. П. Серебрякова на телефонограмму председателя РВСР Л. Д. Троцкого. Начальник Политуправления разъясняет причину наказания политработника. «Баландин был отозван из РВС 9-й армии, потому что, по общему отзыву, был не на высоте своего положения. Обыск произведен Особым отделом ввиду сокрытия Баландиным военного имущества, частых пирушек. Кроме того, в РВС Южфронта поступила жалоба на деятельность Баландина в бытность его в Пензе (переданное в ревтрибунал фронта). 14 августа 1919 г. Л. Серебряков».[176] В Полном собрании сочинений В. И. Ленина имя Серебрякова упоминается 14 раз. Еще больше — в Биографической хронике. И каждое упоминание — в связи с решением проблем государственной важности, имеющих непосредственное отношение к судьбе молодого социалистического государства. Так, в 1919 году резко осложнилась ситуация на Южном фронте. Командование и штаб фронта разработали план разгрома белогвардейских армий. Однако в нем не были учтены рекомендации Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики С. С. Каменева, присланные в штаб фронта позднее. Они предусматривали овладение 14-й армией Харьковом и Екатеринославом. Командующий Южным фронтом В. Н. Егорьев выразил сомнение в способности войск перейти в контрнаступление. Председатель же Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий решил поначалу, что в данном случае имеет место отказ командующего и реввоенсовета фронта выполнить приказ главкома, и в телеграмме своему заместителю Э. М. Склянскому сообщил, что командование фронта сомневается в успехе операции и считает план С. С. Каменева неправильным. После обсуждения этого вопроса Политбюро ЦК пришло к выводу о необходимости немедленного претворения в жизнь плана С. С. Каменева и укрепления для этого командования Южного фронта. В результате состоялось назначение Л. П. Серебрякова, И. Т. Смилги и М. М. Лашевича членами реввоенсовета Южного фронта. Анализируя последующие события, приходишь к выводу, что Л. П. Серебряков во всех своих действиях стремился сохранять самостоятельность, не поступаясь своими убеждениями. Так, после детального изучения положения дел он вместе с Л. Д. Троцким и М. М. Лашевичем направляет в ЦК РКП(б) телеграмму, где высказывает свое сомнение по поводу реализации основного стратегического плана, разработанного главкомом. Политбюро, вновь рассмотрев этот вопрос, отклоняет план главкома. Особое мнение относительно принятия тех или иных решений Л. П. Серебряков неоднократно высказывал и позже. Например, в ноябре 1919 года, когда у Реввоенсовета Южного фронта, в который входил и Л. П. Серебряков, возникли разногласия с Реввоенсоветом Юго-Восточного фронта, в частности с его членом И. Т. Смилгой, относительно приоритетных направлений наступления советских войск. И. Т. Смилга считал, что главной ударной силой должен оставаться Юго-Западный фронт. РВС Южного фронта исходил из того, что основной удар следует наносить войсками Южного фронта в направлении Курск, Харьков, Донбасс. Л. П. Серебряков совместно с членом РВС фронта И. В. Сталиным обратился непосредственно в ЦК РКП(б) для принятия решения. Центральный Комитет партии признал аргументы РВС Южного фронта весомыми, подтвердил, что главные усилия должны быть сконцентрированы на этом фронте. Было принято решение о сосредоточении здесь основной части резервов и пополнений. Сохранился еще один документ — телеграмма председателю РВСР Троцкому, подписанная командующим Южным фронтом Егорьевым и членами РВС Сталиным и Серебряковым, по вопросу о переговорах с представителями объединенного командования галицийских и петлюровских войск (январь 1920 г.). Этот документ также свидетельствует о решимости реввоенсовета фронта отстаивать свои позиции. «РВС Южфронта, — отмечалось в телеграмме из Курска, — постановил, не входя в рассмотрение политической стороны вопроса, считать возможным перемирие лишь при соблюдении следующих условий: 1) Полного подчинения армии Украинской Народной Республики нашему командованию во всех областях управления, организации и снабжения. 2) Использования названной армии для боевых действий по стратегическим соображениям исключительно против поляков. 3) Время постановки боевой задачи названной выше армии, а следовательно, и момент выступления их определяется нашим командованием». Телеграмма, наряду с другими, подписана двумя членами РВС фронта — Сталиным и Серебряковым. Возникает вопрос: как они относились друг к другу? Есть ли воспоминания Леонида Петровича о том времени? Дочь Леонида Петровича — Зоря Леонидовна, вспоминая детские годы, приводит любопытный факт: имя Сталина было весьма непопулярно в семье Серебряковых, отец его просто не упоминал в кругу семьи. В чем же тут дело?! Трудно сказать. Однако не исключено, что истоки такого отношения — в совместной деятельности на комиссарском поприще. Судьба распорядилась таким образом, что Серебрякову и Сталину не раз приходилось действовать совместно. На том же Южном фронте, как было отмечено выше, и тот и другой были членами Реввоенсовета. У Серебрякова было достаточно возможностей для того, чтобы сформировать мнение о Сталине. Возьмем те же разногласия со Смилгой. Сталин не ограничивается совместно написанной с Серебряковым телеграммой. Он шлет 14 ноября 1919 года еще одну телеграмму и уже в ультимативной форме предъявляет Центральному Комитету свое требование об отмене прежнего плана борьбы с деникинцами и немедленной отправке на Южный фронт 80 тысяч человек пополнения. В итоге Политбюро ЦК РКП(б) принимает специальное решение по этому вопросу и сообщает Сталину, что считает недопустимым подкрепление деловых требований ультиматумами. В данном случае позиции Сталина и Серебрякова совпадали и в принципе и, что касается существа дела, были вполне обоснованными. Но методы, с помощью которых Сталин добивался реализации своих планов, отличались от методов Л. П. Серебрякова. Не исключено, что на отношение Сталина к Серебрякову сказались и более ранние годы — период революционной борьбы на Кавказе. Летом и осенью 1913 года Л. П. Серебряков с паспортом на имя мещанина Нельгунова Александра Павловича, механика-наладчика нефтяного оборудования акционерного общества Людвига Нобеля в Петербурге, выступал с докладами о Пражской конференции, подготовил и провел в Баку стачку нефтяников, а главное — помог большевикам Закавказья установить связь с Лениным и ЦК РСДРП. Следует отметить, что среди своих соратников Сталин Серебрякова не числил. Ведь Серебряков прибыл в Закавказье в качестве полноправного представителя ЦК РСДРП, его направлению в Закавказье предшествовало письмо Ленина из Парижа членам Русского Бюро ЦК С. Орджоникидзе, С. Спандаряну и Е. Стасовой, в котором Владимир Ильич высказывал огорчение тем, что отсутствует информация из Тифлиса и Баку. Не усмотрел ли Сталин в этом некоторое ущемление своего авторитета? Как бы там ни было, но факт остается фактом: взаимоотношения Сталина и Серебрякова вряд ли можно считать нормальными взаимоотношениями соратников по общей борьбе. Трагедия или «вина» Леонида Петровича заключалась, вероятно, именно в том, что он слишком много знал о Сталине. И. В. Сталин стремился всеми силами перетянуть Л. П. Серебрякова в свой лагерь. Он неоднократно предлагал Леониду Петровичу высокие посты. Будучи публично осужденным (за связь с «врагами народа») оппозиционером, он тем не менее назначается начальником Цудортранса при Совете Народных Комиссаров. Фактически он стал первым наркомом автодорожного транспорта. О принципиальности Леонида Петровича свидетельствует тот факт, что в эпоху всеобщего славословия в адрес Сталина Серебряков в большой статье, опубликованной в газете «Правда», посвященной проблемам развития дорожного транспорта в стране, ни разу не упомянул имя Сталина, что, в общем-то, в ту пору было своеобразной смелостью. Но вернемся к тому времени, когда Леонид Петрович Серебряков был членом Реввоенсовета Республики. Известно, что в годы гражданской войны партия привлекла для строительства и руководства частями Красной Армии так называемых военспецов — в большинстве своем офицеров бывшей царской армии. Контроль за их деятельностью являлся одной из функций комиссарского состава, а в сущности, и одной из главных причин введения института военных комиссаров в РККА. Понятно, что особое внимание при этом уделялось работе с теми из военспецов, кто занимал ключевые позиции в армии. Одним из них, в частности, был В. И. Селивачев — бывший офицер старой армии, а в 1919 году — помощник командующего Южным фронтом. Политбюро ЦК РКП(б) принимает специальное решение послать комиссаром к Селивачеву «…Серебрякова во что бы то ни стало и немедленно». Было бы неверным вместе с тем в Л. П. Серебрякове видеть лишь положительные качества человека, лишенного каких бы то ни было недостатков. По целому ряду принципиальных вопросов социалистического строительства он занимал позиции, отличные от позиций В. И. Ленина, большинства Центрального Комитета партии. Так произошло, например, в ходе X съезда партии (март 1921 г.), когда велась дискуссия о роли профсоюзов при Советской власти. Как вспоминает ветеран Октябрьской революции И. Я. Врачев, в первый день съезда вечером на квартире члена коллегии Наркомпути и члена ЦК партии Л. П. Серебрякова (в Кремле, на втором этаже небольшого дома у Троицких ворот, — позднее в этой квартире жил Сталин) собрались сторонники тезисов Троцкого по вопросу о роли профсоюзов. Правда, это собрание было первым и единственным. Вместе с Серебряковым там присутствовали такие видные деятели партии, как A. А. Андреев, Ф. Э. Дзержинский, И. Т. Смилга, В. Н. Яковлева, B. И. Соловьев, А. О. Альский и другие. (Троцкого в то время в Москве не было.) Собравшиеся высказывали свою точку зрения. Но так ли уж это плохо, когда человек умеет и не боится высказывать свое мнение?! Не эта ли черта характера Серебрякова пришлась не по душе Сталину и его окружению?! Л. П. Серебряков был арестован в августе 1936 года. Обвинения в шпионаже и терроре были грубо сфабрикованы. Злыми гениями Л. П. Серебрякова и его семьи были прокурор Вышинский и председательствующий в судебном процессе Ульрих. Как сейчас стало известно, первое, что сделал Вышинский после ареста Л. П. Серебрякова, — это приложил все усилия, чтобы заполучить дачу Леонида Петровича. Начавшаяся в нашей стране перестройка полностью реабилитировала Леонида Петровича Серебрякова, возвратила его светлое имя советскому народу. Шевоцуков П. А. ─ кандидат исторических наук

Смилга Ивар Тенисович
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
5 апреля 1919 года председатель Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкий обратился с телеграммой в ЦК партии с просьбой ввести в состав РВС Ивара Тенисовича Смилгу. Согласно решению ЦК Смилга был членом РВСР с 8 мая 1919 года до 24 марта 1923 года. Поскольку долгое время имя Смилги тщательно вычеркивалось из нашей жизни, расскажем о нем подробнее. Кто же такой Ивар Тенисович Смилга? Из дела 1911 года Вологодского губернского жандармского управления О состоявшем под гласным надзором полиции крестьянине Иваре Тенисове Смилге Начало 16 октября 1911 г. Кончено 20 сентября 1914 г. Справка по делам Московского охранного отделения Из дел Московского охранного отделения видно, что Ивар Тенисов Смилга 14 ноября минувшего 1910 года был задержан в г. Москве на улице за неисполнение требований полиции и активное участие в уличной демонстрации, организованной злонамеренными элементами столицы в связи со смертью графа Л. Н. Толстого. Агентурные сведения и данные наружного наблюдения Согласно повторным указаниям имеющейся в Московском охранном отделении секретной агентуры, принадлежит к Московской организации Российской социал-демократической рабочей партии и исполнял обязанности партийного профессионала-организатора в Лефортовском районе таковой. Слушал лекции в народном университете имени Шанявского, играл выдающуюся роль в деле побуждения учащихся там рабочих к соучастию в студенческих беспорядках и активно содействовал подготовке уличной демонстрации в связи со смертью гр. Л. Н. Толстого. В видах поддержания волнений в высших учебных заведениях путем организованных выступлений рабочей массы взял на себя обязанность по восстановлению дезорганизованных партийных учреждений в г. Москве и выполнял работу партийного профессионала-организатора в Лефортовском партийном районе. Организовал кружковые занятия с рабочими местных фабрично-заводских предприятий, устраивал в Измайловском лесу неоднократно партийные сходбища, занимался агитацией и пропагандой на партийной почве, распространял нелегальную литературу и непосредственно корреспондировал в заграничный партийный центр. Сформировал из наиболее энергичных и распропагандированных рабочих «Временную исполнительную комиссию Лефортовского районного комитета» и начал работу по восстановлению связей с остальными районами города. Пользовался в рабочей среде исключительным влиянием убежденного партийного работника и призывал рабочих к организации стачечного движения, как наиболее решительной и продуктивной, по его мнению, формы борьбы за улучшение положения их. Известен наружному наблюдению под филерской кличкой «Чухонец», находился в непосредственных деловых сношениях с ныне арестованными Егором Чичеровым, Михаилом Балакиным, Яковом Андреевым, Семеном Павловым и др. Обстоятельства задержания и результаты обыска Обыскан и арестован в г. Москва с 4 на 5 июля текущего года при ликвидации представителей Временной исполнительной комиссии Лефортовского районного комитета РСДРП, как один из особо серьезных и вредных членов таковой. При обыске принадлежащего ему помещения обнаружено: 1. Брошюра Рязанова Н. «К практике Программы Российской социал-демократии». 2. Рабочий ежегодник. Год 1―1906 г. 3. Поль Луи. «Будущее социализма». 4. Вандервельде Э., Дестре Ж. «Социализм в Бельгии». 5. Переписка со значительным количеством адресов. Данные расследования При опросах в отделении арестованный Ивар Тенисов Смилга не признавал себя виновным в предъявленных ему обвинениях и никаких данных в опровержение таковых не предоставил. Предполагаемая мера административного взыскания Высылка под гласный надзор полиции в одну из отдаленнейших губерний Российской империи на срок не менее трех лет. Начальник отделения полковник Заварзин Другие документы дела не менее колоритны. В них — исчерпывающая характеристика того, как выполнял в Москве работу партийного профессионала-организатора совсем еще юный Ивар Тенисович Смилга. Его отличали собранность, отвага бесстрашного подпольщика, умение убеждать и организовывать. Жандармы не зря называли Ивара «одним из особо серьезных и вредных членов» РСДРП. Ивар вступил в партию в январе 1907 года, ему не было тогда еще и пятнадцати лет. Но это был обдуманный и сознательный выбор. «Моя революционная совесть, — писал он много позже в одной из автобиографий, — разбужена в 1901 году». В тот год он впервые соприкоснулся с миром, далеким от книжных идиллий, миром классовой борьбы. Это перевернуло его миропонимание. Весьма строго судя свои детские взгляды, Смилга отмечал: «Как это ни странно, несмотря на вполне либеральную и свободомыслящую обстановку в семье, лет 9―10 я придерживался весьма религиозных и монархических взглядов». Девятилетний «носитель» религиозно-монархических взглядов на самом деле был живым и любознательным ребенком, обожающим отца, который учил его самостоятельности суждений и поступков. Семья крестьянская, где труд в почете любой, где слово ценно делом, определила характер, склад ума, отношение к людям. Отец, Тенис Смилга, — лесничий, человек образованный, умный — тяготел к социал-демократам. В 1905 году принимал участие в революционном движении. Во время ликвидации волостных правлений стал председателем революционно-распорядительного комитета своей Пюрнкельской волости. В 1906 году каратели, после зверств и пыток, расстреляли его на глазах близких, долгое время не разрешая хоронить. Учеником реального училища Ивар установил связи с подпольной социал-демократической организацией. Участвовал в революционной борьбе сначала в Латвии, а затем и в Москве. Первый арест осенью 1910 года, в день студенческой демонстрации по случаю смерти Л. Н. Толстого, завершился месячным пребыванием в тюрьме. Второй — в июле 1911 года — после трехмесячного тюремного заключения повлек за собой высылку на три года в Вологодскую губернию. Здесь Смилга начинает самостоятельную подготовку к пропагандистской и организаторской работе. Он много читает, конспектирует, сопоставляет, анализирует. Все это пригодилось ему, когда в 1914 году, по окончании срока ссылки, приехал в Петроград. Уже шла первая мировая война. Большевиков арестовывали, ссылали, первыми отправляли под пушки, на фронт. Работники нужны были позарез. Смилгу ввели в состав Петербургского комитета большевиков. Товарищи не ошиблись в Иваре. Юноша работал хладнокровно и четко. Конспиратором был прекрасным. Филерам удалось засечь его лишь весной 1915 года. Продержаться полгода на нелегальном положении в столице империи, да еще и при активной организационной и пропагандистской работе, мог только профессионал-подпольщик, каковым и был И. Т. Смилга. Однако в мае 1915 года его вновь арестовали и выслали теперь уже в Сибирь, в Енисейский уезд, где ему предстояло провести долгих три года. Освободила его Февральская революция. Годы ссылки, в общей сложности без малого пять лет, Смилга считал своими университетами. История, тактика, политэкономия, философия, немецкий, итальянский языки — это лишь часть того, чему он отдавал себя и свое время в годы вынужденного отрыва от партийно-пропагандистской работы. Кстати, эта целенаправленная и углубленная самоподготовка отличала почти все предоктябрьское поколение большевистского руководства. Недаром позже Совет Народных Комиссаров называли самым образованным кабинетом министров мира. На VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), которая имела значение партийного съезда и проходила под руководством вернувшегося из эмиграции В. И. Ленина, И. Т. Смилга был избран членом ЦК. При обсуждении его кандидатуры выступил М. К. Муранов, один из легендарных большевистских депутатов IV Государственной думы, сосланных в Туруханск за выступление против войны, за открытое разъяснение позиций ленинской партии, призывавшей к поражению собственного правительства и превращению войны империалистической в войну гражданскую. Характеризуя Смилгу он говорил: — Мне в ссылке пришлось встретить тов. Смилгу. Впечатление от встреч самое лучшее. Я слышал два доклада. Один из них, о текущем моменте, читанный в ссылке, очень хорош. Линия определенная. Товарищи ссыльные поддержали бы эту кандидатуру.[177] На Апрельскую конференцию И. Т. Смилга избран от Кронштадтской организации РСДРП(б), одним из руководителей которой был с момента возвращения из Сибири. Выступая с докладом, как записано в протоколе, от окрестностей Петрограда, он осветил положение дел в Кронштадте, Гельсингфорсе, Выборге и Петергофе: более 6,6 тысячи членов партии, две (в Кронштадте и Гельсингфорсе) партийные газеты, 100 большевистских депутатов в Советах… — Работа классово социал-демократическая сейчас только начинается, — отмечал Смилга. — Сначала нужно было организовать массы, приходилось приноравливаться к ним… Пока необходимо все силы направить на пропагандистскую работу.[178] И каждое выступление самого Смилги, 24-летнего члена ЦК ленинской партии, служило этой организации масс и пропаганде целей и задач политической борьбы с учетом складывающейся обстановки. Так, огромный резонанс имело изложение им взглядов партии по аграрному вопросу на заседании образованного Временным правительством под давлением народа Главного земельного комитета, на который возлагалось общее руководство собранием и разработкой материалов для земельной реформы. Об этой акции Смилги говорил на I Всероссийском съезде крестьянских депутатов 22 мая 1917 года В. И. Ленин: — На заседании Главного земельного комитета присутствовал один из представителей нашей партии, мой товарищ по Центральному Комитету, товарищ Смилга. Он внес там предложение о том, чтобы Главный земельный комитет высказался в пользу немедленного организованного захвата помещичьих земель крестьянством… Министр Чернов в Главном земельном комитете, возражая моему товарищу Смилге, сказал, что «организованный захват» — это два слова, которые друг друга уничтожают: если захват, значит неорганизованный, а если организованный, значит не захват. Я думаю, что эта критика неправильна. Я думаю, что крестьянство, если оно принимает решение по большинству в селе или волости, в уезде, в губернии — а в иных губерниях, если не во всех, крестьянские съезды установили власть на местах, представляющую интересы и волю большинства, власть, представляющую волю населения, т. е. большинства земледельцев — раз такая власть создалась на местах, ее решение есть решение той власти, которую крестьяне будут признавать. Это та власть, к которой крестьянское население на местах не может не питать полного уважения, ибо нет сомнения, что эта власть, свободно выбранная власть, постановляет, что помещичья земля должна сейчас же перейти в руки крестьянства… Для Ивара Смилги эти ленинские слова были как некролог по отцу, по людям, отдавшим жизнь за то, чтобы сбылась вековая мечта хлебопашца о земле, о воле, о счастье. Активное участие принял Смилга в подготовке и проведении VI съезда партии. Он был членом мандатной комиссии, выступал с финансовым отчетом ЦК, содокладчиком по докладу от подсекции по организации молодежи и несколько раз в прениях. Возражая против устремлений связывать политическую линию партии с вопросом о зрелости революционного движения на Западе, Смилга под аплодисменты делегатов заметил: — Никто не имеет права лишать нас инициативы, если судьба еще даст нам случай встать во главе движения… Тов. Юренев говорит об осторожности. А я напомню т. Юреневу слова Дантона, говорившего, что в революции нужна смелость, смелость и еще раз смелость. Есть аргументы от анализа, из учета опыта масс. У нас этот опыт имеется, и мы сделаем из него соответствующие выводы.[179] На VI съезде партии И. Т. Смилга был вновь избран членом ЦК. С августа 1917 года он — представитель ЦК в Финляндии. 9 сентября на 3-м областном съезде русских Советов депутатов армии, флота и рабочих Финляндии выдвинут председателем Областного комитета. 27 сентября, вслед за разместившимся в Гельсингфорсе Центробалтом, комитет отказался подчиняться Временному правительству. В этот же день, пользуясь, как он писал, хорошей оказией, В. И. Ленин переслал И. Т. Смилге свое знаменитое письмо, которое не случайно в Полном собрании его сочинений входит не в переписку, а в том 34, где собраны основные предоктябрьские работы. Фактически в нем излагалась программа подготовки к вооруженному восстанию, и именно так оценивал это письмо и сам Владимир Ильич, призывая «…агитировать среди партии за серьезное отношение к вооруженному восстанию — для этого переписать на машинке и сие письмо и доставить его питерцам и москвичам». На что же обращал внимание В. И. Ленин в письме к И. Т. Смилге? Он отмечал, что если правительство уже начало деловым образом готовиться к тому, чтобы подавить будущее выступление большевиков, то сами большевики не ведут систематической работы, «чтобы подготовить свои военные силы для свержения Керенского». События же заставляют поставить на очередь вооруженное восстание, ибо «история сделала коренным политическим вопросом сейчас вопрос военный». Лично Смилге Ленин советовал: — Я думаю, Вам надо воспользоваться своим высоким положением, свалить с себя на помощников и секретарей всю мелкую, рутинную работу, не терять времени на «резолюции», а все внимание отдать военной подготовке финских войск, флота для предстоящего свержения Керенского. В письме впервые ставится вопрос о необходимости создания специального тайного комитета из надежнейших военных для всесторонней подготовки военной стороны дела. «Мы можем оказаться в смешных дураках, — писал Ильич, — не сделав этого: с прекрасными резолюциями и с Советами, но без власти!!»[180] И еще на одно важное обстоятельство обращает внимание Ленин в своем письме. Прекрасно зная о том, что большинство в областном комитете русских Советов депутатов армии, флота и рабочих Финляндии принадлежит большевикам — 37, левым эсерам — 26, меньшевикам-интернационалистам — 2 (всего в Исполком было избрано 75 делегатов), Ленин подчеркивал: — Ваше положение исключительно хорошее, ибо Вы можете начать сразу осуществлять тот блок с левыми эсерами, который один может нам дать прочную власть в России и большинство в Учредительном собрании.[181] Смилга ценил доверие В. И. Ленина. Он старался оправдать ленинские ожидания, жить вровень с его требованиями и нравственной позицией. В суровые послеоктябрьские дни, когда практически решалась судьба революции, Смилга твердо отстаивал ленинский подход к необходимости Брестского мира. С февраля 1918 года, став уполномоченным РСФСР в Финляндии, он вошел в число тех, кто закладывал основы советской дипломатии. В годы гражданской войны И. Т. Смилга был членом реввоенсоветов всех основных фронтов. Участвовал в борьбе против Колчака, Юденича, Деникина, Врангеля, белополяков; с 1919 по январь 1921 года возглавлял Политуправление РККА и был членом Реввоенсовета Республики. С января 1921 года Смилга — член реввоенсовета Кавказского фронта и председатель Ревсовтрударма Юго-Востока России, органа, организовывавшего экономику важнейшего региона страны. Входил он и в состав Кавказского бюро ЦК РКП(б), а одно время был и. о. командующего войсками Кавказского фронта. Все многочисленные перемещения И. Т. Смилги производились с согласия, а иногда и по инициативе В. И. Ленина. Так, мандат о назначении председателем Совета Кавказской трудовой армии подписан В. И. Лениным. В письмах к Ленину, в ЦК партии Смилга всегда острокритически рисовал обстановку, не пытаясь ее лакировать или выдавать ложную информацию в угоду кому-нибудь. В одном из писем с Южного фронта Ивар Тенисович сообщал в августе 1919 года: «Главная и основная причина наших неудач заключается в неумении реввоенсовета Южного фронта командовать и управлять войсками… Теперешний состав реввоенсовета неработоспособен». А ведь речь шла о таких крупных партийных работниках, как Г. Я. Сокольников, Л. П. Серебряков, М. М. Лашевич, М. К. Владимиров, которые никак не могли найти общего языка с тогдашним командующим фронтом В. Н. Егорьевым. «Взаимное непонимание, — писал Смилга, — настолько сильно, что думать о том, что можно будет „сработаться“, не приходится». В «Военных очерках» И. Т. Смилги, к сожалению, надолго выключенных из нашего научного исторического оборота, содержится много интереснейших и малоизвестных страниц гражданской войны. Вскоре после X съезда партии Смилга по предложению В. И. Ленина становится начальником Главного управления по топливу, а затем и заместителем председателя ВСНХ. Являясь заместителем председателя Госплана (в 1924―1926 гг.), Смилга был одним из творцов первого пятилетнего плана. Г. М. Кржижановский не раз отмечал, что его главным помощником в этом деле по Госплану были И. Т. Смилга и Г. Я. Сокольников. Примерно в эти же годы полностью развернулся и педагогический дар Ивара Тенисовича. С 1925 по 1927 год он был ректором и профессором Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, подготовил до сих пор недостаточно оцененную работу, касающуюся вопросов экономики страны, — «Восстановительные процессы». В оппозиционном движении Смилга принял особо активное участие. Его подпись стоит под всеми основными документами оппозиции, включая и обращение к XV съезду партии. Решением этого же съезда в числе других активных деятелей оппозиции он был исключен из партии. Было принято решение о высылке Смилги. В конечном счете местом пребывания избрали сибирское село Колпашево. 9 июня 1927 года Смилгу провожали в ссылку на Ярославском вокзале. Собралось более 1,5 тысячи человек. Около девяти часов вечера подъехали машины, из которых вышли Смилга, Троцкий, Зиновьев. Их встретили криками «Ура!», пением «Интернационала». В зале ожидания Смилга выступил с краткой речью. Отметив, что страна переживает тяжелое время, он призвал собравшихся быть ленинцами и заявил, что надеется в более трудную минуту оказаться нужным партии и стране. Несколько слов сказал Л. Д. Троцкий. Он начал с того же, что и Смилга: «Тяжелое время, тревожные дни». Говорил немного и сдержанно, призвав всех к спокойствию. Из зала на перрон Смилгу вынесли на руках. У вагона многие просили выступить Зиновьева, но он отказался. Когда поезд тронулся, Смилга, пока его было видно, прощально махал кепкой. Пребывание вне партии тяготило Смилгу. В 1929 году он вступил в переписку с также исключенным из партии и сосланным Карлом Радеком, критически оценивая платформу оппозиции и нащупывая пути возвращения в ряды партии, которой была отдана вся жизнь. Переписка стала известна Центральной контрольной комиссии. Смилга, Радек, а также Преображенский были вызваны в Москву. После переговоров в ЦКК в июле 1929 года в прессе было опубликовано заявление в ЦК и ЦКК ВКП(б) за подписью И. Т. Смилги, К. Б. Радека и Е. А. Преображенского об их отходе от оппозиции и разрыве с троцкизмом. В начале 1930 года И. Т. Смилга был восстановлен в рядах ВКП(б). Примерно с этого же времени получил назначение на должность заместителя мобилизационного управления ВСНХ. Нагрузка была явно несравнима с прежними, и Ивар Тенисович параллельно стал активно заниматься литературной деятельностью. В издательстве «Академия» был редактором отдела зарубежных мемуаров, готовил к печати мемуары Сен-Симона. С предисловием Смилги вышли: «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, «Переписка братьев Кропоткиных», «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. В декабре 1934 года, глубоко потрясенный убийством С. М. Кирова, И. Т. Смилга пишет в «Известия» некролог о нем — «Памяти соратника». Но газета некролога не поместила: в ночь с 1 на 2 января 1935 года Ивар Тенисович был арестован. В мае 1936 года его жена Надежда Васильевна Полуян, жизнь и судьба которой заслуживает особого рассказа, имела последнее свидание с мужем, который в то время находился в Верхнеуральском политизоляторе. 1 июня 1936 года была арестована и сама Н. В. Полуян, член партии с 1915 года, одна из тех, кому было доверено поддерживать связь с В. И. Лениным в грозные июльские дни 1917 года. Кстати, три ее брата, коммунисты Ян, Дмитрий, Николай, известные партийные и государственные деятели, также были репрессированы и пали жертвой лжи и клеветы. Надежда Васильевна, осужденная на «10 лет лагерей строгого режима без права переписки», так и погибла, не узнав ни о собственной реабилитации, ни о посмертном восстановлении честного имени мужа. В январе 1961 года, когда имя Смилги находилось еще под запретом, дочь его, Татьяна Иваровна, по совету М. В. Фофановой обратилась к Надежде Кондратьевне Емельяновой в Разлив с просьбой рассказать что-нибудь о матери, с которой Емельяновы, скрывавшие Владимира Ильича в июльские дни 1917-го, встречались не только в предреволюционное время. Как известно, репрессии 30-х годов не обошли и эту рабочую семью, по праву вошедшую в нашу историю. Закончить статью об И. Т. Смилге хотелось бы письмом, которое получила в ответ на свое обращение Татьяна Иваровна. Писал ей Александр Николаевич Емельянов, один из оставшихся в живых мальчишек, которых отец иногда брал к ленинскому шалашу. Особую значимость письму придавал обратный адрес: Ленинград, Разлив, ул. Емельянова, 3, — Емельянову. И то, что он не побоялся и в то время писать о ее не реабилитированных еще родителях, дочери Ивара Тенисовича давало силы, уверенность в неизбежности торжества правды и глубокое уважение к партии, в рядах которой есть такие люди, как Фофанова, Емельянов и многие, многие другие — далекие и близкие, — протянувшие руку помощи и поддержки. «…Хочу сказать, — писал Александр Николаевич 22 января 1961 года, — что в 1935 г. я встречался с Вашим отцом — в Верхне-Уральске, правда, несколько раз на прогулках — вскоре вывезли, сперва Смилгу, а затем и меня. Он не только нравился мне, он был уважаем большинством за то, что не терял способность ясно рассуждать и остроумно. Он обладал не только даром речи, но и богатой логикой. …Ваше письмо попало мне потому, что живу с 1954 г., как старший сын Надежды Кондратьевны (в тот год Емельяновы были реабилитированы и узнали о гибели старшего из братьев. — А. Н.), и мне было бы стыдно, если бы я умолчал о том, что знаю о Вашем отце. А главное что после того, как Вы его больше не видели. Надеюсь то, что написал Вам, это не введет в уныние, а наоборот придаст Вам силы и бодрости. Скажите Вашей дочери, какими были ее дедушка, бабушка. Главное, пусть она станет такой же правдивой — умной». Ивар Тенисович Смилга был расстрелян в феврале 1938 года, посмертно реабилитирован в канун 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Честное имя отважного революционера возвращено истории. Ненароков А. П. ─ доктор исторических наук

Смирнов Иван Никитич
Сведений в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987) нет.
Иван Никитич Смирнов, московский большевик, родился в 1899 году. Много раз подвергался он арестам и ссылкам в царской России. Повод всегда был один — за активное участие в революционной работе. В автобиографии, опубликованной в середине 20-х годов энциклопедическим словарем Русского библиографического института Гранат, свои последние аресты он датировал 1913―1914 годами. Писал он об этом так: «В 1913 году мне удалось в Харькове объединить две существовавшие раздельно группы большевиков и меньшевиков. Работал я там до июля 1913 года. В Харьковскую организацию в то время вкрались два крупных провокатора… и я был там через полгода арестован. Меня послали в Нарымский край, причем за одно незначительное дело (демонстрация), в котором я участвовал, меня приговорили к 6-месячному тюремному заключению. По ошибке меня выпустили за тюремные ворота, и я скрылся, уехал в Красноярск. Когда я получил хорошие документы, я вернулся обратно в Москву. В Москве, в начале европейской войны, вместе с группой товарищей попытался воссоздать организацию, проработал около полугода, был арестован… и выслан обратно в Нарымский край… В Нарымском крае я прожил до 1916 года, когда был взят в царскую армию солдатом. Нарымские ссыльные, которых призвали в армию, обсудили, идти ли в армию или скрыться… Постановили идти в армию, с тем чтобы вести в ней агитацию против войны. В Нарыме был намечен комитет нашей будущей военной организации; я вошел в этот комитет. Немедленно по прибытии в Томск мы связались с местной организацией. На полученные из Москвы деньги и помощь мобилизованным ссыльным поставили в Томске подпольную типографию и приступили к работе… Во время Февральской революции я входил в исполком солдатских депутатов. В августе уехал в Москву, где по предложению Московского комитета и областного бюро центральной области образовал партийное книгоиздательство „Волна“». Смирнов заключал: «В общей сложности я в тюрьме просидел что-то около 6 лет, ни одной ссылки до конца не досидел, а в ссылках пробыл около 4 лет».[182] Сегодня мы знаем, что в драматической судьбе одного из видных политических деятелей большевистской партии, героя гражданской войны И. Н. Смирнова эти результативные подсчеты оказались неточными и преждевременными. 1 января 1933 года он был арестован, и это пребывание в тюрьме стало для него последним. В обвинительном заключении выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде, проходившей 15―16 января 1935 года, ему инкриминировалось «создание троцкистско-зиновьевского объединенного террористического центра». В формуле обвинения утверждалось, что Смирнов признал свое участие в объединенном центре троцкистско-зиновьевского блока, личную связь с Л. Д. Троцким, встречи за границей с его сыном Л. Седовым, но категорически отрицал свое участие в террористической деятельности.[183] Но это не спасло его, как и других, от жестоких пыток и расстрела. Угрозами расправы над близкими Смирнову людьми, дочерью и женой, его заставили сделать такое признание. Их судили в Москве 19 августа 1936 года. Все подсудимые хорошо запомнили сценарий и отвечали точно так, как требовал прокурор. И только Иван Никитич Смирнов его нарушил. Как обещал следователю, он признал, что в 1932 году получил от Троцкого инструкцию о терроре, но, арестованный 1 января 1933 года и находясь с тех пор в тюрьме, никакой террористической деятельностью не занимался. По ходу суда Смирнов отрицал существование «центра» и опровергал показания Мрачковского, Зиновьева, Евдокимова, Дрейцера, Тер-Ваганяна, Каменева. На некоторые вопросы Смирнов вообще не отвечал. Вышинский потребовал расстрела всех обвиняемых. В ночь с 23 на 24 августа в два часа тридцать минут суд объявил приговор: всем подсудимым смертная казнь через расстрел. По закону осужденные имели 72 часа для подачи жалобы с просьбой о помиловании. Однако уже утром 24 августа всех осужденных вывели на расстрел. Иван Никитич Смирнов шел по тюремному коридору спокойно и смело и перед расстрелом сказал: «Мы заслужили это за наше недостойное поведение на суде». Дочь Смирнова Ольга и жена Роза были арестованы и расстреляны в 1937 году. В свое время Смирнов настаивал на выполнении требования Ленина о смещении Сталина с должности генсека. Теперь Сталин рассчитался с ним сполна. С тех пор прошло несколько десятков лет. Только в августе 1988 года пленум Верховного суда СССР отменил приговор в отношении безвинноосужденных. Пленум Верховного суда СССР удовлетворил протест Генерального прокурора СССР, дело прекратил, приговор отменил, в том числе и в отношении И. Н. Смирнова, за отсутствием в его действиях состава преступления. О чем думал и передумал Иван Никитич Смирнов в свои последние тюремные дни? Среди разного, наверное, вспоминал и о Троцком, о работе в Реввоенсовете Республики в те незабываемые, огненные годы гражданской войны. Его прислали в августе 1918 года из Москвы на волжскую станцию Свияжск по партийной мобилизации на Восточный, тогда самый главный фронт страны. Свияжск стал в ту пору местом организации сопротивления наступающим и захватившим Симбирск и Казань чехословацким легионерам и народоармейцам самарского Комуча. Тогда оборону Свияжска и подготовку наступления Красной Армии вершили многие, прибывшие туда: наркомвоенмор Л. Д. Троцкий, главком фронта И. И. Вацетис, командующий Волжской военной флотилией Ф. Ф. Раскольников, большевики с солидным революционным стажем С. И. Гусев и П. Г. Смидович и многие, многие другие. «Я не помню точно, — вспоминала Лариса Рейснер, — какую официальную работу в штабе 5-й армии выполнял Иван Никитич Смирнов. Был ли он членом Реввоенсовета или одновременно заведовал еще Политотделом, но, вне всяких названий и рамок, он олицетворял революционную этику, был высшим моральным критерием, коммунистической совестью Свияжска. Даже среди беспартийных солдатских масс и среди коммунистов, не знавших его раньше, сразу же была признана удивительная чистота и порядочность тов. Смирнова. Вряд ли он сам знал, как его боялись, как боялись показать трусость и слабость именно перед ним, перед человеком, который никогда и ни на кого не кричал, просто оставаясь самим собой, спокойным и мужественным. Никого так не уважали, как Ивана Никитича. Чувствовалось, что в худшую минуту именно он будет самым сильным и бесстрашным. С Троцким умереть в бою, выпустив последнюю пулю в упоении, ничего уже не понимая и не чувствуя ран, с Троцким — святая демагогия борьбы, слова и жесты, напоминающие лучшие страницы Великой французской революции. А с тов. Смирновым (так нам казалось тогда, так говорили между собой шепотом, лежа на полу вповалку, в холодные уже осенние ночи), с тов. Смирновым — ясное спокойствие у стенки, на допросе белых, в грязной яме тюрьмы. Да, так говорили о нем в Свияжске».[184] 6 сентября 1918 года в Свияжске стало известно о составе Реввоенсовета Республики. По предложению Троцкого в него вошли члены РВС Восточного фронта, находящиеся в Свияжске: И. И. Вацетис, П. А. Кобозев, К. А. Мехоношин, Ф. Ф. Раскольников, К. X. Данишевский, а также И. Н. Смирнов. Смирнов был членом РВСР с 6 сентября 1918 года по 8 июля 1919 года. С 1 апреля 1919 года по 10 мая 1920 года Смирнов некоторое время был одновременно и членом РВС 5-й армии Восточного фронта Республики. Эта армия стала формироваться под Свияжском в августе 1918 года. Ей предстояло за время гражданской войны пройти путь от Волги до Тихого океана. От Свияжска в Сибирь пошел с ней И. Н. Смирнов. И хотя он не был командующим армией, но именно его в те двадцатые называли победителем Колчака. В декабре 1918 года Смирнов вошел в состав Сибирского бюро ЦК РКП(б), созданного специально для руководства партийным подпольем в тылу Колчака. Вместе с Ф. И. Голощекиным он руководил связными, ответственными организаторами, действовавшими в то время на Урале и в Сибири. Сохранившиеся документы — телеграммы В. И. Ленина и Я. М. Свердлова Смирнову, ответы Смирнова, его воспоминания — дают впечатляющую картину деятельности Сибирского бюро ЦК в 1919―1920 годах. В своих воспоминаниях Смирнов, рассказывая о работе Сиббюро, о людях, трудностях работы в тылу врага, замечал: «О работе Сиббюро колчаковский штаб узнал очень скоро. Случилось это, как всегда бывает в таких случаях, вследствие провокации». В числе провокаторов он назвал венгерского инженера Садке, позже умершего в тюремной больнице от тифа. «Немало прошло мимо нас в эпоху гражданской войны авантюристов и двурушников, — писал он, — но такого смелого и ловкого, умевшего обойти очень опытных и искушенных партийных работников, я больше не встречал».[185] Переписка Смирнова с Оргбюро ЦК и Я. М. Свердловым зимой 1919 года полна сведений о связных, о поступавших деньгах для организации подпольной работы в Сибири. В одном из отчетов Сиббюро ЦК РКП(б) Смирнов писал о том, что до марта 1919 года работа сводилась к установлению связи с сибирскими партийными организациями, к посылке туда работников и денег. «Должен сказать, — отмечал он, — что установить постоянную твердую связь с сибирским центром нам не удалось. Ни от одного из посланных нами товарищей мы не получили сообщений о его благополучном переходе, кроме тех рабочих, которые были посланы нами на Миньярский завод… С оставлением Уфы работники Сибирского бюро отошли вместе с армией к Белебею, здесь нами была получена телеграмма Троцкого о том, что в ЦК партии было принято решение всех работников бюро влить в армию, впредь до изменения положения на фронте, когда бюро может возобновить свою деятельность. На основании этой телеграммы все товарищи, как находящиеся в армии, так и в командировках, были вызваны и распределены на ответственные функции в 5-й армии». Работа Сибирского бюро была временно приостановлена, Смирнов стал членом РВС 5-й армии. И тогда же, в феврале — начале марта 1919-го, вместе с И. П. Павлуновским, начальником особого отдела ВЧК 5-й армии, вел переговоры с комиссаром Кронштадта об организации из матросов лыжного отряда для боевой и партийно-политической работы в колчаковском тылу. В марте 1919 года на VIII съезде партии Смирнов был избран кандидатом в члены ЦК РКП (б). Вместе с 5-й армией начал путь в Сибирь с освобождения от колчаковцев Поволжья и Урала. Ему пришлось тогда многое сделать для укрепления дисциплины в армии, поднятия ее боеспособности. На это обстоятельство обращал внимание Троцкий, когда в марте 1919 года писал в ЦК партии о важности жестких мер в армии для ее укрепления, как это было в Казани «в самый тяжкий момент Советской власти», и сейчас «добрейшему, мягчайшему Ивану Никитичу Смирнову не пришлось бы применять ныне тех суровых репрессий, к каким он вынужден прибегать». 11 мая 1919 года Ленин телеграфировал Смирнову, запрашивая о принятых мерах «для ускорения наступления и закрепления победы» на Восточном фронте. В июле Ленин получил телеграмму Смирнова из Уфы в трофеях, захваченных 27-й дивизией 5-й армии при разгроме Колчака под Челябинском, и, отвечая ему, предложил отправить весь захваченный хлеб в Москву, в адрес Наркомпрода. В октябре Ленин, получив телеграмму Смирнова с информацией о положении в Сибири и на Восточном фронте, пишет в ответ свои предложения по плану наступления на Восточном фронте, о снабжении обмундированием вновь мобилизуемых частей, предлагает поручить главкому рассмотреть и обсудить эти предложения. В связи с решительным наступлением Красной Армии и разгромом белогвардейцев Колчака в Поволжье и Приуралье в июне 1919 года в полном объеме возобновилась деятельность Сибирского бюро ЦК. И. Н. Смирнов был его председателем, Ф. И. Голощекин — заместителем, Гончарова Д. К. — секретарем. В июне 1919 года бюро находилось в Уфе. Оно установило постоянные связи с большевистскими организациями Сибири, посылало к ним связных и деньги, добровольческие небольшие отряды. В конце июля Сиббюро переехало в Челябинск. Связные Сиббюро переправили через линию фронта около 4 миллионов рублей на организацию революционной борьбы. В конце августа ВЦИК, учитывая начавшееся освобождение Сибири, создал Сибирский революционный комитет. В него вошли В. М. Косарев, И. Н. Смирнов и М. И. Фрумкин. Вскоре и Сиббюро стало работать под новым названием — Областное бюро РКП(б). В апреле 1920 года в партийных организациях Сибири было примерно 45 тысяч членов партии и ей сочувствующих. Строительством партийных организаций Сибири занимался тогда Смирнов. Смирнов в течение 1919 года выполнял огромную работу как член РВСР, РВС 5-й армии, руководитель Сиббюро, а затем Сибирского ревкома. Наверное, потому его телеграммы Ленину полны сведений о военных действиях, а Ленин, обращаясь к нему, писал о важности переброски частей с Восточного на Южный фронт, где тогда обострилась деникинская опасность. В ноябре 1919 года Ленин ознакомился с докладной запиской Смирнова о состоянии 5-й армии перед зимней кампанией. Одну из фраз он подчеркнул: «Иртыш является последним опорным пунктом Колчака, после чего его государство и армия должны распасться. Задачу уничтожения остатков колчаковщины может выполнить небольшая 4―5 дивизий армия, навербованная из местных крестьян». В ноябре председатель Сибревкома Смирнов докладывал Ленину из Омска о разгроме армии Колчака, о захваченных пленных и трофеях, просил прислать денег для восстановления хозяйственной жизни, прислать партийно-советских работников. В декабре Ленин читает докладную записку Смирнова о положении в Сибири, где содержится характеристика положения Восточной Сибири, создавшегося в результате окончательного разгрома колчаковских войск в районе между реками Тобол и Ишим, рассказывается о партизанском движении и мерах по усилению политической работы среди красноармейцев 5-й армии Восточного фронта, о формировании национальных частей и вновь содержится просьба прислать партийных и хозяйственных работников. В декабре Ленин телеграммой поздравляет Смирнова с освобождением Новониколаевска, требует принять меры к взятию в целости шахт Кузбасса. В начале 1920 года в связи с разгромом основных колчаковских сил и освобождением Западной Сибири главным в работе Сибревкома стала задача по организации управления краем. В первых числах января Смирнов сообщал Ленину, что рабочие освобожденного Кузбасса взяты Красной Армией на все виды довольствия, кроме денежного. На Судженских и Анжерских копях работает 8 тысяч человек. Смирнов даже просил тогда отозвать его из РВС армии для сосредоточения усилий на работе в Сибревкоме. Была увеличена численность реввоенсовета армии, а Смирнову поручено отвечать за согласование деятельности военных и гражданских властей. С такой большой работой, по его собственному признанию, он не всегда справлялся. Учитывая сложную ситуацию в Сибири, протестовал в январе 1920 года против распоряжения ВЧК о переезде Особого отдела Восточного фронта в Москву. Смирнов просил направить в Сибирь Я. X. Петерса. Заместитель начальника Особого отдела ВЧК И. П. Павлуновский отменил распоряжение о переезде фронтовых особистов в Москву и приказом Ф. Э. Дзержинского сам был назначен полномочным представителем ВЧК в Сибири. В январе — марте 1920 года Смирнов участвует в переговорах с эсеро-меньшевистским Политцентром вначале о сдаче им власти Иркутскому ревкому, а затем об образовании буферного государства в Восточной Сибири. Переговоры начались в Омске, затем велись в Красноярске и закончились в Иркутске. Меньшевики и эсеры предлагали создать буферное государство на началах: 1) мира с Советской Россией, 2) борьбы с интервенцией, 3) формирования власти на основе устранения цензовых элементов и создания социалистической коалиции от эсеров до большевиков включительно. Они настаивали на том, чтобы центром такого государства явился Иркутск. Большевики же высказывались за то, чтобы буферное государство было создано восточнее Иркутска: от Байкала до Владивостока. Представители мелкобуржуазных партий настаивали на своих условиях. В ответ на это Ленин 9 марта по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) телеграфировал Смирнову: «Никаких условий с эсерами и меньшевиками: либо подчиняются нам без всяких условий, либо будут арестованы».[186] В марте 1920 года Смирнов — делегат IX съезда партии. Тогда же в Москве он обсуждал вопрос о расширении прав и состава Сибревкома. В результате Сибревком сосредоточил в своих руках руководство всеми военными и гражданскими делами. Смирнов играл важную роль в Сибревкоме. Когда он с середины января до середины марта 1920 года вынужден был отсутствовать на его заседаниях и заниматься по поручению правительства преимущественно дальневосточными делами, не входившими в компетенцию Сибревкома, деятельность последнего сразу же стала менее эффективной. Это не ускользнуло от внимания Ленина. 4 марта 1920 года Ленин потребовал от Троцкого вернуть Смирнова «к мирному строительству, оторвав от дипломатических, пограничных и военных дел». Переписка Ленина и Смирнова шла по самым разным вопросам. В апреле 1920 года Ленин в телеграмме Смирнову поручает отправить отбитый у колчаковцев золотой запас Республики (вернее, все, что от него осталось) под надежной охраной на хранение в кладовые казанского губфинотдела. В мае Ленин знакомится с телеграммой Смирнова, в которой содержалась информация о политическом положении в Алтайской губернии, просьба выплатить крестьянам до 1 миллиарда рублей «за разорение Колчаком и ведение партизанской борьбы», открыть кредит для вознаграждения крестьян-партизан Алтайской и Енисейской губерний, сдавших добровольно для Красной Армии лошадей, одежду и обозы. Совнарком 12 мая 1920 года вынес постановление о выделении 1,5 миллиарда рублей «на выдачи жалованья и вознаграждения крестьянам Алтайской и Енисейской губерний, входивших в состав армий, действовавших в Сибири до прибытия 5-й армии». В июне 1920 года Ленин сообщает Смирнову о проведении переписи населения Сибири одновременно с переписью в Центральной России. Смирнов часто выезжал в различные районы Сибири и хорошо знал положение на местах. Это позволяло ему принимать и отстаивать взвешенные решения. Смирнов выступал против применения вооруженной силы при проведении продразверстки, аргументируя, что все задания по оказанию помощи Красной Армии и центральным районам страны Сибревком выполняет полностью. «Это, — считал Смирнов, — в настоящий момент самое важное». Он выступил против форсирования событий, которые могли сорвать ту помощь, которую уже оказывало сибирское крестьянство Советской власти. Об этом решении Смирнов информировал Ленина. Смирнов сыграл видную роль в восстановлении Советской власти в Сибири, в борьбе большевиков с эсерами за руководство Советами. Ведь в различных партизанских организациях Сибири эсеров было довольно много. Позднее в телеграммах Ленину он сообщал о недовольстве крестьян Алтайской и Томской губерний, вызванном отсутствием товаров, слабостью советского аппарата на местах. В августе 1920 года Смирнов сообщил Ленину телеграммой о разгроме партизанскими отрядами, при поддержке восставшего населения Сретенска и Нерчинска, белогвардейских банд Семенова и объявлением местности частью Дальневосточной республики. В сентябре он писал Ленину, что после ухода японцев в Забайкалье остались семеновские войска, и предлагал обратиться к ним с воззванием за подписью Ленина, обещая полное прощение при переходе на сторону Советской власти для борьбы на Западном фронте. 28 сентября 1920 года, по просьбе Смирнова, Ленин беседует о сибирских делах с ним, уполномоченным Наркомпрода П. К. Когановичем, председателем Совнархоза А. В. Шотманом и заместителем комиссара округа пути С. А. Кудрявцевым. Результатом явилось постановление Совета Труда и Обороны 8 октября 1920 года об отпуске и срочном направлении товаров в Сибирь. 1 января 1921 года Ленин вновь встретился с И. Н. Смирновым, просмотрел его доклад о политическом и экономическом положении Сибири после освобождения ее от войск Колчака. В 1921 году в Омске небольшим тиражом вышла брошюра Смирнова «На борьбу с нищетой». Он писал в ней: «У нас был единый рабоче-крестьянский фронт, боевой, против помещиков и капиталистов, мы справились с нашими врагами. Теперь у нас остался последний страшный враг, наша нужда, наша нищета. Теперь у нас образовался новый фронт — фронт трудовой». Из нищеты, считал Смирнов, может вывести укрепление хозяйства, ударная работа. «Пора перестать быть рабами, — призывал он, — пора стать хозяевами. Иначе напрасно лилась кровь в борьбе с Колчаком, Деникиным, иначе напрасно погибли сотни тысяч наших братьев на полях сражения с капиталистами, и мы были бы преступниками и предателями рабоче-крестьянского государства, если бы не выполнили теперь нашего трудового долга».[187] В феврале 1921 года Смирнов сообщал Ленину о начавшемся кулацком мятеже в Тюменской губернии и прерванном в связи с этим железнодорожном сообщении, о подготавливаемом кулаками восстании в Алтайской губернии и мерах, принятых для его предупреждения, о подготовке к началу посевной кампании с просьбой помочь в получении разрешения Наркомпрода на утверждение семенного фонда для Сибири в размере 4,5 миллиона пудов. Ленин подчеркнул в тексте просимую цифру, написал на телеграмме записку секретарю ЦК Н. Н. Крестинскому, в которой поддержал просьбу Смирнова. В августе 1921 года на пленуме ЦК РКП(б) обсуждался вопрос об отзыве из Сибири И. Н. Смирнова и командировании туда Е. М. Ярославского… Но пока Смирнов еще в Сибири и тогда же, в августе, телеграфирует Ленину о взятии в плен одного из главарей контрреволюции на Дальнем Востоке, барона Унгерна, предлагает предать его суду отделения Верховного трибунала ВЦИК Сибири. Ленин с этим предложением согласился. Только в октябре Смирнов решением Политбюро ЦК был откомандирован из Сибири в распоряжение ВСНХ. И. Н. Смирнов в воспоминаниях так писал о работе Сиббюро: «Что же дало в конечном итоге Сиббюро, и оправдало ли оно те жертвы, которые партия понесла, посылая в тыл Колчаку своих лучших людей? Я думаю, что жертвы оправданны. Мы в пятой армии хорошо знали состояние тыла противника. Это отчетливое представление о состоянии Сибири давало нам уверенность во всех решениях реввоенсовета пятой армии. Помимо учета общего состояния Сибири мы знали положение в отдельных городах. Приходя туда, сразу разыскивали нужных людей. Создание революционных комитетов значительно облегчалось. А это было очень важно, именно в первые дни восстановления Советской власти, когда всюду царит всеобщая неразбериха и хаос. Работа Сиббюро была строго законспирирована, о ней знали немногие товарищи, непосредственно соприкасавшиеся с ней. Даже члены реввоенсовета далеко не все знали. Как-то уже после польской кампании меня спросил М. Н. Тухачевский, с которым мы работали в пятой армии с марта до ноября 1919 года: каким образом мы знали о том, что делалось в тылу Колчака, что давало возможность бить противника наверняка? На это я мог ему ответить: мы знали это через Сиббюро». С Сибирью у Смирнова оказался связанный, очевидно, лучший, самый плодотворный период его жизни. В марте 1922 года Ленин, ознакомившись с сообщениями председателя ГПУ Дзержинского о положении в Сибири, диктует по телефону Л. А. Фотиевой текст письма Л. Б. Каменеву и И. В. Сталину с предложением обсудить с членами Политбюро ЦК РКП(б) вопрос о направлении на прежнюю работу в Сибревком И. Н. Смирнова… Иван Никитич Смирнов оставил после себя небольшое литературное наследие. В своих воспоминаниях, статьях, заметках он предстает прежде всего как участник и очевидец, его оценки и анализ порою скоропалительны и определяются ситуацией. Прошедшие с той поры годы внесли изменения и уточнения в его характеристики событий и их участников. Но даже сейчас его искреннее и правдивое слово говорит нам об убежденности и самоотверженности тех, кто, рискуя жизнью, твердо верил, что их идеалы добра и справедливости восторжествуют. Литвин А. Л., Спирин Л. М. ─ доктора исторических наук

Сталин Иосиф Виссарионович
Годы жизни: 1879―1953. Член партии с 1898 г. В 1917 г. член ряда высших руководящих органов партии, член Петроградского ВРК. На II Всероссийском съезде Советов избран членом ВЦИК… В сентябре — октябре 1918 г. член РВС Южного фронта, в октябре 1918 г. — июле 1919 г. и в мае 1920 г. — апреле 1922 г. член РВСР и представитель ВЦИК в Совете Рабочей и Крестьянской Обороны…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (1987).
С начала 30-х и до середины 50-х годов в советской исторической литературе укоренилась, обрела статус официальной и стала безраздельно господствующей сталинская концепция истории гражданской войны в СССР. Целеустремленно и настойчиво создавался и насаждался в сознание советского народа миф о Сталине как втором вожде партии и Красной Армии. Желаемый эффект достигался комплексным применением различных методов фальсификации истории. Роль В. И. Ленина и других крупных партийных, государственных и военных работников замалчивалась и принижалась, а заслуги Сталина в создании вооруженных сил Советской Республики, в осуществлении разгрома белогвардейцев и интервентов всемерно возвеличивались и восхвалялись. Посему, чтобы уяснить и оценить объективно место и роль Сталина в грандиозных событиях гражданской войны, необходимо хотя бы кратко сказать о том, как создавалась и действовала в 1917―1920 годах система органов руководства обороной страны и управления вооруженными силами.На основе глубокого анализа войн конца XIX — начала XX века В. И. Ленин пришел к твердому убеждению, что в современных войнах вообще, а особенно в войнах национально-освободительных и революционных, стратегия подчинена политике и их связь неразрывна. Отвергая одну из догм классической военной науки, гласившую, что армия создается, живет и сражается вне политики, новаторская ленинская формула не только фиксировала тесную взаимосвязь политики и военной стратегии, но и решительно подчеркивала приоритет стратегии. На базе данного теоретического вывода в Советской Республике была успешно решена трудная проблема создания принципиально новой системы органов руководства обороной страны и управления вооруженными силами. Основополагающим принципом советского военного строительства был принцип единства политического и военного руководства. Наиболее рельефно этот принцип воплощался в деятельности В. И. Ленина. Вождь правящей партии большевиков, глава Советского правительства, Председатель Совета Обороны Ленин возглавлял, направлял и координировал действия вооруженных сил на фронтах и работу тыла. Он выдвинул идею о превращении Советской Республики в единый военный лагерь и сумел воодушевить и мобилизовать многомиллионные массы рабочих и крестьян на практическую реализацию этой конструктивной идеи. В условиях, когда весь вопрос российской социалистической революции свелся к вопросу военному, именно Ленину довелось выполнять львиную долю работы по решению военно-политических и военно-стратегических проблем. Главенство политики над стратегией отчетливо проявлялось и в том, что курс военной политики определялся съездами большевистской партии, а конкретные проблемы войны и мира, военного строительства и обороны страны решал возглавляемый Лениным Центральный Комитет РКП(б). «По каждому крупному вопросу стратегии, — заявил Ленин 21 февраля 1919 года на VIII съезде партии, — не было ни разу, чтобы не было ЦК, либо бюро ЦК, — ни разу не было, чтобы мы не решали основные вопросы стратегии».[188] Боевой штаб сражающейся партии — ЦК РКП(б) вырабатывал и принимал стратегические решения и тут же организовывал и контролировал их выполнение, энергично взаимодействуя с высшими государственными органами (ВЦИК, Совнарком, Совет Обороны, ВСНХ) и центральными органами военного управления (Высший военный совет, Реввоенсовет Республики, Наркомвоенмор). При этом самым активным генератором новых стратегических идей и замыслов на протяжении всей гражданской войны оставался В. И. Ленин. Именно он являлся автором или ведущим соавтором тех исторических документов, в которых формулировались основы и принципы строительства Красной Армии и безошибочно решались важнейшие вопросы военной стратегии. Для подтверждения сказанного назовем здесь некоторые из таких документов: «Декрет Совнаркома об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (январь 1918 г.), «Декрет-воззвание Советского правительства „Социалистическое Отечество в опасности!“» (февраль 1918 г.), «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта» (апрель 1919 г.), письмо ЦК РКП(б) «Все на борьбу с Деникиным!» (июль 1919 г.), «Проект директивы ЦК о военном единстве» (май 1919 г.). Полный перечень ленинских документов такого рода занял бы несколько страниц. А что же Сталин? Он был членом ЦК РКП(б) и членом Советского правительства, входил в состав Совета Обороны, Реввоенсовета Республики и реввоенсоветов нескольких фронтов. Однако внимательное ознакомление с протоколами заседаний ЦК РКП(б) и Совнаркома РСФСР позволяет уверенно утверждать: за все годы гражданской войны Сталин ни разу не выступал там с самостоятельными конструктивными идеями или предложениями по крупным проблемам военного строительства и стратегии. Объективную оценку огромного вклада Ленина в победоносный исход гражданской войны и в военную науку впервые дал М. В. Фрунзе. Он в докладе «Ленин и Красная Армия» (январь 1925 г.) показал и доказал, что «и нам, и будущему поколению революционеров товарищ Ленин дает блестящие образцы стратегического и тактического искусства. Его руководство представляет из ряда вон выходящий по своей гениальности пример вождения масс в бой».[189] Прошло несколько лет после того, как был прочитан и опубликован этот замечательный доклад. И вот, как бы в противовес ему, к 50-летию Сталина К. Е. Ворошилов опубликовал статью под сходным заголовком: «Сталин и Красная Армия». На страницах ворошиловской статьи Сталин представлен как один из самых выдающихся «организаторов побед гражданской войны», как «настоящий стратег», как обладающий гениальной прозорливостью «первоклассный организатор и военный вождь».[190] Все положения статьи Ворошилова были как бы канонизированы и развиты в «Кратком курсе истории ВКП(б)», в написанной опять-таки Ворошиловым к 60-летию Сталина статье «Сталин и строительство Красной Армии», а также в многократно издававшейся книге «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография». До середины 40-х годов Сталин довольствовался возведением его в ранг второго вождя Красной Армии. Однако после окончания Великой Отечественной войны он открыто предъявил претензии на провозглашение его главным организатором и самой армии, и всех ее побед. Он на страницах журнала «Большевик» кощунственно объявил «неправильным» мнение о том, что Ленин «…оставил нам в наследство ряд руководящих положений по военным вопросам, которые мы должны принять к руководству». Тут же Сталин утверждал, будто Ленин и до Октябрьской революции, и после нее, «вплоть до окончания гражданской войны… прямо заявлял нам, что ему уже поздно изучать военное дело», а посему «обязывал нас, тогда еще молодых товарищей из ЦеКа, — досконально изучать военное дело».[191] Так, росчерком пера Сталин поставил под сомнение все заслуги и ведущую роль Ленина в гражданской войне и наложил «вето» на изучение и творческое развитие военно-теоретических трудов и идей В. И. Ленина. Юбилейные статьи К. Е. Ворошилова и другие указанные выше «первоисточники» четко определили этапы боевого пути Сталина, пройденного им в 1918―1920 годы. Проследуем и мы, хотя бы мысленно, по тому же маршруту, сопоставляя столь долго культивируемые мифы и легенды с реальными фактами и историческими документами. Рассмотрим, насколько эффективной была действительная (а не легендарная) военная деятельность Сталина в годы гражданской войны. Но прежде чем двинуться в столь непростой путь, следует вспомнить, что к началу гражданской войны уровень знакомства Сталина с военной теорией был весьма невысок, да и практическим опытом ведения революционно-боевой и военно-организаторской работы он не располагал. Правда, во время революции 1905―1907 годов он участвовал в так называемых «экспроприациях», то есть в вооруженных захватах значительных сумм денег, используемых для нужд партии. Мобилизованного незадолго до Февральской революции в царскую армию Иосифа Джугашвили призывная комиссия из-за его физических дефектов признала полностью непригодным для воинской службы, что при его обостренном самолюбии не могло не вызвать самых отрицательных чувств по отношению к армии, военному делу, да и вообще к военным людям. При подготовке к Октябрьскому вооруженному восстанию в Петрограде на заседании ЦК РСДРП(б) 16 октября 1917 года Сталина избрали членом Военно-революционного центра по руководству восстанием. Но этот орган вошел в состав Петроградского военно-революционного комитета (ВРК) и никаких самостоятельных решений или действий по подготовке восстания и руководства им не принимал. Непосредственно в дни восстания Сталин выполнял ответственное партийное задание — обеспечивал выход в свет центрального органа партии большевиков — газеты «Рабочий путь». В период триумфального шествия Советской власти и подавления первых очагов вооруженной контрреволюции Сталин, как нарком по делам национальностей, неоднократно докладывал на заседаниях Совнаркома о военно-политической обстановке в тех регионах страны, где возникала напряженная ситуация, и вносил предложения о способах ликвидации очагов напряженности. Нередко Ленин поручал ему, как и другим наркомам, согласовывать с военным ведомством меры по оказанию необходимой военной помощи местным органам Советской власти и контролировать выполнение этих мер. В конце мая 1918 года Совнарком РСФСР решил срочно направить наркома по делам национальностей И. В. Сталина и наркома труда А. Г. Шляпникова в качестве руководителей продовольственного дела на юге России, обладающих чрезвычайными полномочиями. В начале июня Сталин вместе со своими помощниками и небольшим вооруженным отрядом разместился в Царицыне, а Шляпников — в Астрахани. Тем самым они должны были обеспечить возможность, работая в контакте с местными советскими и военными органами, развернуть заготовки продовольствия и контролировать военно-политическую обстановку в регионе нижнего течения Волги и Северного Кавказа. А обстановка там была напряженной и сложной: на Дону генерал Краснов приступил к формированию белоказачьей Донской армии, а на Северном Кавказе интенсивно шло формирование белогвардейской Добровольческой армии. Красновцы намеревались восстановить «старые порядки» не только на территории былого «Всевеликого войска Донского», но и подчинить значительную часть территории соседних губерний, включая города Царицын, Камышин, Воронеж и крупные узлы коммуникаций — Поворино и Лиски. Силам контрреволюции на юге противостояли весной 1918 года разнообразные по численности и боеспособности красноармейские, красногвардейские и партизанские отряды. Органы военного управления тогда только-только начали создаваться. Так, декретом Совнаркома от 4 мая 1918 года был образован Северо-Кавказский военный округ (СКВО), военным руководителем (военруком) которого Советское правительство назначило бывшего генерала, опытного военачальника и крупного ученого-востоковеда Е. А. Снесарева. В связи с быстро нараставшим накалом вооруженной борьбы на Дону и Северном Кавказе Высший военный совет 13 июня 1918 года возложил на него общее руководство военными операциями на территории округа и в прилегающих районах, в том числе и Поворино-Царицынском. В мандате Сталина, подписанном Лениным, указывалось, что все местные Советы, начальники железнодорожных организаций и станций, речных и морских портов, почтово-телеграфных учреждений, а также штабы, начальники отрядов и комиссары «обязываются выполнять распоряжения тов. Сталина».[192] Прибыв в Царицын, Сталин с присущим ему динамизмом и административно-силовым натиском резко ускорил заготовки и отправку зерна, мяса, рыбы и другого продовольствия в центральные районы страны. «Можете быть уверены, — сообщал он Ленину, — что не пощадим никого, ни себя, ни других, а хлеб все же дадим».[193] За первые полтора-два месяца пребывания на юге, когда усилия Сталина, Шляпникова и их помощников были сконцентрированы на выполнении своей ответственной миссии, они внесли весомый вклад в опустошенные войной закрома Советской Республики. В обстановке, сложившейся летом 1918 года, успешно осуществлять заготовку продовольствия можно было только совместными усилиями партийных, советских, хозяйственных и военных органов. Собственно, для организации такого взаимодействия и были командированы на юг Сталин и Шляпников. Характерный момент: на том же заседании Совнаркома, на котором была достигнута договоренность об их командировании, Ленин сообщил наркому продовольствия А. Д. Цюрупе о решении Советского правительства использовать вооруженные силы для борьбы за хлеб. Однако в поступавшей от Сталина информации о ходе выполнения порученного ему задания ничего не говорится о каких-либо попытках установить контакты с местными органами военного управления, согласовать с ними предпринимаемые меры по защите коммуникаций и всемерному усилению хлебозаготовок. Заранее убежденный в том, что руководители этих органов и учреждений — бывшие генералы и офицеры — никакого доверия не заслуживают, Сталин избегал сотрудничества с ними, не желая разделять ответственность за выполнение или невыполнение решаемых задач и, главное, делить с кем бы то ни было власть. Он в своих сообщениях и отчетах, посылаемых в столицу, сочетание слов «военные специалисты» употреблял только с кавычками. Первоначально штаб Северо-Кавказского военного округа (СКВО) и его военный руководитель (военрук) упрекались только в некомпетентности, инертности и безделье, но вскоре последовали куда более серьезные обвинения. Дистанцию от презрительной оценки «сапожники!» до беспощадной резолюции «расстрелять!» Сталин преодолел довольно быстро — за два с половиной месяца. В первых числах июля произошло событие, заметно повлиявшее на дальнейший ход рассматриваемого нами сюжета: вытесненные германскими оккупантами с Украины и Донбасса отряды бывших 3-й и 5-й украинских советских армий (около 15 тысяч бойцов), возглавляемые К. Е. Ворошиловым, пробились в район Царицына и существенно пополнили царицынскую группировку войск. Боевое ядро ворошиловской группы составляли отряды донецких шахтеров и металлистов. Стремясь сосредоточить в собственных руках всю полноту власти, Сталин в очередном письме Ленину (11 июля 1918 г.) выдвинул требования: предоставить ему военные полномочия и «вдолбить в голову» наркому по военным делам, председателю Высшего военного совета Л. Д. Троцкому, что «без ведома местных людей назначений делать не следует». Завершается письмо типично «сталинским» заявлением: «Отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит… я буду сам, без формальностей свергать тех командиров и комиссаров, которые губят дело».[194] На следующий день Сталин телеграфировал Ленину о том, что штаб СКВО якобы «оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией», работники штаба «абсолютно равнодушны к оперативным действиям», а военные комиссары «не смогли восполнить пробел»… И снова добавляет: «Я буду принимать ряд мер… вплоть до смещения губящих дело чинов и командиров». Первым объектом решимости Сталина «смещать чинов» стал, естественно, самый крупный из них — военрук штаба СКВО Е. А. Снесарев. Атака на него велась настойчиво и энергично. 16 июля Сталин послал Ленину большую телеграмму, в которой утверждал (правда, с оговоркой «по-моему»), что военрук Снесарев «очень умело саботирует дело очищения линии Котельниково — Тихорецкая» и вообще «довольно деликатно старается расстроить дело»… Еще через день была послана телеграмма Троцкому, извещавшая, что в Царицыне состоялось совещание, в котором участвовали Сталин, Зедин (военком штаба СКВО), Минин (председатель Царицынского Совета депутатов), Ворошилов, Каменский и другие. Совещание решило «предложить Вам (Троцкому. — С. Л.) удалить Снесарева» и признало необходимым «создать окружной военный совет с оперативными функциями».[195] В состав создаваемого нового военного совета участники совещания предложили внести Сталина, Зедина, специалиста Тритовского, Минина и Ворошилова. Центральные органы власти вынуждены были уступить натиску царицынцев. Высший военный совет 24 июля постановил: ─ военному совету СКВО «обратиться к непосредственному исполнению его прямых обязанностей» (то есть к решению организационных, административных и хозяйственных задач); ─ образовать военный совет Северного Кавказа, «обнимающий в оперативном отношении районы Донской, Черноморо-Кубанский и Бакинский»; ─ в состав военсовета Северного Кавказа должны войти Сталин и Минин, по представлению которых будет назначен военный руководитель. В Царицыне на пост военного руководителя выдвинули Ворошилова. Таким образом, на исходе июля Сталин получил столь желанные военные полномочия. Ему отныне были непосредственно подчинены все войска Царицынского участка фронта, органы государственного и экономического управления Царицына и Царицынского района, а косвенно (через штабы и военкомов создаваемых в Черноморо-Кубанском и Бакинском районах военных советов) и силы и средства всего Южного региона. Способствовала ли такая централизация власти выполнению основной — продовольственной — задачи? Вовсе нет; скорее наоборот, поскольку, как сказано в Краткой биографии Сталина, он «целиком занялся обороной Царицына». Тем временем красновцы перехватили коммуникации, ведущие к Царицыну с юга и из Царицына на север, к центру страны. Большое информационно-отчетное письмо, отправленное Сталиным 4 августа Ленину, Троцкому и наркому продовольствия Цюрупе, начиналось минорной фразой: «Положение на юге не из легких». Завершается письмо признанием, что до восстановления связи с Северным Кавказом рассчитывать на Царицын в продовольственном отношении не приходится. В перечне причин, обусловивших такое неприглядное положение, на первое место в письме поставлены: инертность бывшего военрука и «отчасти заговоры привлеченных военруком лиц в разные отделы военного округа». Кратко отмечены и положительные стороны обстановки: началась ликвидация отрядной неразберихи на фронте и «своевременное удаление так называемых специалистов».[196] Итак, к началу августа 1918 года Сталин «завершил» битву за хлеб и подготовил себе достаточно прочные исходные позиции для последующего, в основном военного, этапа своей деятельности на юге. Он обладал полнотой не только военно-административной, но и командной власти, очистил органы государственного и военного управления от мешавших ему людей, укрепил, по собственному разумению, тылы, и, наконец, обрел в лице Ворошилова надежного и во всем послушного помощника. Никто теперь не мешал Сталину проявить на деле свои военно-организаторские и полководческие способности. Обстановка позволяла сделать это и даже требовала таких конкретных дел, поскольку Донская армия атамана Краснова, к тому времени значительно выросшая и окрепшая, как раз в последних числах июля перешла к решительным широкомасштабным действиям. Правильно оценив намерения и группировку сил противника, военрук Снесарев (до его смещения) решил наиболее надежно укрепить северные и северо-западные подступы к Царицыну — сосредоточить там необходимое количество сил и средств, построить линию полевых оборонительных сооружений (окопы, проволочные заграждения) и т. п. Такое решение соответствовало директивному указанию Ленина: все усилия направить не на продвижение вперед, а «на полную и надежную охрану пути от Тихорецкой к Царицыну и от Царицына на север».[197] Первые самостоятельные решения оперативного характера Сталин и Ворошилов принимали не столько на основе объективной оценки обстановки, сколько исходя из субъективного противостояния любым решениям и действиям «военспецов». В начале августа Сталин докладывал, что он и его новые помощники, отстранив Снесарева от решения оперативных вопросов, сразу же «отменили старые, я бы сказал, преступные приказы» и решили повести «наступление на Калач и на юг, в сторону Тихорецкой».[198] Основные силы царицынской группировки, наспех сосредоточенные на западном и южном участках фронта, двинулись в наступление. Но оно вскоре «захлебнулось», так как красновцы нанесли удары по ослабленным северным и северо-западным участкам. «Ввиду этого, — докладывал Сталин в письме от 4 августа, — и решили мы приостановить наступательные действия в сторону Тихорецкой, приняв оборонительное положение». Фактически же приостановка наступления вскоре обернулась отступлением. К середине августа активно действовавшие белоказаки с севера, запада и юга вышли на ближние подступы к Царицыну. Так совершилось первое окружение Царицына. Осознал ли хоть немножечко Сталин несостоятельность своих оперативных решений, усомнился ли он в правильности жестко проводимого им курса на изгнание и даже «ликвидацию» старых военных специалистов? Отнюдь нет! Из объявленного на осадном положении Царицына 16 августа была отправлена заместителю народного комиссара по военным делам Н. И. Подвойскому такая телеграмма. «Благодаря, между прочим, аресту военных специалистов, произведенному нами, положение на фронте изменилось к лучшему. В приезде специалистов нет необходимости. Сталин, Минин, Ворошилов».[199] Надо было обладать огромной самоуверенностью и неодолимым упрямством, чтобы, провалив попытку наступления и попавши в окружение, заявлять: «Положение улучшилось». Лишь чрезвычайным напряжением сил и ценой больших потерь удалось защитникам Цырицына отстоять свой город, а затем разорвать полукольцо окружения и в первой декаде сентября оттеснить красновцев на правый берег Дона.
В сентябре же разыгрались чрезвычайно важные события, в ходе которых упорный отказ Сталина и его соратников работать вместе с опытными военными специалистами и учиться у них военному делу привел к острому конфликту царицынцев сЦентральным Комитетом РКП (б) и высшими органами военного управления. Назревал конфликт давно, но разгорелся во всю силу после того, как Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 2 сентября принял постановление о превращении Советской Республики в единый военный лагерь. Постановление, в частности, провозгласило, что «во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики ставится Революционный военный совет с одним главнокомандующим».[200] Новому высшему органу военного управления страны были переданы права и функции упраздненного Высшего военного совета и непосредственно подчинены все органы Наркомвоена. Вместо расформированного штаба Высшего военсовета и Оперативного отдела Наркомвоена был образован Полевой штаб Реввоенсовета Республики. Следовательно, Революционный военный совет РСФСР (РВСР), будучи органом государственно-административным и распорядительным, был и органом оперативно-стратегического управления вооруженными силами страны. По государственной линии Реввоенсовет Республики подчинялся непосредственно ВЦИК и Совнаркому, причем Совнарком назначал главнокомандующего, утверждал его в должности и определял общее направление его деятельности. Постановление о главнокомандующем всеми Вооруженными Силами Республики гласило, что главкому «в пределах директив, получаемых от высшей правительственной власти, предоставляется полная самостоятельность во-всех вопросах стратегически-оперативного характера…».[201] При этом главком являлся членом Реввоенсовета Республики с правом решающего голоса. По этому принципу были установлены обязанности и права командующих фронтами и армиями. Соответственно твердо установленному V Всероссийским съездом Советов (июль 1918 г.) курсу на строительство «централизованной, хорошо обученной и снаряженной армии», притом с широким использованием «опыта и знаний многочисленных военных специалистов из числа офицеров бывшей армии»,[202] Реввоенсовет Республики 11 сентября 1918 года отдал приказ о формировании регулярных фронтовых объединений Красной Армии — Северного, Восточного и Южного фронтов. Этим же приказом РВСР были назначены командующие фронтами — бывшие генералы. 17 сентября Реввоенсовет Республики решил образовать реввоенсовет Южного фронта в составе: председатель — И. В. Сталин, командующий фронтом — военный специалист П. П. Сытин, помощник командующего — К. Е. Ворошилов, член РВС — председатель Царицынского горсовета С. К. Минин. Согласно приказу РВСР реввоенсовет и штаб Южного фронта должны были разместиться и работать в Козлове, откуда удобнее всего было управлять войсками фронта и поддерживать связь с Главным командованием и центральными органами государственного управления. Данный приказ вызвал в Царицыне неожиданную реакцию: возглавляемый Сталиным военный совет Северного Кавказа самочинно «преобразовал» себя в «Военно-революционный совет Южного фронта», выразив тем самым несогласие признавать «военспеца» Сытина командующим и нежелание переезжать куда-либо из Царицына. На исходе сентября, когда П. П. Сытин и член Реввоенсовета Республики К. А. Мехоношин прибыли в Царицын, Сталин, Ворошилов и Минин отказались признать предоставленные Советским правительством Сытину полномочия на командование фронтом и заявили, что они вообще считают более целесообразным «коллегиальное решение всех оперативных вопросов». Не добившись никаких результатов, Сытин и Мехоношин вынуждены были возвратиться в Козлов. Тем временем царицынский «триумвират» 1 октября направил в Москву ходатайство об отстранении Сытина от должности. Отказ царицынцев выполнять приказ Реввоенсовета Республики и недопустимая задержка в формировании органов управления Южного фронта вызвали тревогу в Центральном Комитете партии. Вопрос о вспыхнувшем конфликте рассматривался 2 октября на Бюро, а затем на заседании ЦК РКП(б), где решили «…вызвать тов. Сталина к прямому проводу и указать ему, что подчинение Реввоенсовету абсолютно необходимо».[203] По поручению ЦК Я. М. Свердлов в тот же день телеграфом передал в Царицын содержание принятого решения. В телеграмме, в частности, говорилось: «Не приходится доказывать необходимость безусловного подчинения… Все решения Реввоенсовета обязательны для военсоветов фронтов. Без подчинения нет единой армии… Убедительно предлагаем провести в жизнь решения Реввоенсовета».[204] В свою очередь, Реввоенсовет Республики вновь потребовал, чтобы члены РВС Южного фронта немедленно выехали в Козлов и приступили к исполнению своих обязанностей. Туда же срочно отправился председатель РВСР Троцкий, что еще больше обострило ситуацию. Встретившись с «бастовавшими» членами реввоенсовета Южного фронта, Троцкий резко осудил их позицию и тут же вручил составленный и уже подписанный им приказ войскам Южного фронта, в котором были вскрыты главные причины неудач царицынских войск: отсутствие общего командования, действия отдельными отрядами вразброд, без должной связи. «Бывало даже не раз, — говорилось в приказе, — что командиры отдельных отрядов не выполняли боевых приказов, шедших сверху. Этот пагубный преступный образ действий будет отныне уничтожен с корнем. Во главе всех армий Южного фронта поставлен Революционный военный совет… Командующий П. П. Сытин — опытный боевой военачальник — на деле доказал свою верность рабочей и крестьянской революции».[205] Содержание этого приказа Ворошилов и Минин передали вызванному в Москву Сталину, беседуя с ним по прямому проводу. При этом добавили, что они решили… не публиковать (то есть скрыть от личного состава) данный приказ, поскольку он «ложно оценивает положение и глубоко оскорбляет нашу армию» и к тому же «выдвигает Сытина». Сталин ответил, что такой документ «следовало бы назвать не приказом, а упреком, конечно, незаслуженным». Относительно же опубликования приказа Сталин сначала рекомендовал сделать это, но затем, услышав возражения Минина и Ворошилова, сказал: «Действуйте, как подсказывает ваша совесть и целесообразность».[206] Так Сталин, по сути, санкционировал очередное грубое нарушение воинской дисциплины высокопоставленными военными работниками. Ворошилов и Минин также сообщили Сталину, что 7 октября они провели собрание 55 руководящих партийных, советских и военных работников города Царицына, на котором была принята резолюция, содержащая следующие положения: ─ политика Центра, «допустившего в ряды Красной Армии в качестве ответственных руководителей с правом единоличного решения вопросов оперативного характера лиц явно из вражеского лагеря… наносит сильный ущерб успехам революции»; ─ «объясняя такую политику Центра недостаточной осведомленностью, собрание горячо протестует против насаждения в наших организациях „беспартийных“ генералов в качестве руководителей по борьбе с контрреволюцией»… ─ «ввиду серьезности положения собрание предлагает ЦК партии пересмотреть вопрос допущения в наши ряды генералов и созвать съезд для пересмотра и оценки политики Центра».[207] Резолюция эта была отправлена в ЦК РКП(б) и во ВЦИК. Так на царицынской почве появились первые ростки военной оппозиции. В. И. Ленин, находившийся тогда на лечении в Горках, был сильно обеспокоен царицынским конфликтом. 5 октября Свердлов писал ему: «Дорогой Владимир Ильич! Посылаю переговоры с Царицыном. Дело осложнилось там, как видите. Приезд Сталина полезен, сговоримся здесь».[208] На следующий день Сталин выехал в Москву, где после бесед в ЦК признал целесообразным назначение Сытина командующим, хотя накануне своего приезда характеризовал его (без всяких мотивировок) как человека «не только не нужного на фронте, но и не заслуживающего доверия, а потому вредного».[209] Для ликвидации конфликта в Козлов вместе со Сталиным поехал Я. М. Свердлов. Проблема была решена методом «хирургической операции»: Сталина, Ворошилова и Минина вывели из состава реввоенсовета Южного фронта, введя туда взамен них члена РВСР К. А. Мехоношина и бывшего члена коллегии Наркомвоена Б. В. Леграна. Вот так завершился первый период участия Сталина в обороне страны. Тем не менее именно Царицын послужил основой всех легенд и мифов о «выдающемся военном вожде» и «гениальном полководце». Анализ комплекса исторических документов и материалов, освещающих царицынский этап военной деятельности Сталина, позволяет выявить одну специфическую черту его характера и стиля работы. Когда возникал вопрос о способах борьбы с внутренними врагами, то есть людьми, проникшими со злым умыслом в ряды борцов за власть Советов, Сталин без всяких оговорок, не выдвигая никаких предварительных условий, неизменно выражает непоколебимую твердость и решимость действовать беспощадно, разгромить и физически уничтожить этих врагов. Он заявляет: «У нас рука не дрогнет», он сообщает о развертывании «открытого, массового террора против буржуазии и ее агентов» и т. п. Однако, когда дело доходило до ведения вооруженной борьбы против белогвардейцев и интервентов, его решимость и твердость как бы отходили на второй план, освобождая место неуверенности в собственных силах. Из телеграммы, отправленной 27 сентября Реввоенсовету Республики: «…если в самом срочном порядке не удовлетворите требований (речь шла об очередной заявке на поставку оружия и т. д.), мы вынуждены будем прекратить военные действия и отойти на левый берег Волги».[210] Из телеграммы Троцкому и Сытину (6 октября): «Ввиду неполучения обещанного Южный и Царицынский фронты отступают».[211] С полным основанием главком 9 декабря специальной телеграммой обратил внимание недавно назначенного нового (сменившего Сытина) командующего войсками Южного фронта Славена на то, что «командарм 10-й Ворошилов… предлагает план отхода, показывает не только пессимистическое и даже паническое настроение, но и полное непонимание последствия этого отхода».[212] И это происходило в декабре, когда 10-я армия имела более чем достаточно сил и средств для решительных наступательных действий. Длительное отсутствие твердого и умелого управления войсками отрицательно сказалось на положении всего Южного фронта и особенно на царицынском участке. Посему главком И. И. Вацетис направил командованию 10-й армии директиву, в которой констатировал, что «катастрофическое положение Царицына всецело ложится на вашу ответственность, ибо произошло исключительно от вашего нежелания работать с комфронтом Сытиным».[213] За амбиции, некомпетентность и просчеты руководителей защитникам Царицына пришлось расплачиваться своими жизнями. Именно такой вывод сделал В. И. Ленин, оценивая военно-политические уроки царицынской обороны. На закрытом пленарном заседании VIII съезда РКП(б) он сказал: «Тов. Ворошилов говорит: у нас не было никаких военных специалистов и у нас 60 000 потерь. Это ужасно… Вы говорите: мы героически защищали Царицын… В смысле героизма это громаднейший факт, но в смысле партийной линии, в смысле сознания задач, которые нами поставлены, ясно, что по 60 000 мы отдавать не можем и что, может быть, нам не пришлось бы отдавать эти 60 000, если бы там были специалисты, если бы была регулярная армия…»[214] Да, проблему борьбы с засильем «военспецов» Сталин решил без особых затруднений, притом самыми радикальными способами: арестами (с последующим расстрелом или же отправкой на «баржу смерти»). Этапы этой борьбы обозначены довольно четко: в августе 1918 года Сталин доложил об улучшении положения на фронте благодаря аресту военных специалистов. В декабре того же года управляющий делами реввоенсовета 10-й армии Каменский похвалялся со страниц «Правды» тем, что в их армии не было ни одного генштабиста. А в марте 1919 года на VIII съезде партии член реввоенсовета Южного фронта и 10-й армии Минин заявил: «Царицын прославился именно тем, что у него не было специалистов».[215] Не было военспецов, значит, и оснований жаловаться на их козни и вредительство тоже не было. Но Сталин всегда умел находить «козлов отпущения», чтобы, как написал о нем поэт А. Твардовский,
Положительно было оценено только состояние Балтийского флота. Сейчас, рассматривая итоги первого рабочего дня Сталина в Петрограде, мы можем отметить большой объем выполненной работы, высокую оперативность в решении сложных проблем и другие «плюсы». Тем рельефнее выделяется на этом фоне субъективная, ничем не обоснованная оскорбительная характеристика двух лиц высшего командного состава, честно выполнявших свой воинский и патриотический долг. По-видимому, опыт Царицына ничему не научил Сталина, не ослабил его упорное отрицание самой возможности сотрудничества с военными специалистами. Комплекс дошедших до нас отчетных писем, телеграмм, переговоров по прямому проводу и других документов, в которых отображена напряженная работа Сталина во время пребывания в петроградской командировке, позволяет увидеть (вернее, осознать), насколько сильно тревожило его неодолимое ощущение присутствия многочисленных тайных врагов, шпионов, саботажников, вредителей и т. п., якобы проникших в ряды и в тылы воинов, сражающихся за власть Советов. Подозрительность Сталина беспредельна. Например, в секретной записке (4 июня 1919 г.) он пытается доказать Ленину, будто «…не только Всеросглавштаб работает на белых, но и Полевой штаб Реввоенсовета Республики во главе с Костяевым». Тут же добавляет, что «Надежный не способен командовать… загубит Запфронт», и, наконец, что называется, берет быка за рога, заявляя: «Весь вопрос теперь в том, чтобы ЦеКа нашел в себе мужество сделать соответствующие выводы. Хватит ли у ЦК характера, выдержки…»[226] В ленинском документе «Все на борьбу с Деникиным!» на поставленные Сталиным вопросы (об отношении к военным специалистам) был дан такой ответ: «…было бы непоправимой ошибкой и непростительной бесхарактерностью возбуждать из-за этого вопрос о перемене основ нашей военной политики».[227] Обращает на себя внимание предельно жесткий тон, которым разговаривали с подозреваемыми в возможной измене руководители обороны Петрограда. В подписанном Сталиным и Зиновьевым приказе по войскам, оборонявшим Петроград, говорилось: «Семьи всех перешедших на сторону белых будут арестованы, а сами перебежчики и всякие паникеры будут расстреливаться на месте».[228] Угрозы эти беспощадно приводились в исполнение. В одной из телеграмм Сталин сообщил Ленину и Реввоенсовету Республики о таком происшествии: один из недавно сформированных полков перешел на сторону противника, перебив при этом имевшихся коммунистов. Белогвардейское командование сразу же послало этот полк в бой, где он был разбит. При этом, сказано в телеграмме, «наши захватили пленных, которые подлежат торжественному расстрелу».[229] Безусловно организаторы перехода к врагу и активные участники расправы над коммунистами заслуживали расстрела. Однако додуматься до проведения массового торжественного расстрела мог только ослепленный жестокостью человек. Сталин нетерпимо относился к любым критическим замечаниям. По этой причине в самом начале июня вспыхнул серьезный конфликт. Член реввоенсовета Западного фронта А. И. Окулов, резко критиковавший на VIII съезде РКП(б) царицынские «порядки», написал Ленину, что одной из причин разрухи Западного фронта является особое положение 7-й армии, признающей и не признающей фронтового командования, фактически находящейся в руках петроградских ответственных работников. При этом Окулов предложил варианты исправления ситуации. Содержание телеграммы Окулова Ленин сразу же сообщил Сталину и добавил от себя: «Зная постоянную склонность Питера к самостийности, думаю, что Вы должны помочь реввоенсовету фронта объединить все армии… Надо, чтобы конфликт с Окуловым не разросся».[230] Ответ Сталина последовал быстро: «Самостоятельность Питера — недостойная сплетня… Либо имеется доверие и поддержка, и тогда Окулов должен уйти, ибо он мешает работникам, либо мне здесь нечего делать. В случае неполучения ответа сегодня же, мне придется снять ответственность и выехать в Москву. Работать при таких условиях считаю бессмысленным».[231] Из Центрального Комитета партии Сталин получил такую телеграмму: «Ввиду конфликта… между всеми питерскими цекистами и Окуловым, признания абсолютно необходимых максимум сплоченности в интересах военной работы и необходимости быстрой победы на этом фронте, Политбюро и Оргбюро ЦеКа постановляют временно отозвать Окулова и направить его в распоряжение товарища Троцкого».[232] Поскольку Сталин и Зиновьев высказывали недовольство деятельностью Главкома И. И. Вацетиса, настаивали на снятии Надежного с поста командующего Западным фронтом и вообще потребовали созвать пленум ЦК «для рассмотрения вопроса о военспецах», ЦК 10 июня запросил Сталина и Зиновьева, настаивают ли они на созыве пленума 15 июня. Напряженная ситуация на фронтах препятствовала срочному созыву пленума. Тем не менее 15 июня состоялось заседание Центрального Комитета, в повестке дня которого первым стоял вопрос о предложениях членов ЦК, находившихся в Петрограде. Краткая протокольная запись этого заседания показывает, что его участники отклонили большую часть требований и предложений Сталина и Зиновьева. Центральный Комитет партии большевиков решил: ─ главкома Вацетиса и командующего Западным фронтом Надежного оставить на занимаемых ими постах; ─ начальника Полевого штаба РВСР Костяева переместить на другую должность; ─ в связи с немотивированным отзывом Окулова из реввоенсовета Западного фронта выразить ему от имени ЦК доверие и назначить членом реввоенсовета Южного фронта.[233] Были проведены и некоторые другие перемещения высшего командного и партийно-политического состава. В свете этих решений представляется отнюдь не случайным включение в повестку дня того же заседания ЦК вопроса, обозначенного в протоколе одним словом — «Особоуполномоченные». По этому вопросу ЦК постановил: ─ впредь, за редким исключением, никаких особоуполномоченных Совета Обороны, ВЦИК и Совнаркома не посылать; ─ в случае необходимости посылка их разрешается только по постановлению Политбюро и Оргбюро ЦК; ─ особоуполномоченные по прибытии на место командировки немедленно входят в состав местных партийных и советских органов и сами не могут давать никаких определенных распоряжений в порядке управления.[234] Тем самым Центральный Комитет партии (по-видимому, по инициативе В. И. Ленина) решительно ограничил права и возможности «чрезвычайных» и «особых» уполномоченных принимать единоличные решения и волевым методом воздействовать на местные органы управления. Насколько своевременным и правильным было данное постановление ЦК, показала полученная Лениным на следующий день телеграмма из Петрограда, которой Сталин извещал: «Вслед за Красной Горкой ликвидирована Серая Лошадь… Морские специалисты уверяют, что взятие Красной Горки с моря опрокидывает морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой».[235] Однако «действовать таким образом» на фронтах гражданской войны Сталину больше не пришлось: постановление ЦК РКП(б) от 15 июня 1919 года воспрещало подобные действия. А Ленин ясно выразил свое отрицательное отношение к самовосхвалениям Сталина тремя вопросительными знаками и «репликой», написанной прямо на полях этой телеграммы: «Красная Горка взята С СУШИ». Значительно усиленные прибывшими пополнениями войска Красной Армии на Петроградском участке фронта перешли 22 июня 1919 года в наступление и к началу июля отбросили противника на его исходные позиции — на территорию Эстонии. Вся последующая военная деятельность Сталина в 1919―1920 годах существенно отличалась по своему содержанию и интенсивности. Не обладая чрезвычайными полномочиями и особыми правами, будучи лишь «рядовым» членом реввоенсовета того или иного фронта, он значительно снижает свою активность, болезненно реагирует на несогласие с его мнением, тем более на критические замечания. Особенно отчетливо эти черты проявились в тот переломный момент, когда Сталин постановлением ЦК от 15 июня 1919 года с высокого поста «особоуполномоченного Совета Обороны» в Петрограде переместили на пост члена реввоенсовета Западного фронта, штаб которого располагался тогда в Смоленске. Не случайно об этом этапе боевого пути Сталина в юбилейных статьях Ворошилова не сказано ничего, а в Краткой биографии упомянуто только мимоходом, хотя смоленский этап оказался значительно длиннее петроградского. Дело дошло до того, что 7 сентября 1919 года Сталин телеграммой напомнил Ленину, что ЦК временно переключил его на военную работу, что он переутомлен фронтовой работой и может оставаться на фронте «еще неделю, не более».[236] Сталину предоставили небольшую передышку, а 26 сентября пленум ЦК РКП(б) назначил его на новый, более ответственный и престижный пост: он стал членом реввоенсовета Южного фронта. Так, в первый и последний раз за годы гражданской войны Сталин оказался на самом важном фронте Советской Республики, где действительно решалась в то время судьба революции, на том направлении, где наносили свой главный удар организаторы «второго похода Антанты». На Южном фронте он вскоре «дал понять» окружающим, что он не только член реввоенсовета, но и член Политбюро и Оргбюро ЦК, к тому же еще и занимающий одновременно посты наркома по делам национальностей и наркома государственного контроля. Исподволь, не торопясь, но зато весьма основательно закладывал уже тогда Сталин фундамент мифа о своей выдающейся роли в разгроме деникинщины. Сначала малозаметными подтасовками фактов и нарушениями последовательности в изложении хода событий он создавал впечатление, переходившее нередко в убеждение, что именно с момента появления Сталина на Южном фронте произошел перелом к лучшему, что не командующий войсками фронта и тем более не возглавляемый Троцким Реввоенсовет Республики вырабатывали оперативные и стратегические решения, не они, а Сталин, Ворошилов и Буденный были организаторами и творцами побед. Уже в статье «Новый поход Антанты на Россию», опубликованной на страницах «Правды» в мае 1920 года, Сталин писал: «Второй поход Антанты был предпринят осенью 1919 года… Он предполагал совместное нападение Деникина, Польши, Юденича (Колчак был сброшен со счета)». Все здесь притянуто к осени силовым способом. Ведь не осенью, а значительно раньше двинул свои армии на Москву Деникин. Польша осенью 1919 года вовсе не торопилась помогать Деникину, призывавшему восстановить «единую и неделимую» Россию. Да и Колчак даже осенью не был еще сброшен со счета. Скромно высказанные Сталиным в 1920 году положения обрели завершенную форму в Кратком курсе истории ВКП(б), где сказано так: «К половине октября белые овладели всей Украиной, взяли Орел и подходили к Туле… Белые приближались к Москве. Положение Советской Республики становилось более чем серьезным. Партия забила тревогу и призвала народ к отпору, провозгласив лозунг „Все на борьбу с Деникиным!“». Напомним, что работа В. И. Ленина «Все на борьбу с Деникиным!» была опубликована за подписью ЦК РКП(б) 9 июля 1919 года. Авторы Краткого курса это прекрасно знали, тем более что при ознакомлении членов Политбюро с рукописью этой ленинской статьи Сталин резко возражал против некоторых ее положений и высказанных там критических замечаний в адрес партийных органов, которые «берут неверный тон по отношению к военным специалистам (как это было недавно в Петрограде)…»[237] Почему же события, происходившие в разное время, свалены в одну кучу и отнесены «к половине октября»? Сделано все это не по ошибке, а совершенно сознательно, чтобы: ─ во-первых, всячески сблизить по времени прибытие Сталина на Южный фронт с контрнаступлением войск Южного фронта, начавшимся в десятых числах октября (в штаб Южного фронта Сталин прибыл 3 октября); ─ а во-вторых, дата «15 октября 1919 года», то есть как раз «половина октября» (дата, кстати сказать, тоже сфальсифицированная Сталиным), стоит на печально знаменитом документе, который в течение нескольких десятилетий прославлялся как «сталинский план разгрома Деникина». Советские историки после XX съезда КПСС с полной достоверностью установили, когда и почему был написан этот документ, получивший впоследствии такую большую известность. Произошло это так: в начале ноября 1919 года возникли серьезные разногласия между Главным командованием Красной Армии и командованием войск Южного фронта по вопросу о том, как делить резервы и подкрепления между действующими на юге двумя фронтами — Южным и Юго-Восточным. Не согласные с мнением работников Ставки, решивших дать тому и другому фронту одинаковое количество пополнений (хотя Южный фронт уже вел успешное контрнаступление, а Юго-Восточный еще держал оборону), члены реввоенсовета Южного фронта Сталин и Серебряков 10 и 14 ноября направили Центральному Комитету РКП(б) письма, в которых выдвинули ультимативные требования — сменить либо руководителей Ставки, либо реввоенсовет Южного фронта. Сталин телеграфировал в ЦК: если его предложения о присылке подкреплений не выполнят, он откажется от дальнейшей работы в РВС Южфронта. Политбюро ЦК 14 ноября указало Сталину на абсолютную недопустимость подкреплять свои деловые требования ультиматумами и заявлениями об отставках. На следующий день, то есть 15 ноября, Сталин послал Ленину большое письмо, в котором изложил свою точку зрения на задачи и роль Южного и Юго-Восточного фронтов и мотивировал преимущества нанесения главного удара по отступающим деникинцам в направлении Харьков — Донбасс — Ростов. Поскольку ЦК накануне уже решил вопрос о задачах и направлениях действий обоих фронтов, Ленин ограничился резолюцией: «В архив. Секретно». Безусловно, зная все это, Ворошилов (в первой юбилейной статье) и Сталин (в 4-м томе сочинений) «отодвинули» дату написания письма на месяц назад, ибо без такого «усовершенствования истории» получилось бы, что «гениальный сталинский план операции по разгрому Деникина» написан… через 20 суток после того, как операция началась. Для большей убедительности Ворошилов еще и добавил: «План Сталина был принят Центральным Комитетом».[238] Эта же фраза есть и в Краткой биографии Сталина. В завершение данного исторического эпизода процитируем столь характерную для Сталина последнюю фразу его письма: «Без этого[239] моя работа на Южном фронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на Южном фронте».[240] Ноябрьский конфликт с ЦК, содержание и тон письма к Ленину и последующее преобразование этого письма в «сталинский стратегический план» (тем более что основная идея плана — нанесение главного удара в направлении Харьков — Донбасс — Ростов — «заимствована» у бывшего главкома И. И. Вацетиса) отчетливо высветили основные черты и особенности стиля работы, а также личного характера Сталина: стремление к единовластию; убеждение в собственной непогрешимости; неприятие любых критических суждений и замечаний, от кого бы они ни исходили; смешанная с завистью подозрительность, особенно по отношению к опытным военным специалистам; и, наконец, полное пренебрежение любыми общечеловеческими нравственными принципами и нормами. Уже через несколько лет после окончания гражданской войны, пытаясь доказать, что якобы он сам, а не кто-либо другой был в период контрнаступления и общего наступления советских войск против Деникина самым главным лицом на Южном фронте, Сталин прибегнул к весьма неблаговидному приему. Он в примечаниях к тексту речи, произнесенной им на пленуме Коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 года, сообщил, что якобы осенью 1919 года, когда деникинцы подходили к Орлу, «Центральный Комитет признает положение тревожным и постановляет направить на Южный фронт новых военных работников, отозвав Троцкого. Новые военработники требуют „невмешательства“ Троцкого в дела Южного фронта», и далее в том же духе. Нетрудно догадаться, кого в первую очередь имеет в виду Сталин, говоря о «новых военработниках». Запущенная исподтишка Сталиным «утка» об отлучении Троцкого от Южного фронта «по требованию (!) новых военработников» была «творчески развита» Ворошиловым и долго гуляла по свету. Опровергать ее пытался и устно, и письменно сам Троцкий. В письме Л. П. Серебрякову (сентябрь 1927 г.), отвергнув сталинские вымыслы, он писал: «Никогда никто незапрещал мне ездить на Южный фронт… Возможно, тов. Сталин за моей спиной ходатайствовал о чем-нибудь подобном. Я об этом никогда ничего не слышал. …Только человек, отравленный злопыхательством, может договориться до таких бессмыслиц, которые в себе самих заключают свое опровержение».[241] Сказано резко и убедительно. Беспристрастные документы также свидетельствуют о том, что Реввоенсовет Республики в октябре — декабре 1919 года, так же как и раньше, рассматривал и решал крупные и мелкие проблемы Южного фронта. При этом на ряде заседаний РВСР, которые вел Троцкий, Сталин не только присутствовал, но и был в числе докладчиков по важным пунктам повестки дня. Например, на заседаниях РВСР 2 и 15 октября по докладам Сталина были приняты решения о пополнениях для Латышской дивизии, о включении в Южный фронт новых соединений и т. п. А 17 ноября на очередном заседании РВСР, в котором участвовали Троцкий и Сталин, первым рассматривалось и было одобрено предложение реввоенсовета Южного фронта (докладчик — командующий фронтом А. И. Егоров) «О создании Конной армии Южного фронта». (В статьях Ворошилова, конечно, другая версия: «Конная армия была создана вопреки противодействию Троцкого».) В свете этих фактов становится очевидной несостоятельность созданного Сталиным мифа об отстранении Троцкого от Южного фронта. Южный фронт 10 января 1920 года был преобразован в Юго-Западный фронт, главные силы и усилия которого были ориентированы на действия против белополяков, а одна (13-я) армия — против засевших в Крыму войск Врангеля. Тем самым для Сталина, который с этого момента стал членом РВС Юго-Западного фронта, период борьбы против «второго похода Антанты» закончился. Начинался новый — завершающий — этап его участия в гражданской войне, в ходе которого Советская Республика отразила очередное военное нападение белогвардейцев и интервентов, названное Сталиным «третьим походом Антанты». К началу этого этапа Сталин считал себя опытным, незаменимым военным деятелем, обладающим большими организационно-административными и оперативно-командными способностями. С таких позиций он позволял себе активно вмешиваться в решение оперативных и даже стратегических вопросов, с пренебрежением отзываться и относиться к решениям и директивам Главного командования и уклоняться от их точного выполнения, часто конфликтовать с Лениным и Центральным Комитетом партии. Так, 4 февраля 1920 года из Курска (там находился штаб Юго-Западного фронта), получив задание ЦК поехать в Ростов и войти в состав реввоенсовета Кавказского фронта, Сталин ответил, что считает такую поездку ненужной, что он «не вполне здоров» и просит ЦК не настаивать на его поездке. Когда же Центральный Комитет сообщил, что считает поездку в Ростов необходимой, Сталин ответил так: «Распоряжению Цека, несмотря на его дикость и на состояние здоровья, подчиняюсь» и тут же поставил свои условия: командировка в Ростов будет временная; ЦК должен объявить в печати, что он — Сталин — командируется на Кавказский фронт по военным обстоятельствам, чтобы товарищи не обвиняли его «в легкомысленном перескакивании».[242] Внимательно знакомясь с довольно обширной военной перепиской Сталина с высшими органами партии и Красной Армии, можно без особых усилий обнаружить немало документов, содержащих, по меткому определению Ленина, различные «капризы» и придирки. И не случайно как раз об этой отрицательной черте сталинского характера сказал Владимир Ильич в своем политическом завещании. Здесь нет необходимости приводить многочисленные примеры сталинских капризов. Рассмотрим кратко только два эпизода, в которых своеволие и амбиции Сталина послужили исходным пунктом весьма серьезных отрицательных последствий. 2 августа 1920 года Ленин шифровкой сообщил Сталину: «Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем в Сибири, опасность Врангеля становится громадной…»[243] И хотя в телеграмме Ленина речь шла о проблеме оперативно-стратегического масштаба (выделение крымского участка Юго-Западного фронта в самостоятельный новый фронт), о необходимости срочно преодолеть громадную опасность, Сталин счел возможным в своем ответе свести все к мелкому личному вопросу. Он телеграфировал Ленину: «…Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать на фронте еще максимум две недели, нужен отдых, поищите заместителя…»[244] Этот «каприз» Сталина надолго отодвинул формирование самостоятельного антиврангелевского фронта. А вот как ловко изображен этот эпизод в статье Ворошилова: сначала процитирована только первая фраза ленинской шифровки, и тут же черным по белому написано: «Товарищ Сталин организует новый фронт, намечает план уничтожения Врангеля».[245] Еще более тяжелые последствия повлек за собой неожиданный «зигзаг» в суждениях и решениях в тот напряженный момент советско-польской войны, когда войска Западного фронта уже непосредственно угрожали Варшаве, а войска Юго-Западного фронта завязали бои на ближних подступах к Львову. Поскольку Западный фронт, наносивший главный удар, вышел на подступы к польской столице значительно ослабленным длительными наступательными боями, 2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение срочно передать Западному фронту из Юго-Западного фронта 1-ю Конную и две общевойсковые армии. Как член Политбюро, Сталин согласился с этим решением. Но когда 3 августа главком послал директиву командованию ЮЗФ и командующий ЮЗФ А. И. Егоров отдал приказ о передаче этих армий, Сталин неожиданно отказался подписать этот приказ. А без подписи обоих членов реввоенсовета приказ командующего силы не имел. Несмотря на повторные требования и директивы главкома, Сталин, ссылаясь на различные надуманные причины, упорно отказывался поставить свою подпись под приказом. Конфликт затянулся на две недели. Этим воспользовалось командование противника. Польские войска перешли в контрнаступление, нанесли мощный удар по ослабленным частям Красной Армии и вынудили ее к отступлению.
Собственной рукой внес И. В. Сталин в текст своей же Краткой биографии оценку своего же полководческого искусства, проявленного на фронтах гражданской войны. Он написал: «С гениальной прозорливостью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства». Каждый непредубежденный читатель поймет, насколько далеко от истины это самовосхваление. Липицкий С. В. ─ доктор исторических наук

Юренев Константин Константинович
Годы жизни: 1888―1938. Член партии с 1905 г. В 1917 г. член Петроградского ВРК, делегат II съезда Советов, член ВЦИК 2-го созыва. В сентябре 1918 г. — Июле 1919 г. член РВСР…
(Энциклопедия «Гражданская война и военная интервенция в СССР». 1987).
О Константине Константиновиче Юреневе (настоящая фамилия Кротовский) нет ни книг, ни статей. Есть только несколько биографических справок в различных энциклопедиях, в общем, повторяющих одна другую. Источником, послужившим основой всех этих справочных материалов, была автобиография Юренева, опубликованная в 41-м томе энциклопедии Гранат в разделе «Деятели СССР и Октябрьской революции». Автобиография начиналась так: «…родился в 1888 г. в г. Двинске Витебской губернии. Отец служил сторожем на ст. Двинск… Образование я получил в Двинском реальном училище. В 1904 г. впервые вошел в нелегальные кружки учащихся и посещал отдельные собрания местной социал-демократической организации…» Двинск… Это и родной город Юренева (ныне Даугавпилс Латвийской ССР), и название его первой большой работы, опубликованной журналом «Пролетарская революция» в 1922―1923 годах. Ко времени 1904―1905 годов Двинск уже имел довольно значительную кожевенную промышленность (заводы Грилихеса, Закгейма и т. д.), спичечную (крупная фабрика Закса), табачную. Крупные кадры рабочих были сосредоточены в Риго-Орловских железнодорожных мастерских (3,5 тысячи рабочих) и в железнодорожном депо. С точки зрения интересов революционной работы Двинск являлся важным пунктом еще и потому, что в нем квартировали целая пехотная дивизия и дивизионы крепостной и полевой артиллерии. Важен был Двинск и со стратегически-революционной точки зрения, как узел железных дорог на Варшаву, Петербург, Ригу. О своем вступлении в социал-демократическую организацию Юренев не пишет, но в упомянутой работе есть примечательная фраза: «В 1904 году (конец) в работу вошла целая группа интеллигентной молодежи. Часть ее работала активно в качестве организаторов, агитаторов и пропагандистов; часть оказывала пассивную помощь (хранение литературы, явочные квартиры)». О себе Юренев здесь не говорит, но из последующего изложения можно понять, что он принадлежал к первой, активной части. Как вспоминал впоследствии Юренев, «Двинская организация ко времени 1905 г. насчитывала в своих рядах несколько сот человек. По своему социальному составу она была пролетарски-ремесленной. Руководящими верхами ее являлись в подавляющем большинстве случаев интеллигенты-учащиеся (студенты, реалисты). Верховодили всем так называемые „профессиональные революционеры“ — мученики и герои партии и революции, вынесшие на своих плечах всю тяжесть руководящей работы в годы массового революционного движения». Особую роль в судьбе молодого революционера сыграл один из «профессионалов» — Д. З. Мануильский, направленный ЦК РСДРП в Двинск в ноябре 1905 года и работавший там под кличкой Мефодий. По словам Юренева, он пользовался наибольшей популярностью в массах среди всех членов комитета; не случайно его называли «обер-агитатором» Двинска. «Брал Мефодий пафосом и юмором, которым искрились его от „широкого сердца“ произносимые речи. Как руководитель агитаторской школы Мефодий тоже был вполне на месте», — писал впоследствии Юренев. Одним из членов этой «школы» был и Костя Кротовский. Важным направлением в деятельности Двинской организации была работа среди солдат. Ее стали вести уже с 1905 года, хотя, как вспоминал Юренев, «трудность военно-революционной работы в то время была очень велика. Связей с солдатской массой почти не было», но постепенно «организации удалось приобрести довольно значительный круг знакомств и связей с военной средой». Вместе с тем «до начала 1906 года военная работа в Двинске не носила организованного характера и особой „военно-революционной организации при Двинском комитете РСДРП“ не существовало». Положение стало меняться с января 1906 года, когда в Двинск вернулась из Маньчжурии боевая дивизия. «Комитету очень скоро удалось наладить хорошие связи с артиллеристами, пехотинцами. Не только в каждом полку, но и в батальонах, ротах имелись группы наших товарищей. Основной скрепой организации был „ротный комитет“. Если в роте было много организованных, то „комитет“ избирался, в случае же, если их было 2―3 человека, они и составляли комитет. Собрание представителей рот выбирало батальонный комитет, а иногда, если в батальонах было мало ротных организаций, — прямо полковой. Председатели полковых комитетов и отдельных специальных частей войск (артиллерия, саперы) „составляли“ центр военной организации… Настроение солдатской массы было очень революционное. Почти все руководящие товарищи-солдаты были если не большевиками по убеждению, то по настроению. Они рвались в бой». Опыт работы в солдатской среде в годы первой русской революции не прошел для Юренева бесследно. В период его пребывания в Двинске было еще одно направление в партийной работе, опыт которого оказался важен и нужен в 1917 году. Осенью 1905 года при Двинском комитете РСДРП была организована так называемая «боевая дружина». К декабрю она насчитывала около 200 боевиков, главным образом рабочих железнодорожников и кожевенников. Как вспоминал впоследствии Юренев, «боевая дружина разбивалась на „десятки“. Во главе „десятки“ стоял „товарищ десятский“. Высшей организационной единицей „боевки“ была сотня с „сотским“ во главе. Всей дружиной руководил один товарищ — „начальник“ — профессиональный революционер», через которого она была связана с комитетом. И этот опыт оказался впоследствии весьма поучителен. В конце 1906 года Юренев (Евгений) был избран членом Двинского комитета, который направил его своим представителем в «военный центр», где он работал вплоть до ареста, последовавшего весной 1908 года. Юренев (которому едва исполнилось 20 лет) был арестован на улице, и так как прямых улик против него не было, то после почти пятимесячной «отсидки» он даже не был предан суду, а без суда отправлен на 3 года в административную ссылку в Архангельскую губернию. В 1911 году, отбыв ссылку в Пинежском уезде, Юренев вернулся в Петербург, где связался с газетой «Звезда», а к началу 1912 года — с группой активных работников РСДРП. Нелегальная работа, аресты… Чтобы скрыться от полиции, переезжает из города в город. Так он жил до Февральской революции 1917 года.Особо стоит остановиться на событиях 1913 года, когда он вместе с рядом других социал-демократов (и большевиков, и меньшевиков) выступает в качестве организатора «Петербургской междурайонной комиссии». В двух номерах журнала «Пролетарская революция» за 1924 год были опубликованы его обширные воспоминания «Межрайонка (1911―1917 гг.)», которые помогают понять позицию и поведение Юренева в эти сложные годы. Кстати, именно в это время и возникает Илья Юренев — литературный и партийный псевдоним К. К. Кротовского, который затем становится его фамилией. Летом 1912 года в Петербурге функционировали две основные социал-демократические организации — Петербургский комитет РСДРП (большевиков) и Инициативная группа РСДРП (меньшевиков). «ПК имел очень мало работников, — пишет он, — частые провалы обессиливали организацию, и в результате работа велась крайне несистематически. Однако „фирма“ Петербургского комитета пользовалась у рабочих большим доверием; долгие годы энергичной работы большевиков не прошли бесследно. Беда ПК заключалась в отсутствии сплоченной авторитарной „верхушки“; „пекистски“ же настроенная масса имелась во всех районах… Что касается „инициативки“, то она, как раз наоборот, имела крепкий штаб и несравненно более слабые, чем у ПК, связи в районах; в некоторых „инициативщики“ исчислялись единицами».[246] И далее: «Разделяя основную политическую линию Петербургского комитета большевиков, мы отвергали многие из его методов работы. Кроме того, мы отказывались „признать“ большевистскую конференцию 1912 года конференцией всей РСДРП. Наконец, мы крайне невысоко расценивали истинную силу Петербургского комитета».[247] В этом небольшом рассуждении ключевой момент — неприятие решений Пражской конференции, практически поставивших вне партии всех меньшевиков. Обычно говорят, что конференция созывалась с участием меньшевиков-партийцев, что их вовсе не собирались изгонять из партии. Все это так. Но курс, взятый Пражской конференцией, — на создание партии чисто ленинского большевизма — фактически исключал возможность сотрудничества в одних организациях большевиков и сколько-нибудь значительной части меньшевиков. Этого, очевидно, не мог принять Юренев. Так что «большевизм» для Юренева той поры и для тех, кто разделял его взгляды, означал определенную систему политических воззрений, а не партийную принадлежность. Они были, во-первых, социал-демократами, а только, во-вторых, большевиками, сознание социал-демократической общности мешало им безоговорочно принять решение Пражской конференции. Было еще одно обстоятельство, которое, очевидно, толкало Юренева и его соратников к стремлению создать единую социал-демократическую организацию вне существовавших фракций, — это наличие значительного слоя социал-демократически настроенных рабочих, не очень ясно представлявших себе суть разногласий между большевиками и меньшевиками. Для них идея «единства» выглядела особенно привлекательной. «В результате долгих бесед и дискуссий, — писал Юренев, — мы решили начать строительство новой партийной организации, независимой от ПК и от „инициативки“. В основу нашей работы мы положили принцип объединения большевиков и революционных с.-д. В отношении к меньшевикам наша позиция была совершенно определенная: мы были за единство с теми из них, кто признавал нелегальную партию и общепартийные решения до последней общей конференции в 1908 году».[248] Перечисляя лидеров «межрайонки», начавшей свое существование с ноября 1913 года, Юренев называет четверку из трех большевиков — А. М. Новоселова, Е. М. Адамович и К. К. Юренева и одного меньшевика — Н. М. Егорова. Однако даже из его воспоминаний можно понять, что идейным лидером новой организации был он сам, действовавший тогда под кличкой Андрей. Им была написана «платформа» «межрайонки», получившая широкое распространение на предприятиях столицы еще и потому, что, как он писал, «Петербургский комитет большевиков в это время почти не функционировал». В первые месяцы существования «межрайонка» довольно быстро росла. Осенью 1915 года она объединяла лишь 60―80 человек, однако нарастание революционного кризиса в стране привело к подъему межрайонной организации, и накануне Февральской революции в ней насчитывалось 400―500 членов. Наверно, не без влияния Юренева видное место в программе «межрайонцев» занимала работа в армии, а с началом первой мировой войны была поставлена задача — создать свою военную организацию. Как вспоминал Юренев, «связи с казармой у нас имелись как в Петербурге (Кексгольмский и Преображенский полки), так и в Кронштадте, но организованных ячеек не было». Из-за провалов длительное время создать военную организацию «межрайонцам» не удавалось. Только в 1916 году были установлены прочные связи с частями, находившимися в пригородах столицы (в Ораниенбауме, Красном Селе) и даже в соседней Новгородской губернии, где стояли кавалерийские части Петроградского военного округа. Впоследствии, в дни Февральской революции, активное выступление всех этих частей было во многом результатом предшествующей агитационно-пропагандистской работы. В революционной работе Юренева был перерыв с февраля 1915 по февраль 1916 года — его арестовали. После выхода из тюрьмы он вернулся к партийной работе, но именовался уже не Андреем, а Ильей. Так, в феврале 1916 года и появился окончательно на свет Илья Юренев. Он вновь вошел в состав Межрайонного комитета, а затем возглавил его агитационно-пропагандистскую группу, которая, судя по его воспоминаниям, во многом напоминала двинскую «школу» Д. З. Мануильского. Накануне Февраля окрепли связи «межрайонки» и ПК большевиков. Юренев пишет в воспоминаниях, что позиции ПК и «межрайонки» были близки друг к другу, но большевики первыми выдвинули лозунг образования Совета рабочих депутатов, а «межрайонцы», не веря, что революция уже у порога, предлагали выждать дальнейшего развития событий. В результате в Февральские дни большевики шли в ногу с событиями, а «межрайонцы» несколько отставали от них. Тем не менее 27 февраля они захватили типографию газеты «Новое время» и первыми выпустили листовку, призывавшую рабочих и солдат столицы к вооруженному восстанию. А на другой день в той же типографии был отпечатан первый номер «Известий Петроградского Совета». Строки, посвященные периоду между Февралем и Октябрем, в автобиографии Юренева весьма скупы: «После революции был избран членом Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже — членом ЦИК. С сентября месяца по поручению Исполнительного Комитета работал над организацией Красной гвардии. Был председателем Главного штаба ее».[249] Юренев как представитель «межрайонки» был включен в Исполком Петроградского Совета уже на первом его заседании, состоявшемся в ночь с 27 на 28 февраля. В отличие от общероссийских партий, получивших по два места в Исполкоме, «межрайонцы» при поддержке большевиков получили одно, и его тут же отдали Юреневу. Казалось, незначительная по общероссийским масштабам организация будет вести себя «тихо», однако на одном из ближайших заседаний Исполком был вынужден заниматься именно ее делами. 1 марта состоялось первое заседание Петроградского Совета как органа, объединявшего уже и рабочих, и солдат. Естественно, оно занялось «солдатскими вопросами», а его результатом явился знаменитый приказ № 1, вырвавший армию из рук реакционного офицерства. Приказ, на основании которого власть в войсках Петроградского гарнизона, по сути дела, переходила к солдатским комитетам, вызвал бурю возмущения у командования и в буржуазных кругах. Однако еще большее негодование, и не только буржуазии, но и соглашателей, вызвала обращенная к солдатам листовка «межрайонцев» и эсеров, в которой содержался призыв избирать взводных, ротных и полковых командиров. Вопрос об этой листовке был поставлен на заседании Исполкома 2 марта, который большинством голосов принял решение ее уничтожить. Однако когда на проходившем в тот же день пленуме Советов его председатель Н. С. Чхеидзе назвал эту прокламацию провокаторской, то по требованию К. К. Юренева и лидера петроградских эсеров П. Александровича он был вынужден отказаться от этого обвинения. Когда на пленуме Петроградского Совета 2 марта обсуждался вопрос о власти, Юренев вместе с большевиками А. Г. Шляпниковым, П. А. Залуцким, В. М. Молотовым и другими выступил против образования буржуазного кабинета, за создание Временного революционного правительства, но, как известно, они остались в меньшинстве. Писать о роли Юренева в событиях марта — июля 1917 года — это значит писать в первую очередь о процессах, происходивших в «межрайонке». А она, хоть и не очень быстро, но неуклонно шла на дальнейшее сближение с партией большевиков. Важную роль в этом процессе сыграли «Апрельские тезисы» В. И. Ленина, определившие курс развития революции. В этих условиях «межрайонцы» стали постепенно отказываться от своего традиционного лозунга — «единой РСДРП». На состоявшемся 12 апреля заседании Организационного бюро объединительного съезда социал-демократов Юренев заявил, что «межрайонцы» отказываются от участия в этом съезде, так как предлагаемая платформа объединения — устаревшие программа и устав РСДРП, а не революционный интернационализм. В мае ситуация в «межрайонке» несколько меняется. Возвращаются из эмиграции видные партийные деятели, близкие по взглядам к «межрайонцам», — Троцкий, Луначарский, Мануильский и некоторые другие. Они становятся во главе организации, и Юренев несколько отходит на второй план. Это проявилось и в ходе I Всероссийского съезда Советов, когда членами ЦИК от фракции «объединенных социал-демократов» стали Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский, Б. М. Позерн, П. И. Старостин и некоторые другие (всего 8 человек), а К. К. Юренев вошел только в число пяти кандидатов. Однако после июльских дней положение вновь изменилось. Троцкий и Луначарский оказались в тюрьме, и на VI съезде партии Юренев оказался фактическим главой делегации «межрайонцев», которая состояла из четырех человек с решающим голосом и трех — с совещательным. Среди них были такие видные деятели, как М. С. Урицкий и А. А. Иоффе, однако именно К. К. Юренев на первом заседании был избран в президиум съезда и выступал с докладами о работе «межрайонки» и об объединении партии. Эти доклады были весьма интересны для понимания эволюции, которую проделала «межрайонка» и Юренев вместе с нею. Особенно важен в этом отношении был доклад об объединении партии, с которым он выступил 3 (16) августа. Проанализировав позиции возможных союзников большевиков (меньшевиков-мартовцев, группы «Новой жизни»), Юренев сказал: «Единственно возможное объединение — между нами и вами, большевиками, — фактически состоялось уже до съезда. Теперь остается только подтвердить его». Говоря о выступлениях Юренева на VI съезде РСДРП(б), необходимо назвать еще одно — на заседании, обсуждавшем вопрос о неявке Ленина и Зиновьева на суд. В условиях, когда В. Володарский от своего имени, а также от имени Мануильского и Лашевича внес резолюцию, где явка Ленина и Зиновьева связывалась с вопросом об обеспечении их безопасности, Юренев говорил: «Я расхожусь в корне с моими товарищами по межрайонной организации. Я нахожу, что тт. Ленин и Зиновьев, отказавшись арестовываться, поступили правильно… Мы не знаем, как разовьются события. Данные пока говорят, что события развиваются не в нашу пользу. Сможете ли вы зажать рот буржуазной клике? Никогда, ни при какой обстановке вы не достигнете полного оправдания… Поэтому я предлагаю отклонить резолюцию т. Володарского». Курс VI съезда на подготовку вооруженного восстания требовал безотлагательно развернуть подготовку вооруженных сил революции. Это требование партии вырастало из настроений, которые уже существовали в массах. Не случайно еще за день до закрытия съезда (2 августа 1917 г.) состоялось собрание представителей красногвардейских отрядов Петрограда, избравшее «инициативную пятерку», которая должна была подготовить создание общегородского центра Красной гвардии. В конце августа в обстановке всенародной борьбы против корниловщины эта пятерка провела совещание, избравшее Центральную комендатуру рабочей Красной гвардии. В условиях, когда Исполком Петроградского Совета еще находился в руках соглашателей, Центральная комендатура действовала под руководством так называемого межрайонного совещания, координировавшего работу районных Советов столицы и находившегося под сильным влиянием большевиков. Положение изменилось после того, как в середине сентября к руководству Петроградским Советом пришли большевики. 2 октября вновь сформированный Исполком поручил К. К. Юреневу возглавить отдел рабочей милиции. Это поручение не было случайным, оно основывалось на опыте военно-боевой работы, который у Юренева был. Но положение Юренева было достаточно сложным. Центральная комендатура Красной гвардии уже существовала, отдел в Петроградском Совете еще предстояло создавать. И Юренев обратился в Центральную комендатуру. После ряда совещаний было признано, что существование двух параллельных организаций вряд ли целесообразно, и на деле произошло их фактическое объединение. Юренев возглавил в качестве председателя Центральную комендатуру, оставаясь одновременно членом Исполкома Петроградского Совета и руководителем одного из его отделов. Кроме общего руководства, на Юренева было возложено руководство отделом вооружения Центральной комендатуры. Впоследствии Юренев вспоминал: «Оружие — винтовки — мы получали с Сестрорецкого завода, и я как сейчас помню негодование буржуазной прессы, узнавшей об этом „преступлении“ большевиков, „готовящих гражданскую войну“».[250] Когда по решению Петроградского Совета был образован ВРК, Юренев вместе с В. Трифоновым вошли в него в качестве представителей Центральной комендатуры. 16 октября Исполком Петроградского Совета, заслушав доклад Юренева, решил все дело организации Красной гвардии взять в руки Совета. Следующим этапом стала конференция Красной гвардии Петрограда и его пригородов, проходившая 22―23 октября. Около 100 ее делегатов, представлявших почти 20 тысяч красногвардейцев, приняли постановление, в котором указывалось, что Красная гвардия «находится в распоряжении Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Конференция избрала новую Центральную комендатуру Красной гвардии. На первом же ее заседании, состоявшемся 23 октября, было избрано бюро во главе с К. К. Юреневым, постановлено держать Красную гвардию под ружьем, установить дежурство отрядов, усилить патрулирование и разведку. Приняв эти решения, собрание тут же закрылось, а его участники, кроме нескольких членов бюро, разъехались в районы. До начала восстания оставалось менее суток… Но и в эти последние тревожные дни Юренев занимался не только делами Красной гвардии. 24 сентября ЦК РСДРП(б), обсудив вопрос о подготовке ко II Всероссийскому съезду Советов, решил делегировать в комиссию по созыву съезда «Свердлова, в помощь ему Юренева». 18 октября Петроградский Совет на своем пленарном заседании избрал делегатов на съезд. Было избрано 5 большевиков, 2 эсера и 1 меньшевик, и рядом с именами видных деятелей партии большевиков — В. Володарского, Л. Б. Каменева, М. М. Лашевича и Л. Д. Троцкого — мы видим и К. К. Юренева. Проходит еще два дня, и 21 октября ЦК большевиков обсуждает вопрос о положении в Исполкоме Петроградского Совета. По словам Ф. Э. Дзержинского, там «полная дезорганизация». Постановление ЦК было на первый взгляд странным: предлагалось пополнить Исполком девятью членами и в их числе Юреневым. Но ведь с конца сентября Юренев уже был членом Исполкома, как и названные в этом списке большевик А. А. Иоффе и меньшевик Г. Б. Скалов. Так что в отношении этих троих (и, видимо, остальных) речь шла не о включении в Исполком, а в более узкий орган — в Бюро Исполкома. Но решающие события происходили все же на улицах столицы, и выдающуюся роль в них играла Красная гвардия. Занимался делами Красной гвардии Юренев и после Октября. В конце ноября Центральная комендатура была переименована в Главный штаб Красной гвардии. Вместо охраны рабочих кварталов Красная гвардия стала вооруженной опорой пролетарского государства. Возглавлявший Главный штаб Юренев руководил еще и его иногородним отделом, который ведал сношениями с другими городами России. С конца ноября 1917 года Главный штаб Красной гвардии Петрограда и штаб Петроградского военного округа действовали в контакте. Для тесной координации действий обоих штабов командующий войсками Петроградского военного округа К. С. Еремеев был кооптирован в члены Главного штаба Красной гвардии, а К. К. Юренев, председатель красногвардейского штаба, был назначен помощником командующего войсками округа. К. С. Еремеев часто отлучался из Петрограда, и в эти недели, рассказывал позже К. К. Юренев, «мне приходилось быть и „главнокомандующим“, и председателем Главного штаба Красной гвардии. Особенно тяжело было „главнокомандовать“. Я ежедневно и подолгу выслушивал доклады начальников управлений штаба — старых спецов; просматривал вороха „входящих“, клал на них свои резолюции, подписывал „исходящие“. Положение мое было не из легких, ибо в специальных вопросах я ничего не смыслил. Выезжал на здравом смысле и на революционной интуиции».[251] Добавим к этому, что уже через несколько месяцев опыт общения со «старыми спецами» пригодился Юреневу на его работе в РВСР. В конце 1917 — начале 1918 года Красная гвардия Петрограда, численность которой достигла 35―40 тысяч человек, выступала как одна из основных вооруженных сил революции. «Текущая работа, — вспоминал впоследствии Юренев, — была самая разнообразная, ибо Красная гвардия была в те дни и воинской силой, и чрезвычайной комиссией, и милицией. Красной гвардией производились частые облавы на Александровском рынке, в первоклассных ресторанах, клубах, игорных притонах. Ей же пришлось потратить много энергии на борьбу с погромщиками… Главным штабом Красной гвардии к этому времени был организован так называемый „особый отряд“ силой около 1500 штыков. Этот отряд разоружал демобилизуемые войсковые части Петроградского гарнизона, участвовал в облавах, в подавлении погромов. Он же был и под Нарвой в дни немецкого наступления».[252] Добавим к этому еще несколько фактов. В конце декабря стало известно, что к 5 января 1918 года (дню открытия Учредительного собрания) силами контрреволюции готовится массовая демонстрация, которая должна была перерасти в государственный переворот. В этих условиях Совнарком образовал особый, с исключительно широкими полномочиями орган — «чрезвычайный штаб», в который кроме К. С. Еремеева и К. К. Юренева вошли Н. И. Подвойский, К. А. Мехоношин и другие. По поручению этого штаба Еремеев и Юренев разработали детальный план обороны как центра города, так и его районов. При этом подчеркивалось, что главной идеей плана была именно оборона, так как большевики не собирались препятствовать мирной демонстрации, но готовились к отпору при попытке переворота. Были подготовлены «летучие отряды» из красногвардейцев, революционных солдат и матросов. В стратегически важных пунктах города были подготовлены резервы с пулеметами, а кое-где и с бронемашинами. Все приготовления были завершены к вечеру 4 января, но «противник», узнав о принятых мерах, отказался от попытки переворота… «Чрезвычайный штаб» вынужден был возродиться в феврале 1918 года, в дни германского наступления на революционную столицу, и вновь видную роль в его работе играл Юренев.
Но вернемся к автобиографии К. К. Юренева. «В начале 1918 года, — пишет он, — был назначен членом Всероссийской коллегии по организации Красной Армии и членом коллегии Наркомвоена. Весною 1918 года переехал вместе с Наркомвоеном в Москву. Был назначен председателем Всероссийского бюро военных комиссаров. Весною 1919 года был назначен членом революционного военного совета Восточного фронта. Был членом Симбирского горкома. Осенью того же года был послан от ЦИК и ЦК в качестве уполномоченного по руководству продовольственной кампанией в Костромской губернии. По окончании этой работы был назначен членом революционного военного совета Западного фронта; будучи в Смоленске, входил в горком. Как во время пребывания в Москве, Симбирске, так и в Смоленске вел партийную работу, участвуя в заседаниях руководящих инстанций и выступая с докладами».[253] Внешне здесь все изложено верно, названы основные поручения, которые выполнял Юренев в годы гражданской войны. Но нет одного: почему-то ни слова не говорится о работе в Реввоенсовете Республики. Попробуем объяснить эту неясность. В известном смысле путь Юренева в РВСР начался еще в конце 1917 года, когда в условиях прогрессировавшего распада старой армии перед молодой Советской властью во весь рост встала проблема создания вооруженных сил пролетарского государства. 23 декабря в Петрограде по инициативе Н. И. Подвойского состоялось совещание представителей всех учреждений, которые в той или иной степени уже занимались этим вопросом, — Наркомвоена, Всероссийского бюро фронтовых и тыловых военных организаций большевиков и Главного штаба Красной гвардии Петрограда. От красногвардейцев столицы здесь присутствовали В. А. Трифонов и К. К. Юренев. По сути дела, это совещание положило начало процессу формирования новой революционной армии, а Юренев не просто присутствовал при ее рождении, но и вошел в созданный для решения текущих вопросов специальный штаб, где на него была возложена работа по подготовке проектов создания социалистической армии. Видимо, статус этого штаба не был поначалу ясен, и через два дня (26 декабря) собрание большевистской «военки», официально утвердившее новый орган, подчеркнуло, что общее руководство созданием социалистической армии должно лежать на Наркомвоене. В этих условиях было необходимо теснее связать Красную гвардию с Наркомвоеном, и в конце декабря на совещании петроградских отрядов Красной гвардии К. К. Юренев и В. А. Трифонов были избраны членами его коллегии. 15 января 1918 года Совнарком принял декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии и о создании специального органа для проведения этой работы — Всероссийской коллегии по организации и управлению этой армией. А еще через несколько дней (21 января) специальным декретом Совнаркома была назначена руководящая пятерка Всероссийской коллегии. В нее вошли члены коллегии Наркомвоена — Н. В. Крыленко, К. А. Мехоношин, Н. И. Подвойский, В. А. Трифонов и К. К. Юренев. Первые месяцы работы коллегии были заполнены огромным количеством самых разнообразных дел, но работа двигалась медленно. Много сил отнимали попытки хоть как-то поддержать боеспособность непрерывно таявших частей старой армии, подкрепить ее красногвардейскими пополнениями, создать на месте прежних соединений хотя бы части новой социалистической армии. После заключения Брестского мира развернулись и до второй половины апреля шли параллельно два процесса — завершение демобилизации и ликвидация старой армии и образование центрального аппарата, призванного руководить созданием новой революционной армии. Первым (до 4 марта) — для организации обороны государства и формирования кадровой Красной Армии — был образован Высший военный совет, который первоначально состоял из трех человек — военного руководителя (М. Д. Бонч-Бруевича) и двух политических комиссаров (К. И. Шутко и П. П. Прошьяна). А через месяц — 8 апреля — при комиссарах Высшего военного совета было учреждено Всероссийское бюро военных комиссаров во главе с членом коллегии Наркомвоена К. К. Юреневым. Созданное в пору становления Красной Армии бюро явилось тем учреждением, из которого со временем выросла вся стройная система политорганов советских вооруженных сил. Приказом РВСР от 5 декабря 1918 года устанавливалось, что руководство всей политической работой фронта и тыла, равно как и распределение всех партийных сил, мобилизованных для работы в Красной Армии, принадлежит Всероссийскому бюро военных комиссаров, действующему в самом тесном контакте и по директивам ЦК Российской Коммунистической партии. Для Юренева декабрь 1918 года был одним из месяцев почти непрерывных контактов с В. И. Лениным. И это понятно: внешне прежнее, а по сути новое учреждение «училось ходить», и Ленин выступал в качестве одного из учителей. Вот несколько примеров. 16 декабря, познакомившись с телеграммой из РВСР о необходимости принять экстренные меры к обеспечению фронта и тыла агитационной литературой, В. И. Ленин дает указание секретарям: «Юреневу перезвонить 17.XII. утром, чтобы он сказал, что сделано». Во второй половине того же дня («не ранее 15 час.», уточняется в Биохронике В. И. Ленина) состоялась его беседа с Лениным «о работе бюро по вопросу о необходимости принять срочные меры для обеспечения фронта и тыла агитационной литературой».[254] В ходе беседы Ленин записывает сведения о структуре бюро. Об интересе Ленина к делам бюро свидетельствует и хранящееся в ЦПА написанное в декабре же письмо Юренева, где он писал: «Уважаемый Владимир Ильич. Посылаю давно обещанные сведения насчет бюро. Опоздание вызвано съездом окружных комиссаров» (письмо отправлено из Минска. — В. М.). Еще одним направлением в деятельности бюро явилось налаживание работы партийных организаций в войсках. В ноябре ЦК РКП(б) поручил Всебюровоенкому совместно с политотделом Южного фронта срочно разработать инструкцию армейским ячейкам, а когда проект инструкции был готов, ЦК 19 декабря создал комиссию в составе Я. М. Свердлова, И. Н. Смирнова, И. В. Сталина и К. К. Юренева для его рассмотрения. Затем проект был просмотрен Лениным, утвержден ЦК РКП(б) и 5 января 1919 г. опубликован в печати. Как видим, последние месяцы 1918 года были наполнены для Юренева большой и напряженной работой, которую он выполнял прежде всего как председатель Всероссийского бюро военных комиссаров. И можно понять, почему он в своей автобиографии опустил очень важный внешне, но, наверно, мало что менявший в его занятиях факт: 30 сентября 1918 года Юренев стал членом Реввоенсовета Республики. Ну а теперь продолжим наш рассказ. Первые месяцы 1919 года были очень важными и в жизни страны, и в жизни самого Юренева. К этому времени рухнул германский оккупационный режим на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, и на большей части этих территорий была установлена Советская власть. Зато в Сибири на смену режиму «демократической» контрреволюции пришел к власти адмирал Колчак, сумевший в короткий срок не только создать боеспособную армию, но и бросить ее против Советской России. Угроза с Востока стала особенно явственной, после того как 14 марта пала Уфа. Процесс строительства Красной Армии к этому времени столкнулся с новыми трудностями. Против курса на создание регулярной армии с твердой дисциплиной, с неуклонным проведением в жизнь принципа единоначалия (даже при наличии влиятельных политкомиссаров) выступила, как известно, «военная оппозиция». Один из своих ударов она наносила по Всероссийскому бюро военных комиссаров, как по центру, который руководил политической работой в армии. Отвечая на критику, Г. Я. Сокольников, выступавший от имени ЦК на VIII съезде РКП(б) с докладом о военном положении и военной политике партии, говорил: «По вопросу о политических комиссарах, которые представляют в армии Советскую власть и диктатуру пролетариата, я должен сказать, что комиссарский состав оправдал себя в общем и целом… Многие из военных специалистов доказали уже на деле степень своей политической и технической пригодности. И теперь благодаря этому во многих случаях можно будет меньше обременять комиссаров вопросами чисто боевого, стратегического и тактического характера и больше переходить к политической работе в армии».[255] Сокольников излагал на съезде не столько свои мысли, сколько мысли Ленина, которые Владимир Ильич не раз высказывал и во время бесед. В стенограмме съезда, изданной в 1959 году, мы увидим только одно выступление К. К. Юренева — вечером 19 марта, при обсуждении Программы РКП(б). Хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, его реалистичный подход к анализу капитализма. Выступавший до него В. Н. Подбельский характеризовал капитализм как «полутруп». «Но это неверно, — говорил Юренев. — Современный капитализм — это, если говорить образно, тяжело раненный хищник, который пытается в отчаянной борьбе нанести нам по возможности смертельный удар». И далее: «…процесс расширения области господства капиталистических производственных отношений… совершается ныне с особенной силой. Другое дело — сумеет ли революция пресечь этот процесс или нет. Но что он идет, это нужнопризнать».[256] Сегодня мы читаем эти строки с интересом: разумная оценка, данная в 1919 году, особенно подкупает. 20―21 марта 1919 года заседала военная секция VIII съезда, материалы которой до последнего времени не публиковались, хотя сведения о ее работе «просочились» на страницы исторических трудов. В 1970 году в XXXVII Ленинском сборнике была опубликована речь В. И. Ленина на этой секции. В речи Ленина Юренев не упоминается, и это понятно: Ленин полемизирует с «военной оппозицией», а Юренев защищал линию ЦК и с ним не было нужды полемизировать. А в других публикациях мы найдем отрывки из его выступления на секции, которые позволяют понять его позицию. Известно, что оппозиционеры обвиняли Троцкого в том, что он вывел военное ведомство из-под контроля ЦК и передал его в руки старых военных специалистов. Ответ на эти обвинения дал в своей речи Ленин, который, в частности, говорил: «Когда здесь выступал т. Голощекин, он сказал: политика ЦК не проводится военным ведомством. Если вы такие обвинения ставите, если вы, выступая ответственным оратором на партийном съезде, можете Троцкому ставить обвинения в том, что он не проводит политику ЦК, — это сумасшедшее обвинение. Вы ни тени доводов не приведете. Если вы это докажете, ни Троцкий не годится, ни ЦК. Какая же это партийная организация, когда она не может добиться, чтобы проводилась ее политика. Это невероятнейший пустяк. Из членов съезда ни один серьезно этого не думает».[257] Но оппозиция теперь требовала, чтобы ЦК решал все вопросы жизни армии, на что Юренев замечал: «Нельзя требовать, чтобы ЦК подменял военное ведомство». Не все в критике «военной оппозиции» было ошибочным. Так, Юренев признавал, что центральным органам не удалось как следует наладить работу с комиссарами. При этом он говорил: «В том-то и трагедия нашей революции, что она, оттолкнув интеллигентские слои, выбросила их за борт, совершенно не дала в области командования сколько-нибудь крупных талантов».[258] Позже станет ясно, что это высказывание не вполне точно. Достаточно напомнить имена М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского и некоторых других. Но доля горькой правды была и здесь. Особенно энергично оппозиция выступала против единоначалия, вверенного старым специалистам (то есть генералам и офицерам старой армии). «Мы их должны использовать, но не на командных должностях, — говорил А. Ф. Мясников, — а как консультантов, не давая им никаких командных прав». А один из лидеров «военной оппозиции» — В. М. Смирнов подчеркнул: «Мы сейчас остановились на том, что единоличного командования не может быть». Отвечая им, Юренев говорил: «Если мы будем назначать на фронт командирами комиссаров, а военных руководителей дадим в качестве консультантов, у нас ничего не получится. В боевой обстановке, где нужно принимать быстрое решение, нужна одна голова. Поэтому в вопросе командования должна быть безусловно централизация, должно быть единоначалие». Известно, что съезд отверг основные требования «военной оппозиции», учтя в своих решениях все разумное в их высказываниях. Но уже накануне съезда стало ясно, что в судьбе К. К. Юренева предстоит поворот. В тезисах съезда по военному вопросу, написанных Л. Д. Троцким, предусматривалась реорганизация аппарата, руководившего политической работой в войсках. В пункте 8 тезисов говорилось: «Упразднить Всебюровоенком, создать Политический отдел Реввоенсовета Республики, передав в этот отдел все функции Всебюровоенкома, поставив во главе его члена ЦК РКП на правах члена Реввоенсовета Республики». Юренев в ЦК партии не вошел (нам неизвестно даже, выставлялась ли на выборах его кандидатура), и его уход из центрального аппарата был предрешен. Съезд завершился 23 марта, а уже 16 апреля приказом председателя РВСР председатель Всебюровоенкома К. К. Юренев был назначен членом РВС Восточного фронта с освобождением от обязанностей председателя Всебюровоенкома. А через день, 18 апреля, другим приказом Троцкого был учрежден Политотдел РВСР, к которому перешли все функции расформированного Всероссийского бюро военных комиссаров. Меньше чем через месяц (15 мая) Политотдел был преобразован в Политуправление РВСР, действовавшее на правах военного отдела ЦК РКП. Главой нового органа 31 мая 1919 года был назначен член ЦК РКП(б) И. Т. Смилга, являвшийся до 3 апреля членом РВС Восточного фронта. Таким образом, произошла рокировка: Юренев сменил Смилгу на Восточном фронте, а Смилга Юренева в руководстве политработой РККА… Так начался новый этап в жизни Юренева — его работа непосредственно на фронтах Советской Республики — сначала на Восточном, а во второй половине года — на Западном. Тем самым был предопределен и его уход из состава РВСР, который был оформлен 8 июля 1919 года, когда из Реввоенсовета были выведены сразу 10 его членов и состав РВСР был сокращен до 6 человек. Еще в период работы в Москве у Юренева бывали разногласия с Троцким. С отъездом Юренева на фронт они стали нарастать. Достаточно жесткий курс Троцкого, стремившегося ограничить влияние комиссаров и политруков в войсках, встречал сопротивление Юренева, считавшего, что в условиях гражданской войны нельзя руководить Красной Армией, не опираясь на политорганы. Особенно ярко позиция Юренева выявилась в ходе работы IX съезда РКП(б), заседавшего в Москве 29 марта — 5 апреля 1920 года. Так, 30 марта, на втором заседании съезда, Юренев, не называя Троцкого, выступил против его курса на ограничение прав политработников в армии. «На днях, — говорил он, — смещение политработников вызвало смятение на фронтах и, по заявлению одного авторитетного товарища, создало неустойчивое положение в среде комиссарского аппарата, который, видя, что этот аппарат шельмуется, как будто признается негодным, растерялся, а спецы говорят: „Ваша песенка спета“, и естественно, что комиссары чувствовали себя неуверенно — шатание было велико».[259] После Юренева на съезде выступил Троцкий, который хоть и заявил, что у него есть «целая пачка обвинений т. Юренева, когда он был во Всероссийском бюро военных комиссаров», но не смог (или не захотел) опровергнуть приведенные Юреневым факты. Следует отметить еще одно выступление Юренева на IX съезде, которое он посвятил взаимоотношениям между военными и общепартийными организациями в прифронтовой полосе. Эти отношения подчас были достаточно сложными. Суть позиции Юренева может быть выражена его же словами: «В местностях тыла армии и фронта не должно быть двух партийных организаций, партийной организации военной и партийной организации штатской», а в предложенной им резолюции недвусмысленно говорилось, что члены комячеек военных организаций входят в местную организацию РКП(б). Предложение Юренева было учтено съездом. К моменту, когда в Москве заседал IX съезд партии, Юренев уже перешел на мирную работу. Он являлся членом Московского комитета РКП(б) и участвовал в работе съезда, видимо, как представитель Московской партийной организации. Но пребывание в Москве было непродолжительным. Уже летом 1920 года он был избран председателем Курского губисполкома и до мая 1921 года проработал в Курске. С июня этого года в жизни Юренева начинается новый этап — он становится дипломатом. Меняются страны — Бухара и Латвия, Чехословакия и Италия, Персия и Австрия, Япония и Германия, но все семнадцать лет его дипломатической службы остается неизменным его высокий ранг — полномочный представитель Советского государства. И это высокое звание Юренев с честью пронес до последних дней жизни. Погиб К. К. Юренев в 1938 году, в период массовых сталинских репрессий, уничтоживших большую часть советских дипломатов ленинского призыва. Миллер В. И. ─ кандидат исторических наук
Из хроники деятельности Реввоенсовета Республики (1918―1923 гг.)
1918 год
2 сентября — ВЦИК принял постановление об учреждении Революционного военного совета Республики. Председателем избран Л. Д. Троцкий, Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами назначен И. И. Вацетис, членами — К. X. Данишевский, П. А. Кобозев, К. А. Мехоношин, Ф. Ф. Раскольников, И. Н. Смирнов. ВЦИК объявил Советскую Республику военным лагерем. 6 сентября — приказ РВСР № 1 о его сформировании, составе, о создании штаба РВСР и передаче ему функций Военного совета, о подчинении ему Всероссийского Главного штаба, назначении главкомом И. И. Вацетиса. 10 сентября — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму в Свияжск председателю РВСР Л. Д. Троцкому, беспокоясь о замедлении операции против Казани. 11 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму Председателю Совнаркома В. И. Ленину о взятии Казани, о превосходном боевом и моральном состоянии частей Красной Армии. В. И. Ленин в телеграмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому приветствовал взятие Казани Красной Армией. РВСР утвердил фронтовую организацию и командующих фронтами. Были образованы: Северный фронт (просуществовал до 19 февраля 1919 г.), Восточный фронт (просуществовал до 15 января 1920 г.), Южный фронт (просуществовал до 10 января 1920 г.); переименовал Западный участок отрядов завесы в Западный район обороны; отдал приказ о призыве граждан, родившихся в 1898 г., бывших офицеров и военных чиновников, родившихся в 1890―1897 гг., и бывших унтер-офицеров, родившихся в 1890―1897 гг. 12 сентября — В. И. Ленин направил телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому, приветствуя взятие Симбирска. 16 сентября — Совет Народных Комиссаров принял декрет «О знаках различия». Учрежден орден Красного Знамени для «присуждения проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». 21 сентября — указание главнокомандующего И. И. Вацетиса и члена РВСР К. X. Данишевского командующему Южным фронтом П. П. Сытину о необходимости создания общего плана военных действий по всему фронту. 26 сентября — РВСР предписал из войск Воронежского участка Южной завесы образовать 8-ю армию Южного фронта, с 10 января 1920 г. — Юго-Восточного, с 16 января 1920 г. — Кавказского фронта (просуществовала до 20 марта 1920 г.). 2 октября — постановлением РВСР учрежден Полевой штаб РВСР. Образован политотдел Высшей военной инспекции РВСР во главе с И. Н. Смирновым. Оперод Наркомвоена передан РВСР и переименован в Оперативное управление. 3 октября — приказ РВСР о мерах по укомплектованию армии командным составом и специалистами из мобилизованных офицеров. Указание главнокомандующего И. И. Вацетиса и члена РВСР К. X. Данишевского члену реввоенсовета Южного фронта И. В. Сталину о приостановке перегруппировки войск; члены РВСР И. И. Вацетис, К. X. Данишевский направили председателю РВСР Л. Д. Троцкому записку об игнорировании реввоенсоветом Южного фронта распоряжений РВСР. 4 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму Председателю ВЦИК Я. М. Свердлову (копия Предсовнаркома В. И. Ленину) с категорическим требованием отозвания И. В. Сталина с Царицынского фронта или его строгом подчинении командующему Южным фронтом П. П. Сытину. 7 октября — РВСР приказом объявил об открытии в Москве Академии Генерального штаба. 8 октября — Совет Народных Комиссаров утвердил С. И. Аралова и И. В. Сталина членами Реввоенсовета Республики. 9 октября — приказом РВСР утверждено положение о Всероссийском бюро военных комиссаров. 11 октября — РВСР подчинил все кавказские армии РВС Южного фронта. 12 октября — РВСР учредил должность начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе РВСР. 13 октября — Председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму председателю Совнаркома В. И. Ленину и ВЦИК Я. М. Свердлову о решении РВСР назначить В. М. Альтфатера командующим всеми Морскими Силами Республики с подчинением его в оперативном отношении главкому. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий телеграфировал председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому просьбу отправлять в его распоряжение арестованных офицеров, готовых служить Красной Армии и Флоту, так как имеется большая нужда в военных специалистах. 14 октября — РВСР сформировал Военно-революционный трибунал при РВСР; Всероссийское бюро военных комиссаров, подчинено непосредственно Реввоенсовету. 15 октября — В. И. Ленин и Я. М. Свердлов телеграфировали И. И. Вацетису и К. X. Данишевскому о необходимости принять срочные меры для помощи Царицыну. 20 октября — В. И. Ленин телеграфировал главкому И. И. Вацетису о необходимости принять энергичные меры и ускорить взятие Ижевска и Воткинска. 23 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму В. И. Ленину и Я. М. Свердлову о необходимости направить на Южный фронт первоклассных военных работников и военспецов. 24 октября — Председатель Совнаркома В. И. Ленин направил телеграмму в Козлов П. П. Сытину, в Царицын Л. Д. Троцкому и К. Е. Ворошилову с требованием принять экстренные меры для снабжения патронами и снарядами Царицынского фронта и указать лиц, ответственных за исполнение. 26 октября — СНК назначил Э. М. Склянского заместителем председателя Реввоенсовета Республики. 27 октября — РВСР в приказе объявил о взысканиях, налагаемых на военнослужащих, покидающих свои части. 2 ноября — Совнарком принял постановление «О мерах для улучшения снабжения Красной Армии предметами военного снаряжения». Образована Чрезвычайная комиссия по снабжению Красной Армии. Председатель — Л. Б. Красин. 13 ноября — приказ РВСР о слиянии политического отдела Высшей военной инспекции РВСР с Всероссийским бюро военных комиссаров. 14 ноября — приказ РВСР о командировании красноармейцев на курсы подготовки командного состава армии. 15 ноября — В. И. Ленин направил телеграмму главкому И. И. Вацетису и председателю РВСР Л. Д. Троцкому с просьбой положительно решить вопрос о формировании польского и литовского ударных батальонов на Южном фронте. РВСР преобразовал Западный район обороны в Западную армию (просуществовала до 13 марта 1919 г.). 21 ноября — РВСР объявил об открытии Высшей стрелковой школы командного состава РККА. 23 ноября — объявлен приказ РВСР о призыве на военную службу бывших офицеров до 50-летнего возраста, штаб-офицеров до 55-летнего возраста и бывших генералов до 60-летнего возраста. 30 ноября — ВЦИК принял Постановление о создании Совета Рабочей и Крестьянской Обороны в составе: председатель — В. И. Ленин, зам. председателя РВСР Э. М. Склянский, народный комиссар путей сообщения В. И. Невский, зам. народного комиссара продовольствия Н. П. Брюханов, председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии Л. Б. Красин, представитель ВЦИК И. В. Сталин, представитель Всероссийского Совета профсоюзов Г. Н. Мельничанский. Из состава РВСР для сосредоточения деятельности в Совете Рабочей и Крестьянской Обороны выделено Бюро в составе: председатель Реввоенсовета Л. Д. Троцкий, главком И. И. Вацетис, С. И. Аралов. 5 декабря — РВСР возложил руководство всей политической работой фронта и тыла и распределения партийных сил, мобилизованных для работ в Красной Армии, на Всероссийское бюро военных комиссаров (Всебюровоенком), действующем в контакте с ЦК РКП(б). Председателем назначен К. К. Юренев. 8 декабря — приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого и главкома И. И. Вацетиса об образовании Каспийско-Кавказского фронта и учреждении РВС фронта. 10 декабря — РВСР создал Комиссию по исследованию и использованию опыта войны 1914―1918 гг. Временно исполняющим обязанности председателя комиссии назначен А. А. Свечин. 12 декабря — В. И. Ленин телеграфировал в Воронеж председателю РВСР Л. Д. Троцкому о необходимости усиления действий Астрахано-Каспийской флотилии и целесообразности отправки в Астрахань Ф. Ф. Раскольникова. В. И. Ленин направил телеграмму Л. Д. Троцкому об опасном положении на пермском направлении, необходимости указаний от РВСР о направлении подкреплений из Питера. 13 декабря — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму в Воронеж председателю РВСР Л. Д. Троцкому о необходимости указать РВС Восточного фронта на важность энергичной помощи Перми и Уралу. 14 декабря — телеграммы председателя РВСР Л. Д. Троцкого из Курска Председателю СНК В. И. Ленину: ─ о необходимости выслать в Царицын новый состав РВС с новым командармом вместо К. Е. Ворошилова; ─ о пассивности Каспийской флотилии и необходимости отправить Ф. Ф. Раскольникова в Астрахань. 15 декабря — В. И. Ленин отдал распоряжение заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому: «Ничего на запад, немного на восток, все (почти) на юг». 18 декабря — РВСР упразднил Коллегию по морским делам при Наркомморе, выделил из состава РВСР Морской отдел и определил его функции. 23 декабря — РВСР объявил Положение о военной цензуре при РВСР. 28 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий из Козлова передал по прямому проводу телефонограмму Председателю СНК В. И. Ленину о том, что следует принять предложение части уфимских эсеров о коалиции в борьбе против Колчака. Открытие в Москве Военно-педагогических курсов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 29 декабря — начальник полевого штаба РВСР Ф. В. Костяев и и. о. военного комиссара штаба Г. Л. Прейсман отдали приказание командованию Восточного фронта о немедленном прекращении отступления 3-й армии под Пермью. 31 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий издал приказ об освобождении от наказания офицеров красновских банд при их добровольном переходе на службу народу в военные или гражданские ведомства.1919 год
1 января — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил из Воронежа шифрованную телеграмму Председателю СНК. В. И. Ленину о необходимости срочно сменить командование 3-й армией, о согласии на поездку туда И. В. Сталина с полномочиями от ЦК партии и РВСР «для восстановления порядка и очищения командного состава». 2 января — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил докладную записку Председателю СНК В. И. Ленину о положении на Украине, делая вывод о необходимости решительного наступления; телеграфировал председателю СНК В. И. Ленину и ВЦИК Я. М. Свердлову о решении ЦК партии назначить Н. И. Подвойского украинским комиссаром по военным делам для обеспечения единства военной организации; телеграфировал Председателю Совета Обороны В. И. Ленину о тяжелом продовольственном положении Петроградского военного округа. 3 января — В. И. Ленин в телеграмме Л. Д. Троцкому выразил беспокойство тем, не увлекся ли он Украиной в ущерб общестратегической задаче; просьба об ускорении и доведении до конца общего наступления против войск Краснова. 10 января — председатель РВСР Л. Д. Троцкий обратился к Председателю ВЦИК Я. М. Свердлову, категорически возражая против действий И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова и М. Л. Рухимовича, приведших к полному распаду Царицынской армии, требуя недопущения подобного на Украине и назначения туда — Антонова-Овсеенко, Н. И. Подвойского и В. П. Глаголева. 11 января — Троцкий сообщает из Балашова В. И. Ленину о докладе А. И. Окулова, в котором содержится характеристика Царицынской армии, говорится о ее деморализации по вине К. Е. Ворошилова и И. В. Сталина, о необходимости серьезного отношения к назначению нового командования. 21 января — В. И. Ленин предписал председателю РВСР Л. Д. Троцкому отменить распоряжение главкома И. И. Вацетиса о переводе из-под Перми трех полков под Нарву. 24 января — В. И. Ленин направил телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому о необходимости в течение месяца взять Ростов, Челябинск и Омск. 26 января — телеграмма председателя РВСР Л. Д. Троцкого в 11-ю армию (копия — Председателю Совета Обороны В. И. Ленину) с запросом о причинах разложения в армии. 30 января — Председатель СНК В. И. Ленин просил РВСР направить ревизию в воздухоплавательные отряды на Царицынский фронт, так как имеются данные, что они числятся только на бумаге, что положение дел грозит катастрофой. 31 января — ВЦИК передал РВСР право награждения орденом Красного Знамени. 13 февраля — начальник Полевого штаба РВСР Ф. В. Костяев и военный комиссар штаба С. И. Аралов указали командованию Каспийско-Кавказского фронта о необходимости удержать противника на Северном Кавказе. 22 февраля — РВСР распорядился о высвобождении из управлений и учреждений Наркомвоена бывших офицеров и срочной отправке их на фронт. 24 февраля — начальник Полевого штаба РВСР Ф. В. Костяев дал указание командованию 6-й армии Северного фронта о подготовке к операции по освобождению Архангельска. 25 февраля — начальник Полевого штаба РВСР Ф. В. Костяев и военный комиссар штаба С. И. Аралов дали указание РВС Каспийско-Кавказского фронта о восстановлении утраченной боеспособности частей для операции на Екатеринодар и Петровск. 28 февраля — обращение Всероссийского главного штаба в РВСР с просьбой разрешить награждать орденом Красного Знамени посмертно, так как, «помимо общего морального значения, такое награждение будет служить великим утешением и гордостью для семьи…». 8 марта — РВСР принял постановление о сформировании Первого запасного кавалерийского полка. 10 марта — приказом РВСР Донецкая группа войск переименована в 13-ю армию. РВСР, по соглашению с представителями правительства Литово-Белорусской Советской Республики, постановил образовать Литово-Белорусский военный округ в составе трех губерний. 13 марта — РВСР отдал приказ о ликвидации Каспийско-Кавказского фронта. Западная армия переименована в Белорусско-Литовскую. 15 марта — реввоенсоветам армий дано право награждать красноармейцев орденом Красного Знамени, реввоенсоветам фронтов — командный состав, до командира батальона включительно. 17 марта — Л. Д. Троцкий сообщил Председателю Совета Обороны В. И. Ленину о создании у интервентов объединенного командования и подготовке в марте общего наступления всех сил интервентов. 18―23 марта — VIII съезд РКП(б) принял резолюцию «По военному вопросу». 25 марта — председатель РВСР Л. Д. Троцкий телеграфировал В. И. Ленину из Симбирска об ослаблении боеспособности армии. 29 марта — РВСР отдал приказ № 601 о переводе Центральной Мусульманской военной коллегии в г. Казань, возложив на нее всю культурно-просветительную и политическую работу в войсковых частях из мусульман, формируемых в Поволжском и Уральском округах и мусульманских частях действующей армии. 30 марта — РВСР постановил начать в Поволжье формирование отдельной кавалерийской бригады из немцев-колонистов. 5 апреля — РВСР на основании соглашения рабоче-крестьянского правительства РСФСР с башкирским правительством постановил сформировать стрелковую бригаду и кавалерийскую дивизию из башкир. Телефонограмма председателя РВСР Л. Д. Троцкого в ЦК РКП(б) с просьбой ввести И. Т. Смилгу в РВСР, в Совет Всероссийского главного штаба, Бюро военной печати вместе с А. И. Окуловым. Предписать партийным организациям рекомендовать на посты военных комиссаров энергичных работников и не менять их без согласия центра. 8 апреля — РВСР принял постановление сформировать из киргизов-добровольцев три киргизских эскадрона. 10 апреля — телефонограмма председателя РВСР Л. Д. Троцкого В. И. Ленину о согласии остаться на Восточном фронте; просьба, чтобы ЦК обратил внимание на агитацию против военкомов в 3-й армии. 13 апреля — пленум ЦК РКП(б) постановил командировать ответственных работников для помощи местным организациям в проведении мобилизации; укрепил новыми работниками политотделы РВСР и Восточного фронта. 17 апреля — РВСР опубликовал постановление о подчинении всех интернациональных частей вновь сформированному Управлению по формированию интернациональной Красной Армии; Политическому отделу РВСР приказано назначить в интернациональные части политкомиссаров по соглашению с командиром 1-го Интернационального полка Славояром Частеком. 18 апреля — согласно решению VIII съезда РКП(б) упразднено Всероссийское бюро военных комиссаров и создан единый политический отдел РВСР. 21 апреля — на заседании Совета Обороны В. И. Ленин выступил с докладом «Об усилении работы в области военной обороны». 23 апреля — Политбюро ЦК РКП(б) под председательством В. И. Ленина обсудило проект стратегических директив военному командованию и ЦК Компартии Украины и проблемы военного единства советских республик; рекомендовано ЦК КП(б) Украины обсудить вопрос об условиях, времени и форме объединения военных усилий Украины и России. 24 апреля — в ответ на докладную записку главкома И. И. Вацетиса от 23 апреля о необходимости объединения вооруженных сил советских республик с подчинением единому командованию и временной ликвидации Всевобуча В. И. Ленин передал записку заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому с указанием «спешно составить текст директивы от ЦК ко всем „националам“ о единстве (слиянии) военном». 26 апреля — В. И. Ленин дал указание зам. председателя РВСР Э. М. Склянскому направить телеграммы и самому переговорить по прямому проводу с РВСР Восточного фронта об экстренных мерах помощи Чистополю. РВСР учредил революционный военный трибунал при Южной группе Восточного фронта. 28 апреля — на заседании РВСР был обсужден вопрос о создании единой военной организации советских республик. 1 мая — докладная записка председателя РВСР Л. Д. Троцкого в ЦК РКП(б) и ЦК УКП(б) о положении в частях Южного фронта, о первоочередных задачах по чистке комиссарского состава, введению жесткой дисциплины в частях и освобождению их от паразитических и мародерских элементов, о создании запасных частей при дивизиях. 4 мая — пленум ЦК РКП(б) под председательством В. И. Ленина обсудил вопрос «О едином командовании над армиями как России, так и в дружественных социалистических республиках». 7 мая — В. И. Ленин сообщает председателю РВСР Л. Д. Троцкому решение Политбюро ЦК РКП(б) о необходимости срочно отправиться в Харьков для помощи Донецкому бассейну. 13 мая — председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал В. И. Ленину просьбу о равномерном распределении коммунистов из пополнения между Восточным и Южным фронтами; сообщил о необходимости в короткий срок достигнуть перелома в настроении командования и о неспособности РВС Украины в составе А. С. Бубнова, Е. А. Щаденко и В. А. Антонова совершить необходимый перелом. 14 мая — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил доклад в РВСР о причинах несвоевременного подавления донского восстания и о необходимости привлечь виновных к суровой ответственности. 15 мая — В. И. Ленин телеграфировал председателю РВСР Л. Д. Троцкому о необходимости максимально быстрого наступления на Донбасс и взятии Ростова. Приказ РВСР о переименовании Политотдела РВСР в Политическое управление РВСР. 20 мая — В. И. Ленин направил телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому с предложением назначить С. С. Каменева командующим Восточным фронтом. На заседании Совета Обороны было заслушано сообщение зам. председателя РВСР Э. М. Склянского о движении подкреплений для помощи Петроградскому фронту. 21 мая — В. И. Ленин направил телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому в Киев о злоупотреблениях властью Н. И. Подвойского на Украине и требованием немедленного его отстранения. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал телефонограмму для В. И. Ленина о своем согласии на возвращение С. С. Каменева на Восточный фронт вместо А. А. Самойло и о предполагаемых перемещениях в Полевом штабе; предложил подготовить решающую операцию по подавлению восстания на Дону через восемь дней в связи с необходимостью подтянуть и перегруппировать войска. 22 мая — В. И. Ленин в телеграмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому сообщил о тревожном положении под Астраханью и в связи с этим о необходимости выехать в Богучар; о прорыве фронта под Ригой и о возможном наступлении на всем Западном фронте, что обязывает усилить атаку на Донбасс и ликвидировать восстание на Дону. 31 мая — РВСР постановил переименовать Армию Советской Латвии в 15-ю армию Западного фронта (просуществовала до 26 декабря). 1 июня — В. Д. Бонч-Бруевич обратился к председателю РВСР Л. Д. Троцкому и его заместителю Э. М. Склянскому с предложением в связи с объединением командования вооруженных сил республик изменить название Красной Армии на Всероссийскую Республиканскую Советскую Армию. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал телефонограммы: — Э. М. Склянскому и В. И. Ленину о несостоятельности предложения объединить 2-ю Украинскую, 13-ю и 8-ю армии под командованием К. Е. Ворошилова. — Э. М. Склянскому о необходимости отношения к Восточному фронту как к важнейшему и чтобы заботы о Южном и Петроградском фронтах не ослабили Восточного фронта. 2 июня — комиссия ВЦИК, на которую была возложена практическая работа по проведению декрета о военном единстве социалистических республик, приняла проект РВСР о реорганизации военного управления на Украине и в других советских республиках. Было решено до 7 июня упразднить Украинский фронт и из его войск образовать две армии: одну подчинить РВС Южного фронта, другую — Главному командованию. 4 июня — члены Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленин, С. С. Каменев, Л. П. Серебряков и Е. Д. Стасова по прямому проводу передали шифрованную телеграмму в Харьков председателю РВСР Л. Д. Троцкому о нарастании конфликта Сталина с А. И. Окуловым, необходимости максимума сплоченности в Питерской военной организации и постановлении ЦК временно отозвать Окулова и направить его в распоряжение Троцкого. И. В. Сталин направил В. И. Ленину донесение о наличии документа о том, что Всероссийский Главный штаб и Полевой штаб РВСР во главе с Ф. В. Костяевым работают на белых и ЦК РКП(б) необходимо сделать соответствующие выводы. Приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого о расформировании Украинского фронта и сведении его войск в 14-ю армию Южного фронта (просуществовала до 5 января 1921 г.) и в 12-ю армию Западного фронта. 6 июня — В. И. Ленин передал председателю РВСР Л. Д. Троцкому просьбу представителей башкир послать их войска на восток для быстрого взятия Челябинска, а не на юг и о необходимости поторопить Сокольникова с ликвидацией восстания на Дону. 8 июня — В. И. Ленин в записке Э. М. Склянскому просил отдать распоряжение о срочной переброске под Петроград полков с Архангельского и Восточного фронтов. 9 июня — РВСР отдал приказ о переименовании Белорусско-Литовской армии в 16-ю армию Западного фронта (просуществовала до 7 мая 1921 г.). 10 июня — ЦК РКП(б) принял постановление о признании Петроградского фронта первым по важности и о руководстве этим при распределении войск. В. И. Ленин передал записку Э. М. Склянскому с просьбой расследовать, кто ввел его в заблуждение, приуменьшив тяжесть положения Петрограда, и особо следить за быстротой продвижения шести полков с Восточного фронта. 12 июня — Постановление РВСР об укреплении Петроградского фронта двумя дивизиями с Восточного фронта. 15 июня — на заседании ЦК РКП(б) был обсужден вопрос о деятельности главкома и Полевого штаба. Начальником полевого штаба назначен М. Д. Бонч-Бруевич, а членом РВСР (комиссаром Полевого штаба) — С. И. Гусев. Им поручалось сократить и изменить состав Ставки в Серпухове. 16 июня — В. И. Ленин обратился к Оргбюро ЦК РКП(б) и РВСР с просьбой срочно рассмотреть предложение о формировании дивизии из казачьей пролетарской массы в районе Саратова и Покровска для действия в тылу противника. 17 июня — В. И. Ленин в письме в ЦК РКП(б) подтвердил, что в Ставке (то есть Полевом штабе РВСР) желательно провести коренные изменения и в данное время происходит поиск путей серьезного улучшения ее работы и что Л. Д. Троцкий ошибается в своей оценке ее деятельности. РВСР принял постановление о продолжении интенсивного наступления на Восточном фронте против войск Колчака. 29 июня — член РВСР С. И. Гусев затребовал от реввоенсовета Восточного фронта точные данные о положении на фронте в связи с предстоящим обсуждением в ЦК РКП (б). 1 июля — В. И. Ленин приветствовал героические войска, взявшие Пермь и Кунгур. 3 июля — РВСР упразднил Морской отдел РВСР; все морские, речные и озерные силы Республики приказано подчинить командующему всеми Морскими Вооруженными Силами Республики (коморси). 3―4 июля — на пленуме ЦК РКП(б) рассматривалось 19 военных вопросов. Постановлено реорганизовать Реввоенсовет Республики: 1) Полевой штаб РВСР перевести из Серпухова в Москву; 2) И. И. Вацетиса освободить от обязанностей главкома; вместо него назначить С. С. Каменева; 3) создать РВСР из шести человек: председатель — Л. Д. Троцкий, члены — С. И. Гусев, И. Т. Смилга, Э. М. Склянский, А. И. Рыков, главком — С. С. Каменев. Пленум уделил большое внимание военным вопросам, особенно улучшению руководства военными действиями. Было решено провести жесткую централизацию снабжения Красной Армии. 5 июля — Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) постановили отклонить просьбу председателя РВСР Л. Д. Троцкого об отставке, считая, что в настоящий момент «она невозможна и была бы величайшим вредом для Республики», и настоятельно предложили Троцкому не возбуждать более этого вопроса и исполнять далее свои функции. 9 июля — Письмо ЦК РКП(б) ко всем организациям партии о мобилизации сил на борьбу с Деникиным. 21 июля — Постановление РВСР об объединении Волжской и Астраханско-Каспийской военных флотилий в Волжско-Каспийскую флотилию под командованием Ф. Ф. Раскольникова. Э. М. Склянский и главком С. С. Каменев дали указание РВСР Западного фронта, запрещающее частям Красной Армии переходить границы с Финляндией и Эстонией. 22 июля — ЦК РКП(б) утвердил П. П. Лебедева начальником Полевого штаба РВСР (с 1923 г. введен в состав РВСР). 27 июля — РВСР дал директиву Всероссийскому Главному штабу начать подготовку к переводу Красной Армии на мирное положение, изучить и теоретически разработать вопросы демобилизации армии и перевода ее на милиционную систему. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил из Козлова телеграмму Председателю Совета Обороны В. И. Ленину о несогласии командующего Южным фронтом В. Н. Егорова с оперативным планом главкома С. С. Каменева и о необходимости в связи с этим заменить командующего фронтом. 28 июля — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму Л. Д. Троцкому с сообщением, что Политбюро ЦК РКП(б) обсудило его телеграмму и считает необходимым без колебаний проводить раз принятый план, признает оперативный авторитет главкома и назначает дополнительно членами РВС Южного фронта И. Т. Смилгу, Л. П. Серебрякова и М. М. Лашевича. 29 июля — В. И. Ленин в телеграмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому просил выяснить и сообщить состояние войск на Украине, их способность оказывать сопротивление Деникину. 1 августа — председатель РВСР Л. Д. Троцкий телеграфировал из Воронежа Председателю Совета Обороны В. И. Ленину, прося срочно наладить снабжение Украинской армии для поднятия ее боеспособности и перелома в ее настроении. 6 августа — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) заслушана телеграмма Л. Д. Троцкого о бандитизме на Украине. Решено отправить из Москвы отряды мобилизованных в помощь. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал по прямому проводу из Киева телеграмму В. И. Ленину о состоявшемся совещании в составе Л. Д. Троцкого, X. Г. Раковского, А. И. Егорова, С. И. Аралова, Н. Г. Семенова и В. П. Затонского, о постановлении отвести войска на новую линию, сдав противнику Черноморское побережье с Одессой и Николаевым. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму Председателю Совета Обороны В. И. Ленину и Э. М. Склянскому о решении Украинского совета обороны и РВС 12-й и 14-й армии назначить К. Е. Ворошилова ответственным за подавление восстаний в тылу обеих армий. 7 августа — В. И. Ленин телеграфировал председателю РВСР Л. Д. Троцкому, что Политбюро предложило выполнять директиву главкома Южному фронту и 12-й армии не сдавать Одессы. РВСР образовал Запасную армию Республики. 9 августа — В. И. Ленин передал Л. Д. Троцкому директиву ЦК РКП(б) о необходимости обороняться до последней возможности, отстаивая Одессу и Киев. «Это вопрос о судьбе всей революции. Помните, что наша помощь недалека». Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал секретарю В. И. Ленина телефонограмму, требуя прислать на помощь Украине отряды комсостава и политработников, отряды ЧК, чтобы отстоять Украину. 10 августа — В. И. Ленин направил записку заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому с просьбой срочно сообщить причины опоздания наступления на воронежском направлении против Деникина. 11 августа — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил в ЦК РКП(б) доклад о голоде, отсутствии вооружения и обмундирования на Украине, о концентрации винтовок в руках кулаков, о переломе в партийных настроениях и необходимости дать украинским дивизиям передышку. 13 августа — приказом РВСР при Полевом штабе создается секретариат РВСР. Члены Политбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленин, С. С. Каменев, Е. Д. Стасова направили телеграмму в Киев X. Г. Раковскому, Л. Д. Троцкому, С. В. Косиору с требованием закрыть все комиссариаты, кроме военного, путей сообщения и продовольствия, и мобилизовать всех на военную работу, Троцкому — подтянуть все силы. 17 августа — секретарь ЦК РКП(б) Е. Д. Стасова по поручению ЦК телеграфировала председателю РВСР Л. Д. Троцкому о беспокойстве ЦК, в связи с тем, что противник осуществил прорыв на север к Тамбову — Козлову, что влияет на исход операций на юге. 19 августа — РВСР постановил принять меры по укреплению Петроградского района. 23 августа — Совет Рабоче-Крестьянской Обороны объявил военное положение в связи с прорывом в тыл Южного фронта кавалерийских частей Деникина и постановил создать ревкомы. На РВСР возложено общее руководство их деятельностью и мобилизация 50 процентов автосредств. 29 августа — РВСР отдал распоряжение РВС 12-й армии об удержании Киева. Конец августа — Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение о мерах борьбы с Мамонтовым. 5 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий, члены РВС Южного фронта Л. П. Серебряков, М. М. Лашевич направили телеграмму С. С. Каменеву о необходимости изменить стратегический план борьбы с конницей Мамонтова и с Деникиным. 6 сентября — телеграмма В. И. Ленина Л. Д. Троцкому, Л. П. Серебрякову, М. М. Лашевичу о решении Политбюро ЦК отказаться от пересмотра стратегического плана борьбы с Деникиным. 16 сентября — В. И. Ленин направил письмо члену РВС Восточного фронта С. И. Гусеву о плохой работе РВСР: необходимо «сонный темп работы переделать в живой», РВСР не следит за исполнением своих приказов. В. И. Ленин по телеграфу передал Л. Д. Троцкому, Л. П. Серебрякову, М. М. Лашевичу просьбу срочно решить вопрос о бездействии и небрежности начдивов Южного фронта в борьбе с Мамонтовым и назначить к ним комиссаров. 20 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал ЦК РКП(б) доклад с анализом положения на востоке, предложением активизировать наступление на Туркестан против Колчака и предписать РВСР сосредоточить там материальные и людские ресурсы для наступления из Туркестана на юг. 24 сентября — Совет Рабоче-Крестьянской Обороны постановил объявить на военном положении район в границах: Москва, Витебск, река Днепр, Чернигов, Воронеж, Тамбов, Шацк — и подчинить его РВСР. 26 сентября — пленум ЦК РКП(б) заслушал Главное командование в связи с падением Курска, прорывом конницы Мамонтова в районе Воронежа и утвердил решения Главного командования о переброске войск для укрепления орловского и воронежского участков. Пленум оставил прежний план борьбы с Деникиным в силе. Решено укрепить Южный фронт новыми силами. На пленуме рассмотрены военные вопросы: создание совета Московского укрепленного района, подчиненного Реввоенсовету Республики. РВСР отдал приказ начальнику штаба Южного фронта о сосредоточении в районе Навли — Дмитриева ударной группы войск. 27 сентября — РВСР постановил преобразовать Особую группу Южного фронта в самостоятельный Юго-Восточный фронт (просуществовал до 16 января 1920 г.). Командующим назначен B. И. Шорин, членами РВС: И. Т. Смилга, В. А. Трифонов, C. И. Гусев. 29 сентября — на заседании РВСР обсуждался вопрос «О ближайших задачах военной работы в Туркестане». Сентябрь — В. И. Ленин отдал указание заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому спешно разработать вопрос об усилении дивизии, взятой с Восточного фронта, и о перегруппировке войск Восточного фронта для усиления всех дивизий. 7 октября — ВЦИК передал Реввоенсовету Республики право награждения войсковых частей Красной Армии орденом Красного Знамени за «особые отличия, проявленные в боях против врагов Республики». 10 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил шифрованную телеграмму в Саратов Смилге с просьбой прислать соображения относительно предполагаемого обсуждения в ЦК РКП(б) вопроса об изменении политики по отношению к донскому казачеству. 15 октября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) был заслушан вопрос о положении на фронтах. Решено: «Признавая наличность самой грозной военной опасности, добиться действительного превращения Советской России в военный лагерь; снять с общесоветской работы максимальное количество коммунистов и сочувствующих им и отправить на фронт; создать комиссию в составе Ленина, Троцкого, Крестинского и Каменева для подготовки доклада о разыскании пригодного для военных целей имущества». 17 октября — В. И. Ленин сообщил председателю РВСР Л. Д. Троцкому о принятии Советом Обороны 16 октября его плана по защите Петрограда и директивы удерживать Петроград во что бы то ни стало до прихода подкреплений. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал телефонограмму из Петрограда В. И. Ленину: в связи с возможностью ликвидировать армиюЮденича необходимо разрешить вопрос о соглашении с эстонцами против Юденича, чтобы лишить его возможности вторгнуться в Эстонию. 18 октября — телеграмма В. И. Ленина председателю РВСР Л. Д. Троцкому о невозможности соглашения с Эстонией против Юденича, об ускорении ликвидации армии Юденича в связи с благоприятной для этого обстановкой на Кавказе и в Сибири. 20 октября — Г. Е. Зиновьев и Л. Д. Троцкий передали шифрованную телефонограмму из Петрограда В. И. Ленину о создании в Колпине штаба ударной группы в связи с ухудшением положения под Петроградом и появлением танков под Царским Селом. Заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский в телеграмме командующему Волжско-Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольникову и члену РВС 11-й армии Юго-Восточного фронта С. М. Кирову запросил о принятых мерах по оказанию помощи восставшим на Кавказе. 22 октября — В. И. Ленин в записке председателю РВСР Л. Д. Троцкому подчеркнул важность сначала покончить с Юденичем, а потом все силы сосредоточить против Деникина. Не позднее 24 октября — ЦК РКП(б) принял решение отправить на фронт более половины выпуска слушателей-коммунистов университета им. Я. М. Свердлова. 1 ноября — В. И. Ленин передал по прямому проводу шифрованную телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому и Г. Е. Зиновьеву с просьбой провести через Политбюро или решить с главкомом вопрос о сосредоточении под Питером больших военных сил для борьбы с Юденичем, чего требует военная и политическая обстановка. 6 ноября — Политбюро ЦК РКП(б) признало возможным переход Красной Армии границы Эстонии для завершения разгрома белогвардейских войск Юденича. Не позднее 6 ноября — В. И. Ленин известил председателя РВСР Л. Д. Троцкого о принятии решения вступить в пределы Эстонии, если они пустят туда войска Юденича. 2 ноября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал телефонограмму В. И. Ленину об осложнении положения на уральском фронте. 14 ноября — Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о направлении главного удара Южного фронта в борьбе с деникинскими армиями на Харьков и Донбасс. Политбюро ЦК РКП(б) отменило свое решение от 6 ноября о возможности перехода границы с Эстонией частями Красной Армии, преследующими войска Юденича. 17 ноября — РВСР принял постановление переименовать 1-й конный корпус Южного фронта в 1-ю Конную армию (просуществовала до 21 мая 1921 г.). Не ранее 28 ноября — в РВСР и В. И. Ленину была направлена записка главкома С. С. Каменева, члена РВСР Д. И. Курского и начальника Полевого штаба П. П. Лебедева, в которой указывалось, что из-за разрухи на транспорте невозможно перебросить на Южный фронт с других фронтов воинские части для полного разгрома Деникина и для этого необходимо назначить лицо с чрезвычайными полномочиями. 29 ноября — пленум ЦК РКП(б) рассмотрел вопрос о мероприятиях РВСР по переводу Красной Армии на мирное положение и одобрил их. 2 декабря — на заседании СНК под председательством B. И. Ленина принято постановление о назначении наркома юстиции Д. И. Курского членом РВСР вместо уехавшего на фронт C. И. Гусева. 7 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил на VII Всероссийском съезде Советов с докладом «Основы строительства Красной Армии». 9 декабря — Политуправление РВСР направило письмо В. И. Ленину с сообщением об открытии 11 декабря Всероссийского совещания политпросветработников Красной Армии и с просьбой принять участие в его работе. 12 декабря — РВСР наградил форт Передовой (бывший форт Серая Лошадь) Почетным революционным Красным Знаменем за мужество и героизм во время разгрома осеннего наступления Юденича на Петроград. 19 декабря — В. И. Ленин поручает командующему 5-й армией Восточного фронта М. Н. Тухачевскому разработать доклады в РВСР о принципах командования 5-й армией при подготовке красных командиров.1920 год
2 января — РВСР отдал приказы: о временном прекращении военных действий на всем русско-эстонском фронте на 7 суток с 3 января по 10 января для осуществления перемирия, заключенного мирной делегацией РСФСР и Эстонской демократической республикой; о призыве на военную службу всех граждан, родившихся в 1901 г.; о порядке представления частями войск сведений о дезертирах в Комиссию по борьбе с дезертирами. 3 января — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались тезисы о военной политике на Украине и предложение провести через Совет Обороны назначение Н. И. Подвойского начальником Всевобуча. 9 января — РВСР определил порядок назначения военных комиссаров. 10 января — В. И. Ленин дал указание заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому подготовить доклад в Совете Обороны в связи с телеграммой уполномоченного РВСР по формированию 43-й отдельной стрелковой дивизии, коменданта Тульского укрепленного района А. И. Окулова о катастрофическом положении в снабжении продовольствием воинских частей, о расстройстве транспорта, необходимости увеличить Тульский гарнизон. В связи с завершением основных операций по разгрому белогвардейских войск Деникина Южный фронт был переименован в Юго-Западный (просуществовал до 31 января 1920 г.). РВСР объявил об открытии Оренбургских командных курсов восточных народностей и назначении окончивших их командирами в башкирские части. 11 января — РВСР отдал приказ об учреждении Революционного военного трибунала войск внутренней охраны и об утверждении его председателя и членов РВС. 14 января — с участием В. И. Ленина состоялось заседание комиссии, созданной СНК 13 января для выработки предложений по созданию из армий Восточного фронта 1-й революционной армии труда. 15 января — приказы РВСР: о преобразовании 3-й армии в 1-ю революционную армию труда и о создании РВС армии; ликвидации Восточного фронта в связи с уничтожением колчаковской армии; о назначении члена РВСР А. П. Розенгольца на ответственную работу в Народном комиссариате путей сообщения и награждении его орденом Красного Знамени за исключительные заслуги. 16 января — приказом РВСР Юго-Восточный фронт переименован в Кавказский фронт (просуществовал до 29 мая 1921 г.). РВСР присвоил Высшей военной школе Туркестанского фронта имя главкома С. С. Каменева (не ранее 16 января). РВСР запросил мнение В. И. Ленина, следует ли сдать шашку взятого в плен адмирала Колчака в музей или подарить главкому, и получил резолюцию: «В музей». 21 января — Полевой штаб РВСР направил в РВСР доклад главкома С. С. Каменева, начштаба РВСР П. П. Лебедева и комиссара штаба Д. И. Курского «Об организации вооруженных сил страны», в котором рассматривался вопрос о переходе к милиционной системе. 22 января — создание Военно-исторической комиссии взамен Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914―1918 гг., объявленной приказом РВСР в 1919 г. 23 января — РВСР образовал Харьковский и Киевский военные округа. СНК утвердил положение о Кавказской трудовой армии. 24 января — В. И. Ленин подписал мандат СНК члену РВСР И. Т. Смилге о его назначении председателем Совета Кавказской трудовой армии. 28 января — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в телеграмме Г. Е. Зиновьеву (копия Ленину и Н. Н. Крестинскому) просил принять меры предосторожности в связи с данными о близкой возможности наступления поляков по всему фронту, мобилизовать наиболее серьезных и надежных польских коммунистов на Западный фронт; усилить агитацию на польском языке; сосредоточить все внимание на боеспособности 7-й армии. 29 января — РВСР объявил Положение о Восточном отделении Академии Генерального штаба ввиду наличия в Красной Армии коренных мусульманских народностей. 30 января — РВСР объявил Положение о Совете Украинской трудовой армии, Положение о культурно-просветительных комиссиях в частях и учреждениях Красной Армии и Флота РСФСР. 31 января — приказом РВСР образована Высшая стрелковая школа командного состава Красной Армии. 1 февраля — на заседании РВСР обсуждался вопрос о трудовом использовании флотилий. Протокол данного заседания был направлен В. И. Ленину. 4 февраля — В. И. Ленин по прямому проводу направляет записку И. В. Сталину с сообщением о решении ЦК РКП(б) не настаивать на его поездке на Кавказский фронт при условии, что все его внимание будет сосредоточено на обслуживании этого фронта, подчиняя ему интересы Юго-Западного фронта. 6 февраля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы о назначении РВСР адмирала А. В. Немитца командующим Морскими Силами Республики; о составе РВС Кавказского фронта; об использовании войск Туркестанского фронта и 2-й армии для работы на транспорте. РВСР объявил Временные правила о приеме добровольцев на военную службу в РККА; распространил район 1-й революционной армии труда на Пермскую, Екатеринбургскую и Уфимскую губернии. 11 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал по прямому проводу из Самары телеграмму В. И. Ленину и А. И. Рыкову о необходимости Совнархозу принять чрезвычайные меры для поднятия производства бумаги, так как сокращение агитлитературы, закрытие местных газет отражается на хозяйственных работах и состоянии трудармий. 13 февраля — РВСР образовал при РВС армий Особые комиссии для приема и учета перебежчиков и военнопленных гражданской войны, их использования и правильного распределения. 17 февраля — секретарь ЦК РКП(б) Н. Н. Крестинский сообщил Троцкому, Смирнову и Фрумкину решение Политбюро: безусловно, поддержать буферное государство и привлечь противников этой политики к строгому взысканию; не продвигать военные силы далее Иркутска. В. И. Ленин в телеграмме И. Т. Смилге и Г. К. Орджоникидзе выразил тревогу за состояние войск Кавказского фронта, слабость командного состава и усиление противника. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил из Екатеринбурга в ЦК РКП(б) шифрованную телеграмму о необходимости направить в Челябинскую губернию партийных работников в связи с сообщением местных товарищей о наличии там большого количества бывших и настоящих левых эсеров и имеющихся сведений о подготовке ими заговора. Заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский передал по прямому проводу Л. Д. Троцкому, что председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский и Челябинская губчека производят расследование в отношении левых эсеров. 18 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал по прямому проводу записку В. И. Ленину и Э. М. Склянскому для ЦК РКП(б) по вопросу о военном и политическом положении на Дальнем Востоке. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал из Екатеринбурга шифрованную телеграмму в Иркутск председателю Сибревкома И. Н. Смирнову о необходимости избегать столкновений с Японией, ускорить создание буферного государства, чтобы все дипломатические переговоры шли от его имени. 19 февраля — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому с предложением пригрозить партийным судом противникам создания Дальневосточной республики и просил направить все силы на переброску войск на Запад ввиду угрозы наступления Польши. 20 февраля — В. И. Ленин получил телеграмму И. В. Сталина о том, что укреплением Кавказского фронта должен заниматься не он, а РВСР, и в ответной телеграмме Сталину посоветовал «не препираться о ведомственных компетенциях», а ускорить отправку подкреплений на Кавказский фронт. Зам. председателя РВСР Э. М. Склянский телеграфировал в РВС Юго-Западного фронта об имеющихся фактах нарушения РВС директивы Советского правительства об обеспечении равноправия украинского и русского языков на территории Украины и указания И. В. Сталину принять меры к обеспечению равноправия языков во всех учреждениях фронта. Член РВСР Н. И. Подвойский направил телеграмму В. И. Ленину из Тамбовской губернии с просьбой уполномочить его для борьбы с эпидемиями и разрухой. 22 февраля — РВСР принял постановление по вопросу о порядке переброски войск на Кавказский фронт и передал текст В. И. Ленину. 23 февраля — В. И. Ленин направил в РВСР на рассмотрение доклад РВС Западного фронта о перегруппировке войск в связи с возможной активизацией войск буржуазно-помещичьей Польши. 27 февраля — В. И. Ленин направил телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому с предложением усилить Западный фронт воинскими частями из Сибири и с Урала ввиду неизбежности военного столкновения с Польшей и выразил опасение, что поторопились с созданием трудармий. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий в шифрованной телеграмме В. И. Ленину поддержал его предложение о необходимости вести открытую агитационно-организационную подготовку к войне с Польшей. 5 марта — председатель РВСР Троцкий телеграфирует В. И. Ленину о принятых мерах по заготовке продовольствия и топлива в районах Урала и Сибири. Нарком просвещения А. В. Луначарский в письме В. И. Ленину просил назначить комиссию для проверки культурно-просветительской работы Политуправления РВСР и о намерении поставить в СНК вопрос о передаче этой работы в Наркомпрос. 8 марта — Политбюро ЦК РКП(б) обсудило вопрос о переходе к милиционной системе военного строительства Советской Республики. Председатель РВСР Л. Д. Троцкий передал по прямому проводу телеграмму В. И. Ленину с просьбой сообщить до 12 марта положение дел с Польшей. В. И. Ленин в телеграмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому сообщает о продвижении польских войск в направлении Гомеля и о необходимости в связи с этим укрепить Западный фронт, а также о предложении назначить его наркомом путей сообщения вместо Л. Б. Красина. Между 8 и 20 марта — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому с информацией Г. В. Чичерина об отношениях с Польшей и Финляндией и о предупреждении М. М. Литвинова, что «Польша будет воевать». 16 марта — РВСР определил порядок сбора сведений о потерях на фронтах в личном составе Красной Армии и сформировал в составе штабов армии особые отделения по сбору указанных сведений. 17 марта — В. И. Ленин телеграфировал И. Т. Смилге и Г. К. Орджоникидзе о необходимости взятия Баку. 21 марта — РВСР учредил революционный военный трибунал Волжско-Каспийского флота на правах реввоентрибунала особых армий, то есть с непосредственным подчинением Реввоентрибуналу Республики; отдал приказ об открытии курсов при Политуправлении РВСР для подготовки инструкторов-организаторов просветительской работы в Красной Армии. 24 марта — РВСР отдал приказ о создании Беломорского и Заволжского военных округов. 25 марта — РВСР создал Главное управление Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики. 29 марта — РВСР принял основное положение о Революционных трибуналах; объявил Положение о революционных железнодорожных трибуналах; объявил правила об освобождении от трудовой повинности. 31 марта — РВСР отдал приказ о создании Северо-Кавказского военного округа. 2 апреля — В. И. Ленин просит председателя РВСР Л. Д. Троцкого направить шифрованную телеграмму члену РВС Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе с указаниями действовать осторожно и проявлять доброжелательность к мусульманам при вступлении в Дагестан. 4 апреля — IX съезд РКП(б) принял резолюцию «О переходе к милиционной системе», предложенную от имени ЦК РКП(б). 17 апреля — Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о мерах по укреплению Западного фронта. 20 апреля — РВСР учредил должность помощника Главнокомандующего всеми Вооруженными Силами Республики по Сибири; при нем образован штаб, являющийся военным отделом Сибирского ревкома. Помощником главкома назначен В. И. Шорин, членами РВС — И. Н. Смирнов, А. Д. Давыдов, М. М. Лашевич. 24 апреля — приказом РВСР все военные моряки отзывались во флот из красноармейских частей за исключением Юго-Западного и Западного фронтов. 26 апреля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) решено поручить Полевому штабу РВСР усилить Юго-Западный фронт и ускорить переброску запасных армий на Украину. РВСР отдал приказ о ликвидации неграмотности среди красноармейцев и моряков; объявил постановление СТО о преобразовании 8-й армии Кавказского фронта в Кавказскую армию труда. 28 апреля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы, вставшие перед страной в связи с нападением польских войск; был одобрен план их разгрома, доклад И. В. Сталина о соглашении с главкомом по вопросам стратегии. Опубликованы тезисы ЦК РКП(б) «Польский фронт и наши задачи». 2 мая — право награждать орденом Красного Знамени моряков военного флота некомандного состава предоставлялось реввоенсоветам флотов и флотилий, а командующему всеми Морскими Вооруженными Силами Республики — командный состав до командиров кораблей и отдельных частей, а также соответствующих комиссаров. 4 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались меры, вызванные начавшейся войной с Польшей: широкое оповещение населения о начале войны, поездка Л. Д. Троцкого на Западный фронт и др. В. И. Ленин поддержал предложения Г. В. Чичерина приостановить военные действия в Крыму и на Кавказе, начать переговоры с Врангелем. 5 мая — председателю РВСР Л. Д. Троцкому был представлен доклад Главного командования по поводу радиограммы министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона о возможности переговоров с Врангелем. Не ранее 5 мая — начальник Полевого штаба РВСР П. П. Лебедев доложил В. И. Ленину варианты оперативного плана борьбы с польскими войсками, стратегические и тактические замыслы. 6 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) заслушаны вопросы об ускорении переброски войск с Кавказского фронта на Западный. 10 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы об усилении состава партийных и военных работников на Западном фронте; о создании Временного бюро ЦК в прифронтовой полосе; предложения М. Н. Тухачевского об обеспечении предстоящей операции на Западном фронте. На экстренном заседании СТО обсуждались вопросы о военном положении в 24 губерниях России, о снабжении армий Западного фронта. 15 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение о реорганизации Особого совещания при главкоме: в его состав включены Н. И. Подвойский и С. С. Данилов. 18 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: о военном положении Петрограда; о назначении И. Т. Смилги членом РВС Западного фронта; о назначении И. В. Сталина членом РВСР, о командировании его на Юго-Западный фронт и введении в состав РВС Юго-Западного фронта. 22 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы о назначении члена РВСР Ф. Ф. Раскольникова командующим Балтийским флотом; о сроке отъезда И. В. Сталина в РВС Юго-Западного фронта и др. 25 мая — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) постановлено приостановить наступление на Крым до нового решения Политбюро. 26 мая — В. И. Ленин обратился в РВСР к Э. М. Склянскому с просьбой заказать для него карту Западного фронта с обозначением линии фронта до польского наступления, продвижением поляков на 10 и 15 мая и на 24, 25, 26 мая. РВСР обсудил текст постановления об организации временной чрезвычайной комиссии по расследованию фактов посылки негодных патронов на Западный фронт и направил протокол заседания В. И. Ленину. 2 июня — В. И. Ленин послал телеграмму члену РВСР И. В. Сталину в Кременчуг, сообщая о невозможности прислать просимые им дивизии и о необходимости продолжать наступление на киевском направлении, напоминая, что наступление на Крым приостановлено по решению Политбюро ЦК от 4 мая с. г., впредь до нового решения. В. И. Ленин получил телеграмму члена РВСР И. В. Сталина с предложением ввиду необходимости усиления Западного фронта санкционировать наступление и на телеграмме пишет записку председателю РВСР Л. Д. Троцкому, что наступление потребует жертв и нужно вопрос о наступлении серьезно обсудить в Политбюро ЦК РКП(б). На телеграмме Сталина, в которой он предлагает установить перемирие с Врангелем, Ленин написал Троцкому, что считает это утопией, которая будет стоить многих жертв, и просил ответить Сталину, что нужно все «обдумать архиосторожно» и дождаться их ответа. 4 июня — член РВСР И. В. Сталин направляет телеграмму В. И. Ленину о направлениях готовящегося наступления войск Врангеля. 7 июня — РВСР объявил постановление о награждении Каспийской военной флотилии Почетным Красным Знаменем за выполнение поставленной задачи очистить Каспийское море от белогвардейского флота; командующий Каспийской флотилией Ф. Ф. Раскольников вторично награжден орденом Красного Знамени; всему личному составу выдан месячный оклад жалованья. 12 июня — РВСР объявил о создании краткосрочных курсов подготовки для школ грамоты. 14 июня — В. И. Ленин в записке председателю РВСР Л. Д. Троцкому просит сообщить военные новости, в частности о Крыме. 15 июня — председатель РВСР Л. Д. Троцкий объявил приветствие Персидской республике. РВСР объявил о решении Наркомздрава провести «неделю водоснабжения», посвященную охране воды и нормализации водоснабжения для улучшения санитарного состояния Республики. 17 июня — РВСР издал приказ об открытии временных курсов по ознакомлению пленных офицеров с организацией и устройством Вооруженных Сил Республики. 29 июня — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) среди многих вопросов обсуждалась телеграмма члена РВСР И. В. Сталина о необходимости равномерно распределить политработников между Западным и Юго-Западным фронтами. 6 июля — военный комиссар Полевого штаба РВСР Д. И. Курский направляет сообщение В. И. Ленину об успешном наступлении 15-й армии на Западном фронте и предстоящем переходе в наступление 16-й армии. В. И. Ленин запросил Полевой штаб о принятии мер к восстановлению на освобожденной территории органов Советской власти. 11 июля — член РВСР И. В. Сталин направил письмо В. И. Ленину с перечнем воинских частей, перебрасываемых для усиления крымского участка Юго-Западного фронта. 12 или 13 июля — В. И. Ленин написал записку заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому о необходимости в связи с международной обстановкой ускорить наступление на Западном фронте. 15 июля — заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский направил В. И. Ленину справку о размерах помощи Юго-Западному фронту в связи с письмом И. В. Сталина от 11 июля, в котором он сообщал В. И. Ленину об обещании главкома С. С. Каменева усилить воинскими частями крымское направление. 16 июля — пленум ЦК РКП(б), обсудив ноту Керзона от 11 июля, решил отвергнуть посредничество Англии в переговорах с Польшей и принять меры к усилению наступления на Польском фронте. РВСР постановил сформировать Вторую Конную армию (просуществовала до 6 декабря 1920 г.). 19 июля — РВСР предписал сдавать дела военных ведомств и полевых штабов в архивы Красной Армии и при Военно-исторической комиссии. Не ранее 22 июля — заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский обратился к В. И. Ленину за советом, какое принять решение в связи с предложением польского правительства от 22 июля начать переговоры о перемирии. В. И. Ленин ответил Склянскому о принятом решении отдать распоряжение военному командованию начать переговоры, о чем необходимо уведомить польское правительство. 2 августа — Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение о выделении крымского участка Юго-Западного фронта в самостоятельный Южный фронт в связи с возросшей опасностью со стороны Врангеля. В. И. Ленин написал записку заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому с просьбой сообщить И. В. Сталину по телефону решение Политбюро ЦК РКП(б) о разделении фронтов и поручении ему заняться исключительно Врангелем. Член РВСР и РВС Юго-Западного фронта И. В. Сталин в телеграмме В. И. Ленину сообщает о тяжелом положении на Юго-Западном фронте и выражает недовольство разделением фронтов. 3 августа — В. И. Ленин в телеграмме члену РВСР И. В. Сталину выражает удивление его недовольством по поводу разделения фронтов и просит сообщить, чем оно вызвано. 4 августа — В. И. Ленин телеграфировал члену РВСР И. В. Сталину просьбу прислать к заседанию пленума ЦК РКП(б) заключение о положении и военных перспективах на Юго-Западном фронте, так как от этого будут зависеть «важнейшие политические решения». Заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский по поручению В. И. Ленина передает по прямому проводу члену Польского ревкома Ф. Э. Дзержинскому просьбу каждый день присылать информацию. Между 8 и 10 августа — начальник Полевого штаба РВСР П. П. Лебедев в разговоре по прямому проводу с командующим Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе обсудили положение в Бухаре и познакомили с записью разговора В. И. Ленина. 12 августа — В. И. Ленин в записке заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому указывает на необходимость усилить Западный фронт в связи с переброской 1-й Конной армии на юг, призвав в Белоруссии в армию всех взрослых мужчин. Не ранее 14 августа — В. И. Ленин в записке заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому предложил обдумать контрход против наступления поляков; просил запросить мнение главкома С. С. Каменева о переброске двух дивизий в район Бреста. Середина августа — В. И. Ленин в записке заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому предложил усилить наступательные действия войск Красной Армии на Северо-Западном участке Западного фронта. 19 августа — Политбюро ЦК РКП(б) постановило признать врангелевский фронт главным, созвать Оргбюро для решения вопроса о новой мобилизации коммунистов, передать 6-ю кавалерийскую дивизию на врангелевский фронт; 50 процентов мобилизованных коммунистов направить на врангелевский фронт, остальных — на Западный. 20 августа — ЦК РКП(б) постановил мобилизовать на фронт в течение двух недель 5 тысяч коммунистов и 5 тысяч членов профсоюзов. РВСР отдал приказ об укреплении командных кадров войск Красной Армии на врангелевском фронте. Между 20 и 24 августа — В. И. Ленин написал текст постановления Политбюро ЦК РКП(б) о приказе РВС Западного фронта от 20 августа, в котором говорилось, что польская мирная делегация якобы состоит из шпионов и контрразведчиков. Политбюро поручило РВСР отменить приказ РВС Западного фронта, ознакомить польскую делегацию с постановлением РВСР и постановило «выразить самое суровое осуждение поступку тт. Тухачевского и Смилги, которые издали, не имея на то никакого права, свой хуже чем бестактный приказ». 23 августа — РВСР отменил приказ РВС Западного фронта, поставив ему на вид неправильность действий, и дал указание председателю советской делегации на переговорах с Польшей К. X. Данишевскому ознакомить польскую делегацию с этим постановлением РВСР. 24 августа — В. И. Ленин направил телеграмму члену РВСР и члену РВС Западного фронта И. Т. Смилге с предложением соблюсти все формальности при отмене приказа РВС Западного фронта о составе польской делегации на переговорах о заключении мира с Советской Россией. Заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский получил докладную записку из Минска от главкома С. С. Каменева, члена РВСР Д. И. Курского и начальника штаба РВСР П. П. Лебедева с оценкой положения на Западном, Кавказском и Юго-Западном фронтах и о выполнении приказания председателя РВСР Л. Д. Троцкого о переброске добровольческих частей и коммунистов на Кавказ. 25 августа — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: предложение отозвать из РВС Юго-Западного фронта Р. И. Берзина, заменив его С. И. Гусевым; предложение И. В. Сталина о создании боевых резервов; о созыве совещания по снабжению армии в составе: И. В. Сталин, А. И. Рыков, Э. М. Склянский, А. М. Лежава, Н. П. Брюханов и другие. 26 августа — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждалось положение в Польше и на Западном фронте. 1 сентября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: о военном положении, просьба И. В. Сталина освободить его от военной работы; об организации Особого совещания по снабжению армии; проект Сталина о боевых резервах и др. 2 сентября — на заседании РВСР заслушаны вопросы: создании ударной группы на Западном фронте, способной противостоять натиску польских войск; о сдаче дел командующим Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе и выезде его в Москву в распоряжение главкома; о тщательной подготовке решающей операции по ликвидации Врангеля; о 1-й Конной армии; о ликвидации врангелевского десанта на Кавказском фронте. Протокол был направлен В. И. Ленину. РВСР принял постановление о создании ударной группы на Западном фронте. 6 сентября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: доклад Э. М. Склянского о военном положении; просьба Д. И. Курского демобилизовать его, освободив от звания члена РВСР и комиссара Полевого штаба, и др. 8 сентября — В. И. Ленин в записке председателю РВСР Л. Д. Троцкому предложил назначить М. В. Фрунзе командующим Южным фронтом и выразил тревогу по поводу возможного поражения 13-й армии и просил поставить этот вопрос в ЦК РКП(б). 9 сентября — В. И. Ленин в телеграмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому предлагает подготовить проект обращения к офицерам армии Врангеля. 21 сентября — РВСР принял постановление о сформировании нового Южного фронта против Врангеля. 20―21 сентября — на заседании пленума ЦК РКП(б) были обсуждены вопросы: о 1-й Конной армии; предложение главкома назначить М. В. Фрунзе командующим Южным фронтом, С. И. Гусева — членом РВС фронта; о работе И. В. Сталина на Кавказском фронте. 22 сентября — на IX Всероссийской конференции РКП(б) В. И. Ленин в политическом отчете главное внимание уделил вопросу о заключении мира с Польшей и мобилизации сил для разгрома войск Врангеля, критике военного ведомства во главе с Л. Д. Троцким за ошибки в руководстве действиями советских войск на польском фронте и другим вопросам. 23 сентября — В. И. Ленин направил на заключение РВСР телеграмму председателя Сибревкома И. Н. Смирнова, в которой содержится предложение обратиться с воззванием к семеновским войскам, оставшимся в Забайкалье после ухода японцев, о переходе на сторону Советской власти. 24 сентября — РВСР обратился к делегатам-военным IX Всероссийской конференции РКП(б) с просьбой срочно вернуться в свои части в связи с наступлением польских войск по всему Западному фронту. 29 сентября — на пленуме ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: о военном положении на Дальнем Востоке; предложение Ф. Ф. Раскольникова о подводных лодках и др. 1 октября — В. И. Ленин обменялся записками с заместителем председателя РВСР Э. М. Склянским о плане разгрома Врангеля, причинах переноса даты общего наступления на Крым. 2 октября — В. И. Ленин предложил председателю РВСР Л. Д. Троцкому направить членов ЦК РКП(б) на Южный фронт; в 1-ю Конармию — Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева для поднятия и оживления политработы. РВСР направил в ЦК РКП(б) предложения об улучшении снабжения армии обмундированием и мобилизации членов ЦК и других ответственных работников на работу по снабжению. 10 октября — по поручению Политбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму председателю РВСР Л. Д. Троцкому об обстановке на польском фронте и решении «пойти на риск» и перевести некоторые части с Юго-Западного фронта на Южный для быстрейшего разгрома войск Врангеля. 12 октября — главком С. С. Каменев направил в РВСР доклад с предложением использовать перемирие с Польшей для скорейшего разгрома войск Врангеля, используя для боевых действий на юге страны части только Западного фронта. 15 октября — В. И. Ленин написал записку заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому с просьбой поручить РВСР добиться быстрой и полной ликвидации контрреволюционного выступления в Тамбовской губернии и сообщить о принятых мерах. 18 октября — РВСР принял Положение о Высшей военной воздухоплавательной школе. 20 октября — указание председателя РВСР Л. Д. Троцкого главкому С. С. Каменеву об усилении Кавказского фронта в связи с возможностью переброски врангелевских войск на Кавказское побережье. 23 октября — Совет Труда и Обороны принял предложенный В. И. Лениным «Проект постановления Совета Труда и Обороны по вопросу о восстановлении Балтийского флота». 26 октября — член РВСР И. В. Сталин в телеграмме В. И. Ленину высказал предположение о возможной сдаче Батума Антанте меньшевистским правительством Грузии. 29 октября — В. И. Ленин направил телеграмму члену РВСР И. В. Сталину в Баку о необходимости спешно принять меры к укреплению подступов к Баку с суши и с моря. 5 ноября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждалось положение на Юго-Западном фронте. 13 ноября — В. И. Ленин направил шифрованную телеграмму И. В. Сталину с запросом об итогах борьбы с бандами, о необходимости присылки подкреплений Кавказскому фронту, о возможности мирного улаживания отношений между Грузией и Арменией. 15 ноября — член РВСР И. В. Сталин в телеграмме из Баку сообщил В. И. Ленину об успешной борьбе с бандами на Кавказе и о необходимости усиления подкреплений Кавказскому фронту для обороны Баку. 23 ноября — В. И. Ленин направил председателю РВСР Л. Д. Троцкому записку члена Политбюро ЦК РКП(б) И. В. Сталина из Владикавказа с сообщением об угрозе Советскому Азербайджану со стороны меньшевистской Грузии и просьбой прислать подкрепление. 24 ноября — на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждались вопросы: о ходе мирных переговоров с Польшей; военный вопрос; о распределении демобилизованных коммунистов. 25 ноября — состоялось первое заседание комиссии по демобилизации армии и упорядочению тыла при ЦК РКП(б) под председательством Ф. Э. Дзержинского. РВСР, заслушав доклад Э. М. Склянского о сокращении численности вооруженных сил, поручил разработать план сокращения вооруженных сил на 2 миллиона человек. 1 декабря — на заседании РВСР обсуждались вопросы о задачах военной власти на Украине и мерах ограждения Донбасса от банд Махно. 3 декабря — на заседании Совета Труда и Обороны был рассмотрен вопрос об освобождении Трудармии юго-востока от боевых задач и о том, нужно ли сохранить ее для удовлетворения потребности в рабочей силе на местах; проект постановления о борьбе с бандитизмом и управления войсками внутренней службы на Украине. 6 декабря — РВСР образовал комиссию под председательством Э. М. Склянского для определения возрастов, предназначенных к демобилизации. 17 декабря — РВСР переправил телеграмму В. И. Ленину от командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе и члена РВС фронта С. И. Гусева о разгроме основных сил махновцев. 23 декабря — РВСР обратился к В. И. Ленину с предложением огласить на IX Всероссийском съезде Советов численность Красной Армии. Было решено поставить это предложение на обсуждение членов Политбюро ЦК РКП(б). 26 декабря — на IX Всероссийском съезде Советов председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с докладом о положении в армии. 27 декабря — пленум ЦК РКП(б) обсудил проект правительственного сообщения о сокращении численности Красной Армии. 28 декабря — на заседании пленума ЦК РКП(б) был рассмотрен вопрос о положении в армии. Главком С. С. Каменев и член РВСР К. X. Данишевский представили в РВСР доклад «О реорганизации всего центрального управления Красной Армии». Приказ РВСР об организации борьбы с неграмотностью красноармейцев. 29 декабря — VIII Всероссийский съезд Советов заслушал доклад РВСР о плане проведения постепенной демобилизации армии и одобрил мероприятия правительства по сокращению вооруженных сил, переводе их на мирное положение с 30 декабря. Объявлено правительственное сообщение о сокращении армии.1921 год
5 января — Совет Труда и Обороны принял постановление об образовании губернских комиссий по улучшению условий размещения и быта частей Красной Армии, которым необходимо раз в месяц информировать РВСР о ходе работ. 9 января — член РВС Кавказского фронта В. А. Трифонов направил телеграмму заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому и секретарю ЦК ВКП(б) Н. Н. Крестинскому о необходимости демобилизовать младший командный состав, призванный по распоряжению Всероссийского главного штаба. 10 января — РВСР отдал приказ о воссоединении архивов Красной Армии в едином Государственном архивном фонде. 12 января — Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрело просьбу члена РВСР А. И. Окулова пересмотреть постановление Оргбюро ЦК о назначении его вторым комиссаром в Академию Генерального штаба и дать ему административно-военное назначение. ЦК РКП(б) создал комиссию для подготовки мер по ликвидации бандитизма. 14 января — В. И. Ленин подписал постановление СТО от 24 декабря 1920 г. о награждении войск Южного фронта освободивших Крым. Командующий Балтийским флотом Ф. Ф. Раскольников и начальник Политуправления флота Э. И. Батис направили телефонограмму в ЦК РКП(б) с информацией о ходе в партийных организациях флота дискуссии о роли и задачах профсоюзов и с утверждением, что неправильные методы ведения дискуссии привели к ослаблению дисциплины и расколу между моряками, комиссарами и политработниками. 24 января — член Политбюро ЦК РКП(б) и РВСР И. В. Сталин в письме членам ЦК предложил дать директиву РВСР приступить к подготовительной работе, имеющей целью оказать в случае необходимости помощь повстанцам Грузии. 26 января — на заседании пленума ЦК РКП(б) были рассмотрены вопросы: о положении в Красной Армии; просьба Ф. Ф. Раскольникова освободить его от обязанностей командующего Балтийским флотом. Приказом РВСР было объявлено постановление ВЦИК о награждении начальника Полевого штаба РВСР тов. П. П. Лебедева орденом Красного Знамени, который «неустанными трудами и выдающимися знаниями всемерно способствовал Главному командованию успешно руководить действиями доблестной Красной Армии». 28 января — на пленарном заседании СТО обсуждался доклад заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского о ходе демобилизации армии. 10 февраля — РВСР произвел слияние Полевого штаба РВСР и Всероссийского Главного штаба, сформировав единый Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 12 февраля — В. И. Ленин в записке заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому охарактеризовал отсутствие связи между фронтами и центральным аппаратом как «полное разложение верхов в армии». 6 февраля — В. И. Ленин в письме заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому предупредил о провале военного командования в борьбе с отрядами Махно и потребовал представить доклад главкома со схемой размещения сил обеих сторон. 14 февраля — секретарь ЦК РКП(б) Н. Н. Крестинский и заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский направили телеграмму В. И. Ленину о решении ЦК разрешить 11-й армии поддержать восстание в Грузии «при соблюдении международных норм и при условии, что все члены РВС 11-й армии при рассмотрении всех данных ручаются за успех». 17 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с речью на совещании военных работников в Екатеринбурге по вопросу о милиционной системе. 21 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий из Екатеринбурга по прямому проводу дал поручение Э. М. Склянскому составить краткую справку, необходимую для пленума ЦК РКП(б), о военных операциях против Грузии и по чьему приказу и когда они начаты. Заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский сообщил председателю Сибирского ревкома И. Н. Смирнову о направлении в Омск воинских частей с Западного фронта и с просьбой извещать о наличии банд. 10 марта — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму в Президиум IX съезда РКП(б) Л. Б. Каменеву с предложением рассматривать военный вопрос на закрытом заседании, так как необходимо обсудить фактическое состояние армии. 15 марта — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму В. И. Ленину с просьбой дать информацию в газетах о положении в Кронштадте для пресечения распространения слухов. 16 марта — председатель РВСР Л. Д. Троцкий дал интервью представителям иностранной печати «О событиях в Кронштадте». 19 марта — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил по прямому проводу шифрованную телеграмму Краснощекову и председателю Сибревкома И. Н. Смирнову с требованием принять меры к снабжению продовольствием голодающей армии. 23 марта — главком, член РВСР С. С. Каменев направил заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому справку о мерах по борьбе с повстанцами в Саратовской губернии: усилении войск Заволжского военного округа и пересмотре комсостава частей, ведущих с ними борьбу. 3 апреля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в речи на параде в честь героев Кронштадта отметил небывалый героизм и неслыханный в военной истории подвиг курсантов и красноармейских частей при штурме первоклассной морской крепости. 8 апреля — РВСР приказом объявил о выделении из войсковых частей, штабов, учреждений и управлений комсостава грузинской национальности ввиду предстоящего формирования Грузинской Красной Армии. 27 апреля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы: о 1-й Конной армии, об увеличении мобилизационного плана; о высшем военном образовании; о назначении С. И. Гусева членом РВСР, о создании Украинского полка; о мерах по ликвидации антоновщины и поручении заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому докладывать в ЦК о ходе операции. В. И. Ленин подписывает мандат СНК о назначении полномочным представителем РСФСР в Литве С. И. Аралова. На пленарном заседании СТО был заслушан доклад заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского о необходимости изменения границ военных округов на Украине. 7 мая — Политбюро ЦК РКП(б) при участии В. И. Ленина обсудило доклад Э. М. Склянского о комплектовании Красной Армии и о частях особого назначения. 9 мая — приказом РВСР уволены из Красной Армии в бессрочный отпуск красноармейцы-коммунисты, призванные по партийной мобилизации и достигшие 30-летнего возраста. 6 мая —РВСР сформировал Управление начальника бронесил РККА. 19 мая — РВСР объявил Положение о запасной бригаде артиллерии особого назначения. 28 мая — Политбюро ЦК РКП(б) при участии В. И. Ленина обсудило вопрос об оказании экстренной военной помощи Народно-революционной армии Дальневосточной республики. 29 мая — РВСР отдал приказ о расформировании Кавказского фронта. 30 мая — В. И. Ленин в письме заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому предложил обсудить в РВСР вопрос о систематическом использовании армии для хозяйственных работ и для работ по осуществлению плана электрификации страны. Не позднее 31 мая — заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский направил записку В. И. Ленину с предложением послать М. Н. Тухачевского на подавление тамбовского восстания. 4 июня — Политбюро ЦК РКП(б) при участии В. И. Ленина обсудило доклад Э. М. Склянского и С. И. Гусева об улучшении состава Красной Армии. 16 июня — РВСР обсудил письмо В. И. Ленина о трудовом использовании армии и постановил всем членам РВСР в недельный срок представить свои конкретные предложения и соображения в письменном виде. 25 июня — РВСР приказом объявил увольнение в бессрочный отпуск красноармейцев-коммунистов Красной Армии и Флота, родившихся в 1895―1902 гг., независимо от того, по какой мобилизации они были призваны. 12 июля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) С. С. Данилов был назначен членом РВСР. На СНК обсуждался вопрос о назначении комиссара штаба РККА С. С. Данилова членом РВСР и представителем по вопросам военного ведомства в СНК в связи с отъездом в отпуск заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского. 16 июля — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленин внес предложение о назначении Л. Д. Троцкого наркомом продовольствия Украины. 20 июля — РВСР предоставил право командующим войсками округов назначить командующих войсками губернии (области) там, где это вызывается необходимостью. 23 июля — малый Совнарком поручил РВСР в недельный срок разработать правила о предоставлении отпусков для красноармейцев и военнослужащих и установить им бесплатный проезд. 25 июля — РВСР постановил считать Реввоентрибунал Республики вошедшим в состав Верховного трибунала. 27 июля — состоялась беседа В. И. Ленина с председателем РВСР Л. Д. Троцким о мотивировке его отказа подчиниться решению Политбюро ЦК РКП(б) от 16 июля о направлении его на Украину для работы в качестве наркома продовольствия; обсуждали подготовку к предстоящему пленуму ЦК. 28 июля — В. И. Ленин написал проект постановления Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу об отмене прежнего решения направить Л. Д. Троцкого на Украину для продработы; предложил в качестве особого постановления рассмотреть вопрос о необходимости перевода армии на хозяйственную работу с поручением РВСР обсудить предложение о трудовых задачах армии и согласовать это с Л. Д. Троцким. 30 июля — В. И. Ленин в телефонограмме председателю РВСР Л. Д. Троцкому сообщил о решении реорганизовать Народный комиссариат по морским делам и предложил сделать соответствующие распоряжения, назначить срок и ответственного за выполнение этого решения. 2 августа — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил доклад председателю СНК В. И. Ленину с обоснованием необходимости сокращения морского ведомства и предполагаемом упразднении Народного комиссариата по морским делам. 4 августа — РВСР отметил в приказе успешную работу командования войсками Петроградского военного округа по демобилизации командного и красноармейского состава и завершении реорганизации строевых частей. 5 августа — приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого о плохом ведении политической работы в частях Красной Армии и мерах ее улучшения. 7 августа — РВСР отдал приказ о поднятии воинской подготовки красноармейцев. 9 августа — на заседании пленума ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина было принято решение усилить перевод армии на хозяйственную работу и поручить РВСР подготовить соответствующие меры. 12 августа — РВСР приказом объявил меры пресечения преступно-небрежного отношения к оружию и боевым припасам. 13 августа — РВСР приказом объявил штаты РВС фронта для мирного времени. 16 августа — СНК принял постановление о привлечении армии к хозяйственной работе. 17 августа — СНК утвердил Положение о командующем войсками военного округа. 18 августа — РВСР приказом ввел Положение по учету членов и кандидатов РКП в частях и учреждениях Красной Армии и Флота Республики. 20 августа — председатель РВСР Л. Д. Троцкий получил доклад представителя ВЦИК по Тамбовской губернии В. А. Антонова-Овсеенко о положении в губернии, представленный в ЦК РКП(б). 20 августа — РВСР приказом объявил штаты управления корпуса мирного времени. 23 августа — Политбюро ЦК ВКП(б) по предложению председателя РВСР Л. Д. Троцкого приняло постановление о поездке членов РВСР на западную границу для ознакомления с состоянием ее охраны и обороны. 2 сентября — РВСР приказом утвердил Положение о Военно-исторической комиссии и назначил ее председателем В. А. Антонова-Овсеенко. 8 сентября — РВСР приказом объявил о слиянии Приволжского и Заволжского военных округов в один Приволжский военный округ с центром в Самаре. 11 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий отдал приказ о принятии практических мер помощи инвалидам гражданской войны. 13 сентября — В. И. Ленин в письме к заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому обратился с просьбой представить сведения о работе РВСР в связи с его предложением разработать план использования армии на хозяйственном фронте. 17 сентября — на заседании комиссии по сокращению Красной Армии было принято решение предложить РВСР реально произвести сокращение Красной Армии до 1 миллиона 600 тысяч к 15 октября 1921 г. и поручить заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому до 20 сентября созвать демобилизационную комиссию для решения вопроса о дальнейшей демобилизации. 20 сентября — состоялось заседание комиссии Совета Труда и Обороны по демобилизации Красной Армии. 21 сентября — на Всероссийском съезде РКСМ председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с речью о международном и военном положении Советской России. 22 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму членам Политбюро ЦК РКП(б) о решении РВСР от 21 сентября о приостановке демобилизации армии в связи с польским ультиматумом от 18 сентября, угрожавшим разрывом советско-польских отношений, и с просьбой срочно рассмотреть и утвердить его на Политбюро. 25 сентября — РВСР приказом на основании положения о частях особого назначения, принятого ЦК РКП(б) 26 августа, утвердил в должностях командующих частями особого назначения округов: Московского военного округа командующего МВО Н. И. Муралова; Приволжского — командующего Приволжским в. о. Д. П. Оськина; Северо-Кавказского — К. Е. Ворошилова; Приуральского — С. В. Мрачковского; Орловского — О. А. Скудра; Западного фронта — А. И. Егорова; Туркестанского — члена РВС фронта П. И. Баранова. 26 сентября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий на параде Московского гарнизона в день первого выпуска красных генштабистов выступил с речью, в которой подчеркнул неуклонное стремление к миру Советского правительства. 29 сентября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждались вопросы об армии, об амнистии солдат бывших белых армий, находящихся в Польше, и др. 6 сентября — заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский запросил мнение В. И. Ленина о необходимости решить вопрос с приказом об увольнении в запас красноармейцев 1897 года рождения. 4 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил телеграмму членам Политбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленину и В. М. Молотову о решении Комиссии ЦК (Троцкий, Сталин, Орджоникидзе, Гусев) ассигновать 10 миллионов рублей золотом на покупку вооружения за границей. 8 октября — пленум ЦК РКП(б) при участии В. И. Ленина обсудил вопрос об утверждении численного состава Красной Армии. 9 октября — РВСР объявил постановление об упразднении Архангельского и Мурманского укрепленных районов. 10 октября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсуждался вопрос об откомандировании члена РВСР И. Н. Смирнова в распоряжение ВСНХ. 11 октября — РВСР объявил о проведении Недели заботы о достоянии красноармейца. 16 октября — РВСР приказом образовал при РВСР Высший военно-редакционный совет (ВВРС) в составе С. И. Гусева (председатель), С. С. Каменева, П. П. Лебедева, Д. А. Петровского, М. Н. Тухачевского. 17 октября — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) обсудило ходатайство РВСР о назначении Л. Б. Каменева председателем Комиссии по вопросу о приписке воинских частей Советам. 20 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с речью на II Всероссийском съезде политпросветов. 21 октября — Политбюро ЦК РКП(б) рассмотрело вопрос о порядке назначения членов РВСР. 25 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с докладом «Задачи Красной Армии» перед командным и политическим составом Московского военного округа в театре Зимина. 1 ноября — РВСР объявил о проведении Недели служебной книжки красноармейца. 10 ноября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в приказе по армии и флоту сообщил о новых провокациях петлюровских банд. 17 ноября — РВСР в порядке шефства приписал ряд дивизий к различным городам и районам, присвоив им названия этих городов. Первыми были приписаны: 7-я стрелковая дивизия к г. Владимиру, 46-я — к г. Екатеринославу, 52-я — к г. Екатеринбургу, 51-я и 56-я дивизии — к Москве и др. 22 ноября — РВСР назначил командующим Морскими Силами Республики Э. С. Панцержанского. 25 ноября — на заседании Совета Труда и Обороны был заслушан доклад РВСР о выполнении им программы сокращения численности Красной Армии. 28 ноября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил шифрованную телеграмму в РВС Петроградского военного округа о необходимости скорейшей ликвидации повстанчества. Ноябрь — заместитель председателя РВСР Э. М. Склянский в записке В. И. Ленину сообщил, что на армию в 1912, 1913 и 1914 гг. расходовалось в месяц 50 миллионов рублей, а в 1922 г. финансовая комиссия предполагает дать на армию только 3,3 миллиона рублей. 3 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в докладной записке членам Политбюро ЦК РКП(б) В. И. Ленину, В. М. Молотову, Л. Б. Каменеву, И. В. Сталину и заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому сообщил об успешной борьбе с повстанцами в Карелии и данные о том, что их действия являются частью большого плана вторжения Петлюры, Савинкова и прочих; предложил главкому С. С. Каменеву сделать доклад об этом на заседании Петроградского Совета. 11 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий отдал приказ по Красной Армии и Красному Флоту о начале военных действий генерала Каппеля против Дальневосточной республики. 20 декабря — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в телеграмме В. И. Ленину изложил тезисы своего выступления на IX Всероссийском съезде Советов об отношениях с Финляндией и Карелией и просил В. И. Ленина дать рекомендации для его выступления. 23 декабря — РВСР обратился к В. И. Ленину с предложением огласить на IX Всероссийском съезде Советов численность Красной Армии; было решено поставить этот вопрос на обсуждение членов Политбюро ЦК РКП(б). 26 декабря — на IX Всероссийском съезде Советов Л. Д. Троцкий выступил с докладом о положении в армии. 28 декабря — вышел первый номер журнала «Военный вестник» — органа отдела военной литературы при РВСР. РВСР установил правила по организации борьбы с неграмотностью красноармейцев; объявил Положение об общеобразовательных школах Красной Армии и Флота РСФСР.1922 год
3 января — приказом РВСР объявлено положение о комиссарах Красной Армии и Флота. 13 января — приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого, главкома С. С. Каменева и начальника ПУРа Л. П. Серебрякова о снабжении РККА на началах действительного материального учета, хозяйственной предприимчивости и предусмотрительности. 15 января — приказ РВСР о разделении командного состава Красной Армии на четыре категории: младший, средний, старший и высший — и определении признаков принадлежности к той или иной категории. 16 января — приказы РВСР: объявлено постановление IX съезда Советов по докладу Л. Д. Троцкого о Красной Армии и Флоте. Создание при политорганах постоянных политических аттестационных комиссий для осуществления качественного учета партийных сил в Красной Армии и Флоте. При Политическом управлении РВСР создана Центральная аттестационная комиссия под председательством начпура в составе: представитель ЦК РКП(б), комиссар Штаба РККА, начальник Особого отдела ВЧК и докладчик — начальник учетно-информационного отдела ПУРа. 23 января — РВСР объявил Положение о Военно-академических курсах высшего командного состава РККА. 24 января — приказ заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского и главкома С. С. Каменева о сохранении и бережном отношении к командному составу, выдвинувшемуся в период гражданской войны. 30 января — РВСР переименовал Военно-морскую инспекцию при РВСР в Инспекцию Красной Армии и Красного Флота и объявил Положение об Инспекции. 31 января — РВСР объявил постановление ВЦИК от 11 января об организации помощи инвалидам гражданской войны и семьям красноармейцев. Приказом РВСР объявлялось описание единой формы одежды РККА. 11 февраля — РВСР в приказе по армии и флоту объявил благодарность частям, освободившим советскую Карелию от повстанцев. 18 февраля — РВСР ввел периодическую отчетность Народного комиссариата по военным делам, которая должна была охватить в едином статистическом обзоре деятельность всех отраслей военного дела Республики. 23 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий выступил с речью на параде на Красной площади. 28 февраля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий приказал по армии и флоту объявить об отсрочке Генуэзской конференции и разъяснять красноармейцам и морякам сущность создавшегося международного положения; командному составу проявлять бдительность, вести напряженную работу по подготовке войск. 29 марта — на XI съезде РКП(б) председатель РВСР сделал доклад о положении Красной Армии. 4 апреля — В. И. Ленин направил письмо председателю РВСР Л. Д. Троцкому с просьбой внести в СНК ходатайство об улучшении питания кремлевских курсантов. 5 апреля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил почтотелеграмму В. И. Ленину о положении кремлевских курсантов. 20 мая — приказ РВСР о мерах проведения дальнейшей работы по борьбе с неграмотностью и малограмотностью красноармейцев и военморов. 8 июля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий приветствовал главнокомандующего С. С. Каменева в связи с трехлетием пребывания на этом посту и отметил большие успехи Красной Армии, совершенные под его руководством. 25 июля — РВСР в приказе, отмечая заслуги художника Моора (Д. С. Орлова), который одним из первых отдал свой талант революции и Красной Армии, работая в военном ведомстве с 1919 г., «объявляет ему благодарность за геройскую работу по роду его оружия: карандаша и кисти». 30 августа — председатель РВСР Л. Д. Троцкий дал интервью представителям иностранной печати о сокращении численности Красной Армии. 24 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий приказом объявил о вступлении во Владивосток войск Дальневосточной республики и поздравил в связи с этим Красную Армию и Красный Флот. 29 октября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в телеграмме Черноморскому флоту сообщил, что будут приложены все усилия для улучшения положения военных моряков, командного и комиссарского состава флота. 2 ноября — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в приказе по армии и флоту предложил всем командирам, комиссарам и политработникам провести настойчивую работу по ликвидации неграмотности среди прибывающих пополнений, чтобы грамотная армия могла прочесть текст своего торжественного обещания. 13 ноября — В. И. Ленин внес на обсуждение Политбюро ЦК РКП(б) следующие предложения: утвердить предложение председателя РВСР Л. Д. Троцкого о внесении в СНК вопроса о сокращении армии на 200 тысяч человек. 16 ноября — Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление о сокращении армии в течение января 1923 г. с 800 тысяч до 600 тысяч человек. 18 декабря — пленум ЦК РКП(б) подтвердил решение Политбюро о сокращении армии к 1 февраля 1923 г. до 600 тысяч человек и указал на необходимость компенсировать это оснащением армии военной техникой.1923 год
6 января — РВСР приказом возложил на командующих войсками военных округов организацию занятий в частях с молодыми красными командирами, практически завершив дело, начатое в военно-учебных заведениях. 5 февраля — РВСР отдал приказ «К пятилетию Красной Армии». 22 апреля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий в приказе подчеркнул необходимость постепенно приступить к слиянию в одном лице командира и комиссара, «подходя к этому осторожно, но твердо и уверенно». 25 апреля — председатель РВСР Л. Д. Троцкий направил приветствие 2-му Всероссийскому совещанию военморов-коммунистов, в котором подчеркнул, что Красный Флот нужно строить по продуманной перспективной программе, рассчитанной не менее как на пять лет. 28 августа — РВСР преобразован в РВС СССР. Передний форзац
Передний форзац
 Задний форзац
Задний форзац


Последние комментарии
8 часов 43 минут назад
12 часов 51 минут назад
13 часов 8 минут назад
13 часов 29 минут назад
16 часов 10 минут назад
23 часов 34 минут назад