Сборник произведений [Антуан де Сент-Экзюпери] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Антуан де Сент-Экзюпери Сборник произведений
Антуан де Сент-Экзюпери Письмо к генералу Х
Я только что проделал несколько полетов на «11–38». Это великолепная машина. В двадцать лет я был бы счастлив получить такой подарок. Сегодня же я с грустью констатирую, что после проделанных шести тысяч пятисот летных часов под небесами всех стран, я уже не в состоянии находить удовольствие в этой игре. Теперь самолет для меня — не более, как орудие перемещения, а здесь — орудие войны. И если я отдаю себя во власть скорости и высоты в возрасте — для такого ремесла — патриархальном, то скорее из нежелания оставаться непричастным ко всей грязи моего времени, чем в надежде испытать былые радости. Это может быть, грустно, а, может быть, и нет. Я ошибался, конечно, именно в двадцать лет. В октябре 1940 года, на обратном пути из Северной Африки, куда эмигрировала Группа 2/33, моя машина, выведенная из строя, была свалена в какой-то пыльный гараж, а я открыл тележку и лошадь. И благодаря им — придорожную траву. И овец, и оливы. Оливы выполняли в моих глазах уже иную роль и не служили мерилом скорости, мелькая за окнами кабины на трехстах километрах в час. Они выступали в своем истинном ритме, соответствующем медленному созреванию маслин. Единственным назначением овец не было определение падения средней скорости. Они снова были живыми. Они делали настоящий навоз и производили настоящую шерсть. И трава тоже приобрела смысл, раз они на ней паслись. И я почувствовал себя ожившим в этом единственном уголке мира, где пыль благоухает (я несправедлив — она благоухает и в Греции, также как и в Провансе). И мне показалось, что я всю свою жизнь прожил дураком… Все это я пишу, чтобы вам сказать, что стадное прозябание в центре американской базы, поглощаемые стоя и за десять минут обеды, хождение взад и вперед между одноместными истребителями СУ-2600, жизнь в абстрактном сооружении, где мы скучены по трое в комнате, — одним словом, эта страшная человеческая пустыня ничем не радует души. И это тоже — как бессмысленные задания без надежды на возвращение в июне 1940 года — болезнь которая пройдет. Я просто «заболел» на некоторое неопределенное время. И я не признаю за собой права уклониться от этой болезни. Вот и все. Сегодня я очень печален — печален до глубины души. Мне грустно за мое поколение, опустошенное и утратившее человеческую сущность. Познав в качестве духовной жизни бар, да математику, да Бугатти, оно пребывает сегодня в состоянии полного растворения в стадности, не имеющего уже никакой окраски. Этого не замечают. Возьмем войну сто лет назад. Подумайте, сколько усилий предполагала она, чтобы отвечать духовной и поэтической жизни человека, или просто даже его домашнему укладу. Сегодня же, когда мы суше кирпича, мы смеемся над этими глупостями. Мундиры, знамена, песни, оркестры, победы (в наши дни мы не знаем ни одной победы, которая по поэтической насыщенности равнялась бы Аустерлицу). Нам известны лишь феномены медленного или быстрого пищеварения, всякий лиризм кажется смешным, и люди не хотят пробудиться в какой-бы то ни было духовной жизни. Они просто честно выполняют каторжный труд. Как говорит американская молодежь: "Мы добросовестно выполняем эту неблагодарную работу". И пропаганда во всем мире отчаялась попусту тратить слова. Болезнь этой молодежи не в отсутствии личной одаренности, а в неспособности, не показавшись смешным, опереться на великие животворящие традиции. От греческой трагедии человечество в своем вырождении скатилось до театра г-на Луи Вернейля (дальше ехать некуда!). Век рекламы, век системы Биде, тоталитарных режимов, армий без горнистов и знамен и без заупокойных по мертвым. Я всей душой ненавижу свою эпоху. Человек в ней умирает от жажды. Ах, генерал! Есть только одна проблема, одна единственная во всем мире. Вернуть людям их духовное значение, их духовные заботы. Дать, как дождю, пролиться над ними чему-то похожему на грегорианские песнопения. Будь я религиозным, по миновании эпохи "необходимого и неблагодарного труда", я смог бы жить только в Селеме (Бенедиктинское аббатство). Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Больше нельзя. Нельзя жить без поэзии, без красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую песенку 15-го века, чтобы измерить всю глубину нашего упадка. У нас ничего не осталось, кроме голоса робота-рекламы (прошу меня простить). Два миллиарда человек не слышат больше ничего, кроме роботов, не понимают ничего, кроме роботов, два миллиарда человек становятся роботами. Все потрясения последних тридцати лет имеют лишь два источника: безысходность экономической системы XIX века и духовное обнищание. Отчего Мермоз последовал за своим дурнем-полковником (знаменитый летчик Жан Мермоз присоединился к фашистской группировке "Черных крестов", возглавляемой полковником де ля Рокком), как не от духовной жажды? Отчего Россия? Отчего Испания? Люди подвергли пересмотру ценности Декарта: и кроме науки о природе, от этих ценностей не осталось ничего. И вот теперь перед нами стоит только одна проблема, одна единственная: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем жизнь разума, единственная, могущая удовлетворить человека. Это выходит за рамки проблемы религиозной жизни, представляющей лишь одну из форм жизни духа (хоть, может быть, духовная жизнь неизбежно должна привести к религии). Жизнь духа начинается там, где сущность единства осознается выше компонентов, его составляющих. Так, любовь к домашнему очагу — чувство, неизвестное в США, — уже есть проявление жизни духа. И деревенские праздники, и культ умерших. (Я говорю об этом потому, что как раз после моего приезда здесь разбилось трое парашютистов, но их словно и не было: их попросту вычеркнули из списков и дело с концом.) Это уже от эпохи, а не от Америки: человек больше ничего не значит. Надо непременно говорить с людьми. Стоит ли выигрывать войну, если у нас после этого столетие будут приступы революционной эпилепсии? А когда, наконец, будет разрешен немецкий вопрос, перед человечеством встанут все и истинные проблемы. Маловероятно, что от отвлечения людей, от их истинных забот, с них будет достаточно спекуляций на американских товарах, как в 1919 году. За отсутствием сильной духовной струи, как грибы, расплодятся тридцать шесть партий, которые будут пожирать одна другую. Даже марксизм, одряхлев, распадется на множество неомарксистских сект. Это было достаточно очевидно в Испании. А не то какой-нибудь французский цезарь заключит нас на веки вечные в неосоциалистический концентрационный лагерь. Ах, какой сегодня странный вечер, какая странная погода. Я вижу из окна моей комнаты, как загорается свет в окнах этих безликих стандартных домов. Я слышу, как радио услаждает своей примитивной музыкой бездельную толпу, прибывшую сюда из-за всех морей, которой неведома даже тоска по родине Можно истолковать это покорное принятие действительности как жертвенность, как нравственное величие. Но это было бы величайшим заблуждением. Нити любви, связывающие сегодняшнего человека с существами и вещами, так слабы и так тонки, что человек уже не переживает разлуку как в былые времена. Именно это и имеется в виду в том страшном еврейском анекдоте "Так ты все-таки уезжаешь? Как же ты будешь далеко! — Далеко от чего?". Это «что», которое они покинули, было лишь огромным сплетением привычек. В нашу эпоху брачных разводов люди с такой же легкостью разводятся и с вещами. Холодильники взаимозаменимы. И дом тоже, если он только комплекс удобств. И жена. И религия. И партия. Даже невозможно быть неверным: чему бы мы были неверны? Далеко от чего и неверны чему? — Человеческая пустыня. Как же они благоразумны и спокойны, эти люди, — в массе. А я вспоминаю о бретонских моряках былых времен, высаживающихся в Магеллановом проливе, об иностранном легионе, бросаемом на осаду города, об этих душевных комплексах, стянутых в узлы неутолимых и нестерпимых ностальгии, которые всегда отличали мужчину. Чтобы сдерживать этих суровых и неукротимых людей, всегда нужны были сильная полиция или сильные принципы, или сильные религии. Но ни один из них не отказал бы в почтительности пастушке, стерегущей гусей. А сегодняшнего человека, в зависимости от принадлежности его к той или иной среде, держат в повиновении либо бриджем, либо карточной игрой «беллот». Мы поразительно хорошо выхолощены. И вот мы, наконец, свободны. Нам отрубили ноги и руки и предоставили свободу передвигаться. Но я ненавижу эпоху, сделавшую человека при универсальном тоталитаризме тихой, вежливой и покорной скотиной. И нас заставляют признать в этом моральный прогресс. Я ненавижу в марксизме именно тоталитаризм, к которому он приводит. Марксизм видит в человеке производителя и потребителя и основная его проблема сводится к потреблению. Как на образцовых фермах. И в нацизме я ненавижу тоталитаризм, в который он неизбежно превращается по самому своему существу. Рабочих Рура заставили дефилировать перед Ван Гогом, Сезаном и хромолитографией. И они, конечно, останавливаются перед хромолитографией. В концентрационном лагере морят голодом будущих Ван Рогов, будущих нонконформистов, и кормят хромолитографиями покорную скотинку. Но куда же идут США, и куда идем мы, в нашу эпоху универсального бюрократизма? Человек-робот, человек-термит, человек, балансирующий между каторжным трудом по системе Биде и отдыхом за игрой в беллот. Человек, у которого кастрированы все творческие способности, который не в состоянии даже в своей деревушке сочинить песенку или придумать танец. Человек, которого кормят конфекционированной цивилизацией стандарта, как кормят сеном быков. Вот он — сегодняшний человек. А я вспоминаю, что не прошло и трехсот лет с тех пор как писалась "Принцесса Клевская" и навеки уходили в монастырь из-за погибшей любви, так велика была эта любовь. Сегодня люди, конечно, тоже кончают с собой. Но страдания этих самоубийц напоминают скорее бешенство. Неудержимое. Не имеющее ничего общего с любовью. Сейчас, конечно, только первый этап. И я не могу вынести мысли о том, что многие поколения французских детей приносятся в жертву немецкому Молоху. Сейчас под угрозой само наше существование. Но когда оно будет спасено, только тогда встанет основная проблема — проблема нашего времени. Встанет вопрос о смысле человека, и никакого ответа на этот вопрос я не слышу, и у меня такое чувство, что нас ждут самые черные времена на свете (в истории). Мне совершенно безразлично, убьют ли меня на войне. Что останется от всего, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и неповторимые интонации, и некий духовный свет. Я говорю о завтраке под оливами на провансальской ферме, и о Генделе тоже. Мне нет дела до вещей, которые сохранятся, потому что ценность представляет только связь между вещами. Культура есть благо невидимое, потому что она строится не на вещах, а на незримых нитях, связующих между собой вещи в такой-то, а не в иной узел. У нас будут великолепные, выпускаемые сериями, музыкальные инструменты, но где мы возьмем музыкантов? Мне наплевать, если меня убьют на войне. Или если я буду уничтожен диким взрывом летучей торпеды, которая лишает какого бы то ни было смысла полет, а из летчика, с его кнопками и циферблатами, делает счетовода (а ведь полет это тоже своего рода связь). Но если я вернусь живым с этой "необходимой и неблагодарной повинности", передо мной встанет лишь один вопрос: что можно, что нужно говорить людям? Мне все менее и менее понятно, зачем я вам все это рассказываю. Затем, конечно, чтобы хоть с кем-нибудь поделиться мыслями, потому что я не имею никакого права на ваше внимание. Нужно беречь чужой покой и не вносить путаницы в проблемы. В данный момент очень хорошо, что мы выполняем работы счетоводов на борту наших военных самолетов. С тех пор, как я сел за это письмо, двое моих товарищей уже заснули около меня в нашей комнате. Придется лечь спать и мне, потому что я боюсь, что моя лампа их беспокоит (как мне недостает своего отдельного угла). Эти два товарища по-своему чудесные люди. Это — сама прямота, само благородство, сама чистота, сама верность. И я не знаю, почему, видя их перед собой спящими, я испытываю такую беспомощную жалость. Наверное, потому, что если они не ведают собственной беды, то мне она известна. Да, они прямые, благородные, чистые, верные и бесконечно (вместе с тем) нищие. Им бы так нужен был Бог. Простите мне, если эта противная электрическая лампа, которую я сейчас потушу, помешала спать и вам, поверьте моим дружеским чувствам.Слово, № 5 1990. С. 66–68.
Антуан де Сент-Экзюпери
Manon, danseuse, L'Aviateur (textes reunis, tablis et present s par Alban Cerisier).
Господи! Что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, — Если происходит что-то неожиданное, соблюдайте следующие правила: первое — выключайте мотор, второе — снимайте очки, третье — крепче цепляйтесь за борта гондолы. Наконец-то! Стажер Все ждут Мортье. Бернис не спеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову, и не без удивления
-офицер расстегивает ворот на комбинезоне раненого, вреда это не принесет, а всем — Уже едет, — отвечают ему, хотя никто ничего Суета не нравится Бернису. Пилот-стажер Пишон сделал для себя открытие: смерть — событие будничное. Встреча со смертью — Обычная авария, Четыре тысячи триста метров, Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику внизу, будто на карту Европы в атласе. Желтые участки — пшеница, Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен, мечты усыпляют, обессиливают, его теперь
Предисловие
«Манон, танцовщица» — первое произведение Антуана де Сент-Экзюпери, принятое к печати, но до сегодняшнего дня так и не опубликованное. Несколько строк из него появилось в первом томе «Полного собрания сочинений» в «Библиотеке Плеяды», воспроизводя машинописный текст, который присутствовал в качестве экспоната на выставке 1984 года, посвященной Национальному архиву (машинопись была подарена автором Луизе де Вильморен). Другой вариант авторского машинописного текста, выставленный тридцатью годами раньше на выставке в Национальной библиотеке, взятый из семейного архива Фонсколомбов, в этом издании учтен не был. Между тем многочисленные биографы Сент-Экзюпери упоминали эту новеллу, и в первую очередь ее упоминала Нелли де Вогюэ, которая сообщила, что новелла была написана в 1925 году. Сообщение ближайшей подруги де Сент-Экзюпери подтверждается многочисленными свидетельствами самого автора, рассыпанными в его письмах. Однако бдительность и осторожность не помешают исследователю: творческая активность молодого офицера воздушного флота, ушедшего в запас (Сент-Экзюпери был ровесником века), удвоилась после того, как он освободился от военных обязанностей и без особого энтузиазма начал иную профессиональную деятельность. В это время он был помолвлен с Луизой де Вильморен (позже помолвка будет разорвана), и семья невесты настоятельно потребовала от жениха, чтобы он отказался от карьеры военного летчика. И вот в ожидании свадьбы Сент-Экзюпери, погруженный в мечты, но при этом несколько печальный и подавленный, колесит по дорогам центральной Франции, став коммивояжером компании «Сорер», производящей грузовики. Не чувствуя призвания к купле-продаже, молодой человек не слишком ревностно занимается предложением своего товара, зато использует долгие часы одиночества в провинциальном захолустье для того, чтобы утвердиться в своем призвании писателя, раз ему отказано в осуществлении призвания летчика (речь идет о годах, которые предшествовали поступлению де Сент-Экзюпери в компанию Аэропосталь). Молодой человек постоянно с пером в руках. Как видно по его переписке, он пишет «рассказ» за «рассказом», «новеллу» за «новеллой» и даже начинает набрасывать «роман». Нам неизвестно, что это за произведения, были они закончены или нет, но в письмах к друзьям, подругам и родственникам он постоянно упоминает о них и пишет о каждом, что оно продвигается вперед. Так, в письме к Рене де Соссин (Гере, 1925) он с большим нетерпением требует, чтобы она высказала свое мнение об «этом рассказе», которым он так гордится (вполне возможно, о «Манон») и подводит итог: «Он (рассказ) должен тебе понравиться, если нет, то я никогда не буду больше писать». Переписка тех времен свидетельствует как об активной и успешной литературной деятельности, так и об осмыслении творческого процесса и писательского ремесла. «Я заметил, — пишет он в 1924 году матери, своей внимательнейшей читательнице, — что люди, когда говорят или пишут, забывают о необходимости вдумываться в смысл, они довольствуются готовыми конструкциями, пользуются словами, как счетной машинкой, считая, что слова выдадут истину без их участия. Согласись, это глупо. Не нужно учиться подхватывать витающее в воздухе, наоборот, нужно учиться обходиться без него. […] Мои требования к себе становятся все четче, и на их основе я хочу построить свою книгу. О внутренней драме человека, который преуспел. Разоблачение в самом начале должно быть без всяких прикрас. Сначала придется раздеть ученика героя, чтобы сам он убедился в собственном ничтожестве». И немного позже опять о писательстве: «Неужели вы хотите, чтобы я писал, что принял ванну… пообедал у Жаков. Поверьте, такого рода откровения мне неинтересны». Среди своих сочинений он упоминает и «Maнон». В 1927 году Сент-Экзюпери пишет кузине своей матери Ивонне де Лестранж, герцогине де Тревиз, — она жила в Париже на набережной Малаке, была очень близка с юным «Тонио» и всячески поддерживала его литературные начинания, введя в литературную среду, познакомив с Андре Жидом и другими писателями, которые бывали у нее в салоне, — что их общий друг Жан Прево пообещал в 1926 году опубликовать «Манон» в журнале «Ероп» («Европа») и даже включил имя автора в анонс. (Журнал «Ероп» был основан в 1923 году, и его идейным вдохновителем был Ромен Роллан). Действительно, в летнем номере «Ероп» за 1926 год в списке авторов, чьи произведения журнал собирался предложить своим читателям в дальнейшем, можно прочитать имя де Сент-Экзюпери, хотя название «Манон» там не фигурирует. Но поскольку сам автор называет именно это произведение, значит, к этому времени новелла была написана, закончена и отдана в журнал. Охотно верится, что Жан Прево хотел и предпринимал какие-то усилия, чтобы журнал «Ероп» опубликовал «Манон». Потому что именно ему принадлежит заслуга первой публикации начинающего автора, который вскоре станет лауреатом премии Фемина. Жан Прево, писатель и критик, был главным редактором журнала «Навир д'аржан» («Серебряный корабль»), издаваемого Адриенной Монье. Он подпал под обаяние личности и таланта молодого человека, с которым познакомился в салоне герцогини де Тревиз. Поверив в дар порой неуклюжего, но всегда обворожительного и блестящего великана, он опубликовал в последнем номере своего журнала «Навир д'аржан» (апрель, 1926) его первое литературное произведение. Им стал рассказ «Авиатор»: история Жака Берниса, сначала гражданского пилота, потом инструктора в военной авиации, того самого Берниса, которого мы встретим потом в романе «Южный почтовый», где он будет главным героем. Да и «Авиатор», собственно говоря, был не рассказом, а фрагментом более обширного произведения, с названием «Бегство Жака Берниса», которое до нас не дошло. Жан Прево, предваривший публикацию небольшой врезкой, сообщил, что путь создания этого рассказа был не прост: «Сент-Экзюпери профессиональный летчик и механик-конструктор. Я познакомился с ним в доме своих друзей, и меня восхитила та яркость и утонченность, с какой он передавал свои впечатления от полетов. Потом я узнал, что он их записал. Разумеется, я сразу же захотел прочитать его записи, но автор потерял их и вынужден был восстанавливать утраченное по памяти. (Он сочиняет сначала мысленно, потом записывает сочиненное на бумагу.) Записи оказались большой новеллой, фрагмент которой мы здесь публикуем. Подлинность и правдивость — вот достоинства, которыми поразил меня начинающий писатель. Я уверен, что Сент-Экзюпери напишет еще не один рассказ. Ж. Прево». Тогда же Жан Прево прочитал «Манон, танцовщицу». И не он один. У Сент-Экзюпери к этому времени были прочные литературные отношения с редакцией «НРФ» («Нувель ревю франсез», «Новый французский журнал»), во главе которого стоял тогда Жак Ривьер. Впервые он пришел в эту редакцию с рассказом под названием «Полет» в 1923 году и, судя по письмам, которые писал матери, всерьез надеялся, что какие-то из его рассказов, которые он продолжал писать, будут напечатаны. («Я написал в последнее время несколько вещей, и они очень даже неплохи».) Рассказы начинающего автора, судя по всему, нравились и Гастону Галлимару, директору издательства, существовавшего при «НРФ» и носящего то же название. Очевидно, он читал какой-то вариант «Манон», очень поддержал и ободрил автора, и тот дописал рассказ до конца. В 1925 году Галлимар предложил Сент-Экзюпери написать еще два рассказа, чтобы издать его книжку, куда должны были войти «Манон, танцовщица» и «Авиатор». Сент-Экзюиери пришел в восторг от такого предложения и, торжествуя, писал своему приятелю Жану Эско: «Забыл тебе сказать, что Галлимар попросил меня написать еще две новеллы и тогда он издаст книгу, куда войдут все четыре». Однако книга эта не вышла, и обещания остались обещаниями. Сент-Экзюпери поступил на работу в компанию Аэропосталь, летал на африканских линиях, но о перипетиях, связанных с публикацией своей новеллы, не забыл. В начале 1927 года он пишет Ивоние де Лестранж: «У меня нет больше никакого желания писать. Прево так и не опубликовал «Манон», которую журнал «Ероп» анонсировал год назад. Меня подобное отношение обидело. Я не стремлюсь ни к каким публикациям, на ней настаивал Прево и забрал у меня «Манон». Не стоило мне так суетиться». Ивонна спрашивает совета у друзей-литераторов и передает (снова?) рукопись начинающего писателя Андре Жиду. 24 июня 1928 года Сент-Экзюпери пишет кузине из Касабланки: «Сообщи, что думает Андре Жид по поводу «Манон». В «Ревю эбдомадер» («Еженедельный журнал») не сказали почти что ничего. Вполне возможно, из стыдливости». Каковы были результаты знакомства с новеллой Жида, неизвестно. Однако в ближайшем времени Сент-Экзюпери вновь берется за перо. 19 октября 1927 года его назначили начальником аэродрома в местечке Кап-Джуби в Сахаре, и там он принимается за свой первый роман, продолжая повествование о нилоте Жаке Бернисе, герое первого опубликованного рассказа. В конце 1928 года он кончит свой роман и назовет его «Южный почтовый». Ивонне де Лестранж он напишет: «Жид должен был счесть «Манон» страшной глупостью. Как же теперь от меня это все далеко! Но в любом случае — никаких журналов. Если получится, пусть будет «Произведение» [Имеется в виду серия «Произведение. Портрет», созданная в 1921 году в издательстве «НРФ»; в ней публиковались небольшие произведения начинающих писателей с гравированным портретом автора], или просто в «НРФ», или еще в каком-нибудь издательстве, где печатают небольшие тиражи. В моей книге 170 страниц. Только что закончил». И несколько дней спустя снова Ивонне де Лестранж: «Написал штучку в 170 страниц, довольно дурацкую. Старательность моя достойна похвалы, но вряд ли кто-то ее оценит». Но Жид, да, да, сам Жид, не сочтет «штучку» дурацкой, оценит героический полет и передаст ее в 1929 году Жану Полану с тем, чтобы эти 170 страниц былиопубликованы в «НРФ», после чего Гастон Галлимар подпишет с молодым автором договор еще на шесть книг. «Южный почтовый» появился в июне месяце 1929 года. Речь о том, чтобы опубликовать «Манон», больше никогда не заходила. Но Сент-Экзюпери и в дальнейшем не забывал о неосуществившейся публикации, что свидетельствует о том, что он всерьез дорожил своим небольшим рассказом, о котором потом вспоминали и многие биографы, никогда не считая его незавершенным наброском. Мы объединили под одной обложкой «Манон, танцовщицу» и «Авиатора» — две новеллы Сент-Экзюпери романтического характера. Безусловно, они совершенно не сходны между собой, ни содержанием, ни стилем повествования. «Авиатор» как бы предвосхищает первый роман Сент-Экзюпери: он сродни ему стилевыми особенностями, описанием полета, ощущением органической связи летчика, самолета и природных явлений и совершенно новым для литературы панорамическим видением окружающего. Безусловно, объединяет эти два произведения и главный герой Бернис. Но у автора «Авиатора» еще нет опыта полетов, который принесла ему компания Аэропосталь, нет того общечеловеческого и духовного масштаба, который обретут последующие книги Антуана де Сент-Экзюпери. Однако описанный в «Манон» мирок не совсем чужероден для «Авиатора» и «Южного почтового». И в этих своих произведениях Сент-Экзюпери описывает удушающую атмосферу дансингов, жиголо и прожигателей жизни, безжизненные лица женщин, сделавших свое тело инструментом для добывания денег, блуждания по ночному и утреннему Парижу. После неудавшегося «побега» с Женевьевой Бернис забредает в ночное кафе, видит грустное и безнадежное зрелище — молоденьких танцовщиц, завязывает разговор с самой стройной, открывает под раскрашенной маской безразличие и усталость и в конце концов, поддавшись надежде обрести хоть какое-то утешение, соединяет свое одиночество с ее. Хотя «в нем уже угас весь порыв. Он думал: «Ты не дашь того, что мне нужно». Но одиночество его было так нестерпимо, что она все-таки понадобилась ему». Однако плоть, не одухотворенная душой, вызывает чувство безнадежности. Конечно, есть в «Манон» и биографические отклики, отклики той жизни, которой жил молодой Сент-Экзюпери в Париже, пока Аэропосталь не отправила его на край света. Странствия но ночному Парижу, улички и кафе, необычные встречи, о которых он упоминает в своих, часто фантастичных, письмах, адресованных приятелям той поры. Бывший жених Луизы де Вильморен, завсегдатай светских салонов со светскими львами с улицы Боссюэ, нередко посещал и совсем другие заведения, где женщины были вполне доступны. Чувствительный рассказ еще полон юношескими эмоциями, но в нем уже ощущается писательское мастерство — встречаются зримые и выразительные образы, умело отсечены лишние детали, повествование строится как высвечивание фрагментов, есть тенденция к материализации абстрактных понятий. И «Манон», и «Южный почтовый» — это истории о неудавшемся бегстве и о неудовлетворенности жизнью, но в «Манон» собственный голос еще не обретен, его только ищут, нащупывают. Молоденькая танцовщица, которая не может заработать себе на жизнь одними танцами («вы же понимаете…»), — персонаж более условный и простой, чем Женевьева, но и эта девочка ищет спасения в бегстве, однако оно оказывается иллюзорным. Когда обнаженные нервы автора ощущают жизненную тщету и экзистенциальное одиночество своей юной героини, он преисполняется к ней щемящего сочувствия. В новелле «Манон» Сент-Экзюпери предстает как писатель, озабоченный судьбами «малых сих», он сочувствует участи незащищенной милой девушки, которая в романтическом порыве отчаяния мечтает о совсем иной жизни. Все творчество Сент-Экзюпери проникнуто неприязнью к тупой, стадной, рутинной жизни, которая предстает как страшная опасность для живого человека. Мирок дансинга неожиданно становится олицетворением именно такой жизни. Вопреки обещанию утра малышка Манон не может возродиться и стать собой в замкнутом мирке, который стал ее жизнью, в мирке, где пьют шампанское и надевают всевозможные личины. Возможность, которую приоткрывает ей встреча с немолодым мужчиной, утомленным своим бессмысленным существованием, по существу эфемерна, так как подает ей надежду на освобождение, которого не может быть. Она обречена оставаться той, какой сделало ее общество: став орудием, которое можно купить, она утратила себя и лишилась возможности действовать самостоятельно, поэтому она надеется, что спасти ее может другой человек, который взглянет на нее другими глазами и избавит от среды, которая ее убивает. Но надежда на другого напрасна. Попытка обречена на провал. Бегство не придаст ей сил, оно глубоко ее ранит, травмирует душевно и физически, навсегда закрепившись как жизненная неудача. Взлет вверх обернется падением вниз, любовь Манон не откроет ей новых горизонтов, не выведет за пределы скудного существования. Она ненадолго покинет привычную среду обитания, но не сделает шага вверх изнутри. Манон — призрак, ничто не может вернуть ее к жизни, удержать в ней. Ирреальность собственного существования Манон начинает ощущать, наблюдая за медсестрой, которая ухаживает за ней: каждое движение этой женщины исполнено смысла, все, что она делает, направлено на то, чтобы поддержать жизнь. И бессмысленность собственной жизни становится явственной для Манон. Между Манон и радиотелеграфистом Прюнета, о котором Сент-Экзюпери рассказал в одном своем выступлении (см. раздел «Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет», стр. 73), есть много общего, они оба задают себе вопрос: «Ради чего?», означающий отсутствие связей с другими людьми, отсутствие дома. Образ медсестры, без всякого сомнения, напомнит читателю о Муази, экономке в замке из детства Сент-Экзюпери, королеве в царстве белоснежных простынь и хрустящих скатертей. Haпомнит о его матери, приносящей с собой благое ощущение покоя, когда детям предстояло погрузиться в ночь. Белые простыни Муази кажутся белыми надутыми парусами, а белизна полотна, которое расшивает Манон, мертвой равниной, где не слышно даже эха: «Нельзя же плакать и плакать — смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена». Белое полотно и белая вилла, которую, словно вспышку света, видит перед своей гибелью Бернис в новелле «Авиатор». Смерть летчика перекликается с жизненным фиаско Манон. Для них обоих приготовлена белизна савана. Но придет время, когда белизна не будет больше означать для Сент-Экзюпери траура. Альбан Серизье
Антуан де Сент-Экзюпери Военный летчик
Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939 — 1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом.
I
Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик… Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что я могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль — с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам! Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь… Приходит Дютертр. Я подзываю его. — Садись, я покажу тебе фокус… И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза. Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо. — Ну что, дружище? Сколько во всем этом нежности! Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь? А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы… — Послушай, Дютертр, сегодня вечером… Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор: — Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору! Прощай, школа. Начинается жизнь. — Ты знал, что наша очередь? — Пенико уже летал сегодня утром. Если нас вызывают, значит, мы летим на задание — это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалю: — Разберемся после войны. И лейтенант Гавуаль мне ответил: — Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых? Гавуаль не шутил. Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, — ясно, что ими пожертвуют. И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения — даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе… Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.) — Здравствуйте, Сент-Экс. Здравствуйте, Дютертр. Садитесь. Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному. — Дайте сюда метеосводку. Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса… Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе — мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но мы понимаем: силы его на исходе, нервы уже не выдерживают. — Ну, так вот… Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас. — Дело очень скверное… Он пожимает плечами. — Скверное задание. Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Я возражал, но они настаивают… Вот так-то. Мы с Дютертром смотрим в окно — небо ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки — в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосящиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное… Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война… никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать… Я словно заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное…» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание — безнадежное. — Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится… Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе. Ни штаб — в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает с взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место. Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый изо всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война соблаговолит походить на войну. И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» — «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие». — Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр. Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь. — Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!.. — добавил Дютертр. А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!.. Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная. К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты. Телефонная связь нарушена. Штаб срочно перебазируется. Важные сведения о расположении противника предоставит сам противник. На днях под Ланом мы спорили о том, где проходит линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натыкается на стоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемашины. Лейтенант поворачивает обратно. Но пулеметная очередь убивает его наповал и ранит шофера. Бронемашины оказались немецкими. В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты: — Что мне делать с моей дамой пик? Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры? Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других. Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой пик. Мы уже отметили, — сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся, — что, когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что, силясь разрешить их, он не щадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов… Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик… Изрядно поломав голову над тем, как бы повыгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не щадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы. Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны. Все более губительны и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри. Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит: «— Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, купите мне в киоске коробку спичек… — Ясно, господин майор». Ровно столько же пользы в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма. Я говорю себе: «Безнадежное задание». Я думаю… думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Если останусь жив… И с легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в сутолоке железнодорожной пересадки. Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании, о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом. День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине… А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.II
Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением: — Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию… если вы сегодня не в форме, я могу… — Что вы, господин майор? Майор прекрасно знает, что предложение его нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не посчитались с ней. Колебания майора напоминают мне об Израэле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израэля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный. Длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израэля. К Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я питал чувство глубокой дружбы. Он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем. Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израэль шагал очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Вовсе не думая шутить, я спросил Гавуаля: — Почему у него такой нос? — Таким уж мать его наградила, — ответил Гавуаль. И добавил: — Дурацкое задание на малой высоте. Он сейчас вылетает. — А! И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израэля, я, разумеется, вспомнил его нос, который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность. Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе, как: «Есть, господин майор», «Слушаюсь, господин майор», «Ясно, господин майор». На лице Израэля, конечно, не дрогнул ни один мускул. Но потихоньку, коварно, предательски начал краснеть его нос. Израэль умел распоряжаться выражением своего лица, но не цветом своего носа. И нос, злоупотребив этим, самовольно вмешался в дело. Нос, без ведома Израэля, безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение. Быть может, поэтому майор и не любит посылать в полет тех, кого, по его мнению, гнетут предчувствия. Предчувствия почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья. Вот что произошло на днях с сержантом Т. Насколько Израэль был отважен, настолько Т. был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т. получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс. Его сковывало оцепенение, оно распространялось медленно и неотвратимо — от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а в глазах появлялся блеск. В противоположность Израэлю, чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью Израэля, и в то же время сильно разгневанным, Т. не обнаруживал никакого волнения. Он не реагировал: он сникал. К концу разговора становилось ясно, что Т. просто-напросто охвачен ужасом. И от этого по лицу его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Т. был как бы недосягаем. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме. — Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день, — говорил впоследствии майор. В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, но даже начал улыбаться. Просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы. — Вам нездоровится. Я вас заменю… — Нет, господин майор. Раз очередь моя, значит, моя. И Т., вытянувшись перед майором, глядел на него в упор, не шевелясь. — Но если вы не уверены в себе… — Сегодня моя очередь, господин майор, моя. — Послушайте, Т. … — Господин майор… Т. словно превратился в каменную глыбу. — И я разрешил ему лететь, — добавил Алиас. То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т., стрелок на борту самолета, обнаружил, что его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинило пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т. переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать. А вечером Т. нашли с проломленным черепом, его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истребителя было для него призывным сигналом, и он не устоял. — Идите одеваться, — говорит нам майор, — вылет в пять тридцать. — До свиданья, господин майор. Майор отвечает неопределенным жестом. Суеверие? Так как у меня погасла сигарета и я безуспешно шарю в карманах, он добавляет: — Почему у вас никогда нет спичек? Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя: «Почему у меня никогда нет спичек?» — Не нравится ему это задание, — замечает Дютертр. А я думаю: ему наплевать! Но, несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. Потом, на обратном пути, его измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей, тех, что гложут понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать который невозможно. И наконец он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимое задание. Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление… Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют. Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать. Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит, шутка у него на уме. Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше, чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания. И Алиас забудет нас оплакать. Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки? Я уже не вижу собора, в котором живу. Я облачаюсь для служения мертвому богу.III
— Давай быстрее… Где перчатки? Нет… Не эти… поищи в моем мешке… — Что-то не вижу, господин капитан. — Ты остолоп. Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки. И тот, другой, из штаба, со своей навязчивой идеей полета на малой высоте. — Я просил тебя дать мне карандаш. Уже десять минут, как я прошу дать мне карандаш… Есть у тебя карандаш? — Есть, господин капитан. Нашелся-таки разумный человек. — Привяжи к карандашу тесемку. И привесь его мне сюда, вот к этой петле… Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь… — Потому что я уже готов, господин капитан. — А! Ладно… Ну а штурман? Я переключаюсь на него. — Как там дела, Дютертр? Все в порядке? Рассчитали курс?!! — Курс готов, господин капитан. Ладно. Курс готов. Безнадежное задание… Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы… — Наняли бы они себе спиритов, там, в штабе… — Зачем? — Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения! Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать: — Ох уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания! Как долго тянется церемониал одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем, и, когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся «молнии», у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль. — Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену. Он жмет. Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает. И шлем, который на земле тебе впору, на высоте девять тысяч метров сжимает кости, как в тисках. — Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил… — А! Ну ладно. Я, конечно, ворчу, но без всяких угрызений совести, потому что я совершенно прав! Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофоны. Они всегда отказывают, эти ларингофоны! Хлам! А ведь если б они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания… Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везэн. Перед вылетом капитан Везэн с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везэн осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность сообщать нам о перемещении вражеских самолетов. Везэн мой друг, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе. И я жалею, что попался ему на глаза. — Старина, — говорит Везэн, — ах, как скверно, как скверно, как скверно! И он достает из кармана какие-то бумажки. Потом, испытующе глядя на меня, спрашивает: — Как ты полетишь? — Через Альбер. — Так я и знал. Так я и знал. Ах как скверно! — Не валяй дурака. В чем дело? — Тебе нельзя лететь! Мне нельзя лететь!.. Какой он добрый, этот Везэн! Пусть вымолит у Господа Бога, чтобы отказали ларингофоны! — Тебе не прорваться. — Почему это мне не прорваться? — Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка… И Везэн показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы. Шел бы он ко всем чертям, этот Везэн! Слова «заведомо неодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел. Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник «заведомо» должен защищать свои позиции, а как же иначе? Все эти слова сущий вздор… Да и плевать мне на истребителей. Когда я снижусь до семисот метров, меня собьет зенитная артиллерия. Уж она-то не промахнется! И я вдруг набрасываюсь на Везэна: — Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — штука весьма неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!.. А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера… Смысл был бы точно такой же!IV
Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны… — Хорошо меня слышите, Дютертр? — Слышу вас хорошо, господин капитан. — А вы, стрелок, хорошо меня слышите? — Я… да… отлично. — Дютертр, вы слышите стрелка? — Слышу его хорошо, господин капитан. — Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра? — Я… да… отлично. — Почему вы все время говорите. «Я… да… отлично»? — Я ищу карандаш, господин капитан. Ларингофоны не отказали. — Стрелок, давление в баллонах нормальное? — Я… да… нормальное. — Во всех трех? — Во всех трех. — Дютертр, готов? — Готов. — Стрелок, готов? — Готов. — Тогда — двинулись. И я отрываюсь от земли.V
Страх возникает, когда теряешь уверенность в том, что ты это ты. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать — подобно тому как оно созидает дерево, — ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело. Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своим обязанностям. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не преследует меня подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313°. Кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Это заботы по дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту: шесть тысяч семьсот метров. — С кислородом в порядке, Дютертр? Как себя чувствуете? — Все в порядке, господин капитан. — Эй! Стрелок, кислород в порядке? — Я… да… в порядке, господин капитан. — Вы все еще ищете карандаш? Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку А, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати… — Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела? — Гм… нет, господин капитан. — Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы. Я слышу очереди. — Хорошо работают? — Хорошо. — Сработали все? — Гм… да… все. Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы. Они никогда никого не убивают. Земля велика. Итак, я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета изменяются. И условия и задачи. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас оттого, что он терпеливо готовит в себе старика. Он — ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал сто три предмета, которые надо проверять, тянуть, поворачивать или нажимать. (Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов: там есть еще предохранитель.) Вечером я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его: — А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить? — Откуда же мне знать? — Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру. Какой он неучтивый, мой хозяин. — Назовите любую цифру! — Ну, семь. — Сто три! И я буду доволен. Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне уют: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде сыновней привязанности. Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давят на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом… Управляют штурвалом… — Дютертр! — …тан? — Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите? — …шу… вас… тан… — А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня? Голос Дютертра снова становится ясным: — Слышу вас отлично, господин капитан! — Ну так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело! — Веселенькая история. А высота? — Девять тысяч семьсот. — Температура? — Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке? — В порядке, господин капитан. — Стрелок, кислород в порядке? Нет ответа. — Стрелок! Нет ответа. — Дютертр, вы слышите стрелка? — Не слышу, господин капитан… — Вызовите его! — Стрелок! Эй, стрелок! Нет ответа. Но прежде чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул. — Господин капитан? — Это вы, стрелок? — Я… гм… да… — Вы что, не вполне в этом уверены? — Уверен! — Почему вы не отвечали? — Я проверял передатчик. Я отключался! — Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли! — Я…нет… — Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться! — Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать. Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа. И я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь. Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом сводится сейчас, в пределах моих действий, к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к Богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой. Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертра, если только он поглядывает на компас… — Дютертр… я… курс по компасу… правильно? — Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо. Вот досада! — Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере? — Десять тысяч.VI
— Капитан… курс! Точно. Я отклонился влево. Это не случайно… Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я не— догляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле… не о моем духе… Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера. Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал: «Ларингофоны откажут. Мне так хочется спать. Пойду вздремну». И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели. Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось. Мне вспоминается школа… Когда я был мальчишкой… — …капитан! — В чем дело? — Нет, ничего… мне показалось… Ничего хорошего не могло ему показаться. Ну так вот… когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано. В шесть часов утра. Холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чепцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе об этом рае! Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуть почаще и посильнее. И, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других. Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал: он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время: время строгой тишины классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для живых, там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горестей, надежд, ликований, невзгод. Я же был обобран, забыт, меня тошнило от приторного питья, от влажной постели и от безликих часов. Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит.VII
Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на аэродром. И часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем: штыком преграждаем дорогу танкам! Откуда взяться увлеченности, если, играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли на смерть? Для шарады смерть — это слишком серьезно. Кто станет с увлечением надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого увлечения. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать. Потому что важна не увлеченность. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: «Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами…» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? «Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны…» Но это же не ответ! И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть. Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто любуюсь ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит. Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа… Весь день моя деревня была для меня невидима. До вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь — это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня. Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собака. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки. Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично. Лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, запершая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи! Крестьяне, вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мерное дыхание под добротными домоткаными простынями, — словно море, затихающее после шторма. Ночью, когда подводятся итоги, бог на время отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, по прихоти неодолимого сна разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего… — Капитан! — Да? — Шесть истребителей, шесть, впереди — слева! Это прозвучало как удар грома. Надо… надо… Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю…VIII
— Стрелок! — Капитан? — Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева! — Слышал, капитан! — Дютертр, они нас заметили? — Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот. — Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко? — …несколько секунд. — Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу! Крохотные. Рой ядовитых ос. — Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они! — Я… я ничего не вижу. А! Вижу! А я уже потерял их из виду. — Гонятся за нами? — Гонятся! — Высоту набирают быстро? — Не знаю… Кажется, нет… Нет! — Ваше решение, капитан? Это спросил Дютертр. — А что я могу решить? И мы замолкаем. Решать тут нечего. Все зависит только от Бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах. — Стрелок, все еще летят? — Летят. — Мы отрываемся? — Гм… нет… да! Все зависит от Бога и от солнца. Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали. Я опять замечаю, что, одеваясь, волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба. Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться. — Стрелок, уходим от них? — Уходим, господин капитан. Отлично. — Дютертр… Дютертр… — Слушаю, господин капитан. — Нет… ничего. — А что было, господин капитан? — Ничего… Мне показалось… нет… ничего… Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор… Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку… Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться… Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке… Значит… Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию… Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску… Я уже не вижу приборной доски… Я обливаюсь потом, и мне грустно. Жизнь потихоньку вернулась ко мне. — Дютертр!.. — Слушаю, господин капитан! Мне хочется рассказать ему о случившемся. — Я… думал… что… Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб… — Так что же было, господин капитан? — Нет… ничего. — Право, господин капитан, вы говорите загадками! Я говорю загадками. Но зато я жив. — …мы их… оставили с носом!.. — О, господин капитан, до поры до времени! До поры до времени: впереди — Аррас. Итак, несколько минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?IX
Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе. — …Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это… вы же знаете, там соединительная трубка… Пламя было несильное… Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется: — А все-таки… там был огонь… Тогда я велел им прыгать… Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел! — Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину… Мне стало немного не по себе. На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе…» И он явно старается быть точным. К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание. — Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать… (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет… Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины. — Тогда я сдвинулся назад, посмотрел — стрелка нет… Стрелок тоже был мертв. — Я решил, что остался один… Он соображал: — Если бы я знал… я мог бы опять влезть в кабину… Горело не так уж сильно… Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле… Я не знал, что делать… Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать… Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени. — А потом я прыгнул, — сказал он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго… Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал. И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.Х
Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения. Дютертр задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать. — Какая высота? — Десять двести… Я все еще думаю о Сагоне… Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди. И в себе самом я всегда обнаруживал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти? В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила его — его, вернувшегося чуть ли не с того света. Покрытый мусором и щебнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости. Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не умел задать ему главный вопрос. Его спрашивали: «Что вы чувствовали… О чем думали… Что делали…» — словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первое попавшееся средство, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти. Но когда человек смог отвечать, он сказал: — Да-да, я слышал какой-то треск… Или еще: — Мне было тяжело. Это тянулось долго… Ох как долго… Или: — Болела поясница, сильно болела… И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял… — Уж я искал их, искал… хорошие были часы… но в этой кромешной тьме… Разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, каким он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке: «Кем вы были? Кого вы открыли в себе?» — он мог бы ответить только одно: «Самого себя». Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души! Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма. Конечно, сейчас я не чувствую никакой любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам. От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика… Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не все ли равно! Мои полуобмороки состарили меня на века; я погрузился в старческую безмятежность. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом. А Аррас — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения? Где они, эти приключения? Всего минут десять назад я едва не погиб, а рассказать мне не о чем, разве что о крохотных осах, промелькнувших передо мной за три секунды. Настоящее же приключение длилось бы десятую долю секунды. Но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать. — Дайте-ка левой ноги, капитан. Дютертр забыл, что педали замерзли. А мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала, на фоне северного сияния, странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и ломкие. Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли. Пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка: — Как пулеметы? Он ответил: — Не работают. — Ладно. В респиратор кислородной маски я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледяную пробку, которая не дает мне дышать! Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед. — Стрелок, кислород в порядке? — В порядке. — Какое давление в баллонах? — Гм… Семьдесят… — Ладно. Время для нас тоже замерзло. Мы — три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит. Боевые подвиги? Однажды майор Алиас почему-то предупредил меня: — Будьте осторожнее! Быть осторожнее, майор Алиас? Каким образом? Истребители поражают сверху, словно молния. Летящий выше на полторы тысячи метров отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться. Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодную позицию. А вы еще ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи. Но она уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит. Так же и с вами. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человека. Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости девятьсот километров в час они нанесут страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет семидесяти двух пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль. В тот самый миг, когда вам станет ясно, что вы под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недосягаемый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться. Значит, когда истребители исчезли, еще ничто не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сонной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце, и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают. Они сеют смерть. И смерть дает всходы, когда истребители уже далеко. Быть осторожнее, майор Алиас? Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, мне нечего было решать. Я мог и не знать о их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не узнал об этом! Быть осторожнее? Но ведь небо пусто. И земля пуста. Когда ведешь наблюдение с высоты десять километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека, — его и с помощью этого прибора не увидишь, — а лишь признаки человеческого присутствия: дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом. Я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь предмет лабораторного исследования. — Дютертр, стреляют? — Кажется, стреляют. Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли. С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями. Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте. Мы летим — я знаю точно — со скоростью пятьсот тридцать километров в час… А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они — как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер. Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижное чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом. — Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость? — По вертикали вижу, господин капитан… — Эй, стрелок, как там истребители? — Ничего нового… Я действительно понятия не имею, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой. «Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «…недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд…» — Дайте-ка левой ноги! Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии: «…вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников…» Дать левой… дать левой… Легко сказать! Ослепительно красивой женщине не удается ее вираж. — Если будете петь… вам не поздоровится… господин капитан. Неужели я пел? Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке: — Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу. Можно… Можно… разумеется! Надо пользоваться удобным случаем. Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли… И я думаю: «На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка… Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа». Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.XI
В Орконте, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя авиагруппа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в деревенском кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком. Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка. И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяла и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями. А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит хозяину. Глядя на огонь, я тайно ликовал. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, — тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и, право, не знаю, поджаривал ли я себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал более заманчивому сверкающему, тому, который шумнее и ярче себя рекламировал. И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, — три раза стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса. Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой — и только. Как мог я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог я предугадать все превращения тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя? Огонь воздаст честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!» Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе: — Дайте-ка левой ноги, господин капитан…XII
Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то что мы — экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочится отовсюду, и признак его я даже держу в руке. Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами. На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала. В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час. Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается. Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор. Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, за которым теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва. Все это бессмысленно. Все неисправно. Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в Часовщике. Не хватает Часовщика. Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий. Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления. Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При безупречно действующей администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться. Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна действовать творчески. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика. Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня: — Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления. И в утешение прибавили: — Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить. И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать. Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Бывало, страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину, и становилось ясно, что починить ее невозможно. Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все. Когда вражеская бомба превратит министерство авиации в груду пепла, срочно призовут первого попавшегося капрала и скажут ему: — Вам поручается сделать так, чтобы управление не замерзало. Вам предоставляются неограниченные полномочия. Делайте что угодно. Но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу. Тогда, быть может, управление оттает. Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят, еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику — как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стельных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников. Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, человек не приспособлен к физическим упражнениям на высоте десять тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести, неожиданно пробудившейся среди глубокого сна всего тела. Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь. И мне очень хочется убедить его, чтобы он снова «занялся». Что же я так непоправимо испортил? На высоте десять тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце — вещь очень хрупкая. А служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно что жечь алмазы ради того, чтобы испечь яблоко.ХIII
Это все равно что сжечь на севере все деревни, хотя, уничтожив их, нельзя даже и на полдня задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома, со всем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу, — я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем. «Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно: когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров, над деревнями, как и над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня. Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысячметров время словно замедляет свой бег, потому что никакого движения нет. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихрей, черного дыма. Нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре. Исцелят ли когда-нибудь этот лес? Исцелят ли эту деревню? С такой высоты кажется, что огонь снедает их медленно, как болезнь. По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему: — Мои деревья! Он вас не слышит. Он воюет. Он прав. Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летными экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла. Враг уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, их потребовалось бы сто миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило, можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна. Значит, промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило: «Танковая дивизия действует, как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречает сопротивления». И танки давят на линию обороны. Промежутки имеются в ней всегда. Танки всегда проходят. Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения (захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень). Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма остались только не связанные друг с другом органы. А между этими сгустками, — как бы отважны ни были солдаты, — противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат. Технические средства не создаются за две недели. Ни даже… Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было сорок миллионов земледельцев против восьмидесяти миллионов, занятых в промышленности! Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка, — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев. Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, Огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны. Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажмуриваем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл, — а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И, чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты. Разумеется, кое-что и забывают! Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою щадят жизнь солдат. Но трагизм этого разгрома в том, что он лишает действия всякого смысла. Солдат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага: он превращает мост в груду развалин, и только. Он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну! Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат. Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение. Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишен всякого смысла! Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться не больше трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник за шахматной доской: «Ты забыл взять мою пешку…» Так и мы бросаем врагу: «Мы защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну так валяйте!» Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком. — Все по правилам! Есть, конечно, люди пассивные, но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если и навести на них револьвер, все пойдет хорошо… Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина. Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснять трудно. Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции. — Это не в счет… — В счет! В счет!.. Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием? Алиасу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают: «Это не в счет…» Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ. Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой: — Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выражалось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль. — Слушаюсь, господин майор. Алиас не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного: — Скверное задание… Но в штабе настаивают… Упорно настаивают… Тут уж ничего не поделаешь… — Слушаюсь, господин майор! Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных.XIV
Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мною люди. Инфузории на стеклышке микроскопа. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий? Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, я погрузился бы в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь десять минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, когда заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну конечно об осах. Они были совсем крошечные, эти мерзавки. И я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом! Я вовсе и не думал о платье со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то, если ларингофоны в исправности! А мой стрелок ни разу не сказал мне: «Вон сколько воздыхателей увязалось за нашим шлейфом…» Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко. Жить тоже нелегко. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоят. Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переклички между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я Пастер, возня крошечных инфузорий приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме? Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу… И я вспоминаю. Когда я был маленький… Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны… Так вот, когда я был маленький, однажды мне случилось пережить нечто странное. Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов вечера. Восемь часов — время, когда дети должны уже спать. В особенности зимой, потому что зимой рано темнеет. Однако обо мне забыли. В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной; туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может, потому, что тусклый свет лампы, висевшей посредине и скорее похожей на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому, что в тишине потрескивали деревянные панели, а еще потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру. Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до дверной ручки, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком исследовать мир. Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня о гневе Божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там с бьющимся сердцем, как потерпевший кораблекрушение — на скале, в открытом море. И тогда отворилась дверь гостиной и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавшие мне священный ужас; закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать по передней. Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя, Гюбер, был для меня олицетворением строгости. Посланцем Божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял, грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности: «В следующий раз, как поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему дети там — само послушание. И родителям живется спокойно…» Я не любил Америку. И вот они расхаживали, не замечая меня, взад и вперед по холодной, необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив дыхание, голова у меня кружилась. «В нашу эпоху…» — говорили они. И удалялись, унося с собой тайну, доступную только взрослым, а я повторял про себя: «В нашу эпоху…» Потом они возвращались, как прилив, который снова катил ко мне свои загадочные сокровища. «Это безумие, — говорил один другому, — это просто безумие…» Я подхватывал эту фразу, словно какую-то диковинку. И медленно повторял, чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое детское сознание: «Это безумие, это просто безумие…» Итак, отлив уносил от меня дядей. Прилив снова прибивал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мною новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой, по законам всемирного тяготения, движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику — тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие решительно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и, тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности. Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей. С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке. Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений. Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь даст ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности. Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все. Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность. Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она созидается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило. Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен. В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны? Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море. Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка. Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой… — Можно снижаться! Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды. На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту. Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции. Под ними — Аррас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разоренные деревни, хаос… невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем. Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается! Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание в скаредной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрязг, судебный исполнитель, бесконечные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть, по крайней мере, чиста! Ледяная и огненная смерть. Солнце, небо, лед и огонь. А там, внизу, тебя медленно засасывает глина!XV
— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне! Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой. Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве. Но разразилась война. И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе. Где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию! Куда они идут? Они и сами не знают! Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость. Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальное явление: те, что в других местах убивали, здесь подают напиться. За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни. — Куда вы едете? — Сами не знаем. Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбредались кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники. Без надежды. Без отчаяния. Словно выполняя долг. — Кто вам велел эвакуироваться? Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов около трех, он внезапно будил всю деревню: — Эвакуируемся. Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками. Он полировал мебель, и она служила его правнукам. Отчий дом принимал человека при рождении и, как надежный корабль, вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот оседлой жизни пришел конец. И люди уходили, даже не понимая зачем!XVI
Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны. Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Дня три тому назад, например, мы с Дютертром были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили. Мне, наверно, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неописуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения: новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, повозки для сена и грузовики, автобусы и двуколки. Если бы хорошенько поискать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы! На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища. В продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как попало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам. Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит! Распад начинается прямо на глазах. — Да вы что, все с ума посходили? Что здесь происходит? Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами: — Эвакуируемся. — Господи! Да почему? — Неизвестно. Мэр приказал. Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертром смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах громоздятся вперемежку дети, матрацы и кухонная утварь. Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлядь механической эры! Эти поршни, клапаны, магнето и шестеренки, — долго ли они будут действовать? — …Капитан… не поможете ли? — Охотно. Чем могу служить? — Выведите машину из сарая… Я смотрю на нее с изумлением. — Вы… вы не умеете водить машину? — Ничего, на дороге справлюсь… там полегче будет… С ней еще невестка и семеро ребятишек. На дороге! Там она будет ползти по двадцать километров в день, через каждые двести метров останавливая машину! Через каждые двести метров в безнадежной неразберихе дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все! А бензин, которого у нее не хватит! А масло! И вода, про которую она забудет! — Смотрите, вода! Радиатор у вас течет, как худое ведро! — Что же делать! Машина не новая… — В пути-то пробудете не меньше недели… Справитесь ли? — Сама не знаю… Не проехав и десяти километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи… Пастухи… Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие! — А нельзя вам остаться дома? — О, мы рады бы остаться! — Тогда зачем же уезжать? — Нам велели… — Кто вам велел? — Мэр… Опять этот мэр. — Еще бы! Все мы рады бы остаться! И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники, здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых: — Выгрузили бы вы лучше все это. Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев… — Ну ясно, так было бы лучше!.. — Но вас же никто не гонит?! Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой. — …Капитан дело говорит! — У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня: — Я же говорил! Вот выедем на шоссе, будем жрать щебенку! Они спорят. Потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в унынии. — Ничего не выходит. Придется и нам уезжать. — Почему? — Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб? Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь. Дютертр рассуждает по-своему: — Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война — явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались… Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок. — Мы вылетаем через сорок пять минут… Не дадите ли нам по чашке кофе? — Бедные вы мои детки! Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас. И не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расползающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше. А потом, где-нибудь в открытом поле, вражеские истребители, снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколько машин, и довольно. Убьют несколько человек, и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду — нас как бы предупреждают. Словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысяча лет. Мне кажется, что я присутствую при агонии машины. Вот этот с королевским величием нахлестывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку. — Эй, вы там! Чему радуетесь? — Да ведь это же светопреставление! Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу. Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай. — Кто вас будет кормить? — Почем мы знаем… Как снабдить продовольствием миллионы беженцев, затерянных на дорогах, по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до двадцати километров в день? Ведь если бы продовольствие даже и существовало, его невозможно было бы подвезти. Это смешение людей и железного лома напомнило мне Ливийскую пустыню. Мы с Прево жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно закованном в железную броню. И я с отчаянием взираю на это зрелище: долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт? — А чтобы напиться, вы будете ждать дождя? — Почем мы знаем… В течение десяти дней через их деревню беспрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они были свидетелями этого великого переселения. Но вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды. — А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома. — Каждому хотелось бы умереть у себя дома. И это правда. Вся деревня рушится, как карточный домик, а ведь никому не хотелось уезжать. Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто немыслимо, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению, вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него? — Да ведь резервов-то нет, — говорит мне Дютертр, — а стало быть, нечего и волноваться. Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей, остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха. — Нет ли здесь врача? — Вы что, нездешние? — Нет, мы с севера. — Зачем вам врач? — Жена вот-вот родит в телеге… Среди кухонной утвари, среди заполнившего все железного лома, как на терниях. — Да разве вы не могли это предвидеть? — Мы уже четыре дня в дороге. Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву. — Нет, врача здесь нет. Врач авиагруппы за двадцать километров отсюда. — Ну что ж, ладно… Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рожает в телеге, среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это, прежде всего, до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется, жалобы не имеют никакого смысла. Жена его вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон. — Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться!.. Найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу… но больницы тоже эвакуируют, бог знает зачем! Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет времени. Найти где-нибудь настоящую смерть! Но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины. И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на сто километров, и от самолетов, летящих со скоростью шестьсот километров в час. Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рожает, а времени у него сколько угодно. Это необходимо сию минуту. И вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью. Все замедлилось, как рефлексы умирающего. Огромное стадо топчется, изнемогая, перед воротами бойни. Сколько же их, обреченных погибнуть на щебенке, — пять, десять миллионов? Целый народ устало и понуро топчется на пороге вечности. И право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа, — оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места. О поражении — ни слова. Оно и так очевидно. У вас нет потребности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение. Передо мной внезапно возникает жуткий образ: Франция, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды: эти люди обречены… Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды. — Нет ли здесь молока?.. Со смеху умрешь от такого вопроса! — Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел… Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго: рыбы без воды… Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Скопище ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряя гайки, болты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно-бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие. Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолеты. Поговаривают даже о бомбах. Мы и в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря. Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе. Какую замечательную схему построят впоследствии историки! Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше! Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение какого-нибудь генерала, за совещание какой-нибудь комиссии и из этой вереницы призраков создадут исторические беседы, на кого-то возложат ответственность, кого-то объявят весьма дальновидным. Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произносил монологи в духе Корнеля, другой совершал предательства. Я-то прекрасно знаю, что такое эвакуированное министерство. Однажды мне случилось посетить одно из них. Я сразу понял, что правительство, покинувшее свою резиденцию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если начать перетаскивать желудок сюда, печень туда, кишки еще куда-нибудь, то все это уже не будет составлять организма. Я пробыл двадцать минут в министерстве авиации. Да, министр может воздействовать на своего секретаря. Воздействовать чудесным образом. Потому что министра с секретарем еще связывает провод звонка. Неповрежденный провод звонка. Министр нажимает кнопку, и секретарь является. Это уже большая удача. — Машину, — приказывает министр. На этом его власть кончается. Секретарь поворачивается кругом. Но секретарь не знает, существует ли на свете автомобиль министра. Электрический провод не связывает секретаря с шофером машины. Шофер затерян где-то во вселенной. Что могут они, правители, знать о войне? Связь до того разладилась, что даже нам и то понадобилась бы теперь целая неделя, чтобы выслать бомбардировщиков против обнаруженной нами танковой дивизии. И какие сведения могут получить правители о стране, из которой вываливаются внутренности? Донесения распространяются со скоростью двадцать километров в день. Телефоны перегружены или работают плохо и не могут передать во всей ее полноте Сущность, которая в это самое время разваливается на части. Правительство висит в пустоте, в полярной пустоте. Время от времени до него доносятся отчаянные вопли о помощи, но вопли абстрактные, сведенные всего к трем строчкам. Откуда правителям знать, не умерли ли уже с голоду десять миллионов французов? А этот вопль десяти миллионов людей содержится в одной фразе. Достаточно одной фразы, чтобы сказать: — Приходите в четыре часа к X. Или: — Говорят, погибло десять миллионов человек. Или: — Блуа горит. Или: — Ваш шофер нашелся. Все это одинаковым тоном. Подряд. Десять миллионов человек. Машина. Восточная армия. Западная цивилизация. Шофер нашелся. Англия. Хлеб. Который час? Я вам даю семь букв. Эти семь букв взяты из Библии. Попробуйте-ка воссоздать с их помощью Библию! Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос: — Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами? Всюду понемногу уже проглядывает облик мира. Но не того четко очерченного мира, который как новый исторический этап обычно следует за войной, ясно завершаемой договором. Это какой-то непонятный период, это конец всего. Конец, который никак не может прийти к концу. Болото, в котором мало-помалу увязает всякий порыв. Приближения развязки — хорошей или плохой — не чувствуется. Напротив. Все мало-помалу погружается в гниль временного, похожего на вечность. Развязки не будет, потому что не за что ухватиться, чтобы вытащить страну из этого состояния, как вытаскивают утопленницу, намотав на руку ее волосы. Все распалось. И даже при самом энергичном усилии в руке остается всего лишь прядь волос. Наступающий мир не есть плод принятого человеком решения. Он распространяется, как проказа. Там, подо мною, на дорогах, по которым расползается караван беженцев и немецкие танкисты то убивают людей, то подают им напиться, — там все напоминает трясину, где земля неотличима от воды. Мир, который уже примешивается к войне, разлагает войну. Мой друг Леон Верт однажды подслушал на дороге поразительный разговор, о котором он собирается рассказать в большой книге. Слева от дороги — немцы, справа — французы. Между ними — медленный водоворот эвакуации. Сотни женщин и детей кое-как выбираются из горящих машин. Артиллерийский лейтенант, зажатый в этой пробке, пытается привести в боевое положение семидесятимиллиметровую пушку, по которой постреливает противник. Так как противник бьет мимо цели и косит людей на дороге, а лейтенант, упорствуя в выполнении своего непонятного долга, весь в поту, пытается спасти позицию, хотя она не продержится и двадцати минут (их тут всего двенадцать артиллеристов!), то матери подбегают к нему и кричат: — Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы подлецы! Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку. — Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают! — Что поделаешь, война… — Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь нашесть километров! Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их, наверняка, уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг. — Мы воюем… — …лучше бы нас подобрали! Есть у вас совесть? Громко кричит ребенок. — А этот… Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика. — Что поделаешь, война… Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством. — Да вам до нее никогда не добраться, до вашей войны! Вы подохнете здесь вместе с нами! — Мы воюем… Они уже и сами не уверены в том, что говорят. Они уже и сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки. Так как в этом хаосе застревает все, они тоже слезли с грузовика. Их окружают: — Есть у вас вода?.. И они раздают воду. — А хлеб?.. И они раздают хлеб. — Неужели вы оставите ее подыхать? В сломанной машине, которую оттащили на обочину, хрипит женщина. Ее высвобождают. Берут на грузовик. — А ребенка? Ребенка тоже берут на грузовик. — А эту, она же рожает? Берут и эту. А потом еще одну, потому что она плачет. Провозившись целый час, грузовик с трудом вывели из затора. Его повернули на юг. И он, как случайно закатившийся сюда валун, последует за уносящим его потоком беженцев. Солдаты приобщились к миру. Потому что они никак не могли найти войну. Потому что мускулатура войны невидима. Потому что, стреляя, вы попадаете в ребенка. Потому что на сборном пункте воинских частей вы наталкиваетесь на рожениц. Потому что пытаться передать сведения или получить приказ так же бессмысленно, как вступать в спор с Сириусом. Армии больше нет. Есть только солдаты. Они приобщились к миру. Силой обстоятельств они превратились в механиков, пастухов, санитаров, врачей. Они чинят машины этим беспомощным людям, которые сами не умеют вылечить свои развалины на колесах. И, стараясь изо всех сил, эти солдаты не знают, кто они — герои или преступники, подлежащие суду военного трибунала. Они не удивятся, если их наградят орденами. И не удивятся, если их поставят к стенке и всадят им по двенадцать пуль в голову. Не удивятся, если их демобилизуют. Их ничто не удивит. Они давно уже перешли пределы удивления. Все превратилось в сплошное варево, где ни один приказ, ни одно движение, ни одно известие, ни одна волна — ничто не сможет распространиться дальше трех километров. И как деревни одна за другой рушатся в общую сточную канаву, так и военные грузовики, поглощаемые мирными заботами, один за другим приобщаются к миру. Эти горсточки людей, которые не колеблясь пошли бы на смерть, — но перед ними не встает такая необходимость, — хватаются за первое попавшееся дело. И вот они чинят оглоблю старой повозки, куда три монахини насажали дюжину ребятишек и, спасая малышей от смерти, отправились с ними бог весть в какое паломничество, бог весть к какому сказочному убежищу. Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четырех километрах от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии. Нет пастуха для женщин и детей, но нет его и для солдат. Генерал распоряжается адъютантом, министр — секретарем. И быть может, своим красноречием он способен воодушевить его. Алиас распоряжается летными экипажами. И он может вызвать у них готовность пойти на смерть. Сержант с военного грузовика распоряжается десятком подчиненных ему солдат. Но он не в силах связаться ни с кем другим. Даже если предположить, что какой-нибудь гениальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает план нашего спасения, то для осуществления своего плана этот полководец сможет располагать только звонковым проводом длиною двадцать метров. А в качестве маневренной силы, необходимой для победы, у него будет секретарь, если на другом конце провода еще будет существовать секретарь. И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния, какого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира, это верно. Но мир для них — всего лишь конец этого невероятного хаоса и возможность вновь обрести себя, свою личность, пусть самую скромную. Так бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную. И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.XVII
Существует непреложный закон: побежденных нельзя сразу превратить в победителей. Когда об армии говорят, что сперва она отступала, а теперь дает отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том, что отступление разрушает все связи — и материальные и духовные, — объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая, просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими как единый организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым. Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем. Почти всем — и тем, кто еще сопротивляется, и тем, кто перестал сопротивляться, — лицо побежденной Франции явится потом, в часы безмолвия. Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая испортилась или отказалась служить, — попавшим в аварию грузовиком, дорожной пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То, что задание становится бессмысленным, — признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа. Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство? Поражение накладывает на побежденных печать вины, и в этом его несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда. Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить Францию по результатам постигшей ее катастрофы. Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки правде логиков. Логики нам твердили: «Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?» Логики были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавить себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом. Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как он ни уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы выросло дерево, должно погибнуть зерно. Первая попытка к сопротивлению, если она предпринимается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Зато она пробуждает силы сопротивления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из зерна. Франция сыграла свою роль. Весь мир, словно некий арбитр, безучастно взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть. И наша роль была самой высокой, потому что, не строя никаких иллюзий, мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым проявлениям разгрома! Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в урода.XVIII
И все-таки эта война, если отвлечься от того духовного смысла, который сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам войной нелепой. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас соблаговолят уничтожить! И нас уничтожили. Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снопы пшеницы для этого совершенно не годились. И теперь уничтожение завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения. А я продолжаю свой полет с невозмутимой деловитостью. Я снижаюсь в направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как зачем? Да затем, чтобы нагнать на немцев страху! Чтобы они убрались с нашей территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это задание не может иметь иной цели. Нелепая война. Впрочем, я преувеличиваю. Я сильно снизился. Управление и рукоятки оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев гораздо меньше. Нас будут упрекать за то, что мы назвали эту войну нелепой войной. Но ведь нелепой называем ее мы сами! Значит, нам она кажется нелепой. Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в механизированную мясорубку? Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война — это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-напросто приятие смерти. В эти дни, когда за границей считали, что принесенные нами жертвы недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши экипажи: «Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?» Ибо мы действительно умираем. Ибо за две недели уже погибло сто пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе и не свидетельствует о каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как воск, брошенный в огонь. Взять хотя бы нас, летчиков группы 2/33, — почему мы все еще соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает наличие судьи. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена свобода не только Франции, но всего мира, и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров. И пусть не говорят нам, беспрекословно улетающим в разведку, когда на возвращение есть только один шанс против трех (и то если задание легкое!), пусть не говорят летчикам из других авиагрупп, пусть не говорят моему товарищу, которому осколок снаряда так изуродовал лицо, что он на всю жизнь лишился естественного права нравиться женщине, лишился его, как узник за решетками тюрьмы, гарантировав себе целомудрие собственным уродством надежнее, чем крепостными стенами, пусть не говорят нам, что нас судят зрители! Тореадоры существуют для зрителей, но мы не тореадоры. Если бы Ошедэ сказали: «Ты должен вылететь, потому что тебя судят свидетели», Ошедэ ответил бы: «Ошибаетесь. Это я, Ошедэ, сужу свидетелей…» Так за что, в конце концов, мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну что ж! Это ее право. Но тем самым она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно. Тогда зачем мы продолжаем умирать? От отчаяния? Но отчаяния нет! Вы понятия не имеете о разгроме, если думаете, что оно порождает отчаяние. Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне: — Курс сто семьдесят пять, господин капитан… И я возьму этот курс.XIX
— Сто семьдесят два. — Понял. Сто семьдесят два. Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя немецкой артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех. Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать, только на то, чтобы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз. Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек. Детство… Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь… Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле… И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда… Мое самое далекое воспоминание? У меня была нянька из Тироля, звали ее Паула. Но это даже не воспоминание: это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго в канун Нового года мать говорила нам: «Письмо от Паулы!» Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль. В свой тирольский домик. Похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах в виде хижины. — А Паула красивая? — Очаровательная. — А в Тироле часто бывает хорошая погода? — Всегда. В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, он выталкивал ее далеко-далеко, на снежную полянку. Когда я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал ей: «Милая Паула, я очень рад, что пишу тебе…» Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу… — Сто семьдесят четыре. — Понял. Сто семьдесят четыре. Пусть будет сто семьдесят четыре. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся. Никому и никогда. Я храню память о большой любви. Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу. — А Паула знает, что я вырос? — Конечно знает. Паула знала все. — Господин капитан, они стреляют. Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну что ж. Ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный: он синий. Сказочно синий. Наступают сумерки, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя… — Сто шестьдесят восемь. — Понятно. Сто шестьдесят восемь. Пусть будет сто шестьдесят восемь. Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность… Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога! Мир похож на фруктовый сад. Только что он представлялся бездушным, как чертеж. Все мне казалось нечеловеческим. Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною, то поодиночке, то маленькими рощами, проносятся деревья. Я вижу их. И зеленые поля. И дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей. И вокруг — прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой… — Сто семьдесят пять. Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять…» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке. — Дрянь дело, господин капитан. Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может сливы. Я вписался в пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея… О нет, мне не страшно. Немного грустно, и все. — Маневрируйте, капитан! Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки знаешь… она сказочна, эта вечерняя синева! Там, впереди, я заметил три расходящихся копья. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра… — Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо! Жму на педаль. — Да, плохо дело… Возможно… Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания, все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое, словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания… Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд. Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей, — они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля — она пахнет землей. Хорошо, должно быть, ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь с боку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро… разумеется, если думать об этом! Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле… — Аррас… Да. Там, далеко впереди. Но Аррас не город. Аррас — это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы. На фоне грозы. Потому что ясно — слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков. Пламя Арраса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувствуется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая словно дерево. Вот именно… дерево. Это дерево оплело Аррас сетью своих корней. И все, что есть в Аррасе, все запасы Арраса, все сокровища Арраса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево. Я вижу, как это порой слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова устремляется вверх. Но я все еще не различаю города. В этом зареве — вся война. Дютертр говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее. А меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы: эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд. — Да, но… Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники. Он преодолевал пропасти, расстраивал козни предателей. Наконец, его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем… Ах, Паула, того, кто знает, что такое сказка, — не обманешь! Здесь-то всегда и начиналось самое трудное!.. Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде… Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр, тебе не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В эту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда, после первых молний, по особому аромату и по внезапному трепету листьев мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом… ничто уже не могло нас удержать. Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы что было духу мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй. Потом третий. Потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо, он был неуязвим! И он получал право, до следующей грозы, носить имя рыцаря Аклена… И каждый раз, в несколько секунд, игра завершалась гекатомбой детей. Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку, медленно, но так, что дух захватывает… И вдруг: — Ну, капитан! Такого я еще не видывал… Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся…XX
Несмотря на высоту семьсот метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Арраса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного. Но кто осмелится обидеть ребенка, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом… Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне: «Дело плохо», — я обратил в надежду даже эту угрозу. Мы на войне: так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках. Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Аррасом? Просто смешно!.. Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению… Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды? Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши и, хотя проходили минуты, ничто не менялось и как будто не должно было измениться. Если мы трое — Дютертр, стрелок и я — просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного и если не было никакой видимой причины, которая в дальнейшем непременно должна была изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, и осталось-то всего по одному солдату на дом, по одному солдату на дерево, и кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали: «Ты должен стрелять по самолетам…» Но сейчас это припоминалось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужно ли это. Так, бывало, гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей, я охотился на уток, вовсе не думая о них: я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало… Очень легко увидеть то, что хочешь видеть: вот этот солдат целится в меня, но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запахи ночи, или закуривают сигарету, или досказывают анекдот — и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул. Свои или чужие? Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок — и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь как ни в чем не бывало прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, беспрепятственно пропускает меня… Я так уязвим! Сама моя беспомощность — ловушка для них: «Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше…» Это так очевидно! «Ну и проваливай! Пусть тебя сбивает кто хочет!..» Они перекладывают эту скучную работу на других, чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда война утомила их всех, всех до единого, как нарочно, — а почему бы и нет? И я уже прикидываю, как, справившись со своим заданием, от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне доберусь домой. В конце-то концов, мы всего лишь пролетающий в вечернем небе самолет… Из-за него и голову поднимать не стоит! Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал: что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую. И нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под силу. Каждая секунда, одна за другой, спасает тишину. И уже кажется, что она будет длиться вечно… Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим. В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, с внезапным треском выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все? Мое первое ощущение — что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась — все пропало. Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков. В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. Тишину, сопровождающую выступление жонглеров. Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые нижутся друг за другом, как бусины четок. Тысячи четок устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте. И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноп летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и ткет вокруг меня сверкающую сеть. Когда я склоняюсь над землей, я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное кружение семян: так улетает мякина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали — вокруг меня одни только копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием! Я вижу лишь светящиеся мечи! Я чувствую… Какая там опасность! Я ослеплен великолепием этого зрелища! Тр-р-рах! Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль… но, нет… нет… я чувствую, что он еще поддается управлению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей: я поднимаю голову и смотрю. И вижу — спасения нет.XXI
Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен. Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора. Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьи удалились на совет. Я думаю… я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что. Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо. — Дютертр, далеко еще? — …продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили… но… — Может, проскочим… — Черта с два! До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь… Сколько я могу продержаться? Десять, двадцать секунд? Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые близкие стучат по самолету, словно камни, падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук. Какой-то странный стон… Значит, снаряды пролетели мимо. Это как с молнией: чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок: значит, нас задело осколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу. — Ранен? — Нет! — Эй! стрелок, ранен? — Нет! Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того чтобы разворотить баки, они с такою же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то плевать! Оно не в счет… вот это и удивительно! О теле мне нужно сказать несколько слов. Ведь в повседневной жизни человек слеп к очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копья, необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для Страшного суда. Вот тогда ты поймешь. Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо. Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, запылать любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину. Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержать! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоем действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твое открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..» Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твое изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого. Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за свое тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом. Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был дотащить его до той секунду, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения. Первый урок я получил в пятнадцать лет. Мой младший брат болел, и уже несколько дней, как был признан безнадежным. Однажды утром, часа в четыре, меня будит его сиделка: — Ваш брат зовет вас. — Ему плохо? Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату. Он обращается ко мне своим обычным голосом: — Я хотел поговорить с тобой прежде, чем умру. Я умираю. Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он делает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жеста. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но, успокоившись, он объясняет мне: — Не бойся… я не страдаю. Мне не больно. Но я не могу удержаться. Это мое тело. Его тело — уже не принадлежащее ему владение. Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через двадцать минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит: «Я хотел бы оставить завещание…» И он краснеет, гордый, разумеется, тем, что поступает, как взрослый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он всего лишь ребенок. Он завещает мне моторную лодку, велосипед и ружье. Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти, но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти? Нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне: «Не забудь записать все это…» Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека. Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал!.. — Капитан! — Что? — Вот здорово! — Стрелок… — Гм… да?.. — Какой… Мой вопрос прерывается толчком. — Дютертр! — …тан? — Задело? — Нет. — Стрелок… — Да? — За… Я словно врезался в железную стену. Я слышу: — Ну и ну!.. Поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, они кажутся более редкими. И я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами. Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сторону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я скинул ее с моей головы. Я обманул орудия, они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы. Но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей тяжестью тела навалился на педаль. Я бросил, или, вернее, рванул, самолет в противоположную сторону (к черту координацию!), и корона съехала влево. А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может! Как бы резко я ни двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрясается от толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно медленное восхождение направленных прямо на меня пузырьков. Непостижимо, что мыеще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем! Каждую секунду — я победитель! — Задело? — Нет… Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я командую экипажем победителей… Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче и меня охватывает тайное ликование. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую встряску, как от сильного шума, — и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх, потом разрядку. Как бы не так! На это нет времени! Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует — нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду; я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшествующей. Я живу в какой-то струе радости. В непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо. Словно с каждой секундой мне вновь даруется жизнь. Словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу. Я жив. Я еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем…» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают? Маслобаки, баки с горючим — все пробито. Дютертр говорит: «Закончил! Набирайте высоту!» Я еще раз измеряю на глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо. Еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горящими фитилями. Разумеется, скорострельные пушки. Со дна огромного голубоватого аквариума продолжают подыматься пузырьки. Пламя Арраса льет багровый свет, как железо на наковальне; его обильно питают подземные запасы, и пот человека, разум человека, искусство человека, его воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом пламени и превращаются в гарь, уносимую ветром. Я уже касаюсь первых клочьев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающий Аррас, зажженный на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она горит во славу какого-то божества, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все. Свидетельство я уношу с собою — образ пылающего Арраса. — Ну как, Дютертр? — Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене. — Ну как, стрелок? — Гм… да… капитан… нормально. — Что, жарко пришлось? — Гм… нет… да… Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина… Каково?.. Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок. А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха. Как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей… Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет. Прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов… Обязательно спрошу! Я не отказался от этого намерения. Их сто три. Кстати… Что там у меня с указателями горючего, давления масла… Когда баки пробиты, за ними надо следить. И я слежу. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование! Я слежу также за гироприборами: это облако не очень-то приветливо. Грозовая туча. Она нас здорово потряхивает. — Ну как? Не пора снижаться? — Десять минут… давайте обождем еще десять минут. Ладно, обожду еще десять минут. Ах да, я думал об Алиасе. Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное… Бегу к товарищам — они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот. Но он подскакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке. — А!.. Вот хорошо… рад вас видеть! И он запихивает лапшу в рот. По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность; «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?» — Гм… Бернулли… Бернулли… И я цепенею под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку. Результаты полета — это дело Дютертра. Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат, лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление. — Вы ведь знаете, господин майор, что пилот… — Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно. — Я… Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно… — Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров? Почему Алиас так жесток?XXII
Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз? То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьник у классной доски. У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено… Оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе. Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим. К себе домой. Я похож на хозяйку, которая, обойдя лавки, направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени она приподнимает газету, которой закрыты покупки: тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о том, как удивит свою семью, и идет не спеша. Она поглядывает на витрины. Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы Дютертр позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть: этот ландшафт отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами прирученных деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек, — даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем. Хотя я в грозовом облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: «Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек…» Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удается запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы серьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордэра на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать. Я тоже. Но я выиграю. Вчера Лакордэр напился. Впрочем… не сильно: я не хочу его порочить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и посадил самолет прямо на брюхо. Алиас, который, увы, при этом присутствовал, с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Как сейчас вижу Лакордэра, старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Алиас качал головой. Алиас сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордэра. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. Но Лакордэра она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха, Лакордэр был профессионально безупречен. Вот почему Алиас, интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у самого Лакордэра, что он думает о повреждениях. И я почувствовал, как вспыхнуло подавленное бешенство Лакордэра. Вы тихонько кладете руку на плечо палача и говорите: «Несчастная жертва… представляю, как она, бедняжка, страдает…» Движения человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее. Так вот. Я возвращаюсь домой. Группа 2/33 — мой дом. И я хорошо знаю своих домашних. Я не могу ошибиться в Лакордэре. Лакордэр не может ошибиться во мне. Я сознаю нашу общность с поразительной ясностью: «Мы — летчики из группы 2/33». Вот уже разрозненные куски связываются в одно целое. Я думаю о Гавуале и Ошедэ. Я сознаю свою общность с Гавуалем и Ошедэ. Гавуаль. Какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Неожиданно во мне всплывает теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит: — Хозяйка заколола свинью. Она приглашает нас на кровяную колбасу. Мы трое, Израэль, Гавуаль и я, с наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне: «Посмотри, что я купил. Надпиши, ей будет приятно». Это была одна из моих книг. И я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я охотно надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израэль набивал трубку. Гавуаль почесывал ногу, хозяйка, казалось, была очень рада получить в подарок книгу с надписью самого автора. Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то что надписал книгу, — прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я пришел сюда не со стороны. Израэль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу. И я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем. А между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим. Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не по скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израэль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей, связей с их трудом, с их профессией, с их долгом. И с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реальность их присутствия. Я могу молчать. Могу пить легкое белое вино. Могу даже сделать надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства. Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме. Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась, — об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то. Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишенного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу 2/33. Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю. И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше, чем когда-либо, принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израэль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого — право быть. Вот почему я с легким сердцем надписал свою книжку… Это ничего не портило. А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что, наплоди я хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд этот не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог, ради соблюдения правил этой игры. Чтобы они стали чем-то большим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконфузиться, когда майор начнет меня расспрашивать. То есть право участвовать. Право быть связанным. Приобщиться. Получать и давать. Право быть чем-то большим, нежели я сам. Отдаться переполняющему меня чувству. Любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излияний — никогда, — разве что в часы прощальных трапез. В такие часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся к сотрапезникам, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешних проявлениях. Она состоит только из связей. Она — сама моя сущность. Я неотделим от группы. И все. Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти. Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться. Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ…» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других… Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга. Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда однажды Гавуаль попросил его одолжить хронометр для измерения скорости с земли. — Нет, господин лейтенант… не могу… — Чудак! Мне же на десять минут! Только отрегулировать! — Господин лейтенант… хронометр есть на складе. — Ну, есть. Так ведь он уж полтора месяца как застрял на двух часах семи минутах! — Господин лейтенант… такую вещь, как хронометр, не одалживают… я не обязан одалживать свой хронометр… этого вы не можете от меня требовать! Когда горящий самолет Ошедэ приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же сесть в другой самолет и полететь на другое задание, на этот раз, может быть, гибельное… но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалованье и который он каждый вечер заводит поистине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит. И когда Ошедэ, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать Ошедэ. Мне открылись сокровища его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует. И он умрет за свою страну. Его страна существует. И существует Ошедэ, неразрывно связанный с ними. Он соткан из своих бесчисленных связей с миром. Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме. Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы от нее…XXIII
Как я изменился! В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированное нашествие встречало на своем пути только пустоту, безнадежные задания стоили нашей группе семнадцать из двадцати трех экипажей. И мне казалось, что мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Алиас, мне было горько, и я был не прав! Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишенные всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас, — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием. — Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение. И все-таки, майор Алиас, вы были правы. Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться? Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился какого-то таинства, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Пенико рассказал мне о своем утреннем полете: «Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости, с бреющего полета, давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем проносился над орудийным расчетом. Пушка словно взрывалась! Люди разбегались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегли играл». И Пенико смеялся. Пенико торжествующе смеялся. Пенико — капитан-победитель! Я знаю: боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восьмьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами. — Можете взять курс девяносто четыре. Дютертр только что сориентировался по Сене. Я снизился до ста метров. Земля со скоростью пятьсот тридцать километров в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета неустанно рассекает их, словно плывущие льдины. Внизу появляется Сена. Когда я пролетаю над ней под углом, она отступает, будто поворачиваясь на своей оси. Это движение доставляет мне такое же удовольствие, как плавный взмах косы, срезающей траву. Сидеть мне удобно. Я хозяин на борту своей машины. Баки целы. Я сыграю в покер с Пенико, выиграю у него рюмку коньяка, потом объявлю мат Лакордэру. Вот я какой, когда я победитель. — Капитан… стреляют… мы в запретной зоне… Курс вычисляет он. Я тут ни при чем. — Здорово стреляют? — Стреляют вовсю… — Повернем? — Ну, нет… Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик. — Дютертр… послушайте… глупо же, если нас собьют свои! — …не собьют… пусть поупражняются. Дютертр язвит. А у меня нет охоты язвить. Я счастлив. Мне приятно поговорить со своими. — Да уж… стреляют, как… Он, оказывается, жив, наш стрелок! Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключения молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела. Во всяком случае, потока излияний не было. Но сейчас дело коснулось его специальности: пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уж специалистов не удержать. Я невольно противопоставляю эти два мира. Мир самолета и мир земли. Я только что увлек Дютертра и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию. Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества. А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот. За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу. Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде. Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в веселый сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы. На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами… Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери. В воспоминаниях не вернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы…» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут. Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ…» И целомудрие заставляет молчать. Майор Алиас, майор Алиас… этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь. Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.XXIV
Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил: — Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну… Поужинаете с нами? — Я уже ужинал. Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой. — А ну-ка, племянница, подвинься чуточку… Дай место капитану. Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей сваей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже. Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз. А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали — этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным. Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам. А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека не то, что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб это то же, что масло в светильнике. Оно также претворяется в свет. Я смотрю на племянницу — она очень красива — и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится. Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница. Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась… Это было подобно дуновению на хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия…» Я видел сияющий свет пшеницы. Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобно достоянию их деревни, — и над ним тоже нависла угроза. И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди. Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние. Поражение… Победа… Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице. Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет. Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст окружающим свою спокойную веру. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедра так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда — ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет. Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путанице проблем. Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направлении должна двигаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника? Неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напирающим на дамбу. Что нужно делать? Вот это. Или нечто совершенно противоположное. Или еще что-то. Никакого предопределения не существует. Чем нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль родится из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно… Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром! Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дожила до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логики, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дожила до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет себе путь туда, куда устремлен его напор. Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к огню, — значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь, — значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители. Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас. Вот почему, возвратившись из полета над Аррасом и, как мне кажется, многое за время полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди, и составляю для себя простейшие правила, которым никогда не изменю. Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу. Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пасторов, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе: «Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне. Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец. Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, и я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков остальному миру. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция — таков был ее долг перед самой собой. Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2/33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Финляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что, сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были рождеством для всего мира, мир мог бы найти в нас свое спасение. Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих…» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.XXV
Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит: «Я потерпел поражение». Он не говорит: «Мои солдаты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так. Ошедэ сказал бы: «Я в ответе за все». Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злому року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей. Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот главное. Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинятьличности? Они только пути и перепутья. Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов нерадивостью чиновников, а бездействие союзников — их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей. Но ведь человека создает духовная культура. И если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими. Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил. Потому что духовную культуру можно сравнить с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссыпая в амбары зерно. И запасы зерна сберегаются, как наследие, от одного урожая к другому. Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека — и его возможности, — я должен спасти принципы, которые его формируют. Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до сих пор, уже не выражают главного. Так, я проповедовал Демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания. Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется. Кто же с этим не согласится? Я мог сказать, каким должен быть человек. А не кем он должен быть. Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность. Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней, кроме того, что я — ее обитатель. Я жил в ней, как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный. Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжкая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря разнесет их корабль в щепы? Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться? Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры. Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны основать. Есть начало, от которого некогда пошло все: и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Начало это — могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем. Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедля постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло… Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом…» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек — Человек, общая мера для всех моих товарищей. Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамения… Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто призыв, одновременно и ясный и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняют чьи-то спокойные шаги. — Э-эй! Добрый вечер, капитан! — Добрый вечер! Я не знаю его. Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке. Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас… Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов. Со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На белизне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов. Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек, который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале. Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию… И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть. Моя духовная культура основана на культе Человека в отдельной личности. Веками она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в груде камней. Она проповедовала Человека, который превосходит отдельную личность… Потому что Человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой Сущности, есть нечто такое, чего не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а, напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они — камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в общем гимне собора. Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что Человек есть сумма людей, подобно тому как Камень есть сумма камней. Я отождествил собор с простым нагромождением камней, и мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить Человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей Общности. Он — источник моей победы.XXVI
Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена незыблемым правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой. Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места. Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви. Незримый путь, начертанный силою тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения. Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию божию. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинство. Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими людьми. Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, надо задуматься над тем, как он построен. Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство. Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности: ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла также о равенстве прав Бога на личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих правах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях. Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке. Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим Посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыкательству перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так Любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между Посланцами независимо от достоинств личности. Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку независимо от его личности. Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — братья в группе 2/33. Французы — братья во Франции. Моя духовная культура, наследуя Богу, основала братство людей в Человеке. Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника. Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность. Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей забывать о себе, тем самым возвышая себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену. Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к Человеку через самого себя. Я понимаю, наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друга за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца того же самого Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько же самодовольства в твоем отчаянии!» Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, величие моей духовной культуры в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают Человека. В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море. Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!XXVII
Но я все испортил. Я расточил наследие. Я позволил предать забвению понятие Человека. Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека. Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей. Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имению у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имению присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения… Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу. Самое сложное действие получило название. И название это — жертва. Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров. Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрегает важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий. Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней. И понемногу мы растеряли наше наследие. Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие. Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей. Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл. Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них. Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества. Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других. Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоречия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами. Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь Сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или Человеку. Но, забыв о Боге или о Человеке, мы стали воздавать только личности. И тогда Любовь к ближнему часто становилась оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должно обеспечивать Общество, и она не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих. Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека. Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости. Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить. Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность. Если наше Общество еще имело право на существование, если в нем еще сохранялось какое-то уважение к Человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали собственным невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет и спасала нас помимо нашей воли. Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груду камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке. Одни из них сразу же, недолго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Груде камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе Человека, но целиком переносит его на отдельную личность. И это ведет к противоречиям еще более непримиримым, чем наши. Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Массы. Но их формула непригодна. Потому что если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу, — нельзя, разумеется, допустить также и то, чтобы Масса подавляла одного человека. Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство. Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отрицаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке — а ведь только он может оправдать наш отказ. Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Потому что это нанесло бы ущерб груде камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе Общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами. Следовательно, они возненавидят все то, что отличается от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина? Я больше не удивляюсь тому, что груда камней, которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями, в беспорядке разбросанными по полю. И все-таки я сильнее ее. Я сильнее ее, если я вновь обрету себя. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров. Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь. В час вылета я хотел что-то получить прежде, чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. Прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить. Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться. Когда я вернулся с задания, я уже ощущал свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. Потому что я неотделим от духовной культуры, избравшей своим краеугольным камнем Человека. Я неотделим от группы 2/33, выразившей готовность сражаться за Норвегию. Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я облачился, чтобы служить богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Аррасом снял пелену с моих глаз — и я прозрел. Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь отправлюсь в полет, я буду знать, за что я сражаюсь. Но я хочу запомнить то, что увидел. А для этого мне нужен простой Символ Веры. Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным. Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя его корни отличаются от ветвей. Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями. Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей. Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности. Я буду сражаться за Человека. Против его врагов. Но также и против самого себя.XVIII
Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2/33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в тлеющие угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошедэ грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пенико, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подавляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой. Один лишь майор еще бодрится; мертвенно-бледный, склонившись над бумагами под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, «обсуждает» — всего лишь образное выражение. Говорит один майор. Желе кивает головой и отвечает: «Да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий — от шеи пловца. На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы: «Капитан Желе… на рассвете вас расстреляют…» И подождал бы, что он ответит. Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах. Майор встает, подходит к Лакордэру и прерывает его сон, в котором Лакордэр, быть может, обыгрывал меня в шахматы. — Лакордэр… с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете. — Слушаюсь, господин майор. — Вам надо бы поспать… — Так точно, господин майор. Лакордэр снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой Желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целая неделя, как Желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости. И все-таки оба они — и пловец и утопающий — снова отправляются за призрачными приказами. Ко мне с озабоченным видом подходит Везэн — сам он при этом стоя спит, как лунатик. — Ты спишь? — Я… Я прислонился головой к спинке кресла — я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везэна: — Все это плохо кончится!.. Все это плохо кончится… Заведомо неодолимая преграда… Плохо кончится… — Ты спишь? — Я… нет… что плохо кончится? — Война. Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу: — …какая война? — Как это «какая»? Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели! Майор с размаху распахивает дверь. — Решено. Перебазируемся. За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из-за каких-то ему самому неведомых резервов. Мы встаем. Мы говорим: «А!.. Ну, ладно…» Что мы можем сказать? Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме. Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.Антуан де Сент-Экзюпери
Autour de Courrier Sud et de Vol de nuit (textes choisis, tablis et present s par Alban Cerisier);Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет»
Предисловие
«Южный почтовый» и «Ночной полет» — два первых романа, опубликованных Антуаном де Сент-Экзюпери. Когда они появились — первый в июле 1929 года с предисловием Андре Вёклера, второй в июле 1931-го (а не в октябре 1931-го, как часто писали о нем) с предисловием Андре Жида, — молодой писатель еще работал в компании Аэропосталь. История создания этих двух романов на виду благодаря письмам, которые автор, находясь вдалеке от своих друзей и близких, посылал из Парижа, Тулузы, затем из Дакара, Каи-Джуби, Буэнос-Айреса. Письма матери и ее кузине Ивонне де Лестранж — герцогиня де Тревиз, дружила с Андре Жидом и Марком Аллегре, которые звали ее Яблочко, — изобилуют свидетельствами о рождающемся призвании писателя. Годы, когда юный де Сент-Экзюпери жил в Париже, когда желанный союз с Луизой де Вильморен отдалялся все сильнее, он много писал и надеялся многое опубликовать. В то время он с равным воодушевлением откликался на соблазны писательства и на зов неба, отдавал силы призванию литератора и призванию авиатора. Сент-Экзюпери не летчик, ставший писателем, и не писатель, ставший летчиком, он изначально летчик и писатель одновременно. Стремление к той и к другой профессии было вызвано одинаковой страстью и вызывало нетерпеливое желание продвигаться вперед. До нас дошли самые первые произведения де Сент-Экзюпери — детские рассказики, подростковые стихи и новеллы; счастливый случай время от времени до сих пор приносит нам то одно стихотворение тех давних времен, написанное в духе парнасцев, то другое, в стиле ранних символистов. Но в начале 20-х годов, когда де Сент-Экзюпери освободился от обязанностей военной службы и еще не определился всерьез с профессией, он начал писать очень активно, пишет много и разное. Уже в 1923 году главный редактор «НРФ» Жак Ривьер оставляет у себя рассказ начинающего писателя под названием «Полет». Сент-Экзюпери, офицер запаса, хоть и не начал еще работать в коммерческой авиации, но уже накопил немалый опыт, летая в качестве военного летчика. Но пробует он себя и на совершенно иных темах, написав, например, рассказ «Манон, танцовщица», который так понравился и Андре Жиду, и Жану Прево, что обсуждался вопрос о его публикации как в журнале, так и отдельным изданием. В начале 1924 года Сент-Экзюпери начинает писать роман, «сжатый и в новом стиле», который приводит в восхищение всех его близких. Минуты воодушевления чередуются с периодами поисков и сомнений. Он надеется показать роман матери в июле месяце, но вскоре пишет: «Роман немного застопорился. Однако я продвигаюсь вперед внутренне и очень значительно. Заставляю себя быть в состоянии сосредоточенного наблюдения. Коплю». И спустя несколько дней своему другу Шарлю Саллесу, которому тоже намерен дать на прочтение рукопись: «Написал небольшие кусочки, перечитываю их с нежностью, которую хотел бы разделить с тобой. Но время от времени становлюсь в тупик. Ввел новый персонаж, он был нужен мне для определенной цели, и теперь не знаю, что с ним делать. К счастью, я был предусмотрителен и сделал его умирающим. Увяз и пока не понимаю, как свести концы с концами. Проигрываю все возможные варианты. Есть, кажется, какая-то игра для терпеливых, которая напоминает то, что я делаю, мозаика из множества квадратиков. (…) Хочу сложить их уж как-нибудь, наугад. Понять мою мешанину будет трудно, зато возникает ощущение тайны». Что это за роман? Первая версия «Бегства Жана Берниса», фрагмент из которого под названием «Авиатор» опубликуют Жан Прево и Адриенна Монье в последнем номере своего журнала в апреле 1926 года. Стал ли этот фрагмент первой публикацией нашего автора? Может быть, и так, но у нас нет никаких подтверждений этому, (ведения слишком сбивчивы. Так, например, в записке, которую Сент-Экзюпери прикладывает к рукописи «Авиатора», оставляя ее у кассирши в кафе «Дё Маго», поскольку вынужден уйти, не дождавшись Жана Прево, он называет ее «Рассказ о полете» . А Прево в тексте, сопровождающем публикацию, сообщает, что речь идет о фрагменте большой новеллы, которая была утеряна автором и восстановлена по памяти в укороченном варианте.» Теперь, после публикации вполне законченного произведения «Манон, танцовщица», новеллы, написанной в тот же самый период, мы с полной определенностью можем сказать только одно: прежде чем написать свой первый роман «Южный почтовый», Сент-Экзюпери создал множество самых разнообразных литературных текстов. Годы с 1923-го по 1926-й, когда он переживал сердечную трагедию, когда был не слишком удачно устроен в смысле работы, сформировали его как писателя. В конце 1926 года молодой человек поступил на службу в компанию «Латекоэр» и стал водить самолеты на линии Тулуза — Касабланка — Дакар, а в октябре 1927 года был назначен начальником аэродрома Кан-Джуби в Сахаре. Решительный и благодетельный поворот судьбы — этот период жизни для Сент-Экзюпери будет необычайно плодотворным: благодаря или вопреки одиночеству и аскетизму профессии, человек и писатель обретут свой жизненный путь. Роман «Южный почтовый», где главным героем стал Жак Вервие, был начат в Дакаре или на одном из промежуточных аэродромов, когда летчик отдыхал от полета, а может быть, от аварии на территории непокоренных мавров, а может быть, от охоты на львов… В 1927 году склонный к авантюрам молодой человек с гордостью сообщает из столицы Сенегала матери, которая с большим вниманием следит за литературным ростом своего сына-«писателя», что «затеял большую вещь для «НРФ». Он работает над ней еще и в 1928 году и в конце этого года пишет длинное письмо Ивонне де Лестранж, сообщая, что закончил книгу, что в ней две сотни страниц, что «она достаточно дурацкая». Роман «Южный почтовый» был передан Андре Жиду, и он, прочитав его, пришел в восторг и 8 января 1929 года отнес для ознакомления Жану Полану, главному редактору «НРФ», с тем, чтобы фрагменты, предваряя публикацию книги, появились в журнале. В том же письме Андре Жид пишет, что роман заслуживает отдельного издания и «публику нетрудно будет подогреть, учитывая героизм ее автора». 20 февраля того же года издательство подписало с Сент-Экзюпери контракт на семь романов. В Париж он возвращается в марте. А в мае едет на переподготовку в Брест. Критик Рамой Фернандес пишет к «Южному почтовому» предисловие, проникнутое благожелательной иронией, которая приводит Сент-Экзюпери в страшное раздражение (его превратили в этакого неуклюжего нескладеху, и этот портрет может повредить ему в глазах коллег-летчиков). Предисловие будет убрано, скорее всего стараниями Ивонны и Жида. Романист Андре Бёклер, близкий друг Гастона Галлимара, в конце концов уладит это дело: книга появится в июле с написанным им предисловием. В августе Сент-Экзюпери вновь начинает летать с почтой на линии Тулуза — Касабланка, в сентябре он узнает, что его переводят в Южную Америку, и 12 октября в Буэнос-Айресе его встречают Мермоз, Гийоме и Рэн. Жизнь побежала бегом. Рукопись «Южного почтового» вот уже пятьдесят лет хранится в коллекции Мартина Бодмера (Фонд Бодмера. Колони — Женева). Это рабочая рукопись, подаренная автором Луизе де Вильморен (см. письмо на стр. 108), содержащая различные варианты по сравнению с опубликованным текстом (варианты опубликованы в «Собрании сочинений» А. де Сент-Экзюпери «Библиотека Плеяды»). На некоторых листках рукописи фирменный знак ресторана в Сан-Рафаэле, и это наводит на мысль, что Сент-Экзюпери работал над своим романом летом 1927 года в Агее, у своей сестры Габриель, куда приехал выздоравливать, после того как пролежал несколько недель в больнице в Дакаре, заболев лихорадкой денге. Фрагменты, которые собраны в нашем издании, никогда не публиковались. Принадлежат ли они периоду работы над «Южным почтовым» или предыдущему, когда Сент-Экзюпери писал «Бегство Жака Берниса»? Сегодня нам этого не определить, они так и остались фрагментами и не вошли ни в то, ни в другое произведение. Однако приезд Берниса в старинный дом, образ дома-корабля не противоречат атмосфере его первого романа. Описание дома в этих фрагментах близко упоминаниям о доме Женевьевы (подъезд, липы…) — дома, откуда она сбежала, несмотря на прочную связь с родовым гнездом (часть вторая, главы 1 и VII); куда снова вернулась после недолгого побега с Бернисом, чтобы отправиться в последнее путешествие, дом — погребальный корабль, дом-мавзолей (часть третья, глава IV). Эти фрагменты близки и воспоминаниям о доме, в котором провел детство Бернис (часть третья, глава III), в них тоже постоянно присутствует морская стихияи постоянно слышится призыв к бегству, к странствию («Дом спущен на воду, как корабль»). По сути, образ «дома-корабля», рождающий мотив странствия и мотив перетекания материального в нематериальное и наоборот, является самым главным, ключевым для романа. «Южный почтовый», роман о полетах в небе, омыт со всех сторон водой, как корабль, застывший в призрачной неподвижности. «Мне чудится, где-то тонет корабль» — так звучит одна из фраз в конце «Южного почтового», словно бы взятая из публикуемого нами фрагмента. Но эти фрагменты близки и более позднему произведению, «Планете людей», в четвертой подглавке главы «Самолет и планета», которая сначала была опубликована в 1938 году в газете «Пари суар», мы читаем: «Был где-то парк, заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. (…) Он существует, и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность». Сент-Экзюпери посвящает в «Планете людей» прочувствованные страницы Муази, которая, после того как в 1914 году «фройлен» уехала в Германию, стала домоправительницей замка Сен-Морис-де-Реманс, где прошло его детство. Вернувшись из своего первого полета, он пришел в бельевую и увидел все те же стопы простынь и скатертей и ее, королеву своего белоснежного королевства. А вот парк, по которому бегали дети, заметно расширился, и невозможный Тонио вернулся из куда более дальнего одиночества… Однако маленькое белоснежное королевство обладало удивительной властью, потому что ощущение вечности в пустыне пришло не от песков, а от воспоминания о маленькой бельевой. Как привет от белоснежного царства Муази мелькает на горизонте белый парус удаляющейся яхты, и белый песок Сахары тоже напоминает царство Муази. Хорошо известно признание Сент-Экзюпери из январского письма к матери 1930 года: «Я не уверен, жил ли я с тех пор, как перестал быть ребенком». Но не все помнят, что перед этим он воздает хвалу Муази, написав: «Мадемуазель Маргарита помогла мне ощутить, что такое вечность». Дальше Сент-Экзюпери продолжает размышлять о том, чем был для него дом в детстве, вспоминает, как вечером перед сном к ним приходила мама, и ее приход был сродни благословению, которое давалось перед дальним путешествием в неведомый мир снов, уводящий за пределы знакомых стен дома и парка. Верность одним и тем же проблемам, возвращение все к тем же образам — признак серьезного творческого процесса. «Планета людей» уже живет в «Южном почтовом». Не вошедший в «Южный почтовый» фрагмент свидетельствует о том же постоянстве. Дом ли это Берниса, куда он возвращается, как вернулся Тонио? Или это дом Женевьевы? Неважно, важно, что неизменна суть. Продолжение размышлений о доме в чудесном письме бывшей невесте, Луизе де Впльморен. Автор «Южного почтового» присваивает себе окончившийся неудачей поиск Берниса: «Боюсь, что не узнаю свой дом. Старину Берниса, своего приятеля, я отправил умирать в пустыню, потому что дома он так и не нашел». Расставшись с Лулу, Сент-Экзюпери очень долго не мог прийти в себя и успокоиться. Его первые произведения передают то смятение чувств, в котором он жил. Неудивительно, что автор пытался посвятить свой первый роман той, которая вызвала это смятение, но безуспешно. Собранные нами и опубликованные письма так или иначе касаются первых произведений де Сент-Экзюпери и вместе с тем свидетельствуют, что отношения с Луизой де Вильморен продолжались и после 1923 года. Молодой человек нуждается в ее близкой дружбе, он страстно стремится к ней. Судя по всему, бывшая возлюбленная играет немалую роль в самом написании его романов. Как трогательно нетерпение, с каким он пытается получить от нее хотя бы строчку, которая свидетельствовала бы, что ее заинтересовал «Ночной полет», его второй роман, написанный в Буэнос-Айресе. Сент-Экзюпери очень нуждался в ободрении, он совсем не был уверен в себе как в писателе. Тем более что первая критическая статья, которую он прочел о своем романе, была появившаяся в июле 1931 года в «Аксьон франсез» кисло-сладкая критика Робера Бразияка. (Более подробно об этом в нашем предисловии к «Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет».) К этому времени он вновь стал летать с почтой по африканскому маршруту, поселившись с молодой женой в Касабланке. Статья тем более впечатлила Сент-Экзюпери, что жил он вне литературной среды, не получал никаких отзывов о своем романе и подозревал, что издатель уже приготовил ему «похороны по первому классу». В сентябре 1931 года он жалуется Ивонне де Лестранж на полное молчание, и вполне возможно, она и посылает тоскующему автору статью Бразияка. Ивонна де Лестранж и в этот период остается самой деятельной из его близких друзей-корреспонденток и, очевидно, чаще других оказывает ему помощь, как о том свидетельствуют опубликованные нами черновики обращенного к ней письма. Сент-Экзюпери отдыхает между полетами в Сент-Этьене, у него есть время поразмышлять, и он делится с ней своими мыслями политического и социологического характера, противопоставляя свой опыт и свои выводы относительно колонизации мыслям и опыту своего друга Андре Жида, чье предисловие к «Ночному полету» никого не оставило равнодушным. У противников колонизации Сент-Экзюпери обнаруживает своего рода лицемерие по отношению к черному населению и объявляет себя почти по-стендалевски противником любых политических систем, которые заботятся о выживании вида в ущерб жизни индивидуума, заботятся о наличии стада, а не о совершенствовании особи. С позиций приверженца к устоявшемуся и элитарности, он считает одинаково нерезультативными как Америку, так и Россию, демократию и коммунизм, так как эти режимы пренебрегают тем, на чем возрастает и базируется достоинство человека, что выстраивает иерархические ступени. Уравнивание всех по самому низкому уровню, формальное равенство, культурный и коммерческий империализм — вот чего не принимает, против чего всеми силами возражает Сент-Экзюпери, чья политическая мысль пока еще только созревает и формируется. Позже он сумеет найти для своей позиции иные формы, избавившись от ретроградных акцентов. Однако вернемся к статье Бразияка. Критик видит родство «Ночного полета» с Творческим методом автора «Подземелий Ватикана». Но это родство для него не явление, которое он исследует, а оценка, и он с убийственной легкостью объявляет о неестественности такого родства. Может ли Сент-Экзюпери быть настоящим летчиком, если он пишет с красочной изысканностью Жида? И собственно кто он такой и кем себя считает? Литератором — то есть человеком, умеющим искусно пользоваться языком и благодаря языку и собственному воображению открывающим новые миры? Или летчиком-профессионалом, которому чужды метафоричские ухищрения писателей? Сент-Экзюпери испытывает необходимость ответить критику. Свой ответ он строит, опираясь на анализ стиля своих современников, в частности Поля Морана. Его размышления не остались только в черновике письма Полю Кремьё, который мы здесь публикуем, они вошли и в письмо, которое было ему отправлено, и директор Пен-Клуба опубликовал фрагменты из него в декабре 1931 года. Главная проблема, которую обсуждает Сент-Экзюпери, — это проблема человека, обладающего профессией и пишущего о ней, возможность существования литературы, ориентированной на какую-либо профессию, совмещающую одновременно две точки зрения: взгляд извне, описательный, и взгляд изнутри, участника процесса. Бразияк помещает молодого писателя как бы в нейтральную полосу между двумя профессиями. Он пишет: «Книгу стоит прочитать, произведение весьма любопытное». И потом: «Это не книга авиатора и не книга литератора», усугубляя ощущение изолированности неуверенного в себе автора. Все последующие годы Сент-Экзюпери не избавится от сомнений относительно собственного профессионализма, но зато относительно судьбы своего романа и поддержки издателя он может быть совершенно спокоен — молодого автора удостоили премии Фемина. Ей предшествовали и положительные отзывы критиков, но, как свидетельствует набросок письма, который мы здесь публикуем, автор относился к себе с большей суровостью. Письмо обращено к журналисту, и мы видим в нем удивительно интересную самокритику относительно фигуры Ривьера, начальника летчика Фабьена. Читая отзывы о своем романе, Сент-Экзюпери понял, что Ривьера трактуют не так, как он его задумал, и произошло это по его вине: суровость Ривьера, что бы ни говорил о ней Бразияк (это письмо скорее всего тоже косвенный ответ на статью в «Аксьон франсез»), вовсе не индивидуальная черта характера. Необходимость делает этого человека авторитарным, он воплощает собой эту необходимость и передает ее дальше. Властность Ривьера не его человеческое качество, она зиждется на необходимости выполнить общую для всех миссию, это общее вбирает и подчиняет себе все личностные частности. Взаимоотношения летчика с вышестоящим начальством строятся не как межличностные или эмоциональные; их суть — взаимная ответственность, свидетельство того, что строгая субординация способна осуществить цивилизаторскую миссию и наделить значимостью каждого из служащих. Премия Фемина, безусловно, обрадовала и придала уверенности Сент-Экзюпери, хотя в письме к Ивонне де Лестранж молодой автор и сожалел, что не получил Гонкуровскую. Новость он узнал, получив 4 декабря телеграмму, и компания дала ему разрешение отправиться в Париж, чтобы получить премию, но он больше не вернулся на африканскую почтовую линию. После встречи Нового года в кругу семьи в замке Сен-Морис-де-Реманс Сент-Экзюпери 6 января 1932 года произносит речь на празднике, организованном журналом «Ла мод пратик». Его аудитория — молодые девушки, что не может не нравиться выступающему, а девушкам не может не понравиться речь героя, летающего в небесах. Писатель рассказывает своим слушательницам две необыкновенные истории — о том, как умер молодой человек по имени Прюнета, и о том, как выжил другой, по имени Гийоме. Обе эти истории мы встретим потом в его книгах. Однако важный этап в жизни Сент-Экзюпери в этом году закончился, начинался другой, не очень-то легкий. Героическая деятельность компании Аэропосталь подошла к эпилогу, и атмосфера в авиации становилась с каждым годом все более безрадостной. Сент-Экзюпери будет делать все возможное для того, чтобы продолжать летать, но с этих пор без конца будет возвращаться к пережитому им необыкновенному времени, — память о нем и его уроки он сохранит до конца своих дней, потому что через несколько лет авиация из героической стала коммерческой и уже не созидала человека в человеке, но перевозила его с места на место. Альбан СеризьеДанная публикация сделана по текстам, написанным рукой де Сент-Экзюпери. Отдельные слова в них прочитать так и не удалось, и мы обозначаем их пометой «нрзб». Возможный вариант прочтения помещен в квадратных скобках. Пунктуация и орфография в случае необходимости были поправлены.
Глубокая благодарность тем, чье душевное благородство и щедрость позволили этим текстам стать всеобщим достоянием.
Фрагменты
Чего я боялся? Неужели смерти?
Три фрагмента из «Южного почтового»
— Чего я боялся? Неужели смерти? Жак Бернис распахнул дверь и, не спускаясь с веранды, смотрел в парк. Зеленые купы деревьев неподвижно застыли в мирной синеве вечера. Ему показалось, он любуется подводным царством. Деревья утонули в потемках. Он вообразил едва освещенные купы затонувшими кораблями. Парк был священен, как священно звездное небо. Вспомнилась молитва, которую он когда-то очень любил: «Господи! Пошли людям своим неизреченную благодать. Пошли покой, и да пребудет она в нем вечной». Что такое «неизреченная благодать»? Он ощущал ее сейчас, здесь, именно в этом мирке, таком хрупком, но обладающем прежней, не слабеющей с годами властью. «Где ты хочешь приземлиться и осесть, голубчик?» Вот на этой скамейке. Под липами он снова станет таким, каким был когда-то, ощутит весомость сотни условностей, и они помогут ему самому обрести весомость. Он повторил: «Странствия ничему не учат. В странствиях теряешь себя». Дом, темный парк, едва видимая между липами церковная колокольня — вот зачарованный замкнутый круг. А он сейчас на лечении в лечебнице, этот корабль построен , чтобы плыть сквозь дни к исцелению или смерти; больные лежат и ждут неведомо каких видений, неведомо каких обетованных земель. Лечебница, парк, корабль. Самое долгое странствие — это путь из конца в Конец парка, путь от рождения к смерти. «Исполнишь долг каждого дня, и Господь тебя примет». Принимал, после того, как читали старинные книги, мирили крестьян, поступали разумно… Дом для множества его предков служил надежным паромом, оставался самодовлеющим, самоценным, вдалеке от суеты и от жизни. Очутившись за каменными стенами, Жак Бернис явственно почувствовал: здесь не знают, что есть край света. — Детьми в этой комнате мы спали. И точно так же, как в давние-предавние времена, они освещали тяжелой лампой путь по старинному неудобному дому. В темноте наступившей ночи они вглядывались не в дом, а в прошлое. Видели не спальню, а пучок света, дрожащие на стенах ветвистые тени, углы, где затаились старинные вещи, едва угадываемые в темноте ночи, в темноте времен, свет никогда не обнимал их целиком. Он вторгался сюда мощной силой, кулаком, с которым не справиться. И слабые детские руки потемок, что их обнимали, опускались. — Может, выйдем в парк? — Но сейчас же ночь. — Неужели? (Предложить сейчас выйти в парк все равно что попросить, чтобы корабль посреди океана причалил к земле.) Бернис прекрасно знал, сколь священны обряды, приуготовляющие дом к приходу ночи, знал, сколько предосторожностей предпринимается против нее. Зимой готовиться начинали с шести часов вечера, слуги сновали по дому, закрывая и законопачивая дом, как корабль. Старались, чтобы ни один луч луны не проник сквозь ставни. «Смена караула». Но запоры на ставнях все же до того ненадежны… Потом раздавались шаги старой хозяйки, слуга нес перед ней лампу, и она проверяла, плотно ли закрыты ставни, все ли заперты замки, все ли наложены засовы, проверяла придирчивее старого генерала, который следит за соблюдением устава. Дом запирали от луны, звезд и еще цыган: стоило опуститься ночной тьме, и цыгане распространялись повсюду, плыли по воздуху, просачивались в любую щель, как опасный болезнетворный микроб. «А когда-то мы жили спокойно». Бернис, вернувшийся из южных стран, где распахивали двери и окна навстречу звездам, улыбнулся посреди [коридорного святилища]: — Но ведь еще день… Настал черед удивиться служанке. «В парк, конечно, надо бы выходить пораньше…» И вот Бернис смотрит, как трепещут листья на деревьях, налитых темнотой сумерек, и чувствует щемящую тоску от неизбежности молчаливого незаметного крушения. «Все накренилось, вот, вот…» — Вернемся… — Да, конечно… — А старая демуазель? — Сейчас вы ее увидите.
Демуазель сидела с шитьем у окна. Она одна чинила все белье в этом доме. Не было в доме скатерти, простыни, которые не прошли бы через ее руки. Верная служанка старинного постельного и столового белья, она сновала проворной мышкой между больших шкафов, в которых высились белоснежные стопы, тонкими пальцами разворачивала скатерть, и вот она уже струится с ее колен. Бернис долго стоял на пороге бельевой. Эта комната казалась ему самой сокровенной, самой таинственной, она прятала источник свежести, из нее появлялись скатерти и простыни, облагораживающие белизной весь дом. Здесь было святилище старой демуазель, похожей на монахиню, посвятившей себя хранению чистоты, не жалевшей своих старых глаз ради того, чтобы снежное сокровище оставалось непорочно чистым. Бернис иногда задумывался: как мадемуазель представляет себе мир? Не было для нее преступления более тяжкого, чем: «Чернильное пятно! Какой ужас!..» Он вспомнил ее дрожащий голос. Он тогда смеялся. Он был молод, только что поступил в армию и любил дразнить ее. — А ты знаешь , что в полете или при встрече с врагом рубашка может порваться?.. — Господи! Какое злодейство! — А есть страны, где… И другие, там… Разговор всегда заканчивался одной и той же фразой: «Вы гордец, вы настоящий [язычник]». Можно было подумать, что дом в своих недрах выпестовал разрушителя, настоящего Атиллу… Сейчас впервые Бернис ощутил, что в бельевой обитала истина, маленькая, хрупкая, белоснежная и безукоризненно подлинная, как волшебные сказки детства. Но и эта истинность крахмальной белизны, которой истово служила та, что лишилась даже имени и была лишь служанкой, готова была исчезнуть.
* * *
Начинало темнеть, и дом задраивали. Делалось это тщательно и поспешно, будто по сигналу тревоги, будто в крепости менялись караульщики. Служанки разбегались по комнатам и закрывали ставни, за двадцать лет они привыкли закрывать их. «От воров», — говорила бабушка. От убийцы-железнодорожника, лет десять назад ночь стала смотреть на дом его страшными глазами. Бернис возвращался из колоний, где жили люди разных национальностей, где спали, не запирая дверей и окон, где дома наполнялись звездами. Его удивляли тяжелые железные засовы, которыми запирались от ночной тьмы. Будто на корабле, будто опасались малейшей протечки. Грузная госпожа Бернис, неукоснительно исполняя свой долг, тяжелым шагом обходила коридоры, гостиные, спальни, так капитан перед отплытием судна удостоверяется, что нигде нет ни капли воды. Все замечали наступающую тьму, но не замечали, как ветшают [ковры]. И только утром служанки распахивали ставни навстречу солнцу, ставили на поднос молоко и мед…Дядя и полковник
Жак Бернис вышел на крыльцо, стоял и смотрел на деревья в парке. Недавно прошел дождь. Зеленые купы неподвижно застыли в неподвижном воздухе, будто подводный лес в глубинах вод. А как аккуратны газоны, но есть в них что-то манерное, как в элегантных гостиных [неразборчиво]. Нескончаемые, бессмысленные труды. Бернис посмотрел и на каменную стену, прочно внедрившуюся в землю. Взглянул на шезлонги — гости перенесли их с яркого солнца в тень под липы. Некое прозрение, поднимаясь из глубины, медленно рождалось в Бернисе, прозрение, которое не могло посетить никого из тех, кто проводит время здесь, сидя под сенью лип. Солнце, готовясь к самому обычному из закатов, залило весь парк сияньем, будто водой, и Бернис вспомнил, что с такой же щедростью оно ласкало и скудные пустынные земли. Полковник тоже вышел на крыльцо, предложил ему выпить стаканчик, а Бернис все острее чувствовал томящую сердце тоску. — Пойду поброжу по дому… И вот оно, озарение. Бернис все понял. Он понял, как близко крушение, понял, что этот корабль изветшал и […]. Замкнутая неисчерпаемая маленькая вселенная, которая, как корабль океанским волнам, противостояла текущему времени, вот-вот пойдет ко дну. — А сами-то они чувствуют, как сильно накренились борта?.. И вдруг успокоился: цепляются ведь за условности… Дети играют в какую-то игру. Обманчивая надежда. По вестибюлю прохаживался нотариус, туда и обратно, туда и обратно. Совсем молодой человек, не без странностей. Они вглядывались в ночь, которая должна была вот-вот опуститься…
Фрагмент из «Ночного полета»
Они вглядывались в ночь, которая должна была вот-вот опуститься. Ничего хорошего ждать не приходилось. Бывают вечера, когда небо освобождается от всех, самых незаметных помарок и застывает, ясное, чистое. Тогда внизу отчетливо видна земля, темная вращающаяся пластина. А небо, и потемнев, сохраняет ту же необычайную прозрачность. Фабьен знал и другое, знал, что туман или дождь ночью мешают иной раз меньше, чем днем. Днем свет обтекает предметы, освещает землю, и сама земля тоже словно бы светится, и становится непонятно, где источник света, и тогда исчезает линия горизонта. Туман в ночном небе противостоит тьме, он будто ее отталкивает. Наметанный глаз в тумане всегда различит темную платформу земли. Но эта ночь не сулила ничего хорошего. Сахара посылала на берег горячий ветер, насыщенный песком. Воздух, который опытный пилот словно бы щупал рукой, походил на горячечное тело больного, в нем трудно было отыскать частички здоровья. Теплые, холодные воздушные потоки, болтанка, влажность — все говорило, что пошла работа, большой котел понемногу закипал, но пока летчик ощущал вокруг себя напряженное полузабытье болезни, а не явно бушующую грозу, пока все смешивалось потихоньку, земля и небо смешаются потом. Пока и Фабьен довольно спокойно управлял самолетом. Наблюдатель сзади передавал по радио короткие сообщения: «Высота триста метров, видимость средняя, курс 210, все в порядке. Пересекаем границу Сегье и Хамры». Пилот передал наблюдателю сообщение: «Во сколько зайдет луна? Видимость тогда упадет совсем». С помощью радио наблюдатель уточнил: луна зайдет в половине первого ночи. Зато из Сиснероса, места их прибытия, поступали успокаивающие сообщения: «небо чистое, видимость превосходная». И должно быть, так оно и было.
Открытие линии Набросок
Париж. Официальные лица, министр, администрация. Принято решение открыть южную линию. Тулуза. Директор подразделения главной авиакомпании получает телеграмму: «Изучите вопрос и 15 марта откройте часть линии Каса — Дакар». Суматоха, карты, главные пилоты и проч. Пилоты в служебной комнате. На стене расписание полетов и объявление : «X,Y,Z летают на линии Каса — Дакар». Небольшая комната пилота. Несколько фотографий на стене, граммофон, книги. Сидит подружка, ждет его. Он возвращается после почтового рейса, собирается рассказать о полете, но подружка подает ему записку. Принесли после обеда. «Пилот X, получивший назначение в Дакар, вылетает завтра утром». Первое чувство — ярость. Вечно одно и то же! Не ремесло, а дерьмо! Ничего нельзя предвидеть заранее… А сам уже снимает со стены фотографии…
Письма
Луизе де Вильморен[1] 1926–1933
I
Париж, октябрь, 1926 г.До свиданья, голубчик Лулу. Вечером уезжаю в Ниццу и не хочу тебя беспокоить. Надеюсь, что не слишком досаждал тебе в эти дни, хотя ты знаешь, как я рад всегда с тобой повидаться. Я верный друг, но друзей, которым я рад всегда, у меня немного. Прости, что, появляясь, даю о себе знать. Я эгоист. Если я снова приеду, а у тебя найдется время прочитать мне конец твоей истории, я приеду в Верьер[2]. Я полон любопытства, твой роман мне нравится бесконечно. Мой почти не двигается, и это меня обескураживает. Я тебе рассказывал историю о замке за семью стенами, это та самая. Но самые любимые сказки никак не даются нам в руки. Напрасно уединяешься, запираешь дверь, погружаешься в мир мечты, легенда, которую пытаешься наделить жизнью, теряет краски. А история замка, семи стен и архангела могла бы стать красивой историей и такой же сюрреалистичной, как твоя. И, может быть, она бы тебе понравилась. Ты знаешь начало: о прекрасном архангеле, который не мог опуститься на землю, потому что не умел складывать крылья. Я придумал конец, мне кажется, замечательный. Но история ни с места. Мне не надо писать волшебные сказки, лучше начну писать рассказ о самолете. Рано или поздно должно прийти вдохновение, которого все нет и нет, как только начинаешь ждать, оно исчезает. Не чувствуешь дождя, ветра , но придет день, и ты их почувствуешь. Не знаю почему, но это состояние напоминает мне общение по телефону. Прощанье наступило из-за обрыва связи, ждешь и ждешь звонка, но впустую, и надежда постепенно оставляет тебя, и в тебе тоже все пустеет. Мне кажется, сам не знаю почему, что похоже. До свиданья, голубчик Лулу. Прости, если все-таки поднадоел тебе, но мне так хотелось узнать твое мнение о тех маленьких историях, которые я пишу. Твой старина Антуан. Дакар, 23 февраля, 1927[3].
II
Вы, должно быть, не поняли, Лулу, почему я так долго молчал, но мне нужно было молчание, чтобы вызрело все, что сейчас я готов вам подарить. Сами того не подозревая, вы требуете от меня очень многого. Я возвращаюсь к вам другом детства, и даже сердцем я вам друг. Подарок, по моему разумению, только то, что даришь от чистого сердца. Во мне жили воспоминания, и я каждый день возвращался в прошлое. Оно было моим единственным богатством. Мне понадобилось время на то, чтобы вырастить сад, так что не стоит на меня сердиться. Теперь я друг, только друг. Так проще и лучше. Мне легко и весело вернуться к вам другом, голубчик Лулу. Если я и пожертвовал немалой частью себя, то вознагражден сердечным покоем и, быть может, доверием и дружбой, которыми, кто знает, а вдруг вы меня удостоите. А мне бы так хотелось забавлять вас разными историями на правах старинного друга. Лулу — пусть никто этого не поймет, — но я правда могу но собственной воле и, не краснея, просто с вами дружить. Условности мне смешны, и я очень многое понял. Я был ребенком, вы были женщиной. Ваше сердце, ваша доброта были сердцем и добротой взрослой женщины. Вы склонились ко мне, это было чудесно, но не могло длиться долго. Я не раз перечитывал свои письма и понял, до какой степени они ребяческие. Я был ослепленным мальчишкой. Конечно, вам этого было недостаточно. У меня нет фальшивого самомнения, и поэтому я всегда «пристрастен к вам» и могу к вам тянуться поверх самого себя. Можно, я расскажу вам о своей жизни? Я далек от светской жизни, Лулу, я в Дакаре (это Сенегал). В один прекрасный день у меня возникло несварение от де Сегоней[4] и Си, их снобизма и рассеянной, бесполезной жизни. И еще от того, что мне самому нечего дать, раз нет любви. Я странный тип, мне всегда нужно что-то еще. Я сказал себе: «Жизнь одна (по крайней мере, так я предполагаю), и мне будет жаль, если я потрачу ее на серую работу и светские чаи». Я вернулся в авиацию, но на других условиях. Существует линия авиапочты Тулуза — Дакар, и скоро будет Тулуза — Южная Америка с остановкой в Дакаре. Часть этой линии — примерно две тысячи километров — проходит над непокоренными землями Африки. Случались катастрофы, летчиков убивали. Воодушевления не было. Дело шло неважно. Мне поручили заняться этой линией. Не только водить самолеты, но и постараться наладить отношения с арабами и, если представится возможность, с племенами в пустыне, несмотря на риск. Я почувствовал, что богат, раз могу столько отдавать. И еще — я узнал здесь товарищество, которое куда крепче любой салонной дружбы. Мы летаем на двух самолетах. Если поломка вынуждает одного приземлиться, приземляется и второй, чтобы помочь и выручить. О товарище, что летит от тебя в ста метрах, ты знаешь: он не пожалеет жизни ради того, чтобы тебе помочь. Отдаст все, что у него есть — солнце, радость, воспоминания, — без пафоса и фразы. Из порядочности. И ты поступишь точно так же. Это ведь здорово, правда? Если бы вы знали, как я презираю тех, кто отмеряет, готовясь отдать, кто считает, отдавая. Вы меня понимаете? Мне нравится быть щедрым. И для меня существуют только щедрые — богачи, для которых щедрость сама собой разумеется. Знаете, Лулу, вы мне дороги той нежностью, которую дарили так безоглядно, я не считаю, сколького лишился — сердцу не прикажешь. И потом, если б вы только знали, как я устал от мелочных интриг, от друзей, которые то «поссорились», то помирились, от постоянно меняющихся кодов: на что мы намекаем и что подразумеваем, когда никто уже не знает, на каком он свете. Ей-богу, жизнь куда проще. По крайней мере, я предпочитаю определенность и открытое забрало. Меня сочли сумасшедшим, когда я уехал. Но, Лулу, нужно жить так, как думаешь. Люди зачастую развлекаются, думая или споря. Размышления для них безопасная забава, поскольку никак не влияют на поступки и образ жизни. Меня собирались женить, хотели, чтобы я женился на богатой наследнице и жил мирной, утешительной жизнью. Хотя и здесь, голубчик, у меня иной раз случаются приступы отчаянной меланхолии: ведь женщина — это такая нежность. А я в одни прекрасный день начну стареть, да и мое ремесло быстро нас изнашивает: я могу переломаться, изуродоваться, попасть в плен к маврам. В общем, иногда меня охватывает яростное желание быть счастливым. Именно так: яростное. И если я встречаю очень красивую женщину, щемит сердце. Может, вам захочется написать мне, голубчик? Антуан Воздушная линия Латекоэр Дакар (Сенегал) Французская Западная Африка Париж, апрель, 1929 г.III
Мне совершенно необходимо тебе написать[5]. Хотя словами мне сказать тебе нечего. Это слишком глубоко во мне, слишком переплелось со мной. И смута так велика, что ее не передать никакими словами. Но, несмотря ни на что, мне необходимо поговорить с тобой. Не потому что я надеюсь на понимание. Скорее я предпринимаю попытку, обреченную на провал. Слова. Так подбрасывают в воздух почтовых голубей, не зная, долетят ли. Но знаешь, может, посыл значим сам но себе, и он более значим, чем получение. Тебе я отдал всего себя. И теперь, может быть, по собственной воле повторно иду в рабство. Тебе измениться невозможно. Я сказал тебе, что не понимаю, но я понимаю все, понимаю, — когда ты становишься ближе, когда отдаляешься, когда приходишь ко мне, когда отправляешь меня в изгнание. Ты переменчивая погода, а я все пытаюсь погреть старые раны на солнышке. Не стесняй себя ни в чем, я прекрасно вижу то главное, что ведет тебя. Ты хочешь, чтобы тебя собрали. Мне трудно выразить тебя словами: жатва, собирающая сама себя. Я думаю о языке, это всегда сотворение мира, который мне кажется самым правдивым. «Под сенью вечно летящих голубей…» Вот так мне нужно было бы говорить с тобой, чтобы что-то сказать, опасная моя любовь. Иногда сердце во мне хмелеет, начинает потихонечку закипать. В горле щекотно от смеха. Я чувствую, счастье переполняет меня, но боюсь его заметить. Осторожно поднимаю глаза и поглядываю на свое счастье. Присаживаюсь поближе к ослепительному солнцу, подставляю спину, греюсь. Млею, как ящерка: я так долго спал… Но как опасна моя беспечность: по твоему лицу пробежала тень. Твое лицо. Потерянная мной колония. Как-то раз ты назвала меня «слабым ребенком»… Думаю, я и есть ребенок. Не умею строить, не умею владеть. Боюсь, что не узнаю свой дом. Старину Берниса, своего приятеля, я отправил умирать в пустыню, потому что дома он так и не нашел. А вот эту фразу, светлую и безнадежную, я люблю больше всего на свете. «Мое короткое жаркое грустное и блаженное лето». Я верил, что оно вернется. Вот. А мне много не надо. Скромный завтрак поздним утром в день отъезда. Вот. После этой минуты нежности говорю себе: вот он, мой скромный завтрак. Моя единственная любовь. Я знаю, что прожить со мной жизнь невозможно. Я слабее домов, деревьев, всего, что построено. Гораздо слабее. И я так предусмотрительно увел подальше от всего этого своего Берниса. Лучше ли то, что я дал ему взамен? Он врезался в звезду. Этого слабого ребенка я оставил на плато в Сахаре, вы такого не видали, оно похоже на огромный стаи под звездами. Звездами, падающими вниз. Но все начинается сначала. Узнаю счастье, узнаю весну и свою тоску. Узнаю слова, которые хочу сказать. Испуг разбуженного ребенка, он испугался раньше, проснулся и вспомнил об испуге. Любимая моя, не пугайтесь: я разговариваю сам с собой. Любовь много больше меня. Мне нужно ее рассказать. [Антуан] Париж, апрель, 1929[6] г.IV
[…] Я нуждаюсь в прощении, у меня захмелело сердце[7]. Я сердит на себя, что не сумел удержать все в себе.[…] И все же будь уверена, голубчик Лулу, что я никогда больше не буду говорить с тобой об этом. Я вовсе не хочу сказать, что забуду тебя — думаю не без грусти, что это невозможно. Но видеться с тобой я больше не буду, сама того не желая, ты причиняешь мне слишком много боли […] Говорю тебе это без горечи, клянусь. Я досадую на любовь, похожую на затяжную болезнь, и не знаю, в самом деле, досадую или нет, потому что она лучшее, что у меня есть. Но встречи для меня опасны: покажется, что меня оделили капелькой нежности, и сердца не унять. […] И все-таки мне бы хотелось писать тебе время от времени — хотелось бы, чтобы ты отвечала[8]. Уверен, ты тоже этого хочешь. Еще хочу почувствовать тебя надежным другом. Может, и ты хочешь этого? Меня ты можешь просить обо всем, ты знаешь. Любую жертву, в любую секунду. Я не пытаюсь уверить тебя, что это с моей стороны большой подарок, потому что я никогда тебе по понадоблюсь, но, быть может, это чуть меньше одиночества в миг, когда очень одиноко. И я всегда прощу тебе все, пусть ты даже делаешь мне очень больно. Поверь, и это я говорю без желания убедить тебя в собственном великодушии: если я омрачу твой образ, что у меня останется? Ты навсегда неприкосновенна. […[9]] Там я опять заживу кипучей жизнью, и буду мало похож на слабого ребенка, которого ты знаешь.[…] В эту ветхую одежду я ненадолго ряжусь, попав сюда. И снова поспешно мужаю, становясь немного варваром, немного завоевателем. […[10]] Но как узнать, что ты думаешь о написанном. Мне хотелось бы показать и то, что я написал для тебя. А вдруг ты рассердишься? Антуан[11]V Порт-Этьен, 29 августа (1931)V
Мне бы так хотелось знать, что ты думаешь о моей книге[12]. Нет сомнения, что она тебе не понравилась, раз ты мне не написала. Когда мы с тобой разговаривали по телефону, я понял, что ты еще ее не прочла, и не хотел тебя торопить. Потом я не смел тебя беспокоить, потому что ты родила ребенка[13]. И я уехал. До сегодняшнего дня я все надеялся, что книга хоть немного, но все-таки тебе нравится. Если я подарю тебе вторую, то непременно надпишу. А эту не мог, было бы неделикатно, Лулу. И я не знал, как будет для тебя лучше. Уверен, что ты меня понимаешь. Счастливо, Лулу, напиши хоть словечко. Антуан Генеральная компания Аэропосталь Касабланка Перпиньян[14] (ноябрь. 1933)VI
Лулу, милая, сегодня я получил твои письма от 5 и 11 марта, чувство неизъяснимое. Я не получал от тебя признаков жизни с твоего отъезда. Когда уехал И., я по части писем все уладил, но не пришло ни одного. И я боялся потревожить твой покой, раз ты предпочитаешь молчание. И ведь не радостно получить письмо, которое всего-навсего ответ, к тому же вынужденный. А сейчас я так остро и так чудесно чувствую твое присутствие в себе. Спасибо! Но знаешь, Лулу, я понял, что не умею писать тебе. Возле тебя я умею только молчать. Представь себе лес, поле, реку, все говорит — вода, птицы, листва. И вдруг наступает тишина. Необычайная. Мне всегда кажется, что в этот миг незримый хозяин спускается в свои владения, стопа его касается травы, и кузнечики от волнения замирают, затихают потрясенные птицы. Почтительно стихает ветер. Ничто не шелохнется. И со мной происходит то же самое, стоит тебе приблизиться. Моя нежность, желания, сожаления — все замирает. Замирают образы , что рождаются во мне, — я принимаю тебя всем своим существом. И боюсь в то же время, боюсь, что ты подумаешь: как здесь тихо! Мне скучно в этом королевстве, ручьи здесь знают слишком мало песен. И медленно уходишь, задевая подолом платья траву, а трава замерла потому, что прикоснулась к твоему платью. Ты не знаешь, в каком отчаянии будут потом кузнечики: она не слышала, как мы стрекочем! Птицы: она не слышала наших песен. Ветер: она не узнала моей силы. Моей своевольной ярости. Жалуются, переговариваясь все, по стоит тебе приблизиться, вновь замирают в молчании. И от этого мне так больно. Я посылаю тебе две написанных мной вещицы. Любопытно, но я все острее ощущаю, что в жизни я не прижился (я не хочу сказать, что высказываю именно это) и поэтому не то чтобы лучше все вижу, но как бы со стороны. Мне всегда кажется, что я наблюдаю за игрой, не всегда понятной, иной раз красивой, но я только наблюдаю. С каждым днем растет во мне равнодушие к оценкам, одобрения , неодобрения мне неинтересны. С каждым днем я все безразличнее к тому, что думают обо мне. Мне кажется, часть меня уже отлетела. Так мало людей, которые могут заполучить меня обратно. Ты можешь, Лулу. Как ты ощутимо весома! Скажешь, понравились ли тебе мои вещички, одна не опубликована, много времени они не займут. Прочитай, ради меня. Теперь, как я живу. Я испытываю образцы самолетов завода Латекоэр. Это небезопасно, но и к опасности я с каждым днем все безразличнее, не потому что грущу, а потому что странным образом чувствую себя наблюдателем, жизнь кажется мне такой преходящей (почему, я и сам не знаю, но не могу ни во что поверить всерьез). Да, вот так обстоит дело. Ты мое единственное нетерпение. Кроме тебя, все мимо идущие люди оставляют легкое ощущение горечи, кажется, они могли бы поделиться большим… Платят за мою работу мало (семь тысяч в месяц), так что в долги особенно не влезешь. Хотя вполне возможно, я скоро уеду в Венесуэлу, где мне обещают много золота. А еще я пишу книгу, медленно, она трудная, но я ее пишу. Если с Венесуэлой получится, я смогу подарить тебе твое путешествие. Однако жизнь устроена невесело, ты уедешь, и я тебя не увижу. Но мне было бы так радостно тебе помочь. Если не получится, не знаю, как будет дальше. Хотя кое-какие денежные поступления возможны. Но только возможны. В общем, посмотрим, может, и нам в конце концов повезет? Но если все так пойдет и дальше, как идет с июня, то поверь, Лулу, я буду еще несчастнее тебя. Теперь моя очередь извиняться, что я так говорю с тобой об этом. Хотя странно и смешно нам с тобой извиняться друг перед другом. Все наше происходит совсем не в этом сером мире. Скажи себе на ушко перед сном сегодня вечером, что кто-то любит тебя. Антуан До востребования, Тулуза, От-ГароннБенжамену Кремьё 1931
I
Касабланка, 1931 г.Дорогой друг[15], несмотря на вашу нелюбовь к самолетам, путешествие, быть может, заинтересует мадам Кремьё, и вы побываете в Марокко. Думаю, я сумел бы достать для вас билеты, и мы с большой радостью приняли бы вас у себя. В Касабланке мы проживем несколько месяцев[16]. По разным причинам я решил вернуться на юг и какое-то время возить почту на линии Касабланка — Дакар. Старая моя Сахара нисколько не изменилась. Нас вздергивают вверх, как когда-то, и, как когда-то, мы блуждаем в тумане ночью: только что я пережил такую, после которой ночь, описанная у меня и книге, просто игрушки. В эту ночь я много думал о критике Бразияка и хочу поделиться с вами своими мыслями, а потом вернусь к разговору, который был у нас с вами в Буэнос-Айресе. Начнем с того, что мне не понятно, почему Бразияк отказывает автору в праве писать о своем ремесле. Допускаю, что девять из десяти романов о профессии могут быть скверными, но скорее всего потому, что обычно девять романов из десяти вообще не так уж хороши. Возможно и другое: бывает, что документальная ценность книги так велика, что она выходит в свет, несмотря на сомнительность своих литературных достоинств. Но ведь в данном случае не ремесло сковывает владеющего пером литератора, а профессионала подводит неумение писать, из-за чего об искусном в своем деле человеке судят превратно среди писателей. И если кузнец Бразияка пишет о наковальне очень посредственную книгу, то не потому — Бразияк признает это сам, — что он кузнец, а потому что читает низкопробные авантюрные романы. И хотя любовь не профессия кузнеца, он, начитавшись Рокамболя, напишет о любви не лучше, чем о наковальне. И почему должно быть по-другому? Разве профессия — это не набор умений, позволяющих человеку зарабатывать себе на жизнь? И почему если эти умения приносят доход, они непременно лишают человека возможности их описывать. Почему им свойственно бесплодие? Разве для того, чтобы воспевать любовь, нужно стать евнухом? Пруст мог наблюдать за жизнью немолодой дамы, анализировать свое отношение к ней и написать шедевр, потому что созерцал старую даму совершенно бескорыстно (не был ни жиголо, ни наследником), а я, общаясь во время полета со своим радиотелеграфистом, от которого зависит моя жизнь, не могу сообщить о своих чувствах ничего интересного, потому что в конце месяца получу зарплату, так, что ли? Каменщик не имеет права говорить о стенах и должен молчать. Но и критик тогда должен молчать о прочитанной книге. Я уверен, что ремесло тут совершенно ни при чем. Если моя книга плоха, то не из-за моей профессии. А вполне возможно, из-за «литературщины», как ее именует Бразийяк. Вот о чем я думал во время полета. И хотел бы с вами об этом побеседовать. […]
II
Дружище, как вы там? Мне бы очень хотелось узнать ваши новости… Надеюсь, вы о нас не позабыли и порадуетесь нашим. Сейчас мы в Касабланке. Я просил и получил разрешение несколько месяцев возить почту на линии Касабланка — Порт-Этьенн на отрезке Рио де Оро, потому что когда-то мне очень нравилась эта линия. Я нашел мало перемен: Сахаре трудно измениться, маврам еще труднее. Зато полеты каждый в особицу. Что говорят о моей книжке? Только что прочитал статью Бразийяка в «Аксьон франсез», пересказывать не хочется, лучше вложу в конверт. Свои предположения критик берет с потолка. Можно ругать мою книгу, можно обсуждать недостатки, это естественно, но зачем делать из меня последователя Тагора, которого я терпеть не могу? Сходства с Тагором у меня столько же, сколько с юной балериной. Что в моем Ривьере восточного? И почему нельзя писать о своей работе? (А Конрад?) Мнение мне кажется несправедливым, но моя книга почему-то должна подтверждать именно его. Я-то считаю, что любая работа — это прежде всего опыт. Работа и опыт как таковой различаются только тем, что за работу тебе платятденьги, но разве я писал о деньгах? Неужели о любви должен писать евнух? Если писатель влюблен, он находится по отношению к любви в том же положении, что и я по отношению к авиации, когда летаю на самолете. Или, может быть, нельзя путешествовать, если хочешь описать Африку или море? Может быть, мадам Кремьё никогда не испытывала сочувствия, материнской нежности и поэтому так трогательно их выражает? Я не принимаю этих теоретических построении, они кажутся мне страшной натяжкой. Мое мнение об атмосфере в доме, обстановке, убранстве, о красивой девушке может быть интересным только потому, что мне не заплатили денег за то, что я вошел в дом, обвел взглядом гостиную, заметил девушку? Мое отношение к самолету, звезде и радисту вовсе не работа, деньги я получаю за то, что ориентируюсь но звездам, управляю самолетом, жду от радиста помощи. И когда Бразияк пишет о кузнеце, который решил стать писателем и весьма цветисто описывает свою наковальню, он сам отмечает, что не ремесло кузнеца вдохновило его на писательство, а газетные романы с продолжением. Литераторы — чудесные люди, сидят себе в кабинетах, никогда не выходят за порог и тем вернее чувствуют себя властелинами мира, завладев даже сердцами маленьких негритяночек, которых увидели на фотографии, — или лучше не видеть и фотографий? Ведь это уже опыт, почти работа, зарабатывание денег тяжким трудом разглядывания фотографий. Но всерьез Робер Бразияк задел меня рассуждениями о литературе, образности и поэзии — клянусь, в моей книге нет надуманных, идущих от головы образов. На мой взгляд, образ обладает особой ценностью, поэтому я считаю его употребление правомерным, образ — это возможность передачи без долгих объяснений самой сути органического впечатления, ощущения, атмосферы; иначе, для того чтобы передать это впечатление, нам пришлось бы восстанавливать всю обстановку в мельчайших деталях, что невозможно. Само собой, я пользуюсь самыми разными способами выражения. Образ может быть грубым или поэтичным, может окрасить особой краской все повествование. Если самолет блуждает в ночи и летчик вынужден ждать рассвета, чтобы узнать свою судьбу, — я помню немало таких ночей, — я вправе уподобить темноту воде, которая постепенно убывает и наконец открывает землю, потому что суть происходящего именно такова. Главное, что летчик вынужден стать зрителем, не важно, за чем он наблюдает — за водой или темнотой, — не в его силах воздействовать на процесс, который неспешно течет сам собой. Состояние сродни тяжелому похмелью, когда невозможно ничем себя занять. Если бы вы часто летали на самолете, вы бы тоже знали, что потемки все «упорядочивают». Господи, боже мой! Да это же чистая правда! Каждая группа обособляется — что же тут непонятного? — днем дома разбросаны по равнине, в темноте они стали деревней, особенной, очень близкой к абстрактному понятию «деревня». Ночью деревня — символ, пятно света на равнине, ставшей символом равнины. Причин на такое восприятие много: сгущение теней, которые подчеркивают контур крупных объектов, обводя их словно бы кругом, четче очерчивая, отграничивая, выделяя, исчезновение всех других, более мелких деталей. Но каковы бы ни были причины, картина такова, и эту подлинность нужно передать. Шествие домов, что медленно и безразлично течет днем, вечером совершенно меняется, они обретают другой облик, и, чтобы передать его , я имею право написать ту фразу, за которую меня упрекают. Не могу же я пускаться в долгие объяснения, как играют тени, меняются цвета , чтобы воссоздать поразившую меня картину, тем более что от долгих объяснений только спать хочется. Обо всем этом я размышлял позавчера. Позавчера я прожил самую тяжкую ночь в моей жизни. Та, что описана у меня в книге, по сравнению с этой безопасная прогулка. А поскольку я только что прочитал Бразияка, то я повторял про себя: «Господи! Если я выпутаюсь, как я смогу передать другому то, что испытал я (я не думал о литературе, а просто о разговоре с другим человеком). Объяснить это пилоту не представляет труда. Достаточно обозначить те условия , в которых я находился, и он уже сам объединит все в эмоциональную картину, зная, что чувствовал сам в подобных условиях. Ему бы я сказал: горизонт исчез [неразб] на нуле, и радиопеленгатор врет». Но вы никогда не водили самолет. Вам я не сказал ничего.[…] Если язык моего рассказа не будет образным, он неизбежно будет техническим. Универсального языка не существует, и поэтому мне вначале придется объяснить множество вещей, которые мне потом понадобятся. И к чему сведется моя история? Неужели к изучению правил игры, которые сначала подвели меня, а потом спасли, словом, к правилам управления самолетом? Или к рассказу о том, что запечатлелось внутри меня, что во мне происходило и что единственное может подействовать и на вас тоже, так как будет передано не утомительными тяжеловесными объяснениями; а насыщенными чувствами и эмоциями образами. В этих образах-символах, которые вобрали в себя все, что необходимо передать, нет ничего специального, технического, и они окажутся для вас внятными, обратив вас к вашему собственному опыту, став той точкой зрения, с какой и вы можете смотреть, сделавшись и для вас естественным языком, словесным и чувственным.Робер Бразияк (Антуан де Сент-Экзюпери. «Ночной полет») Аксьон Франсез, «Иозри лшперер», 23 июля, 1931.
Книгу Антуана де Сент-Экзюпери стоит прочитать, произведение весьма любопытное. Это и размышление о Начальнике, и рассказ о полете на самолете. Г-н де Сент-Экзюпери известил нас в предисловии к своей предыдущей книге, что он находится на службе в компании Аэропосталь, летал в Рио де Оро, выполнял опасные задания. Он летчик всерьез, не просто так, какой-нибудь литератор, что сразу порадует тех, кто любит профессионалов, хорошо знающих то, о чем они пишут. — и тем больше они будут удивлены впоследствии. «Ночной полет» не роман. Это рассказ об одном из путешествий, которые каждую ночь совершают летчики Аэропосталь, пролетая над равнинами Южной Америки и Андами. Пилот Фабьен погибает в циклоне. Книга рассказывает нам о полете и о размышлениях Ривьера (он и есть Начальник), об опасностях, на которые он посылает подчиненных. Начальник — фигура необычная. На протяжении книги он размышляет о своем долге, который состоит в жестокости. О вынужденной жестокости г-н де Сент-Экзюпери написал самые проникновенные страницы: «И все же, хоть человеческая жизнь дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?..[17]» — размышляет Ривьер. Быть начальником значит совершать насилие, и требует этого технический прогресс. «Стоит ли мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ривьер вынужден проявлять жесткость, он выглядит бесчеловечным, знает, что без жестокости ему в своем деле не обойтись, но он не верит, что его дело обладает безусловной ценностью. У этого начальника душа восточного человека. Я уверен, что он читал Тагора. Как бы ни был умен Ривьер, он никогда не возвысится до идеи, что ценность машины, самолета, моста, денег далеко не механическая и не техническая, что она может (я говорю «может», а не «должна») по мере развития общества стать ценностью гуманной. Поэтому Ривьер сомневается. Поэтому он фигура в чистом виде книжная. Жестокость начальника понятна, если он — деловой человек и ценит в первую очередь свое предприятие или, напротив, верит, что важнее всего дело. Для Ривьера ни то, ни другое не главное, он жесток, и жесток даром. Даром. Любимое слово господина Жида. И действительно, господин Жид написал к этой книге предисловие. Скажем прямо, что в этой любопытной книге немало от Жида, в первую очередь от Жида-писателя. Разберемся поподробнее. Богатство этой книги, ее щедрость вызывают восхищение. Описание циклона, и в особенности необычайного покоя, охватившего пилота Фабьена, уже знающего, что он обречен на гибель, и поднявшегося над грозой на высоту семь тысяч метров, несравненны. От начала и до конца нас завораживают простые и мощные картины. Вот наугад одна из них: «Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он Совершает неторопливую прогулку, что он пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу, он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах». Очарование этой картины несомненно, но натуральна ли эта картина? Кто описал ее: летчик или литератор, который никогда не покидал своего кабинета? Мы склонны верить, что все-таки литератор. И узнав, что господин Сент-Экзюпери профессиональный летчик, мы крайне удивлены. Как-то Ривьер заговорил с летчиком, тот «говорил о своем ремесле просто, говорил о своих по летах, как кузнец о своей наковальне». Но если в один прекрасный день кузнец и в самом деле напишет книгу о наковальне, то это уже будет «литература». Он напишет книгу о наковальне в стиле романов с продолжением из своей любимой газеты, и его книга покажется нам фальшивой, изобилующей красивостями, а главное, совершенно нежизненной. Именно потому, что это его ремесло, кузнец не сможет просто говорить о наковальне. О наковальне просто расскажет кто-то совсем другой, кто не будет кузнецом. И в какой-то мере то же самое происходит с господином де Сент-Экзюпери. Он говорит о самолете совсем не просто, он говорит о нем весьма пышно. Пользуется всеми ухищрениями современной литературы, «творит поэзию», а просто о самолете, вполне возможно, напишет господин Жид, потому что он на нем не летает. Если совсем не знаешь ремесла, оно для тебя удивительно. Если знаешь его слишком хорошо, хочется его приукрасить и возвеличить. Если бы Костес написал роман об авиации, в нем было бы столько же дурновкусия, сколько в песнях о «его даме». У г-на де Сент-Экзюпери вкус куда лучше, но происходит с ним примерно то же самое. Вот почему его книга, сверкающая изумительными литературными красотами, представляет собой столь любопытный документ. Она для «утонченных» . Это не книга авиатора и не книга литератора. Это нечто среднее. Представьте себе рассказ о полете Ассолан-Лафкадио или о путешествии Костаса и Меналка.
Письма к Ивонне де Лестранж[18] 1931
1
(октябрь, 1981)На всякий случай посылаю тебе книжку для доктора Хейц-Боера[19]. Хотя, может быть, он уже получил ее от Трефуэлей? Оставив в стороне познавательный интерес, который не имеет никакого отношения к моей книге[20], напиши мне, она нравится? Я нахожусь слишком далеко, чтобы понять, как обстоит дело. Тебе, наверное, кажется, что я в унынии. Беда в том, что все, что я здесь делаю, меня больше не интересует. «Знаю все наизусть». Точнее, мне нечего узнавать. Мне бы очень хотелось куда-то отправиться, узнать что-то новенькое или немного отдохнуть. Недавно в «Нувель литерер» от 3 октября прочитал хорошую статью о Ганди (Андре Суарес). Она показалась мне такой точной, что мне хочется, чтобы и ты ее прочла. Кажется, имеет смысл пересмотреть все, что наговорил нам Ромен Роллан. Суарес считает, что мораль — это первичная точка зрения, точка зрения примитива, и это правда. (Слово «примитив» несет и уничижительное значение.) Мысли Жида совпадают во многом с тем, о чем я размышляю все чаще и чаще и что хотел бы высказать тебе как можно отчетливее, но, к сожалению, мне и самому не все пока ясно. Беру за основу мнения Жида, потому что ход его размышлений мне ближе всего. Я хотел бы понять его отношение к неграм[21]. На каких основаниях он примет негра как равного и, без сомнения, отшатнется от дядюшки Юбера[22] (и будет прав). Я уже знаю, почему он (и я тоже) возненавидел существующую систему колонизации: потому что она делает из негра дядюшку Юбера и никогда Жида. Бамбарец пленил Жида подлинностью реакций, бамбарец глубоко человечен, потому что его язык не ведает переносных значений. Он не располагает особой лексикой, с помощью которой морочит себе голову относительно собственной чувствительности. У бамбарца немного чувств, и они просты. (Сложность чувств, которую мы вновь и вновь обнаруживаем в каждой новой расе, кажется мне иллюзорной. Наш язык сложно передает чувства, но аборигены их так не формулируют, эта сложность для них не существует. Сложности упрощаются, когда язык прост.) (И вообще, мне кажется бессмысленным говорить о простых или сложных чувствах, чувства просто «есть». Сложны или просты слова, с помощью которых мы передаем их, в зависимости от разработанности собственного словаря.) В общем, я понимаю, что подлинность чувств негров, их искренность растрогали Жида, толпа черных умнее толпы в пригородном кинотеатре. И здесь у меня среди мавров то же самое, они никогда не шокируют меня «глупой» фразой, как случается с европейцем. И я прекрасно понимаю, что Жиду не нравится колонизация, которая «цивилизует» негра, навязывая ему мораль, алкоголь и глупость, и все-таки главная проблема в другом: считает ли Жид негра таким же человеком, как он сам? Конечно, нельзя остаться равнодушным, обнаружив что-то от самого себя в столь несхожем с тобой существе. Если я увижу, что негр сорвал для женщины цветок, то этот заурядный поступок изумит меня и растрогает, как неожиданное слово нашего общего языка. […] В конечном счете, похоже, Жид подспудно дает один-единственный совет: оставьте негров неграм и уходите. Не желая открывать им двери и учить в школах белых, которые не представляют для них никакой ценности, он защищает их, как защищал бы газелей, которых уничтожают. Получается, что в иерархии природного мира негры для нас что-то значат и ничего не значат в иерархии людей. Проблема колоний неразрешима. Как уйти, если считаешь себя существом высшего порядка? Если десять тысяч негров работают ради одного Декарта? Уважительное отношение к человеческой личности — обман, если есть люди высшего порядка. Все уважение достается им. Но я бьюсь над другой, еще более существенной проблемой, именно ее и хочу сформулировать: мне кажется, что уважительное отношение к личности и в случае негров, и шире — при демократическом строе вообще — приведет к разложению этой личности, в чем не отдают себе отчета те, кто так ревностно ратуют за уважение (Дюамель, Ромен Роллам, Бенда и сотни других). Более того, мне кажется, что современная социальная наука представляет собой реальную опасность для того единственного человеческого типа, который мне интересен. Уважение человеку никак не поможет, если мы не поймем, какого мы уважаем человека, а точнее, что в человеке уважаем. Немалое число понятий, которые чтили в 1830 году, кажутся нам устаревшими, потому что мы смотрим на них со стороны и видим, как условны те условности, которые их породили, но тогда они не нуждались в обоснованиях, ими просто жили. И я допускаю, что исчезновение некоторых других, значимых для нас сейчас, условностей поведет к исчезновению других понятий и чувств, например, чувства стыда или обесчещенности. И сейчас для нас множество положений потеряли свое неудобство. Хотя мы пока не лишились чувства стыда, чувства трагического или общественного пафоса. Представь себе, что Стендаль творит в наши времена, думаю, от его чувств осталась бы одна четверть. Мне кажется, что великое царство демократии, поощряя неуважение к привилегиям, наследию, религиям, иерархиям (не политическим, а родовым), уничтожает многообразие языков. Ополчается оно и на роскошь в наиболее любопытных ее проявлениях, ничего не имеющих общего с комфортом. И заменяет все однообразным, техническим, практическим языком. Разве не на таком языке говорят Соединенные Штаты (недавно я познакомился с экзаменационными темами их университетов)? Разве не таким будет язык в России через двадцать лет? (Касабланка, 1931)
II
Привет, старичок[23], жалею, что в прошлом письме рассказал тебе о том, что произошло. На бумаге все стало значительнее, чем на самом деле. Но я очень огорчился, что мама рассказала об этом Консуэло (без имени отца, которого не знала), а я и не подозревал, что она вообще что-то знает. Я привык считать, что моя семья уважительно относится к чужой свободе. И все, что произошло, мне было до крайности неприятно и страшно разочаровало. Всякий раз, когда я вижусь со своими, я чувствую, что пропасть растет. А мне бы хотелось уживаться. Печально, что некоторые люди становятся дня меня такими же чужими, как чужды рыбы млекопитающим. Нет возможности общаться. А знаешь, за что я все больше и больше ценю Жида? За то, что он постоянно и прежде всего общается. Что до меня, я странным образом меняюсь. Отхожу все дальше от демократии и… в обществе, сходном с обществом Лестранжей, восхищаюсь тем, что когда-то меня отталкивало. Идеал человека, рожденный почти что религиозной верой в существование прирожденной элиты, перестал мне казаться ложью. Разумеется, ошибочно считать отличительным признаком элиты титулы предков, нажитое богатство или положение в обществе, но есть правота в ощущении кожей множества разных человеческих пород, человеческой неоднородности. […] Колонизация, приносящая алкоголь и тяжкое отупение, мне не нравится, но еще меньше нравится колонизация, приносящая идеи. Я не обрадуюсь, если, усвоив новые идеи и надев новые костюмы, они уподобятся нам, не умилит, если увижу, что они так же, как мы, подвластны чувству любви (не так же, совсем по-другому), нет, во мне не возникнет чувство, что передо мной обретенные братья.* * *
При демократии неизбежно утрачиваются особенности людей. Те самые, которыми человек отличается от окружающих, противостоит, что-то глубоко индивидуальное, ненормативное. Неправда, что демократия встала на защиту личности, которую подавляла власть, что способна дать пищу чувствам, какую давали когда-то религии. Нет ничего более жесткого и безжалостного для индивида, чем род. В политике, например, власть одиночки можно увидеть как борьбу индивидуальности с массами. Одиночка — представитель индивидуального. Он вычленяет и поддерживает особенное, а не присущее всем. Но как только власть переходит к виду, что, по моему мнению, и есть суть демократии, он будет уничтожать индивидуальность ради малоинтересных общих задач, будет действовать жестоко, безжалостно, потому что жестокость тоже в природе человеческой. С помощью выборов демократия избавляется от определенного вида несправедливости, но ее справедливость в конечном счете несравненно более жестока. Жестокость к тому же применяется во имя целей, которые мне совершенно неинтересны. Мне нет дела до биологического или механического (та же биология) выживания вида. К тому же трудно сказать, что выживание в биологии обеспечено разумными средствами. Эти средства безжалостны в силу несогласованности и в то же время неизбежности процесса. Так стоит ли обожествлять биологию? Быть человеком значит действовать не биологически. Никуда не годится прогресс, который, избавляя нас от несправедливости, приводит к улью или муравейнику. Не годится Россия, которая ради того, чтобы покончить с множеством несправедливостей, обрекла всех на жертвы, лишенные величия, на дисциплину улья, на бесчеловеческое. Я хотел бы знать, по какой причине господин Бенда считается «демократом», его книги обличают не столько «предательство грамотеев»[24], сколько европейскую демократию, ту демократию, которая осуществилась в России, где все грамотеи по определению стали предателями и не могли не стать ими, где превратили людей в муравьев. Я думаю, что греческий геометр был не так жесток, как бамбарец, что выживательный и стадный инстинкты в нем ослабели, так что он много с чем расстался по сравнению с пещерным человеком. И вот теперь под видом социологической науки нам опять навязывают пещерные ценности вместо интеллектуальных и духовных. И вот вам, пожалуйста, осуществление — Северная Америка, с идеальной гигиеной, комфортом и тупостью. Это совмещение не случайно, это две стороны, неизбежно присущие прогрессу демократии. (И я хотел бы понять, почему господин Дюамель демократ?) Для меня несомненно, что все самое интересное в человеке с точки зрения вида анормально. И богатство, которое он получает, благодаря владению языком, тоже. Дядюшка Юбер, великолепны!) В пещерные времена, теперь на нижней ступеньке из-за того, что чужд языку, зато в гостиной Жида и в твоей благодаря языку открывается столько тонкостей, наблюдательности, драгоценной игры ума, интеллектуальных радостей. При этом мы наблюдаем, как вид последовательно изничтожает многообразие языков, точнее, изничтожает возможности многообразия. Я спрашиваю себя, кто станет «идиотом» в глазах людей, проживших пятьдесят лет при коммунизме. Изменится и суть любви, утратив привнесенные языком нюансы, возникшие благодаря условностям, которые сами по себе тоже являются языком. Это происходит у нас, сегодня. Прекрасный тому пример — помолвка.III
(Порт-Этьен, 1931)
Милый старичок, все эти дни я думал о стольких вещах, которые мне не ясны, что мне захотелось их немного прояснить, беседуя с тобой. Я растянулся на кровати у себя в Порт-Этьене рядом с небольшим книжным шкафом и от нечего делать вытаскивал оттуда и листал всевозможные журналы. Технические, касающиеся самолетов, научно-популярные вроде «Науки и жизни», хронику наподобие «Детектива», словом, конался в привокзальном развале. Не сомневаюсь, что, проведя полчаса перед стеллажами издательства Ашет, я не без некоторой подавленности ощутил бы то же самое — обожествление машины, — хоть и не выраженное столь откровенно. Я почувствовал его так явст венно, что удивился, почему социологи до сих пор не учитывают этой реальности. Час за часом я странствовал от плотины в Турции к генератору переменного тока в Аньере, потом к новым нефтяным скважинам. Передо мной возник целый мир, некоторое могучее единство, и у меня было твердое ощущение, что оно управляет нами, а не мы им. Каждое новое открытие живет своей жизнью, отстранив человека. Человек совершает открытие, но не становится ему хозяином. Согла сись , судьба дизеля вовсе непредсказуема (так же, как пара, нефти), хотя создавалось это вроде бы для человека. И вот наряду с биологией и ее динамикой возникает биология машин, и она не может не воздействовать на человека. Именно это ощущение и томило меня на каждой странице. Мне казалось, что человек лишь присутствует при рождении нового мира, он свидетель, а не свободный творец, который созидает его по собственной воле. Меня угнетало ощущение неотвратимости. Возникло чувство, что рождается нечто подобное новой религии, которая внедряется и распространяется сама собой.
А вот что я думаю о как таковых документах и фактах в чистом виде. Они представляются мне вообще обесчеловеченными. Любой случай, событие — только единица статистики, только среднее арифметическое. Согласись, событие, в котором участвует человек, содержит в себе как бы два слоя. Цепочку фактов, о которой я еще скажу и которая не имеет никакого значения (разве что статистическое), и некое человеческое переживание, не совпадающее с фактами. На основе этих переживаний возникают произведения искусства, в них таится драматизм. Объясню на примере статьи об убийстве из «Детектива». Начинают с маршрута, проделанного убийцей, сообщают способ, каким оно было совершено, возраст и пол преступника, потом добавляют какие-то психологические детали, которые вроде бы имеют отношение к убийце как к человеку, но и они статистические, они «предшествовали», и ты чувствуешь их искусственность, понимаешь, что главного нет. Понимаешь, что и автор статьи это чувствует и собирает все эти частности, угнетаемый безнадежностью. Но чем больше набирает он подробностей, чем больше показывает фотографий, тем дальше удаляется от того, что на деле происходило. Подлинная история не имеет ничего общего с этими фактами — они всего лишь символическая, возможная оболочка. Подлинная история, которая всерьез угнетает душу, это история, как шаг за шагом двигался убийца, ощущения, какие возбуждали в нем эти шаги, смута, которая в нем поднималась, ожидание на лестнице, беспокойство из-за света фонаря, то физиологическое состояние, которое было не страхом вообще, а страхом, какой испытывал он.
Критику 1931
[…][25] Легкость, которая вновь ко мне вернулась, была мне необыкновенно дорога. Но откуда взять снисходительность, если я, сбившись с маршрута, блуждал во мраке, потеряв ориентиры, если кончалось горючее, и я принимал мерцание за звезды, за планету Сатурн, обманываясь десятки раз? Подумайте сами, могу ли я быть любезным, когда, чудом избежав падения в море, дотянув до посадочной полосы, я иду на радиогониометрический пост, чтобы поговорить с оператором, по чьей вине я так натерпелся? Но вернемся к моему Ривьеру. Я вовсе его не «пристраивал». Скорее всего, я недостаточно ясно выразил то, что было для меня крайне важно. Дело не в герое, подвел язык. С годами я все явственнее ощущаю пропасть, которая лежит между теоретическими воззрениями на человека и житейской практикой. Я вижу, что существуют два этих плана, оба они очень значимы, но между собой несовместимы. Когда Ромен Роллан провозглашает: «Пусть этот мир погибнет, но мы не потерпим ни малейшей несправедливости», он прав, и его порыв прекрасен. Но переведи мы этот порыв на житейский план, и он покажется идиотизмом. В жизни говорят по-другому: «Мы готовы перетерпеть сотню несправедливостей, лишь бы остаться в живых». Был период, когда у нас постоянно летели шатуны, настоящая эпидемия. Механики могли бы сказать: «Мы тут ни при чем. За добротность металла мы не отвечаем!» Но как только с механиков стали брать штраф за поломку, число поломок уменьшилось на две трети. При этом определить, какой именно шатун сломается, независимо от усилий механика, невозможно. А ведь штраф в этом случае несправедлив. Но что тут поделаешь? Здесь Ромен Роллан не годится. С другой стороны, мне отвратительно компостирование мозгов фальшью. Мне не понравится, если кто-то мне скажет: «Вы полетите сегодня ночью, в эту свинскую погоду, из любви ко мне, чтобы меня порадовать. Если вы сломаете себе шею, нас утеплит мысль, что вы пожертвовали собой ради меня. Если справитесь, наградой вам будут мои поздравления». Я сочту это оскорблением. Нет такого человека, ради которого я должен жертвовать хотя бы пальцем. И если мне это внушают, меня обманывают. Меня устроит, если и он, и я будем повиноваться одному и тому же закону, и полечу я в общем для всех порядке. Если законом для нас будет естественный ход вещей, не нуждающийся в объяснениях и оправданиях, если ночной полет следует после дневного. Когда я выстаивал против грозы, мне не нужны были метафизические аргументы. В метафизических аргументах мы начинаем нуждаться на отдыхе. Против грозы летишь только для того, чтобы оказаться в спокойной зоне. Это простое соображение убедительно и для самых непокорных. Если в минуту, которая требует от человека наивысшего напряжения сил, он услышит: «Сделай это ради меня или ради группы Буйю-Лафона[26] или ради родины», он возмутится, почувствовав себя униженным. Я не сомневаюсь , что заведующий секцией трикотажа в галерее Лувр старается наладить со своими продавцами теплые отношения: не испытав большого счастья от продажи пары носков, они хотя бы вознаграждены улыбкой. Благодаря ей они работают ради чего-то еще, а не только из ничтожного коммерческого интереса. Но если власть начальника так велика, что посягает даже на жизнь человека, если работа, которой он руководит, влечет за собой физические травмы, душевные и даже жертвы, как это бывает у нас, то такое должностное положение намного превыша ет компетенции человека, и начальник сильно преувеличит свою значимость, если вообразит, что его улыбка способна кого-то утешить. Она будет означать, что он ни в грош не ставит тех, кем руководит. Вроде старшины, который уверен, что солдаты его собственность. Но на высоком уровне ответственности начальник из уважения к подчиненным обязан отстраниться от них. И подчиненные прекрасно это понимают. Я помню, как в один прекрасный день в Буэнос-Айрес прилетел директор агентства Гавас, полет был неимоверно трудным, и, сойдя с самолета, он решил, что порадует летчика, сказав: «Если бы вы знали, как господин Буйю-Лафон любит своих пилотов, как он им благодарен…» Пилот потерял дар речи и от обиды покраснел. Это что же? Три часа подряд он продирался со своим самолетом через грозу, разряды трещали чуть ли не в двадцати метрах, а он, яростно костеря все и вся, пробивался к земле, к аэродрому и все это ради какого-то типчика?! Постояв, пилот повернулся ко мне. «Буйю-Лаффон… Скажут же такую глупость!» И расхохотался. Бывают случаи, когда и благодарность неприлична. Например, рискуя собственной шкурой, я подобрал незнакомого летчика в Сахаре, и он благодарит меня за самоотверженность. Совершенно напрасно. Никогда мне не казалась его жизнь интереснее моей, я не дожил до такой степени уничижения. Он мне ничего не должен.Мне не удался Ривьер, потому что я не сумел передать, что понимаю под достоинством власти, а именно это я и хотел передать. Уважение. А вышло, что он просто-напросто более суров, более жесток. Очень жаль. Мне хотелось, чтобы он не унижал себя софизмами, пытаясь подладиться к жене Фабьена. В этом случае ему нет прощения, и пытаться получить его значит лукавить. Жена Фабьена права. Он тоже, но не имеет права голоса. Ривьеры бы стали чудовищами, если бы им не противостояли Ромены Ролланы. Но мне почему-то кажется, что земля бы остановилась, если бы Ромены Ролланы правили ей. Я чувствую, что выражаюсь довольно смутно. Но, быть может, вы умеете читать между строк. Мне бы очень хотелось объяснить все более отчетливо, но я торопился написать вам, потому что вряд ли будет вторая статья, которая меня так взволнует и растрогает, как ваша. Если вы мне напишете, буду счастлив.
Антуан де Сент-Экзюпери, пилот компании Азропосталь Касабланка
Документы
Приветствие на Празднике приданого журнала «Мод пратик»
6 января 1932 г.В среду 6 января 1932 года в зале Гаво Антуан де Сент-Экзюпери председательствовать на Празднике приданого, который каждый год устраивал своим «крестницам», девушкам из хороших семейств, разорившихся или попавших в трудные обстоятельства, еженедельник «Мод пратик», семейный журнал. После приветственного слова мадам Сен-Рене Таяндье счастливым лауреаткам, из скромности участвовавшим под псевдонимами Сиротка, мадемуазель Май, Анн, Антигона, Мужественная, Пострадавшая, вручили премии (от 8000 до 10 ООО тогдашних франков). «Автор «Ночного полета» сумел так просто и так проникновенно передать ощущение счастья от женского присутствия у семейного очага, что растроганные и завороженные слушательницы запомнили его слова на долгие годы». Праздник завершаться представлением: музыка, танцы, спектакль «У сердца свои законы» по пьесе Робера де Флера и Кайяве.
Свою приветственную речь мадам Сен-Рене Таяндье завершила следующими словами: «Медам, сегодня мы устроили праздник в честь мужественной молодежи и попросили возглавить его молодого… победителя. Я уверена, что он несказанно удивлен, оказавшись здесь с нами, что, совершая подвиги в заоблачных высях среди звезд, он и представить себе не мог, перед какой аудиторией окажется. Но недаром говорят, мсье, что может случиться все! Вы знаете, медам, что мсье де Сент-Экзюпери авиатор, что он совершает полеты из Франции в Аргентину, из Касабланки в Дакар, из Буэнос-Айреса в Чили, что летал он и в мирное, и в военное время. Только что он получил, и уверена, тоже к немалому своему удивлению, премию Фемина за свою прекрасную книгу «Ночной полет». Неподдельная искренность, с какой она написана, явление редкое и необыкновенно отрадное. Я не стану пересказывать его замечательный роман, который, впрочем, и пересказать невозможно. Не стану объяснять, какой высокой и захватывающей теме он посвящен. Наш юный президент, будучи авиатором, рассказал о полетах, чего я никак не сумею сделать, так как никогда еще не поднималась в воздух, хотя, кто знает, возможно, еще поднимусь. Я скажу сейчас о другом: комитет премии Фемина принес славу «Ночному полету», а «Ночной полет» принес славу комитету Фемина. Мы с радостью убедились, что наш выбор одобрен прессой, критикой и даже кругами… весьма капризными, брюзгливыми, словом… непростыми. Я хочу сказать мсье де Сент-Экзюпери еще вот что: впервые в комитете Фемина я видела такое уверенное голосование с первого раза. Прибавлю, что наш единодушный порыв оставил у нас и чувство легкого огорчения, так как в тени остался роман «Клер» господина Шардона, который, но нашему мнению, должен был вызвать ожесточенную борьбу в комитете и отклики в публике. Но в этот день нас ожидал сюрприз: обмениваясь взглядами с коллегами, обращая к вновь прибывшим вопросительный взгляд, мы читали на губах два недлинных слова — «Ночной полет». И было что-то бесконечно радостное в нашем тайном и неожиданном согласии. Медам, мне особенно запомнилась одна страница из этой книги — летчик снижается, приближается к земле и видит множество мерцающих во тьме огоньков, ему шлют призыв дома, люди, сама жизнь. И если я, медам, пытаюсь понять, что связывает молодого авиатора, его книгу с нашими крестницами, то ответ мой таков: его связывает с ними тоже самое ощущение сближения с жизнью, какое он испытывает, видя с высоты россыпь слабеньких мерцающих огоньков, похожих на светлячков в траве. Свет — знак человеческой жизни, зов в ночи, свидетельство борьбы, радости, надежд. И вы, мсье, возможно, спустившие! к нам сегодня со звезд, видите вокруг себя свет обращенных на вас девических стаз. И тогда, человек, более необычный, чем принц из сказки, и куда более современный , вы вручите этим девушкам в праздничном конверте послание на юг или на север, самое радостное и самое благое из всех, какие вы когда-либо доставляли благодаря вашим опасным перелетам.
Наконец пришло время выступить с речью Антуану де Сент-Экзюпери; он построил ее на двух историях — гибели Прюнета и спасении Гийоме, обе они войдут несколькими годами позже в «Планету людей», а потом в киноверсию, которую они задумывали вместе с Жаном Ренуаром («Дорогой Жан Ренуар», Галлимар, 1999).
Прежде всего я хочу поблагодарить мадам Сон-Реми Таяндье и мадам Брутель[27] за величайшую честь и величайшую радость, которые они мне доставили, способствуя увенчанию премией моей маленькой книжки. И поскольку благодаря этой чести я получил возможность сказать несколько слов моим коллегам-лауреатам, я надеюсь вместе с вами, медмуазель, исправить недочет, допущенный мной в «Ночном полете», в котором слишком мало сказал о столь значимой роли жены, той роли, которая станет вашей после того, как у вас появится семья. Примеры, которые я приведу, будут связаны с людьми моей профессии, но вы убедитесь сами, что речь пойдет не только о женах летчиков. В прошлом году Марк Шадурн замечательно говорил вам о любви. Я, с вашего позволения, буду говорить о счастье. Обыкновенном, незамысловатом счастье. Топ особенной атмосфере дома, которую может создать каждая из вас, которая станет защитой от внешних помех, от рабочих неприятностей и которой я, к сожалению, уделил так мало внимания в своей книге. Думаю, потому, что летчик, одеваясь и готовясь ночью подняться с грузом почты в небо, уже далек от домашней тишины. Полет уже властно завладел им, неизбежные трудности так значительны, так серьезны, что покой кажется ему чудесным, но не обязательным подарком, который ему уже не принадлежит. Он знает, что его ждет, наконец, настоящее дело, реальный мир. Он уже в пути, пусть пока еще мысленно, он простился с женой и, кажется, даже без огорчения, как простился бы с цветами, книгами, песенками о любви, которые слушал на пластинке. Он невольно гордится своим могуществом и преисполнен снисходительности. Предстоящее и вправду серьезно, он должен постараться изо всех сил остаться к рассвету в живых. Со снисходительной улыбкой он выслушивает советы, принимает нежность, заботу, кашне, которое вряд ли спасет его от ночного урагана. Домашние мелочи кажутся мужчине детскими игрушками, а ему через час, вполне возможно, придется напрягать до крайнего предела и мысли, и мускулы. Но в миг крайности именно эти мелочи станут для него дороже всего на свете и спасут его. И поскольку мы собрались здесь, медмуазель, чтобы воздать честь вашим самым драгоценным человеческим качествам — долготерпению сиделки, самоотверженности старшей сестры, — я расскажу вам две истории, которые случились в Южной Америке с интервалом примерно в месяц, почти на моих глазах. Это драматические истории летчиков, но они помогут вам понять, как велика и значительна ваша роль. Мой друг Негрен летел на самолете с пятью пассажирами, и его самолет около часа ночи упал в море где-то возле берегов Уругвая. Самолет не сразу погрузился в воду, пассажиры успели выбраться на крыло. Зная, что они не так уж далеко от берега, они принялись раздеваться, чтобы добраться до земли вплавь, как только самолет окончательно погрузится в море. К несчастью, туман был настолько густой, что различить огни на берегу не было никакой возможности, и они вместо берега поплыли в открытое море и все погибли. Спасся только один пассажир, благодаря самоотверженности Негрена, который отдал ему свою надувную подушку, от него мы и узнали следующие потрясающие подробности. Бортовым радиотелеграфистом на этом самолете был молодой паренек по фамилии Прюнета. Добряк, умница, душа компании, товарищи его обожали за его жизнестойкость и оптимизм. Второго такого весельчака трудно было сыскать. И вдруг, в момент катастрофы, когда все остальные судорожно избавлялись от одежды, Прюнета равнодушно сидел на крыле, не снимая даже сапог. Вы можете сами представить, как все на него набросились. И вот этот мужественный человек, великолепный пловец, которого мало впечатлила катастрофа, так как была уже не первой в его жизни, сидел, опустив голову, и шепотом упорно повторял, что бессмысленно бороться со смертью, нет смысла тратить силы, если все равно рано или поздно наступит конец. Он предпочел погрузиться на дно вместе с самолетом. И вода сомкнулась над ними. Решение Прюнета показалось нам необъяснимым. На следующий день мы взяли его карточку, чтобы выяснить, кого нужно оповестить о его гибели, и узнали, что близких у него нет. Не найдя адреса родителей, мы попытались расспросить его товарищей, не было ли у Прюнета друга во Франции, которому нужно послать извещение, но они переглянулись, пожали плечами и ответили: «Прюнета никогда не получал писем». Страшный ответ. Ощутите, какое беспредельное одиночество стоит за этой короткой фразой, — а ведь было это в стране, где даже эмигрант ждет вестей из дома и живет ими. Прюнета не был эмигрантом, он, как мы все, приехал туда поработать на дна или три года, но был так одинок, как если бы жил на необитаемом острове. И в ту минуту, когда все бросились в воду и плыли в тумане каждый к своему сокровищу — к жене, к детям, зажженной на столе лампе, картине, дороже которой нет ничего на свете, Прюнета тонул в тумане и снаружи, и изнутри. Не было картины, не было мелочи, которая зацепила бы его и пробудила желание жить. Каждодневная жизнь заслоняла от немо пустоту, в которой он пребывал, но ни работа, ни товарищи, ни привычки не оказались столь значимыми, чтобы заставить его броситься в черную воду, отстаивая свою жизнь. В момент истины стало ясно, что для человека ценно и что нет. Прюнета узнал этой ночью, что для него одного нет берега ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге, ему некуда было плыть. Так что, медмуазель, мужчины могут думать, что жена, домашний уют, улыбка значат меньше, чем ремесло, опасность, радость охотника или контрабандиста, какую дарит порой ночной полет, могут покидать в полночь дом со снисходительной улыбкой — сильный мужчина оставляет дома слабую женщину, но они ошибаются, только слабая женщина помогает мужчине спастись. Домашнее счастье, которым часто пренебрегают как излишней роскошью, в гибельную минуту, когда смерть расставляет все но местам, стаиовится главной ценностью, пробуждая глубинную необходимость жить. Но обязательно быть авиатором, чтобы обладать таким счастьем и не замечать его. Счастье, которое вы дарите, ваши близкие, скорее всего, не ощущают в полной мере , оно незаметно, потому что ВОШЛО в привычку, стало обыденностью, но и не замечаемое, оно существует. Я хотел бы в нескольких словах рассказать вам о другом опыте, которому был свидетелем , на этот раз положительном. Moii коллега и друг, нилот Анри Гийоме, летал в прошлом году по самому трудному маршруту нашей почтовой компании, — он летал через Анды. Что такое Анды? Огромная горная цепь шириной в двести километров и высотой от четырех с половиной тысяч метров до семи. Маршрут мы постарались проложить через самые невысокие горы, высотой где-то около пяти тысяч. Зимой горы становятся неприступной крепостью, куда никому но проникнуть. Если горец задержится на тропе, ого может смести или запереть снежная лавина. Каждый год от лавин погибает не меньше двадцати человек. В Чили знают, что после ночи в горах ни один человек не выжил. 11 вот однажды, попав в снежную бурю, Гийоме был вынужден посадить самолет на высоте трех с половиной тысяч метров в глубине воронки , расположенной в центре массива. Он оказался примерно в восьмидесяти километрах от равнины, и дорогу к ней преграждали ему горы высотой в Монблан, около четырех с половиной тысяч метров, но более отвесные. У меня нет времени, чтобы подробно рассказать вам, каким чудом вернулся этот пилот. Скажу только, он шел без веревок, без ледоруба, почти без еды — три последних дня он ничего не ел, но все-таки преодолел все горные заслоны и спустился в долину. В первый день он двигался по плечи в только что выпавшем снегу и продвинулся всего-навсего на восемьсот метров. Но не остановился. Он шел пять дней и пять ночей,карабкаясь, скользя, падая, выцарапывая руками в отвесной стене дыры, чтобы за них уцепиться, но давая себе ни минуты ни на сон, ни на отдых, потому что при морозе 40 после десяти минут отдыха он никогда не поднялся бы. Уже на второй день снег и холод принялись усыплять его, туманя голову желанием все забыть, от всего отказаться, лечь и уснуть. Никакая надежда не грела его, потому что не в человеческих силах было справиться с этими горами, и он знал, что претерпеваемые им муки бессмысленны, так как спастись невозможно. Но он не поддавался соблазнам уснуть, не слушал голоса разума. Потом он говорил мне, что главным его трудом на протяжении всех пяти суток было заставить себя не думать. Сначала он двигался вперед из присущей ему добросовестности, потому что негоже сразу сдаваться. По ни добросовестность, ни чувство долга но могли долго противостоять желанию все оставить и крепко уснуть, жить требовала только одна маленькая женщина, которая ждала его дома. К этой женщине, к теплу очага, к незаметному счастью, значимость которого этот крепкий здоровый паренек даже и не подозревал до этого, шел он долгих пять дней и ночей в 30 и 40 градусов мороза. Каждый день он разрезал все глубже сапоги, потому что обмороженные ноги опухали все больше; обессилев, он на третий день снял и бросил обледеневшую куртку, так она стала тяжела; он знал, что сделал все возможное как пилот, отвечающий за почту, и с полным правом мог позволить себе отдохнуть, что заслужил долгий-предолгий отдых. Желание лечь и уснуть с каждым мучительным шагом становилось все настоятельнее, но долг перед собственным счастьем заставлял сделать еще один, хоть самый маленький шажок, потом еще один, и еще и так все пять дней и пять ночей. Он стремился сделать все возможное ради той, которая ждала его и верила в него. И вот что я вам скажу, медмуазель, дом-прибежище, который создала эта женщина в маленькой квартирке Буэнос-Айреса, то счастье, которое она дарила, монотонное, скучноватое, потому что муж ее предпочитал риск и приключения чтению по вечерам, оказалось на поверку такой человеческой ценностью, такой мощной силой, что она смогла протащить Анри Гийоме через все Анды и помогла ему спуститься с высоты четырех с половиной тысяч метров на равнину. Это счастье его спасло. Чудо с Гийоме случилось примерно спустя месяц после гибели Прюнета, который не знал, куда же ему плыть. Думаю, что сравнение двух этих судеб будет для вас и поучительно, и утешительно. Ведь и вам иной раз может показаться, что вы тратите свои дни на монотонную работу, что ваша преданность никому не нужна, что беспрестанная забота о скромном домашнем счастье — увы — незначительна, но вспомните тогда, что каждый день , сами о том не подозревая, вы созидаете нечто очень важное. То, что, к счастью, может никогда не открыться во всей своей значимости, а может пять дней и пять ночей при сорока градусах мороза тащить ослабевшего от голода мужчину по заснеженным горам[28].
Вступительное слово к фильму «Южный почтовый»
Задуманный в 1931 году, фильм «Южный почтовый» начал сниматься в 1936-м режиссером Пьером Байоном по сценарию автора. Сент-Экзюпери не ограничился написанием сценария, он вникал в каждую деталь съемок. Премьера фильма состоялась в Париж в марте 1937 года. Предваряло показ это небольшое вступительное слово, написанное Сент-Экзюпери не без горечи.Несколько месяцев тому назад вы могли прочитать в газетах следующее объявление: «Для пассажиров открылась воздушная линия Касабланка — Дакар». Вы скользнули глазами дальше и без особого любопытства узнали, что каждую педелю определенное число чиновников, туристов и коммерсантов поднимаются в Тулузе на борт современною трехмоторного самолета и после остановки в Марокко осуществляют ночной перелет до Сенегала. Сенегал теперь отделен от Франции лишь двадцатью часами дремоты. Пассажир не участвует теперь в опасном приключении. Самолет, летающий по расписанию, оснащенный кожаными креслами, полированными панелями, перестал быть для пассажира возможностью познавать, а превратился в продолжение коммерческого офиса. Помещение, где пассажиру расхваливали удобство путешествия, сообщали расписание, выписывали билет, и салоп самолета, где это путешествие стало реальностью, кажутся ему совершенно одинаковыми, органично перетекающими одно в другое. Пассажир не чувствует теперь и того, что путешествие его зависит от совершенно разных людей — любезных торговцев, которые его соблазняют, и летчиков, которые отвечают за него среди звезд. Такова цена успеха. Когда механизм отлажен, он становится незаметным. Не видна техника, но исчезла и поэзия. На борту «Нормандии» из Гавpa можно долететь до Нью-Йорка и не заметить океана, механиков, звезд… Фильм, который вы увидите, напоминает о временах, когда человеческое дерзание еще не было так удачно закамуфлировано. Мы отлаживали этот механизм, мы прокладывали воздушные дороги, и каждый полет для нас становился знакомством, раз от раза более близким, с новым неведомым миром. Вылетев из Дакара, первую остановку мы делали в Нуакшоте. Маленький форт, затерянный в песках, был похож на спасительный илот посреди океана. Этим фортом мы и начали наш фильм. А потом еще посадка, еще, и мы одолели опасную пустыню. Вот они, наши остановки: Порт-Этьен, Вилла Сиснерос, Кап-Джуби… Нет, не причудливые четки звучных названий. Нам грозила смертельная опасность, и мы шаг за шагом продвигались к выздоровлению. Как только незадолго до Агадира мы замечали первые обработанные поля, первую зелень марокканского юга, мы понимали — мы здоровы.

Сент-Экзюпери Антуан Воспоминания о некоторых книгах
Антуан де Сент-Экзюпери Воспоминания о некоторых книгах(1) Перевод: С французского Е.Баевской "Харперс Базар", апрель 1941 г. Первой книгой, которую я по-настоящему полюбил, был сборник сказок Ханса Кристиана Андерсена. Но это была уже вторая из прочитанных мной книг. В четыре с половиной года я сгорал от желания прочитать настоящую книгу. На дне старого деревянного сундука, набитого пожелтевшими катологами и проспектами, я наткнулся на брошюру по виноделию; она была совершенно недоступна моему пониманию, но я прочел ее всю от корки до корки, пленяясь каждым словом. Это и была моя самая первая книжка. Через несколько лет я открыл для себя Жюля Верна. Мне уже было около десяти. "Черная Индия"(2), одна из его наименее известных книг, которая вообще-то считается скучноватой, ослепила меня блеском великолепия и тайны. Я и теперь остаюсь при своем мнении, потому что этому роману суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Действие его разыгрывается в подземных галереях, прорытых на глубине нескольких тысяч футов, куда от века не проникает свет. Вполне возможно, что фантастическая атмосфера этой книги, запечатлевшаяся у меня в памяти, лежала у истоков моего "Ночного полета", который тоже есть не что иное, как исследование тьмы. Я никогда не питал пристрастия к романам и читал их не так уж много. Первыми привлекли меня романы Бальзака, особенно "Отец Горио". В пятнадцать лет я напал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзака. В шестнадцать я открыл для себя поэтов. Естественно, я был уверен, что сам к ним принадлежу, и два года кряду, подобно всем подросткам, лихорадочно кропал стихи. Я боготворил Бодлера и, к стыду своему, должен сознаться, что затвердил наизусть всего Леконта де Лиля и Эредиа(3), а также Малларме(4). От любви к Малларме не отрекаюсь и поныне. Из современных романистов первым мне полюбился Жан Жироду. "Школа равнодушных" и "Симон патетический"(5), прочитанные в школе, очаровали меня: мне показалось, что я нашел в них человека, занятого в жизни какими-то единственно важными вещами. Помню, например, из "Симона патетического", что для Симона было жизненно необходимо знать, придвинута его кровать к стене или нет. Для ребенка это вправду необычайно важный вопрос: темная пустота между ним и стеной - это таинственная страна, принадлежащая ему одному... В поездках я не расстаюсь с несколькими книгами, но мне не хотелось бы сейчас перечислять их названия; ведь признайся я, что повсюду вожу с собой труды Паскаля, Декарта, современных философов, математиков и биологов,- это покажется претенциозным, бьющим на эффект. Однако эти книги - вот они, при мне, у меня на столе. На войне верными моими спутниками были Паскаль, "Заметки Мальте Лауридса Бригге" Рильке(6) да потрепанный том Бодлера... Размышляя об этих книгах, которые, бесспорно, оказали глубокое влияние на мою жизнь, я вспоминаю о волшебной истории, которая приключилась со мной самим. Она родилась не из книги, а из воспоминания о прочитанном, в самом механическом смысле слова: это воспоминание детства, проснувшееся при необычайных обстоятельствах у человека, который оказался на самом краю света. Несколько лет назад мой самолет потерпел аварию в Гватемале(7). Я долго пробыл в коме - ощущение более чем неприятное, потому что к жизни возвращаешься не сразу: приходишь в себя медленно, и кажется, что поднимаешься, всплываешь сквозь какую-то густую, вязкую массу на поверхность внешнего мира. Я делал мучительные физические и умственные усилия, но не мог вырваться из власти забытья. Помню, как проснулся ночью потому, что с меня сползли простыни и одеяла. В Гватемале из-за большой высоты над уровнем моря ночи очень холодные. У меня было восемь переломов, и до одеял мне было не дотянуться. Поэтому я позвал сиделку и стал просить, чтобы она завернула меня в "несравненную ткань", уверенный, что, если она не выполнит сразу же мою просьбу, я умру. - Но у нас этого нет,- сказала сиделка.- Нет у нас никакой "несравненной ткани". В голове у меня все перемешалось. Я пытался вспомнить, каким образом стелят постель. Я рассуждал сам с собой: "Постой, в армии я стелил себе сам, как же я это делал? Простыня внизу, другая наверху... Нет, третьей простыни не было. Сиделка права". Мне было трудно и жалко расстаться с мыслью о "несравненной ткани". Со временем я и думать забыл об этом случае. Потом в один прекрасный день приехал в Лион, где прожил год еще ребенком. По воскресеньям родные возили меня к мессе в Фурвьер(8), в собор, высившийся на холме над городом; поднимались туда на фуникулере. Мне захотелось совершить сентиментальную прогулку. Добравшись, я увидел, что билеты по-прежнему продаются у выхода из туннеля, перед автоматическим турникетом. Я пристроился к очереди, где было человек двадцать. Мы продвигались медленно, и мой взгляд упал на стену слева, оклеенную афишами. Это были все те же рекламы, лишь бумага за сорок лет почернела от дыма да буквы наполовину стерлись. Я рассеянно разбирал надписи, и вдруг у меня екнуло сердце. Вот оно что! "Обезболивающая ткань несравненное средство от ран и ожогов". Вот они - простыни, которые могут утишить, облегчить боль, вот о чем я вспоминал на госпитальной койке в Гватемале! Несомненно, когда мне было пять лет, эта "несравненная ткань для ран и ожогов" произвела на меня глубокое впечатление. Из той же рекламы, по-моему, родилась одна фраза в "Планете людей", обращенная к Гийоме: "В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь"(9). Воспоминание о волшебных простынях, которые умеют лечить раны... Воспоминание о старой рекламной афише в маленьком туннеле в Фурвьере, почти тридцать лет прятавшееся в темном закоулке моего сознания. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Воспоминания о некоторых книгах 31 декабря 1940 г. Сент-Экзюпери прибыл в США и поселился в Нью-Йорке. Его книги были хорошо известны американской публике, поэтому писатель пользовался вниманием журналистов. Данный текст написан для журнала "Харперс Базар", обратившегося к Сент-Экзюпери с вопросом о его любимых книгах. (2) "Черная Индия" - этот роман Ж. Верна вышел в 1877 г. (3) ...всего Леконта де Лиля и Эредиа. - Шарль Леконт де Лиль (1818-1894) и Жозе Мария де Эредиа (1842-1905) - французские поэты, участники "парнасской" группы. (4) Малларме Стефан (1842-1898) - французский поэт-символист. (5) "Школа равнодушных" и "Симон патетический" - эти романы Ж. Жироду вышли соответственно в 1911 и 1918 гг. (6) "Записки Мальте Лауридса Бриггел" Рильке - роман австрийского писателя Р. М. Рильке датируется 1910 г. (7) Несколько лет назад мой самолет потерпел аварию в Гватемале. - Это случилось в феврале 1938 г. при попытке Сент-Экзюпери совершить перелет через Северную и Южную Америку по маршруту Нью-Йорк - Огненная Земля. (8) Фурвьер - холм в старой части Лиона. (9) А. де Сент-Экзюпери. Избранное. Лениздат, 1977, с.171. Пер. Н. Галь. Прим. перев. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Кто ты, солдат
Антуан де Сент-Экзюпери Кто ты, солдат?(1) Перевод: С французского Ю. А. Гинзбург Чтобы излечиться от душевного смятения, надо уяснить себе его суть. А мы, конечно же, живем в смятении. Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей(2). Между тем, без сомнения, многие из нас были готовы рисковать жизнью ради долга дружбы. И сейчас им стыдно. Но если бы они пожертвовали миром, им было бы не менее стыдно. Потому что в таком случае они пожертвовали бы человеком - дали бы согласие на непоправимое уничтожение библиотек, соборов, лабораторий Европы. Они дали бы согласие на разрушение ее традиций, на превращение планеты в облако пепла. Вот потому-то мы и метались между двумя решениями. Когда нам казалось, что мир в опасности, мы ощущали весь позор войны. Когда показалось, что война нам не грозит, мы познали позор мира. Не нужно поддаваться отвращению к самим себе: от него мы не были бы избавлены, какой бы выход ни избрали. Нужно взять себя в руки и подумать, в чем причина такого отвращения. Если упираешься в подобное неразрешимое противоречие, значит, сама проблема поставлена неверно. Когда физик обнаруживает, что Земля, вращаясь, увлекает за собой эфир, в котором распространяется свет, и что в то же время эфир этот неподвижен, он не отказывается от науки, он меняет язык и отказывается от идеи эфира(3). Чтобы понять, где же гнездится смятение, надо непременно подняться над событиями. Надо на несколько часов забыть про Судеты. Мы слепы, пока смотрим со слишком близкого расстояния. Нам нужно немного поразмышлять о войне, коль скоро мы одновременно и отвергаем, и приемлем ее. Я знаю, какие услышу упреки. От газеты читатели ждут предметных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши для журналов или книг. Но я другого мнения на этот счет. У меня до сих пор перед глазами впечатления первой моей летной ночи в Аргентине. Тьма кромешная. Но в этой бездне слабо мерцают, словно звезды, людские огни, рассеянные по равнине. Каждая звездочка означала, что среди ночи там, внизу, люди думали, читали, вели разговоры по душам. Каждая звездочка, как сигнальный фонарь, свидетельствовала: здесь бодрствует человеческий разум. Вот там, быть может, размышляли о счастье людей, о справедливости, о мире. А эта звезда, затерянная в стаде других, - звезда пастуха. Тут, может быть, устанавливали связь со светилами, ломали голову, вычисляя туманность Андромеды. А там любили друг друга. Повсюду в долине горели эти огни, и все они нуждались в пище, даже самые скромные. Огонек поэта, учителя, плотника. Но среди этих живых звездочек - сколько затворенных окон, сколько угасших звезд, сколько спящих людей, сколько огней, уже не дарящих света, потому что им больше нечем питаться. Пусть журналист ошибается в своих размышлениях, неважно - непогрешимых нет. Пусть он проникает не во все жилища, неважно - смысл каждой местности придают только те жилища, где не спят. Журналист не знает, какие из них откликнутся, но это неважно; раскидывая хворостинки по ветру, он надеется поддержать хоть несколько огоньков из тех, что горят тут и там по равнине. Это были тяжкие дни - те, что мы прожили перед громкоговорителями. Так ждут найма у железных заводских ворот. Люди, столпившиеся, чтобы слушать речи Гитлера, уже видели мысленно, как они набиваются в товарные вагоны, а потом становятся к стальным орудиям, поступив служить на тот завод, которым обернулась война. Они уже словно подрядились на эту нечеловеческую работу, и ученый прощался с вычислениями, приоткрывавшими ему вселенную, отец прощался с вечерней миской супа, наполняющей своим ароматом дом и сердце, садовник, положивший жизнь на новую розу, мирился с тем, что не украсит ею землю. Всех нас уже вырвали с корнем, перемешали и бросили как попало под жернова. Тут не дух самопожертвования, а сдача на милость абсурду. Запутавшись в противоречиях, которые мы уже не могли разрешить, растерявшись перед нелепостью событий, которые уже никаким языком нельзя было объяснить, мы в глубине души принимали кровавую драму: она навязала бы нам обязанности вожделенно простые. А между тем мы понимали, что любая война, с тех пор как она стала питаться минами и ипритом, может кончиться только крушением Европы. Но нас мало трогают описания всяких катастроф - гораздо меньше, чем принято думать. Каждую неделю, сидя в креслах кинотеатров, мы присутствуем при бомбежках в Испании или Китае. Мы можем слышать взрывы, от которых города взлетают на воздух, - но нас эти взрывы не потрясают. Мы с изумлением глядим на витые столбы копоти и пепла, неторопливо извергаемые к небу этими вулканическими землями. И все-таки! Ведь это зерно из закромов, домашние сокровища, наследство предков, плоть сгоревших заживо детей стелется дымом и утучняет мало-помалу то черное облако. Я исходил в Мадриде улицы Аргуэльяса, где окна, похожие на пустые глазницы, не отгораживали больше ничего, кроме блеклого неба. Устояли только стены, и за этими призрачными фасадами содержимое шести этажей обратилось в пяти-шестиметровую груду мусора. От кровли до фундамента прочные дубовые полы, на которых многие поколения проживали свою долгую семейную историю, на которых, может быть, в ту самую минуту, когда грянул гром, служанка застилала свежими простынями постель для ночного отдыха и любви, мать клала прохладную руку на пылающий лоб больного ребенка, отец обдумывал завтрашнее изобретение, - эти опоры, казавшиеся каждому из нас незыблемыми, в один миг, среди ночи, опрокинулись, как кузов самосвала, и сбросили свой груз в канаву. Но ужас не просачивается сквозь экран, и на наших глазах, при полном равнодушии зрителей, авиационные бомбы скользят бесшумно, отвесно, как лот, к этим живым домам, чьи внутренности они сейчас выпотрошат. Не стану предаваться негодованию - у нас пока нет языкового ключа ко всему этому. Мы - те же самые люди, которые пошли бы на смертельный риск ради спасения одного-единственного угольщика, погребенного в шахте, или одного ребенка, попавшего в беду. Ужас ничего не доказывает. Я плохо верю в действенность таких животных реакций. Хирург входит в больничную палату, и сердце его не сжимается при виде чужих страданий, как у юной девушки. Его жалость выше, она поднимается над раной, которую он должен лечить. Он ощупывает рану я не слушает стонов. Вот так, когда наступает час родов и раздаются первые жалобные крики, весь дом охватывает лихорадка. Торопливые шаги в передней, хлопоты, распоряжения, и никого не пугают вопли молодой матери. Она и сама их забудет, они подернутся пленкой в ее памяти, значения они не имеют. Но сейчас-то она корчится и истекает кровью. И ее держат узловатые руки, руки палача, которые помогают исторгнуть плод, вырывают плоть из ее плоти. Все меж тем заняты делом; все улыбаются. Слышится шепот: "Все идет хорошо". Готовят колыбельку, готовят теплую ванночку - и вдруг кто-то бросается к двери, распахивает ее настежь и кричит: "Благодарение богу, это сын!" Если мы ограничимся изображением ужасов, то не найдем убедительных доводов против войны. Но мы не получим таких доводов и в том случае, если будем только расписывать радости жизни и боль бессмысленных утрат. Вот уже несколько тысячелетий мы разглагольствуем о слезах матерей. Приходится признать, что этот язык отнюдь не мешает погибать сыновьям. Спасение придет не из рассуждений. Большее или меньшее число смертей... Начиная с какой цифры смерть приемлема? Мир нельзя основать на этой постыдной арифметике. Мы скажем: "Неизбежные жертвы... Величие и трагизм войны..." А, скорее всего, мы ничего не скажем. У нас нет языка, который позволил бы разобраться в многообразии смерти без сложных рассуждений. А наш инстинкт и опыт велят нам не слишком доверять рассуждениям: доказать можно что угодно. Истина - это не то, что можно доказать; это то, что делает мир проще. Наши терзания стары, как род людской. Они сопутствовали прогрессу человечества. Общество развивается, а люди все пытаются осмыслять сегодняшнюю действительность с помощью устаревшего языка. Мы всегда в плену у языка и рождаемых им образов, независимо от того, годится нам этот язык или нет. Противоречивым мало-помалу становится неподходящий язык, а вовсе не действительность. Человек высвобождается только тогда, когда придумывает новые понятия. Работа ума, дающая толчок прогрессу, состоит отнюдь не в том, чтобы вообразить себе будущее: как можно предугадать противоречия, которые завтра возникнут неожиданно из наших нынешних дел и, властно требуя новых решений, изменят ход истории? Будущее не поддается анализу. Человек движется вперед, придумывая язык для понимания сегодняшнего мира. Ньютон подготовил открытие рентгеновских лучей не тем, что предвидел рентгеновские лучи. Ньютон изобрел простой язык для описания известных ему явлений. И из этого изобретения через цепь других - родились рентгеновские лучи. Любой иной путь-утопия. Не допытывайтесь, какие меры уберегали человека от войны. Спросите себя: "Почему мы ведем войну, хотя знаем, что она нелепа и чудовищна? Где таится противоречие? Где таится истина войны, истина столь всемогущая, что ей покоряются ужас и смерть?" Только найдя разгадку, мы перестанем сдаваться на милость слепой судьбе, как будто она сильнее нас. Только тогда мы убережемся от войны. Конечно, вы можете мне ответить, что вероятность войны заложена в человеческом безумии. Но тем самым вы отрекаетесь от собственной способности понимать. Точно так же вы могли бы сказать: "Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья". Возможно. Но какими уравнениями эта воля описывается? На каком достаточно ясном языке мы можем описать это безумие и тем избавиться от него? Мне все-таки кажется, что "дикие инстинкты", "алчность", "кровожадность" неподходящие отмычки. Пользоваться ими - значит обходить самое, может быть, существенное. Это значит забывать о лишениях, связанных с войной. О готовности жертвовать жизнью. О дисциплине. О братстве, рожденном опасностью. Это значит, наконец, забывать обо всем, что поражает нас в солдате, в любом солдате, который согласился идти на лишения и смерть. В прошлом году я побывал на мадридском фронте, и, на мой взгляд, соприкосновение с настоящей войной дает больше, чем книги. Думаю, только от солдата можно узнать, что такое война. Но чтобы причаститься вместе с ним к всеобщей истине, надо забыть, что он на чьей-то стороне, и не обсуждать идеологические проблемы. Неумение найти общий язык влечет за собой противоречия, запутанные настолько, что лишают веры в спасение человека. Франко бомбит Барселону потому, что, по его словам, в Барселоне зверски истребили монахов. Следовательно, Франко защищает христианские ценности. Но христианин, во имя христианских ценностей, стоит в разбомбленной Барселоне у костра, в котором горят женщины и дети. И он отказывается понимать. Вы возразите мне, что это - печальная необходимость войны... Что война абсурдна, но приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я думаю, что абсурден прежде всего язык, заставляющий людей противоречить самим себе. Очевидность ваших истин - тоже не довод. Вы правы. Вы все правы. Прав даже тот, кто вину за все земные беды возлагает на горбунов. Если объявить войну горбунам, если заронить в умы представление о расе горбунов, мы быстро сумеем себя распалить. Мы предъявим горбунам счет за все их мерзости, за все преступления, все грехи. И будем считать, что это справедливо. А когда мы утопим несчастного, ни в чем не повинного горбуна в его собственной крови, то пожмем плечами с сожалением: "Таковы ужасы войны... Он расплачивается за других... Он расплачивается за преступления горбунов..." Ведь горбуны, разумеется, тоже совершают преступления. Забудем же эти различия: если их принять, вслед за ними появится целый свод непререкаемых истин, со всем вытекающим из них фанатизмом. Можно поделить людей на правых и левых, на горбунов и негорбунов, на фашистов и демократов, и такие разграничения неуязвимы. Но истина, как мы помним, - это то, что делает мир проще, а не то, что создает хаос. А если задать солдату - любому солдату - вопрос иначе? Если искать смысл его сокровенных устремлений по-другому - не вслушиваясь, какие оправдания он приводит на своем невнятном языке, а всматриваясь, как он живет? ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Кто ты, солдат? Статья была напечатана в газете "Пари-суар" 2 октября 1938 г. Вместе с двумя следующими статьями она составляет небольшой цикл под общим заголовком "Мир или война?". (2) Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей. - 29-30 сентября 1938 г. в Мюнхене было заключено соглашение между правительствами Англии, Франции, Германии и Италии (без участия представителей Чехословакии, с которой Франция была связана союзным договором), по которому от Чехословакии отторгалась в пользу Германии пограничная Судетская область, а некоторые другие территории - в пользу Польши и Венгрии. Расчленение чехословацкого государства предопределило его полную ликвидацию в марте 1939 г. Правительственная пропаганда в Англии и Франции представляла Мюнхенское соглашение как средство "спасти мир" и разрешить кризис в германо-чехословацких отношениях. Фактической же его целью было "умиротворить" гитлеровскую Германию и направить ее агрессию на восток, против Советского Союза. (3) Когда физик обнаруживает... он меняет язык и отказывается от идеи эфира. - В физике долгое время бытовала гипотеза об эфире - неподвижной светопроводящей среде, наполняющей мировое пространство. Эта гипотеза была отвергнута наукой, после того как американский физик А. Майкельсон в 1881 г. опытным путем доказал, что свет распространяется по отношению к Земле с одинаковой скоростью во всех направлениях, независимо от движения самой Земли, так, словно планета увлекает "неподвижную" среду за собой. Сергей ЗенкинАнтуан де Сент-Экзюпери Маленький принц
Леону Верту
Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание: этот взрослый — мой самый лучший друг. И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение:Леону Верту, когда он был маленьким
I
Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея — удав — глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано: В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».
Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок №1. Вот что я нарисовал:
В книге говорилось: «Удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу».
Я много раздумывал о полной приключений жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок №1. Вот что я нарисовал:
 Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.
— Разве шляпа страшная? — возразили мне.
А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок №2:
Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им.
— Разве шляпа страшная? — возразили мне.
А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок №2:
 Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками №1 и №2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.
Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.
На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.
Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок №1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.
Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками №1 и №2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать.
Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет. И география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути.
На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше.
Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я показывал ему свой рисунок №1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком.
II
Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, — и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: — Пожалуйста… нарисуй мне барашка! — А?.. — Нарисуй мне барашка… Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было шесть лет, взрослые убедили меня, что художник из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов — снаружи и изнутри. Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:
— Но… что ты здесь делаешь?
И он опять попросил тихо и очень серьезно:
— Пожалуйста… нарисуй барашка…
Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не умею рисовать. Он ответил:
— Все равно. Нарисуй барашка.
Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать — удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:
— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.
И я нарисовал.
Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил:
— Но… что ты здесь делаешь?
И он опять попросил тихо и очень серьезно:
— Пожалуйста… нарисуй барашка…
Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметике и правописанию, и сказал малышу (немножко даже сердито сказал), что не умею рисовать. Он ответил:
— Все равно. Нарисуй барашка.
Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать — удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул:
— Нет, нет! Мне не надо слона в удаве! Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка.
И я нарисовал.
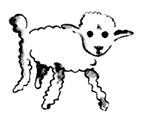 Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:
— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.
Я нарисовал.
Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал:
— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.
Я нарисовал.
 Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.
— Ты же сам видишь, — сказал он, — это не барашек. Это большой баран. У него рога…
Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался:
Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся.
— Ты же сам видишь, — сказал он, — это не барашек. Это большой баран. У него рога…
Я опять нарисовал по-другому. Но он и от этого рисунка отказался:
 — Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорей разобрать мотор — и нацарапал ящик.
— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
Тут я потерял терпение — ведь мне надо было поскорей разобрать мотор — и нацарапал ящик.
 И сказал малышу:
— Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.
Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:
— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?
— А что?
— Ведь у меня дома всего очень мало…
— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.
— Не такой уж он маленький… — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Он уснул…
Так я познакомился с Маленьким принцем.
И сказал малышу:
— Вот тебе ящик. А в нем сидит такой барашек, какого тебе хочется.
Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял:
— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?
— А что?
— Ведь у меня дома всего очень мало…
— Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка.
— Не такой уж он маленький… — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. — Смотри-ка! Он уснул…
Так я познакомился с Маленьким принцем.
III
 Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:
— Что это за штука?
— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.
И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:
— Как! Ты упал с неба?
— Да, — скромно ответил я.
— Вот забавно!..
И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:
— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?
«Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:
— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?
Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет:
— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека…
И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.
Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:
— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?
Он помолчал в раздумье, потом сказал:
— Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по ночам.
— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.
Маленький принц нахмурился:
— Привязывать? Для чего это?
— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.
Тут мой друг опять весело рассмеялся:
— Да куда же он пойдет?
— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.
Тогда Маленький принц сказал серьезно:
— Это не страшно, ведь у меня там очень мало места.
И прибавил не без грусти:
— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…
Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу, из случайных, мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет (самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться), он спросил:
— Что это за штука?
— Это не штука. Это самолет. Мой самолет. Он летает.
И я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул:
— Как! Ты упал с неба?
— Да, — скромно ответил я.
— Вот забавно!..
И Маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада: я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил:
— Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?
«Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне!» — подумал я и спросил напрямик:
— Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?
Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет:
— Ну, на этом ты не мог прилететь издалека…
И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища.
Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о «других планетах». И я попытался разузнать побольше:
— Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?
Он помолчал в раздумье, потом сказал:
— Очень хорошо, что ты дал мне ящик: барашек будет там спать по ночам.
— Ну конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек.
Маленький принц нахмурился:
— Привязывать? Для чего это?
— Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется.
Тут мой друг опять весело рассмеялся:
— Да куда же он пойдет?
— Мало ли куда? Все прямо, прямо, куда глаза глядят.
Тогда Маленький принц сказал серьезно:
— Это не страшно, ведь у меня там очень мало места.
И прибавил не без грусти:
— Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь…
IV
 Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!
Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251.
Так я сделал еще одно важное открытие: его родная планета вся-то величиной с дом!
Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например: астероид 3251.
 У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид В-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.
У меня есть серьезные основания полагать, что Маленький принц прилетел с планетки, которая называется «астероид В-612». Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году, одним турецким астрономом.
 Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!
К счастью для репутации астероида В-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, — и все с ним согласились.
Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе. Но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Уж такой народ эти взрослые!
К счастью для репутации астероида В-612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. В 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, — и все с ним согласились.
 Я вам рассказал так подробно об астероиде В-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»
Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно, существует», — если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид В-612», — это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.
Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:
«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга…». Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что все это чистая правда.
Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается , когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.
Я вам рассказал так подробно об астероиде В-612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?» И после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь взрослым: «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: «Я видел дом за сто тысяч франков», — и тогда они восклицают: «Какая красота!»
Точно так же, если им сказать: «Вот доказательства, что Маленький принц на самом деле существовал: он был очень, очень славный, он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот, безусловно, существует», — если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленого младенца. Но если сказать им: «Он прилетел с планеты, которая называется астероид В-612», — это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.
Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, мы, конечно, смеемся над номерами и цифрами! Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы начать так:
«Жил да был Маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга…». Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что все это чистая правда.
Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается , когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого есть друг. И я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто — в моем возрасте вновь приниматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал что удава снаружи и изнутри, да и то в шесть лет! Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше. Но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже: на одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом — чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но вы уж не взыщите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как он. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых. Наверно, я старею.
V
Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил: — Скажи, ведь правда, барашки едят кусты? — Да, правда. — Вот хорошо! Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил: — Значит, они и баобабы тоже едят? Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и, если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся: — Их пришлось бы поставить друг на друга…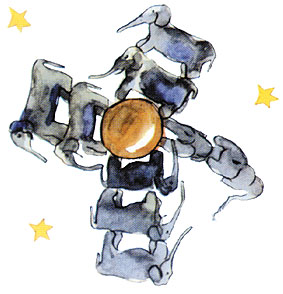 А потом сказал рассудительно:
— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.
— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?
— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.
И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.
На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.
— Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
А потом сказал рассудительно:
— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.
— Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?
— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.
И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.
На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.
— Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее Маленький принц. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.
 Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика — вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети! — говорю я. — Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в этой книжке нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.
Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика — вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. «Дети! — говорю я. — Берегитесь баобабов!» Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите: отчего в этой книжке нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами? Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно.
VI
О Маленький принц! Понемногу я понял также, как печальна и однообразна была твоя жизнь. Долгое время у тебя было лишь одно развлечение: ты любовался закатом. Я узнал об этом наутро четвертого дня, когда ты сказал: — Я очень люблю закат. Пойдем посмотрим, как заходит солнце. — Ну, придется подождать. — Чего ждать? — Чтобы солнце зашло. Сначала ты очень удивился, а потом засмеялся над собою и сказал: — Мне все кажется, что я у себя дома! И в самом деле. Все знают, что, когда в Америке полдень, во Франции солнце уже заходит. И если бы за одну минуту перенестись во Францию, можно было бы полюбоваться закатом. К несчастью, до Франции очень, очень далеко. А на твоей планете тебе довольно было передвинуть стул на несколько шагов. И ты снова и снова смотрел на закатное небо, стоило только захотеть… — Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!
И немного погодя ты прибавил:
— Знаешь… когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…
— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?
Но Маленький принц не ответил.
— Однажды я за один день видел заход солнца сорок три раза!
И немного погодя ты прибавил:
— Знаешь… когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…
— Значит, в тот день, когда ты видел сорок три заката, тебе было очень грустно?
Но Маленький принц не ответил.
VII
На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал секрет Маленького принца. Он спросил неожиданно, без предисловий, точно пришел к этому выводу после долгих молчаливых раздумий: — Если барашек есть кусты, он и цветы ест?
— Он есть все, что попадется.
— Даже такие цветы, у которых шипы?
— Да, и те, у которых шипы.
— Тогда зачем шипы?
Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.
— Зачем нужны шипы?
Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я ответил наобум:
— Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.
— Вот как!
Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:
— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают — если у них шипы, их все боятся…
Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли:
— А ты думаешь, что цветы…
— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.
Он посмотрел на меня в изумлении:
— Серьезным делом?!
Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.
— Ты говоришь, как взрослые! — сказал он.
Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:
— Все ты путаешь… ничего не понимаешь!
Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.
— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.
— Что?
— Гриб!
Маленький принц даже побледнел от гнева.
— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?
Он сильно покраснел. Потом снова заговорил:
— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!
Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете — на моей планете, по имени Земля — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит… Я нарисую твоему барашку намордник… Нарисую для твоего цветка броню… Я…» Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня… Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.
— Если барашек есть кусты, он и цветы ест?
— Он есть все, что попадется.
— Даже такие цветы, у которых шипы?
— Да, и те, у которых шипы.
— Тогда зачем шипы?
Этого я не знал. Я был очень занят: в моторе заел один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе, положение становилось серьезным, воды почти не осталось, и я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится.
— Зачем нужны шипы?
Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц никогда не отступался, пока не получал ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпенья, и я ответил наобум:
— Шипы ни зачем не нужны, цветы выпускают их просто от злости.
— Вот как!
Наступило молчание. Потом он сказал почти сердито:
— Не верю я тебе! Цветы слабые. И простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают — если у них шипы, их все боятся…
Я не ответил. В ту минуту я говорил себе: «Если этот болт и сейчас не поддастся, я так стукну по нему молотком, что он разлетится вдребезги». Маленький принц снова перебил мои мысли:
— А ты думаешь, что цветы…
— Да нет же! Ничего я не думаю! Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты видишь, я занят серьезным делом.
Он посмотрел на меня в изумлении:
— Серьезным делом?!
Он все смотрел на меня: перепачканный смазочным маслом, с молотком в руках, я наклонился над непонятным предметом, который казался ему таким уродливым.
— Ты говоришь, как взрослые! — сказал он.
Мне стало совестно. А он беспощадно прибавил:
— Все ты путаешь… ничего не понимаешь!
Да, он не на шутку рассердился. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы.
— Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный!» — совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.
— Что?
— Гриб!
Маленький принц даже побледнел от гнева.
— Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело — понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно, что барашки и цветы воюют друг с другом? Да разве это не серьезнее и не важнее, чем арифметика толстого господина с багровым лицом? А если я знаю единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет, а маленький барашек в одно прекрасное утро вдруг возьмет и съест его и даже не будет знать, что он натворил? И это все, по-твоему, не важно?
Он сильно покраснел. Потом снова заговорил:
— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» Но если барашек его съест, это все равно, как если бы все звезды разом погасли! И это, по-твоему, не важно!
Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Стемнело. Я бросил работу. Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть. На звезде, на планете — на моей планете, по имени Земля — плакал Маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Я говорил ему: «Цветку, который ты любишь, ничто не грозит… Я нарисую твоему барашку намордник… Нарисую для твоего цветка броню… Я…» Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня… Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез.
VIII
Очень скоро я лучше узнал этот цветок. На планете Маленького принца всегда росли простые, скромные цветы — у них было мало лепестков, они занимали совсем мало места и никого не беспокоили. Они раскрывались поутру в траве и под вечер увядали. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда, и Маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобаба? Но кустик быстро перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда еще не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да, это была ужасная кокетка! Таинственные приготовления длились день за днем. И вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись. И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:
— Ах, я насилу проснулась… Прошу извинить… Я еще совсем растрепанная…
Маленький принц не мог сдержать восторга:
— Как вы прекрасны!
— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.
Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!
А она вскоре заметила:
— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне…
Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.
И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая:
— Ах, я насилу проснулась… Прошу извинить… Я еще совсем растрепанная…
Маленький принц не мог сдержать восторга:
— Как вы прекрасны!
— Да, правда? — был тихий ответ. — И заметьте, я родилась вместе с солнцем.
Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало!
А она вскоре заметила:
— Кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне…
Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой.
 Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:
— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!
— На моей планете тигры не водятся, — возразил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.
— Я не трава, — обиженно заметил цветок.
— Простите меня…
— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?
Скоро оказалось, что красавица горда и обидчива, и Маленький принц совсем с нею измучился. У нее было четыре шипа, и однажды она сказала ему:
— Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей!
— На моей планете тигры не водятся, — возразил Маленький принц. — И потом, тигры не едят траву.
— Я не трава, — обиженно заметил цветок.
— Простите меня…
— Нет, тигры мне не страшны, но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы?
 «Растение, а боится сквозняков… очень странно… — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».
— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…
Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:
— Где же ширма?
— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!
Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!
Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.
— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…
«Растение, а боится сквозняков… очень странно… — подумал Маленький принц. — Какой трудный характер у этого цветка».
— Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла…
Она не договорила. Ведь ее занесло сюда, когда она была еще зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо лгать, когда тебя так легко уличить! Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой, чтобы Маленький принц почувствовал, как он перед нею виноват:
— Где же ширма?
— Я хотел пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать!
Тогда она закашляла сильнее: пускай его все-таки помучит совесть!
Хотя Маленький принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным.
— Напрасно я ее слушал, — доверчиво сказал он мне однажды. — Никогда не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Мой цветок напоил благоуханием всю мою планету, а я не умел ему радоваться. Эти разговоры о когтях и тиграх… Они должны бы меня растрогать, а я разозлился…
 И еще он признался:
— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.
И еще он признался:
— Ничего я тогда не понимал! Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. За этими жалкими хитростями и уловками я должен был угадать нежность. Цветы так непоследовательны! Но я был слишком молод, я еще не умел любить.
IX
 Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.
Не без грусти Маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать.
— Прощайте, — сказал он.
Красавица не ответила.
— Прощайте, — повторил Маленький принц.
Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана — это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.
Не без грусти Маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать.
— Прощайте, — сказал он.
Красавица не ответила.
— Прощайте, — повторил Маленький принц.
 Она кашлянула. Но не от простуды.
— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.
И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?
— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.
— Но ветер…
— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.
— Но звери, насекомые…
— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.
Она кашлянула. Но не от простуды.
— Я была глупая, — сказала она наконец. — Прости меня. И постарайся быть счастливым.
И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. Откуда эта тихая нежность?
— Да, да, я люблю тебя, — услышал он. — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым… Оставь колпак, он мне больше не нужен.
— Но ветер…
— Не так уж я простужена… Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я — цветок.
— Но звери, насекомые…
— Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, должно быть, прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти.
 И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:
— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.
Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…
И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:
— Да не тяни же, это невыносимо! Решил уйти — так уходи.
Она не хотела, чтобы Маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок…
X
Ближе всего к планете Маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их: надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне — очень простом и все же величественном. — А, вот и подданный! — воскликнул король, увидав Маленького принца.
«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в первый раз!»
Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.
— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.
Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал… и вдруг он зевнул.
— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать.
— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал…
— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
— Но я робею… я больше не могу… — вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
— Гм, гм… Тогда… Тогда я повелеваю тебе то зевать, то…
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.
Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.
«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».
— Можно мне сесть? — робко спросил Маленький принц.
— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.
Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Чем же правит этот король?
— Ваше величество, — начал он, — могу ли я вас спросить…
— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.
— Ваше величество… чем вы правите?
— Всем, — просто ответил король.
— Всем?
Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.
— И всем этим вы правите? — переспросил Маленький принц.
— Да, — отвечал король.
Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.
— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.
— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.
Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и набравшись храбрости, попросил короля:
— Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца… Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться…
— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?
— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.
— Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.
— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.
— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.
— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.
— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь. — Это будет… Гм, гм… Сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.
Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему стало скучновато.
— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.
— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.
— Министром чего?
— Ну… юстиции.
— Но ведь здесь некого судить!
— Как знать, — возразил король. — Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…
Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.
— Но я уже смотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.
— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.
— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна.
— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.
— Нет, не пора, — возразил король.
Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.
— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные.
Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.
— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.
И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.
«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.
— А, вот и подданный! — воскликнул король, увидав Маленького принца.
«Как же он меня узнал? — подумал Маленький принц. — Ведь он видит меня в первый раз!»
Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно: для них все люди — подданные.
— Подойди, я хочу тебя рассмотреть, — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.
Маленький принц оглянулся — нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал… и вдруг он зевнул.
— Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха, — сказал король. — Я запрещаю тебе зевать.
— Я нечаянно, — ответил Маленький принц, очень смущенный. — Я долго был в пути и совсем не спал…
— Ну, тогда я повелеваю тебе зевать, — сказал король. — Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай! Таков мой приказ.
— Но я робею… я больше не могу… — вымолвил Маленький принц и весь покраснел.
— Гм, гм… Тогда… Тогда я повелеваю тебе то зевать, то…
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился.
Ведь для короля самое важное — чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорства он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.
«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говаривал он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».
— Можно мне сесть? — робко спросил Маленький принц.
— Повелеваю: сядь! — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.
Но Маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная. Чем же правит этот король?
— Ваше величество, — начал он, — могу ли я вас спросить…
— Повелеваю: спрашивай! — поспешно сказал король.
— Ваше величество… чем вы правите?
— Всем, — просто ответил король.
— Всем?
Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды.
— И всем этим вы правите? — переспросил Маленький принц.
— Да, — отвечал король.
Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений.
— И звезды вам повинуются? — спросил Маленький принц.
— Ну конечно, — отвечал король. — Звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания.
Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок четыре раза в день, а семьдесят два, а то и сто, и двести раз, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место! Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и набравшись храбрости, попросил короля:
— Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца… Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться…
— Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват — он или я?
— Вы, ваше величество, — ни минуты не колеблясь, ответил Маленький принц.
— Совершенно верно, — подтвердил король. — С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны.
— А как же заход солнца? — напомнил Маленький принц: раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.
— Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло. Но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя.
— А когда условия будут благоприятные? — осведомился Маленький принц.
— Гм, гм, — ответил король, листая толстый календарь. — Это будет… Гм, гм… Сегодня это будет в семь часов сорок минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление.
Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется! И, по правде говоря, ему стало скучновато.
— Мне пора, — сказал он королю. — Больше мне здесь нечего делать.
— Останься! — сказал король: он был очень горд тем, что у него нашелся подданный, и не хотел с ним расставаться. — Останься, я назначу тебя министром.
— Министром чего?
— Ну… юстиции.
— Но ведь здесь некого судить!
— Как знать, — возразил король. — Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар, для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно…
Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты.
— Но я уже смотрел! — воскликнул он. — Там тоже никого нет.
— Тогда суди сам себя, — сказал король. — Это самое трудное. Себя судить куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
— Сам себя я могу судить где угодно, — сказал Маленький принц. — Для этого мне незачем оставаться у вас.
— Гм, гм… — сказал король. — Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна.
— Не люблю я выносить смертные приговоры, — сказал Маленький принц. — И вообще мне пора.
— Нет, не пора, — возразил король.
Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.
— Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты… Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные.
Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.
— Назначаю тебя послом! — поспешно крикнул вдогонку ему король.
И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений.
«Странный народ эти взрослые», — сказал себе Маленький принц, продолжая путь.
XI
На второй планете жил честолюбец. — О, вот и почитатель явился! — воскликнул он, еще издали завидев Маленького принца. Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.
— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.
— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.
— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.
— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец.
Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец снял шляпу и скромно раскланялся.
«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.
Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.
— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он.
Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.
— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.
— А как это — почитать?
— Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.
— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!
— Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!
— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами, — но что тебе от этого за радость?
И он сбежал от честолюбца.
«Право же, взрослые — очень странные люди», — простодушно подумал он, пускаясь в путь.
Ведь тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.
— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Какая у вас забавная шляпа.
— Это чтобы раскланиваться, — объяснил честолюбец. — Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает.
— Вот как? — промолвил Маленький принц: он ничего не понял.
— Похлопай-ка в ладоши, — сказал ему честолюбец.
Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец снял шляпу и скромно раскланялся.
«Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал Маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу.
Так минут пять подряд повторялось одно и то же, и Маленькому принцу это наскучило.
— А что надо сделать, чтобы шляпа упала? — спросил он.
Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.
— Ты и в самом деле мой восторженный почитатель? — спросил он Маленького принца.
— А как это — почитать?
— Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней.
— Да ведь на твоей планете больше и нет никого!
— Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною!
— Я восхищаюсь, — сказал Маленький принц, слегка пожав плечами, — но что тебе от этого за радость?
И он сбежал от честолюбца.
«Право же, взрослые — очень странные люди», — простодушно подумал он, пускаясь в путь.
ХII
На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившиеся перед ним полчища бутылок — пустых и полных. — Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.
— Пью, — мрачно ответил пьяница.
— Зачем?
— Чтобы забыть.
— О чем забыть? — спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.
— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.
— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.
И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.
«Да, право же, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.
— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.
— Пью, — мрачно ответил пьяница.
— Зачем?
— Чтобы забыть.
— О чем забыть? — спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.
— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.
— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.
И Маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий.
«Да, право же, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь.
XIII
Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении Маленького принца даже головы не поднял. — Добрый день, — сказал ему Маленький принц. — Ваша папироса погасла. — Три да два — пять. Пять да семь — двенадцать. Двенадцать да три — пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать да семь — двадцать два. Двадцать два да шесть — двадцать восемь. Некогда спичкой чиркнуть. Двадцать шесть да пять — тридцать один. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один. — Пятьсот миллионов чего?
— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов… Уж не знаю, чего… У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни! Два да пять — семь…
— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа.
Деловой человек поднял голову.
— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз… вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов…
— Миллионов чего?
Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.
— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.
— Это что же, мухи?
— Да нет же, такие маленькие, блестящие.
— Пчелы?
— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.
— А, звезды?
— Вот-вот. Звезды.
— Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь?
— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.
— Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?
— Что делаю?
— Да.
— Ничего не делаю. Я ими владею.
— Владеешь звездами?
— Да.
— Но я уже видел короля, который…
— Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело.
— А для чего тебе владеть звездами?
— Чтоб быть богатым.
— А для чего быть богатым?
— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.
«Он рассуждает почти как пьяница», — подумал Маленький принц.
И стал спрашивать дальше:
— А как можно владеть звездами?
— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.
— Не знаю. Ничьи.
— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.
— И этого довольно?
— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.
— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — И что же ты с ними делаешь?
— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.
Однако Маленькому принцу этого было мало.
— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!
— Нет, но я могу положить их в банк.
— Как это?
— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.
— И все?
— Этого довольно.
«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».
Что серьезно, а что не серьезно, — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.
— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы…
Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.
«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.
— Пятьсот миллионов чего?
— А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов… Уж не знаю, чего… У меня столько работы! Я человек серьезный, мне не до болтовни! Два да пять — семь…
— Пятьсот миллионов чего? — повторил Маленький принц: спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа.
Деловой человек поднял голову.
— Уже пятьдесят четыре года я живу на этой планете, и за все время мне мешали только три раза. В первый раз, двадцать два года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я тогда сделал четыре ошибки в сложении. Во второй раз, одиннадцать лет тому назад, у меня был приступ ревматизма. От сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. Третий раз… вот он! Итак, стало быть, пятьсот миллионов…
— Миллионов чего?
Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя.
— Пятьсот миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе.
— Это что же, мухи?
— Да нет же, такие маленькие, блестящие.
— Пчелы?
— Да нет же. Такие маленькие, золотые, всякий лентяй как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный. Мне мечтать некогда.
— А, звезды?
— Вот-вот. Звезды.
— Пятьсот миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь?
— Пятьсот один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать одна. Я человек серьезный, я люблю точность.
— Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?
— Что делаю?
— Да.
— Ничего не делаю. Я ими владею.
— Владеешь звездами?
— Да.
— Но я уже видел короля, который…
— Короли ничем не владеют. Они только правят. Это совсем другое дело.
— А для чего тебе владеть звездами?
— Чтоб быть богатым.
— А для чего быть богатым?
— Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет.
«Он рассуждает почти как пьяница», — подумал Маленький принц.
И стал спрашивать дальше:
— А как можно владеть звездами?
— Звезды чьи? — ворчливо спросил делец.
— Не знаю. Ничьи.
— Значит, мои, потому что я первый до этого додумался.
— И этого довольно?
— Ну конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, — значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент: она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть.
— Вот это верно, — сказал Маленький принц. — И что же ты с ними делаешь?
— Распоряжаюсь ими, — ответил делец. — Считаю их и пересчитываю. Это очень трудно. Но я человек серьезный.
Однако Маленькому принцу этого было мало.
— Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой, — сказал он. — Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды!
— Нет, но я могу положить их в банк.
— Как это?
— А так: пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ.
— И все?
— Этого довольно.
«Забавно! — подумал Маленький принц. — И даже поэтично. Но не так уж это серьезно».
Что серьезно, а что не серьезно, — это Маленький принц понимал по-своему, совсем не так, как взрослые.
— У меня есть цветок, — сказал он, — и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана, я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухший тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы…
Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся что ответить, и Маленький принц отправился дальше.
«Нет, взрослые и правда поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь.
XIV
Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал: «Может быть, этот человек и нелеп. Но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь — как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь — как будто звезда или цветок засыпают. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво».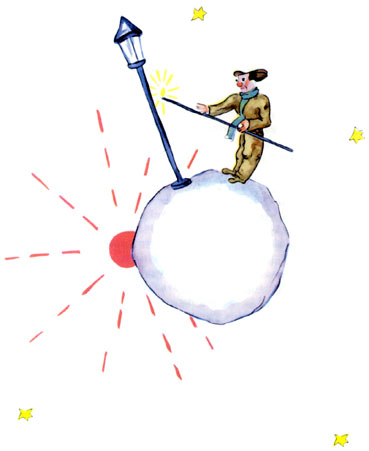 И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.
— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил фонарь?
— Такой уговор, — ответил фонарщик. — Добрый день.
— А что это за уговор?
— Гасить фонарь. Добрый вечер.
И он снова засветил фонарь.
— Зачем же ты опять его зажег?
— Такой уговор, — повторил фонарщик.
— Не понимаю, — признался Маленький принц.
— И понимать нечего, — сказал фонарщик, — уговор есть уговор. Добрый день.
И погасил фонарь.
Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:
— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, что бы выспаться…
— А потом уговор переменился?
— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.
— И как же теперь? — спросил Маленький принц.
— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.
— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!
— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.
— Целый месяц?!
— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!
И он опять засветил фонарь.
Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И ему захотелось помочь другу.
— Послушай, — сказал он фонарщику, — я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь…
— Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.
Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.
— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди… И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.
— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.
— Тогда плохо твое дело, — посочувствовал Маленький принц.
— Плохо мое дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.
И погасил фонарь.
«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».
Маленький принц вздохнул.
«Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»
Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!
И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику.
— Добрый день, — сказал он. — Почему ты сейчас погасил фонарь?
— Такой уговор, — ответил фонарщик. — Добрый день.
— А что это за уговор?
— Гасить фонарь. Добрый вечер.
И он снова засветил фонарь.
— Зачем же ты опять его зажег?
— Такой уговор, — повторил фонарщик.
— Не понимаю, — признался Маленький принц.
— И понимать нечего, — сказал фонарщик, — уговор есть уговор. Добрый день.
И погасил фонарь.
Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:
— Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, что бы выспаться…
— А потом уговор переменился?
— Уговор не менялся, — сказал фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.
— И как же теперь? — спросил Маленький принц.
— Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю.
— Вот забавно! Значит, у тебя день длится всего одну минуту!
— Ничего тут нет забавного, — возразил фонарщик. — Мы с тобой разговариваем уже целый месяц.
— Целый месяц?!
— Ну да. Тридцать минут. Тридцать дней. Добрый вечер!
И он опять засветил фонарь.
Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца. И ему захотелось помочь другу.
— Послушай, — сказал он фонарщику, — я знаю средство: ты можешь отдыхать, когда только захочешь…
— Мне все время хочется отдыхать, — сказал фонарщик.
Ведь можно быть верным слову и все-таки ленивым.
— Твоя планетка такая крохотная, — продолжал Маленький принц, — ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди… И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь.
— Ну, от этого мне мало толку, — сказал фонарщик. — Больше всего на свете я люблю спать.
— Тогда плохо твое дело, — посочувствовал Маленький принц.
— Плохо мое дело, — подтвердил фонарщик. — Добрый день.
И погасил фонарь.
«Вот человек, — сказал себе Маленький принц, продолжая путь, — вот человек, которого все стали бы презирать — и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. А между тем из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе».
Маленький принц вздохнул.
«Вот бы с кем подружиться, — подумал он еще. — Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих…»
Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине: за двадцать четыре часа на ней можно любоваться закатом тысячу четыреста сорок раз!
XV
Шестая планета была в десять раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. — Смотрите-ка! Вот прибыл путешественник! — воскликнул он, заметив Маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал! — Откуда ты? — спросил его старик. — Что это за огромная книга? — спросил Маленький принц. — Что вы здесь делаете? — Я географ, — ответил старик. — А что такое географ? — Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.
— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это — настоящее дело!
И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты!
— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?
— Этого я не знаю, — сказал географ.
— О-о-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?
— Не знаю, — повторил географ.
— А города, реки, пустыни?
— И этого я тоже не знаю.
— Но ведь вы географ!
— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.
— А зачем?
— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.
— А почему?
— Потому, что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.
— Я знал одного человека… Из него вышел бы плохой путешественник, — заметил Маленький принц.
— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.
— Как проверяют? Идут и смотрят?
— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.
Географ вдруг пришел в волнение:
— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!
И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.
— Слушаю тебя, — сказал географ.
— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…
— Да, все может случиться, — подтвердил географ.
— Потом у меня есть цветок.
— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.
— Почему?! Это ведь самое красивое!
— Потому, что цветы эфемерны.
— Как это — эфемерны?
— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.
— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое «эфемерный»?
— Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.
— А что такое «эфемерный»? — спросил Маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа.
— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.
— И мой цветок должен скоро исчезнуть?
— Разумеется.
«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира, у нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»
Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему.
— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.
— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…
И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.
— Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни.
— Как интересно! — сказал Маленький принц. — Вот это — настоящее дело!
И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты!
— Ваша планета очень красивая, — сказал он. — А океаны у вас есть?
— Этого я не знаю, — сказал географ.
— О-о-о… — разочарованно протянул Маленький принц. — А горы есть?
— Не знаю, — повторил географ.
— А города, реки, пустыни?
— И этого я тоже не знаю.
— Но ведь вы географ!
— Вот именно, — сказал старик. — Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ — слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник.
— А зачем?
— Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. И если он выпивает лишнее — тоже беда.
— А почему?
— Потому, что у пьяниц двоится в глазах. И там, где на самом деле одна гора, географ отметит две.
— Я знал одного человека… Из него вышел бы плохой путешественник, — заметил Маленький принц.
— Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие.
— Как проверяют? Идут и смотрят?
— Ну нет. Это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни.
Географ вдруг пришел в волнение:
— Но ты ведь и сам путешественник! Ты явился издалека! Расскажи мне о своей планете!
И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.
— Слушаю тебя, — сказал географ.
— Ну, у меня там не так уж интересно, — промолвил Маленький принц. — У меня все очень маленькое. Есть три вулкана. Два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться…
— Да, все может случиться, — подтвердил географ.
— Потом у меня есть цветок.
— Цветы мы не отмечаем, — сказал географ.
— Почему?! Это ведь самое красивое!
— Потому, что цветы эфемерны.
— Как это — эфемерны?
— Книги по географии — самые драгоценные книги на свете, — объяснил географ. — Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.
— Но потухший вулкан может проснуться, — прервал Маленький принц. — А что такое «эфемерный»?
— Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения, — сказал географ. — Важно одно: гора. Она не меняется.
— А что такое «эфемерный»? — спросил Маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа.
— Это значит: тот, что должен скоро исчезнуть.
— И мой цветок должен скоро исчезнуть?
— Разумеется.
«Моя краса и радость недолговечна, — сказал себе Маленький принц, — и ей нечем защищаться от мира, у нее только и есть что четыре шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна!»
Это впервые он пожалел о покинутом цветке. Но тут же мужество вернулось к нему.
— Куда вы посоветуете мне отправиться? — спросил он географа.
— Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…
И Маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке.
XVI
Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля — планета не простая! На ней насчитывается сто одиннадцать королей (в том числе, конечно, и негритянских), семь тысяч географов, девятьсот тысяч дельцов, семь с половиной миллионов пьяниц, триста одиннадцать миллионов честолюбцев, итого около двух миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что, пока не изобрели электричество, на всех шести континентах приходилось держать целую армию фонарщиков — четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.
Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на северном полюсе, да его собрату на южном полюсе, — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.
Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии. Потом — в Африке и Европе. Затем в Южной Америке, затем в Северной Америке. И никогда они не ошибались, никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно.
Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на северном полюсе, да его собрату на южном полюсе, — только этим двоим жилось легко и беззаботно: им приходилось заниматься своим делом всего два раза в год.
ХVII
Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером двадцать миль в длину и двадцать в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.
— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.
— Добрый вечер, — ответила змея.
— На какую это планету я попал?
— На Землю, — сказала змея. — В Африку.
— Вот как. А разве на Земле нет людей?
— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.
Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.
— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз прямо над нами… Но как до нее далеко!
— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?
— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.
— А, вот оно что…
И оба умолкли.
— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко…
— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.
Маленький принц внимательно посмотрел на нее.
— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…
— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.
Маленький принц улыбнулся:
— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…
— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.
И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.
— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…
Маленький принц не ответил.
— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…
— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?
— Я решаю все загадки, — сказала змея.
И оба умолкли.
Итак, попав на землю, Маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча.
— Добрый вечер, — сказал на всякий случай Маленький принц.
— Добрый вечер, — ответила змея.
— На какую это планету я попал?
— На Землю, — сказала змея. — В Африку.
— Вот как. А разве на Земле нет людей?
— Это пустыня. В пустынях никто не живет. Но Земля большая.
Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.
— Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, — задумчиво сказал он. — Наверно, затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вот моя планета — как раз прямо над нами… Но как до нее далеко!
— Красивая планета, — сказала змея. — А что ты будешь делать здесь, на Земле?
— Я поссорился со своим цветком, — признался Маленький принц.
— А, вот оно что…
И оба умолкли.
— А где же люди? — вновь заговорил наконец Маленький принц. — В пустыне все-таки одиноко…
— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.
Маленький принц внимательно посмотрел на нее.
— Странное ты существо, — сказал он. — Не толще пальца…
— Но могущества у меня больше, чем в пальце короля, — возразила змея.
Маленький принц улыбнулся:
— Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты и путешествовать не можешь…
— Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, — сказала змея.
И обвилась вокруг щиколотки Маленького принца, словно золотой браслет.
— Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел, — сказала она. — Но ты чист и явился со звезды…
Маленький принц не ответил.
— Мне жаль тебя, — продолжала змея. — Ты так слаб на этой Земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу…
— Я прекрасно понял, — сказал Маленький принц. — Но почему ты все время говоришь загадками?
— Я решаю все загадки, — сказала змея.
И оба умолкли.
XVIII
Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок — крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках… — Здравствуй, — сказал Маленький принц.
— Здравствуй, — отвечал цветок.
— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.
Цветок видел однажды, как мимо шел караван.
— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.
— Прощай, — сказал Маленький принц.
— Прощай, — сказал цветок.
— Здравствуй, — сказал Маленький принц.
— Здравствуй, — отвечал цветок.
— А где люди? — вежливо спросил Маленький принц.
Цветок видел однажды, как мимо шел караван.
— Люди? Ах да… Их всего-то, кажется, шесть или семь. Я видел их много лет назад. Но где их искать — неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней, это очень неудобно.
— Прощай, — сказал Маленький принц.
— Прощай, — сказал цветок.
XIX
Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих трех вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом. И теперь он подумал: «С такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. — Добрый день, — сказал он на всякий случай. — Добрый день… день… день… — откликнулось эхо. — Кто вы? — спросил Маленький принц. — Кто вы… кто вы… кто вы… — откликнулось эхо. — Будем друзьями, я совсем один, — сказал он. — Один… один… один… — откликнулось эхо. «Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».
«Какая странная планета! — подумал Маленький принц. — Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь… Дома у меня был цветок, моя краса и радость, и он всегда заговаривал первым».
ХX
Долго шел Маленький принц через пески, скалы и снега и, наконец, набрел на дорогу. А все дороги ведут к людям. — Добрый день, — сказал он. Перед ним был сад, полный роз. — Добрый день, — отозвались розы. И Маленький принц увидел, что все они похожи на его цветок. — Кто вы? — спросил он, пораженный.
— Мы — розы, — отвечали розы.
— Вот как… — промолвил Маленький принц.
И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!
«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»
А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть, навсегда… какой же я после этого принц…»
Он лег в траву и заплакал.
— Кто вы? — спросил он, пораженный.
— Мы — розы, — отвечали розы.
— Вот как… — промолвил Маленький принц.
И почувствовал себя очень-очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов в одном только саду!
«Как бы она рассердилась, если бы увидела их! — подумал Маленький принц. — Она бы ужасно раскашлялась и сделала вид, что умирает, лишь бы не показаться смешной. А мне пришлось бы ходить за ней, как за больной, ведь иначе она и вправду бы умерла, лишь бы унизить и меня тоже…»
А потом он подумал: «Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Только всего у меня и было что простая роза да три вулкана ростом мне по колено, и то один из них потух и, может быть, навсегда… какой же я после этого принц…»
Он лег в траву и заплакал.
XXI
Вот тут-то и появился Лис. — Здравствуй, — сказал он. — Здравствуй, — вежливо ответил Маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. — Я здесь, — послышался голос. — Под яблоней… — Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!
— Я — Лис, — сказал Лис.
— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…
— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.
— Ах, извини, — сказал Маленький принц.
Но, подумав, спросил:
— А как это — приручить?
— Ты не здешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?
— Людей ищу, — сказалМаленький принц. — А как это — приручить?
— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?
— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?
— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.
— Узы?
— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете…
— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Была одна роза… наверно, она меня приручила…
— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.
— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.
Лис очень удивился:
— На другой планете?
— Да.
— А на той планете есть охотники?
— Нет.
— Как интересно! А куры есть?
— Нет.
— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.
— Кто ты? — спросил Маленький принц. — Какой ты красивый!
— Я — Лис, — сказал Лис.
— Поиграй со мной, — попросил Маленький принц. — Мне так грустно…
— Не могу я с тобой играть, — сказал Лис. — Я не приручен.
— Ах, извини, — сказал Маленький принц.
Но, подумав, спросил:
— А как это — приручить?
— Ты не здешний, — заметил Лис. — Что ты здесь ищешь?
— Людей ищу, — сказалМаленький принц. — А как это — приручить?
— У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно! И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?
— Нет, — сказал Маленький принц. — Я ищу друзей. А как это — приручить?
— Это давно забытое понятие, — объяснил Лис. — Оно означает: создать узы.
— Узы?
— Вот именно, — сказал Лис. — Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете…
— Я начинаю понимать, — сказал Маленький принц. — Была одна роза… наверно, она меня приручила…
— Очень возможно, — согласился Лис. — На Земле чего только не бывает.
— Это было не на Земле, — сказал Маленький принц.
Лис очень удивился:
— На другой планете?
— Да.
— А на той планете есть охотники?
— Нет.
— Как интересно! А куры есть?
— Нет.
— Нет в мире совершенства! — вздохнул Лис.
 Но потом он вновь заговорил о том же:
— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…
Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:
— Пожалуйста… приручи меня!
— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
Но потом он вновь заговорил о том же:
— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…
Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом сказал:
— Пожалуйста… приручи меня!
— Я бы рад, — отвечал Маленький принц, — но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи.
 — Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!
— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.
— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе…
Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.
— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.
— Узнать можно только те вещи, которые приручишь, — сказал Лис. — У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!
— А что для этого надо делать? — спросил Маленький принц.
— Надо запастись терпеньем, — ответил Лис. — Сперва сядь вон там, поодаль, на траву — вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе…
Назавтра Маленький принц вновь пришел на то же место.
— Лучше приходи всегда в один и тот же час, — попросил Лис. — Вот, например, если ты будешь приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью! А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце… Нужно соблюдать обряды.
 — А что такое обряды? — спросил Маленький принц.
— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.
Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.
— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.
— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
— Да, конечно, — сказал Лис.
— Но ты будешь плакать!
— Да, конечно.
— Значит, тебе от этого плохо.
— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.
Он умолк. Потом прибавил:
— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.
Маленький принц пошел взглянуть на розы.
— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.
Розы очень смутились.
— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.
И Маленький принц возвратился к Лису.
— Прощай… — сказал он.
— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.
— Потому что я отдавал ей всю душу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— А что такое обряды? — спросил Маленький принц.
— Это тоже нечто давно забытое, — объяснил Лис. — Нечто такое, отчего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день — четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали когда придется, все дни были бы одинаковы и я никогда не знал бы отдыха.
Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.
— Я буду плакать о тебе, — вздохнул Лис.
— Ты сам виноват, — сказал Маленький принц. — Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
— Да, конечно, — сказал Лис.
— Но ты будешь плакать!
— Да, конечно.
— Значит, тебе от этого плохо.
— Нет, — возразил Лис, — мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья.
Он умолк. Потом прибавил:
— Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок.
Маленький принц пошел взглянуть на розы.
— Вы ничуть не похожи на мою розу, — сказал он им. — Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой Лис. Он ничем не отличался от ста тысяч других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он — единственный в целом свете.
Розы очень смутились.
— Вы красивые, но пустые, — продолжал Маленький принц. — Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только двух или трех оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она — моя.
И Маленький принц возвратился к Лису.
— Прощай… — сказал он.
— Прощай, — сказал Лис. — Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.
— Потому что я отдавал ей всю душу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу.
— Я в ответе за мою розу… — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
XXII
— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Добрый день, — отозвался стрелочник. — Что ты здесь делаешь? — спросил Маленький принц. — Сортирую пассажиров, — отвечал стрелочник. — Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз — один поезд направо, другой налево. И скорый поезд, сверкая освещенными окнами, с громом промчался мимо, и будка стрелочника вся задрожала. — Как они спешат, — удивился Маленький принц. — Чего они ищут? — Даже сам машинист этого не знает, — сказал стрелочник. И в другую сторону, сверкая огнями, с громом пронесся еще один скорый поезд. — Они уже возвращаются? — спросил Маленький принц. — Нет, это другие, — сказал стрелочник. — Это встречный. — Им было нехорошо там, где они были прежде? — Там хорошо, где нас нет, — сказал стрелочник. И прогремел, сверкая, третий скорый поезд. — Они хотят догнать тех, первых? — спросил Маленький принц. — Ничего они не хотят, — сказал стрелочник. — Они спят в вагонах или просто сидят и зевают. Одни только дети прижимаются носами к окнам. — Одни только дети знают, чего ищут, — промолвил Маленький принц. — Они отдают всю душу тряпочной кукле, и она становится им очень-очень дорога, и если ее у них отнимут, дети плачут… — Их счастье, — сказал стрелочник.XXIII
— Добрый день, — сказал Маленький принц. — Добрый день, — ответил торговец. Он торговал усовершенствованными пилюлями, которые утоляют жажду. Проглотишь такую пилюлю — и потом целую неделю не хочется пить. — Для чего ты их продаешь? — спросил Маленький принц. — От них большая экономия времени, — ответил торговец. — По подсчетам специалистов, можно сэкономить пятьдесят три минуты в неделю. — А что делать в эти пятьдесят три минуты? — Да что хочешь. «Будь у меня пятьдесят три минуты свободных, — подумал Маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику…»
«Будь у меня пятьдесят три минуты свободных, — подумал Маленький принц, — я бы просто-напросто пошел к роднику…»
ХXIV
Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая про торговца пилюлями, я выпил последний глоток воды. — Да, — сказал я Маленькому принцу, — все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не починил свой самолет, у меня не осталось ни капли воды, и я тоже был бы счастлив, если бы мог просто-напросто пойти к роднику. — Лис, с которым я подружился… — Милый мой, мне сейчас не до Лиса! — Почему? — Да потому, что придется умереть от жажды… Он не понял, какая тут связь. Он возразил: — Хорошо, когда есть друг, пусть даже надо умереть. Вот я очень рад, что дружил с Лисом… «Он не понимает, как велика опасность. Он никогда не испытывал ни голода, ни жажды. Ему довольно солнечного луча…» Я не сказал этого вслух, только подумал. Но Маленький принц посмотрел на меня — и промолвил: — Мне тоже хочется пить… пойдем поищем колодец… Я устало развел руками: что толку наугад искать колодцы в бескрайней пустыне? Но все-таки мы пустились в путь. Долгие часы мы шли молча; наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды. От жажды меня немного лихорадило, и я видел их будто во сне. Мне все вспоминались слова Маленького принца, и я спросил: — Значит, и ты тоже знаешь, что такое жажда? Но он не ответил. Он сказал просто: — Вода бывает нужна и сердцу… Я не понял, но промолчал. Я знал, что не следует его расспрашивать. Он устал. Опустился на песок. Я сел рядом. Помолчали. Потом он сказал: — Звезды очень красивые, потому что где-то там есть цветок, хоть его и не видно… — Да, конечно, — сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. — И пустыня красивая… — прибавил Маленький принц. Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. Ничего не видно. Ничего не слышно. И все же в тишине что-то светится… — Знаешь, отчего хороша пустыня? — сказал он. — Где-то в ней скрываются родники… Я был поражен, вдруг я понял, что означает таинственный свет, исходящий от песков. Когда-то, маленьким мальчиком, я жил в старом-престаром доме — рассказывали, будто в нем запрятан клад. Разумеется, никто его так и не открыл, а может быть, никто никогда его и не искал. Но из-за него дом был словно заколдован: в сердце своем он скрывал тайну… — Да, — сказал я. — Будь то дом, звезды или пустыня — самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами. — Я очень рад, что ты согласен с моим другом Лисом, — отозвался Маленький принц. Потом он уснул, я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось — я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей Земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер, и говорил себе: все это лишь оболочка. Самое главное — то, чего не увидишь глазами… Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и я сказал себе еще: трогательней всего в этом спящем Маленьком принце его верность цветку, образ розы, который сияет в нем, словно пламя светильника, даже когда он спит… И я понял, что он еще более хрупок, чем кажется. Светильники надо беречь: порыв ветра может погасить их… Так я шел — и на рассвете дошел до колодца.XXV
— Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую… Потом прибавил: — И все напрасно… Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец — просто яма в песке. А это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, и я подумал, что это сон. — Как странно, — сказал я Маленькому принцу, — тут все приготовлено: и ворот, и ведро, и веревка… Он засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот. И ворот заскрипел, точно старый флюгер, долго ржавевший в безветрии. — Слышишь? — сказал Маленький принц. — Мы разбудили колодец, и он запел… Я боялся, что он устанет. — Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.
Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пенье скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.
— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться…
И я понял, что он искал!
Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была, как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.
— На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…
— Не находят, — согласился я.
— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…
— Да, конечно, — согласился я.
И Маленький принц сказал:
— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.
Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..
— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.
— Какое слово?
— Помнишь, ты обещал… намордник для моего барашка… Я ведь в ответе за тот цветок.
Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:
— Баобабы у тебя похожи на капусту…
А я-то так гордился своими баобабами!
— А у лисицы твоей уши… точно рога! И какие длинные!
И он опять засмеялся.
— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.
— Ну ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.
И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.
— Ты что-то задумал и не говоришь мне…
Но он не ответил.
— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю…
И умолк. Потом прибавил:
— Я упал совсем близко отсюда…
И покраснел.
И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе.
Все-таки я спросил:
— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?
Маленький принц покраснел еще сильнее.
А я прибавил нерешительно:
— Может быть, это потому, что исполняется год?..
И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?
— Мне страшно… — со вздохом начал я.
Но он сказал:
— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером…
Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
— Я сам зачерпну воды, — сказал я, — тебе это не под силу.
Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пенье скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики.
— Мне хочется глотнуть этой воды, — промолвил Маленький принц. — Дай мне напиться…
И я понял, что он искал!
Я поднес ведро к его губам. Он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была не простая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была, как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки: сияньем свеч на елке, пеньем органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками.
— На твоей планете, — сказал Маленький принц, — люди выращивают в одном саду пять тысяч роз… и не находят того, что ищут…
— Не находят, — согласился я.
— А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной-единственной розе, в глотке воды…
— Да, конечно, — согласился я.
И Маленький принц сказал:
— Но глаза слепы. Искать надо сердцем.
Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?..
— Ты должен сдержать слово, — мягко сказал Маленький принц, снова садясь рядом со мною.
— Какое слово?
— Помнишь, ты обещал… намордник для моего барашка… Я ведь в ответе за тот цветок.
Я достал из кармана свои рисунки. Маленький принц поглядел на них и засмеялся:
— Баобабы у тебя похожи на капусту…
А я-то так гордился своими баобабами!
— А у лисицы твоей уши… точно рога! И какие длинные!
И он опять засмеялся.
— Ты несправедлив, дружок. Я ведь никогда и не умел рисовать — разве только удавов снаружи и изнутри.
— Ну ничего, — успокоил он меня. — Дети и так поймут.
И я нарисовал намордник для барашка. Я отдал рисунок Маленькому принцу, и сердце у меня сжалось.
— Ты что-то задумал и не говоришь мне…
Но он не ответил.
— Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится год, как я попал к вам на Землю…
И умолк. Потом прибавил:
— Я упал совсем близко отсюда…
И покраснел.
И опять, бог весть почему, тяжело стало у меня на душе.
Все-таки я спросил:
— Значит, неделю назад, в то утро, когда мы познакомились, ты не случайно бродил тут совсем один, за тысячу миль от человеческого жилья? Ты возвращался к тому месту, где тогда упал?
Маленький принц покраснел еще сильнее.
А я прибавил нерешительно:
— Может быть, это потому, что исполняется год?..
И снова он покраснел. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ведь когда краснеешь, это значит «да», не так ли?
— Мне страшно… — со вздохом начал я.
Но он сказал:
— Пора тебе приниматься за работу. Иди к своей машине. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся завтра вечером…
Однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил о Лисе. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
XXVI
Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что Маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. И услышал его голос: — Разве ты не помнишь? — говорил он. — Это было совсем не здесь. Наверно, кто-то ему отвечал, потому что он возразил: — Ну да, это было ровно год назад, день в день, но только в другом месте… Я зашагал быстрей. Но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем Маленький принц снова ответил кому-то: — Ну, конечно. Ты найдешь мои следы на песке. И тогда жди. Сегодня ночью я туда приду. До стены оставалось двадцать метров, а я все еще ничего не видел. После недолгого молчания Маленький принц спросил: — А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться? Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал. — Теперь уходи, — сказал Маленький принц. — Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, да так и подскочил! У подножья стены, подняв голову к Маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлически звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего Маленького принца. Он был белее снега.
— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?
Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:
— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…
— Откуда ты знаешь?!
Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!
Он не ответил, он только сказал:
— И я тоже сегодня вернусь домой.
Потом прибавил печально:
— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…
Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать…
Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.
— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…
И он печально улыбнулся.
Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.
— Ты напугался, малыш…
Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:
— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…
И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.
— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься…
Но он сказал:
— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…
— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?
Но он не ответил.
— Самое главное — то, чего не увидишь глазами… — сказал он.
— Да, конечно…
— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.
— Да, конечно…
— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки… Помнишь? Она была очень хорошая.
— Да, конечно…
— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды… Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…
И он засмеялся.
— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!
— Вот это и есть мой подарок… это будет, как с водой…
— Как так?
— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…
— Как так?
— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!
И он сам засмеялся.
— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю.
Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего Маленького принца. Он был белее снега.
— Что это тебе вздумалось, малыш! — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?
Я развязал его неизменный золотой шарф. Смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. Он сказал:
— Я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой…
— Откуда ты знаешь?!
Я как раз собирался сказать ему, что, вопреки всем ожиданиям, мне удалось исправить самолет!
Он не ответил, он только сказал:
— И я тоже сегодня вернусь домой.
Потом прибавил печально:
— Это гораздо дальше… и гораздо труднее…
Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и, однако, мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать…
Он задумчиво смотрел куда-то вдаль.
— У меня останется твой барашек. И ящик для барашка. И намордник…
И он печально улыбнулся.
Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя.
— Ты напугался, малыш…
Ну еще бы не напугаться! Но он тихонько засмеялся:
— Сегодня вечером мне будет куда страшнее…
И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня — точно родник в пустыне.
— Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься…
Но он сказал:
— Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад…
— Послушай, малыш, ведь все это — и змея, и свиданье со звездой — просто дурной сон, правда?
Но он не ответил.
— Самое главное — то, чего не увидишь глазами… — сказал он.
— Да, конечно…
— Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды расцветают.
— Да, конечно…
— Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки… Помнишь? Она была очень хорошая.
— Да, конечно…
— Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая, я не могу ее тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто — одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды… Все они станут тебе друзьями. И потом, я тебе кое-что подарю…
И он засмеялся.
— Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься!
— Вот это и есть мой подарок… это будет, как с водой…
— Как так?
— У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они — как задача, которую надо решить. Для моего дельца они — золото. Но для всех этих людей звезды — немые. А у тебя будут совсем особенные звезды…
— Как так?
— Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь, — и ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться!
И он сам засмеялся.
— И когда ты утешишься (в конце концов всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочется посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно… И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю.
 И он опять засмеялся.
— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…
Он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:
— Знаешь… сегодня ночью… лучше не приходи.
— Я тебя не оставлю.
— Тебе покажется, что мне больно… покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.
— Я тебя не оставлю.
Но он был чем-то озабочен.
— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.
— Я тебя не оставлю.
Он вдруг успокоился:
— Правда, на двоих у нее не хватит яда…
В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.
— А, это ты… — сказал он только.
И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.
— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда…
Я молчал.
— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.
Я молчал.
— Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального…
Я молчал.
Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:
— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…
Я молчал.
— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников…
И он опять засмеялся.
— Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов…
Он опять засмеялся. Потом снова стал серьезен:
— Знаешь… сегодня ночью… лучше не приходи.
— Я тебя не оставлю.
— Тебе покажется, что мне больно… покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо.
— Я тебя не оставлю.
Но он был чем-то озабочен.
— Видишь ли… это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит… Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие.
— Я тебя не оставлю.
Он вдруг успокоился:
— Правда, на двоих у нее не хватит яда…
В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я наконец нагнал его, он шел быстрым, решительным шагом.
— А, это ты… — сказал он только.
И взял меня за руку. Но что-то его тревожило.
— Напрасно ты идешь со мной. Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда…
Я молчал.
— Видишь ли… это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.
Я молчал.
— Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального…
Я молчал.
Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие:
— Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды. И все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом. И каждая даст мне напиться…
Я молчал.
— Подумай, как забавно! У тебя будет пятьсот миллионов бубенцов, а у меня — пятьсот миллионов родников…
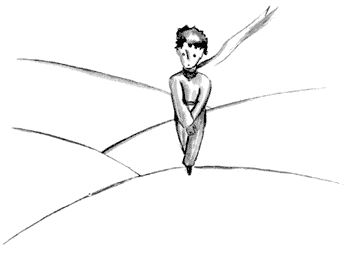 И тут он тоже замолчал, потому что заплакал…
— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.
И он сел на песок, потому что ему стало страшно.
Потом он сказал:
— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира…
Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:
— Ну… вот и все…
Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.
Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.
И тут он тоже замолчал, потому что заплакал…
— Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному.
И он сел на песок, потому что ему стало страшно.
Потом он сказал:
— Знаешь… моя роза… я за нее в ответе. А она такая слабая! И такая простодушная. У нее только и есть что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира…
Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал:
— Ну… вот и все…
Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг. А я не мог шевельнуться.
Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим. Не вскрикнул. Потом упал — медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно, ведь песок приглушает все звуки.

XXVII
И вот прошло уже шесть лет… Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им: — Это я просто устал… И все же понемногу я утешился. То есть… Не совсем. Но я знаю, он возвратился на свою планетку, ведь, когда рассвело, я не нашел на песке его тела. Не такое уж оно было тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды. Словно пятьсот миллионов бубенцов… Но вот что поразительно. Когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок! Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя: что-то делается там, на его планете? Вдруг барашек съел розу? Иногда я говорю себе: «Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком…» Тогда я счастлив. И все звезды тихонько смеются. А иногда я говорю себе: «Бываешь же порой рассеянным… тогда все может случиться! Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак или барашек ночью втихомолку выбрался на волю…» И тогда все бубенцы плачут… Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил Маленького принца, как и мне, это совсем, совсем не все равно: весь мир становится для нас иным оттого, что где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может, съел не знакомую нам розу. Взгляните на небо. И спросите себя: «Жива ли та роза или ее уже нет? Вдруг барашек ее съел?» И вы увидите: все станет по-другому… И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно! Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.
Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся…
Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь Маленький принц впервые появился на Земле, а потом исчез.
Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой! И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся…
Леону Верту.
Антуан де Сент–Экзюпери Манон, танцовщица (сборник)
Предисловие
«Манон, танцовщица» — первое произведение Антуана де Сент–Экзюпери, принятое к печати, но до сегодняшнего дня так и не опубликованное. Несколько строк из него появилось в первом томе «Полного собрания сочинений» в «Библиотеке Плеяды», воспроизводя машинописный текст, который присутствовал в качестве экспоната на выставке 1984 года, посвященной Национальному архиву (машинопись была подарена автором Луизе де Вильморен). Другой вариант авторского машинописного текста, выставленный тридцатью годами раньше на выставке в Национальной библиотеке, взятый из семейного архива Фонсколомбов, в этом издании учтен не был. Между тем многочисленные биографы Сент–Экзюпери упоминали эту новеллу, и в первую очередь ее упоминала Нелли де Вогюэ, которая сообщила, что новелла была написана в 1925 году. Сообщение ближайшей подруги де Сент–Экзюпери подтверждается многочисленными свидетельствами самого автора, рассыпанными в его письмах. Однако бдительность и осторожность не помешают исследователю: творческая активность молодого офицера воздушного флота, ушедшего в запас (Сент–Экзюпери был ровесником века), удвоилась после того, как он освободился от военных обязанностей и без особого энтузиазма начал иную профессиональную деятельность. В это время он был помолвлен с Луизой де Вильморен (позже помолвка будет разорвана), и семья невесты настоятельно потребовала от жениха, чтобы он отказался от карьеры военного летчика. И вот в ожидании свадьбы Сент–Экзюпери, погруженный в мечты, но при этом несколько печальный и подавленный, колесит по дорогам центральной Франции, став коммивояжером компании «Сорер», производящей грузовики. Не чувствуя призвания к купле–продаже, молодой человек не слишком ревностно занимается предложением своего товара, зато использует долгие часы одиночества в провинциальном захолустье для того, чтобы утвердиться в своем призвании писателя, раз ему отказано в осуществлении призвания летчика (речь идет о годах, которые предшествовали поступлению де Сент–Экзюпери в компанию Аэропосталь). Молодой человек постоянно с пером в руках. Как видно по его переписке, он пишет «рассказ» за «рассказом», «новеллу» за «новеллой» и даже начинает набрасывать «роман». Нам неизвестно, что это за произведения, были они закончены или нет, но в письмах к друзьям, подругам и родственникам он постоянно упоминает о них и пишет о каждом, что оно продвигается вперед. Так, в письме к Рене де Соссин (Гере, 1925) он с большим нетерпением требует, чтобы она высказала свое мнение об «этом рассказе», которым он так гордится (вполне возможно, о «Манон») и подводит итог: «Он (рассказ) должен тебе понравиться, если нет, то я никогда не буду больше писать». Переписка тех времен свидетельствует как об активной и успешной литературной деятельности, так и об осмыслении творческого процесса и писательского ремесла. «Я заметил, — пишет он в 1924 году матери, своей внимательнейшей читательнице, — что люди, когда говорят или пишут, забывают о необходимости вдумываться в смысл, они довольствуются готовыми конструкциями, пользуются словами, как счетной машинкой, считая, что слова выдадут истину без их участия. Согласись, это глупо. Не нужно учиться подхватывать витающее в воздухе, наоборот, нужно учиться обходиться без него. […] Мои требования к себе становятся все четче, и на их основе я хочу построить свою книгу. О внутренней драме человека, который преуспел. Разоблачение в самом начале должно быть без всяких прикрас. Сначала придется раздеть ученика героя, чтобы сам он убедился в собственном ничтожестве». И немного позже опять о писательстве: «Неужели вы хотите, чтобы я писал, что принял ванну… пообедал у Жаков. Поверьте, такого рода откровения мне неинтересны». Среди своих сочинений он упоминает и «Maнон». В 1927 году Сент–Экзюпери пишет кузине своей матери Ивонне де Лестранж, герцогине де Тревиз, — она жила в Париже на набережной Малаке, была очень близка с юным «Тонио» и всячески поддерживала его литературные начинания, введя в литературную среду, познакомив с Андре Жидом и другими писателями, которые бывали у нее в салоне, — что их общий друг Жан Прево пообещал в 1926 году опубликовать «Манон» в журнале «Ероп» («Европа») и даже включил имя автора в анонс. (Журнал «Ероп» был основан в 1923 году, и его идейным вдохновителем был Ромен Роллан). Действительно, в летнем номере «Ероп» за 1926 год в списке авторов, чьи произведения журнал собирался предложить своим читателям в дальнейшем, можно прочитать имя де Сент–Экзюпери, хотя название «Манон» там не фигурирует. Но поскольку сам автор называет именно это произведение, значит, к этому времени новелла была написана, закончена и отдана в журнал. Охотно верится, что Жан Прево хотел и предпринимал какие–то усилия, чтобы журнал «Ероп» опубликовал «Манон». Потому что именно ему принадлежит заслуга первой публикации начинающего автора, который вскоре станет лауреатом премии Фемина. Жан Прево, писатель и критик, был главным редактором журнала «Навир д'аржан» («Серебряный корабль»), издаваемого Адриенной Монье. Он подпал под обаяние личности и таланта молодого человека, с которым познакомился в салоне герцогини де Тревиз. Поверив в дар порой неуклюжего, но всегда обворожительного и блестящего великана, он опубликовал в последнем номере своего журнала «Навир д'аржан» (апрель, 1926) его первое литературное произведение. Им стал рассказ «Авиатор»: история Жака Берниса, сначала гражданского пилота, потом инструктора в военной авиации, того самого Берниса, которого мы встретим потом в романе «Южный почтовый», где он будет главным героем. Да и «Авиатор», собственно говоря, был не рассказом, а фрагментом более обширного произведения, с названием «Бегство Жака Берниса», которое до нас не дошло. Жан Прево, предваривший публикацию небольшой врезкой, сообщил, что путь создания этого рассказа был не прост: «Сент–Экзюпери профессиональный летчик и механик–конструктор. Я познакомился с ним в доме своих друзей, и меня восхитила та яркость и утонченность, с какой он передавал свои впечатления от полетов. Потом я узнал, что он их записал. Разумеется, я сразу же захотел прочитать его записи, но автор потерял их и вынужден был восстанавливать утраченное по памяти. (Он сочиняет сначала мысленно, потом записывает сочиненное на бумагу.) Записи оказались большой новеллой, фрагмент которой мы здесь публикуем. Подлинность и правдивость — вот достоинства, которыми поразил меня начинающий писатель. Я уверен, что Сент–Экзюпери напишет еще не один рассказ. Ж. Прево». Тогда же Жан Прево прочитал «Манон, танцовщицу». И не он один. У Сент–Экзюпери к этому времени были прочные литературные отношения с редакцией «НРФ» («Нувель ревю франсез», «Новый французский журнал»), во главе которого стоял тогда Жак Ривьер. Впервые он пришел в эту редакцию с рассказом под названием «Полет» в 1923 году и, судя по письмам, которые писал матери, всерьез надеялся, что какие–то из его рассказов, которые он продолжал писать, будут напечатаны. («Я написал в последнее время несколько вещей, и они очень даже неплохи».) Рассказы начинающего автора, судя по всему, нравились и Гастону Галлимару, директору издательства, существовавшего при «НРФ» и носящего то же название. Очевидно, он читал какой–то вариант «Манон», очень поддержал и ободрил автора, и тот дописал рассказ до конца. В 1925 году Галлимар предложил Сент–Экзюпери написать еще два рассказа, чтобы издать его книжку, куда должны были войти «Манон, танцовщица» и «Авиатор». Сент–Экзюиери пришел в восторг от такого предложения и, торжествуя, писал своему приятелю Жану Эско: «Забыл тебе сказать, что Галлимар попросил меня написать еще две новеллы и тогда он издаст книгу, куда войдут все четыре». Однако книга эта не вышла, и обещания остались обещаниями. Сент–Экзюпери поступил на работу в компанию Аэропосталь, летал на африканских линиях, но о перипетиях, связанных с публикацией своей новеллы, не забыл. В начале 1927 года он пишет Ивоние де Лестранж: «У меня нет больше никакого желания писать. Прево так и не опубликовал «Манон», которую журнал «Ероп» анонсировал год назад. Меня подобное отношение обидело. Я не стремлюсь ни к каким публикациям, на ней настаивал Прево и забрал у меня «Манон». Не стоило мне так суетиться». Ивонна спрашивает совета у друзей–литераторов и передает (снова?) рукопись начинающего писателя Андре Жиду. 24 июня 1928 года Сент–Экзюпери пишет кузине из Касабланки: «Сообщи, что думает Андре Жид по поводу «Манон». В «Ревю эбдомадер» («Еженедельный журнал») не сказали почти что ничего. Вполне возможно, из стыдливости». Каковы были результаты знакомства с новеллой Жида, неизвестно. Однако в ближайшем времени Сент–Экзюпери вновь берется за перо. 19 октября 1927 года его назначили начальником аэродрома в местечке Кап–Джуби в Сахаре, и там он принимается за свой первый роман, продолжая повествование о нилоте Жаке Бернисе, герое первого опубликованного рассказа. В конце 1928 года он кончит свой роман и назовет его «Южный почтовый». Ивонне де Лестранж он напишет: «Жид должен был счесть «Манон» страшной глупостью. Как же теперь от меня это все далеко! Но в любом случае — никаких журналов. Если получится, пусть будет «Произведение» [Имеется в виду серия «Произведение. Портрет», созданная в 1921 году в издательстве «НРФ»; в ней публиковались небольшие произведения начинающих писателей с гравированным портретом автора], или просто в «НРФ», или еще в каком–нибудь издательстве, где печатают небольшие тиражи. В моей книге 170 страниц. Только что закончил». И несколько дней спустя снова Ивонне де Лестранж: «Написал штучку в 170 страниц, довольно дурацкую. Старательность моя достойна похвалы, но вряд ли кто–то ее оценит». Но Жид, да, да, сам Жид, не сочтет «штучку» дурацкой, оценит героический полет и передаст ее в 1929 году Жану Полану с тем, чтобы эти 170 страниц были опубликованы в «НРФ», после чего Гастон Галлимар подпишет с молодым автором договор еще на шесть книг. «Южный почтовый» появился в июне месяце 1929 года. Речь о том, чтобы опубликовать «Манон», больше никогда не заходила. Но Сент–Экзюпери и в дальнейшем не забывал о неосуществившейся публикации, что свидетельствует о том, что он всерьез дорожил своим небольшим рассказом, о котором потом вспоминали и многие биографы, никогда не считая его незавершенным наброском. Мы объединили под одной обложкой «Манон, танцовщицу» и «Авиатора» — две новеллы Сент–Экзюпери романтического характера. Безусловно, они совершенно не сходны между собой, ни содержанием, ни стилем повествования. «Авиатор» как бы предвосхищает первый роман Сент–Экзюпери: он сродни ему стилевыми особенностями, описанием полета, ощущением органической связи летчика, самолета и природных явлений и совершенно новым для литературы панорамическим видением окружающего. Безусловно, объединяет эти два произведения и главный герой Бернис. Но у автора «Авиатора» еще нет опыта полетов, который принесла ему компания Аэропосталь, нет того общечеловеческого и духовного масштаба, который обретут последующие книги Антуана де Сент–Экзюпери. Однако описанный в «Манон» мирок не совсем чужероден для «Авиатора» и «Южного почтового». И в этих своих произведениях Сент–Экзюпери описывает удушающую атмосферу дансингов, жиголо и прожигателей жизни, безжизненные лица женщин, сделавших свое тело инструментом для добывания денег, блуждания по ночному и утреннему Парижу. После неудавшегося «побега» с Женевьевой Бернис забредает в ночное кафе, видит грустное и безнадежное зрелище — молоденьких танцовщиц, завязывает разговор с самой стройной, открывает под раскрашенной маской безразличие и усталость и в конце концов, поддавшись надежде обрести хоть какое–то утешение, соединяет свое одиночество с ее. Хотя «в нем уже угас весь порыв. Он думал: «Ты не дашь того, что мне нужно». Но одиночество его было так нестерпимо, что она все–таки понадобилась ему». Однако плоть, не одухотворенная душой, вызывает чувство безнадежности. Конечно, есть в «Манон» и биографические отклики, отклики той жизни, которой жил молодой Сент–Экзюпери в Париже, пока Аэропосталь не отправила его на край света. Странствия но ночному Парижу, улички и кафе, необычные встречи, о которых он упоминает в своих, часто фантастичных, письмах, адресованных приятелям той поры. Бывший жених Луизы де Вильморен, завсегдатай светских салонов со светскими львами с улицы Боссюэ, нередко посещал и совсем другие заведения, где женщины были вполне доступны. Чувствительный рассказ еще полон юношескими эмоциями, но в нем уже ощущается писательское мастерство — встречаются зримые и выразительные образы, умело отсечены лишние детали, повествование строится как высвечивание фрагментов, есть тенденция к материализации абстрактных понятий. И «Манон», и «Южный почтовый» — это истории о неудавшемся бегстве и о неудовлетворенности жизнью, но в «Манон» собственный голос еще не обретен, его только ищут, нащупывают. Молоденькая танцовщица, которая не может заработать себе на жизнь одними танцами («вы же понимаете…»), — персонаж более условный и простой, чем Женевьева, но и эта девочка ищет спасения в бегстве, однако оно оказывается иллюзорным. Когда обнаженные нервы автора ощущают жизненную тщету и экзистенциальное одиночество своей юной героини, он преисполняется к ней щемящего сочувствия. В новелле «Манон» Сент–Экзюпери предстает как писатель, озабоченный судьбами «малых сих», он сочувствует участи незащищенной милой девушки, которая в романтическом порыве отчаяния мечтает о совсем иной жизни. Все творчество Сент–Экзюпери проникнуто неприязнью к тупой, стадной, рутинной жизни, которая предстает как страшная опасность для живого человека. Мирок дансинга неожиданно становится олицетворением именно такой жизни. Вопреки обещанию утра малышка Манон не может возродиться и стать собой в замкнутом мирке, который стал ее жизнью, в мирке, где пьют шампанское и надевают всевозможные личины. Возможность, которую приоткрывает ей встреча с немолодым мужчиной, утомленным своим бессмысленным существованием, по существу эфемерна, так как подает ей надежду на освобождение, которого не может быть. Она обречена оставаться той, какой сделало ее общество: став орудием, которое можно купить, она утратила себя и лишилась возможности действовать самостоятельно, поэтому она надеется, что спасти ее может другой человек, который взглянет на нее другими глазами и избавит от среды, которая ее убивает. Но надежда на другого напрасна. Попытка обречена на провал. Бегство не придаст ей сил, оно глубоко ее ранит, травмирует душевно и физически, навсегда закрепившись как жизненная неудача. Взлет вверх обернется падением вниз, любовь Манон не откроет ей новых горизонтов, не выведет за пределы скудного существования. Она ненадолго покинет привычную среду обитания, но не сделает шага вверх изнутри. Манон — призрак, ничто не может вернуть ее к жизни, удержать в ней. Ирреальность собственного существования Манон начинает ощущать, наблюдая за медсестрой, которая ухаживает за ней: каждое движение этой женщины исполнено смысла, все, что она делает, направлено на то, чтобы поддержать жизнь. И бессмысленность собственной жизни становится явственной для Манон. Между Манон и радиотелеграфистом Прюнета, о котором Сент–Экзюпери рассказал в одном своем выступлении (см. раздел «Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет», стр. 73), есть много общего, они оба задают себе вопрос: «Ради чего?», означающий отсутствие связей с другими людьми, отсутствие дома. Образ медсестры, без всякого сомнения, напомнит читателю о Муази, экономке в замке из детства Сент–Экзюпери, королеве в царстве белоснежных простынь и хрустящих скатертей. Haпомнит о его матери, приносящей с собой благое ощущение покоя, когда детям предстояло погрузиться в ночь. Белые простыни Муази кажутся белыми надутыми парусами, а белизна полотна, которое расшивает Манон, мертвой равниной, где не слышно даже эха: «Нельзя же плакать и плакать — смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое–белое, как стена». Белое полотно и белая вилла, которую, словно вспышку света, видит перед своей гибелью Бернис в новелле «Авиатор». Смерть летчика перекликается с жизненным фиаско Манон. Для них обоих приготовлена белизна савана. Но придет время, когда белизна не будет больше означать для Сент–Экзюпери траура. Альбан СеризьеМанон, танцовщица
Сигаретный дым душит, беготни официантов неотступно стучит в висках — спешат от января к январю. Бармен уставился в одну точку, с трудом ворочает мозгами, а ты танцуй… Хочешь с томным — каждое движение обволакивает женщин, танцует и словно прилипает к сердцу; хочешь с грузным, этот меряет каждую взглядом, как перекупщик… И пей шампанское. Без шампанского праздник — не в праздник, как автобус без гирлянд, без флажков… Какая гадость! Мимо спешит официант в белом пиджаке, полотенце на шее вместо шарфа, концом смахивает крошки со скатерти у нее перед носом и шепчет: — Вон тот толстяк… спросил, как тебя зовут… банкир. Подойти или нет? Лучше подкрасить губы. Она часто выходит в комнату для дам, болтает со служительницей. Жалуется: «Надоело до смерти». Становится легче. Там оазис спокойствия, собеседница вяжет себе и вяжет. Как за кулисами, верно? Можно расслабиться. Те, что постарше, за сценой сразу дурнеют, видна обвисшая грудь, жирные бедра. Ободряют друг друга: «Держись, старушка!»… Иснова на публику. Шествуют по залу с надменным видом, скрывая изношенность и усталость. Вернулась к столику. Саксофонист подмигивает: — Типчик–то ждет тебя. Чуть не расплакалась с досады. Широко распахнулась дверь: на пороге Сюзанна. Сияет. Неудивительно. Она в новом манто. — Привет, Манон! — Привет! Гарцуешь, как всегда? — Скажешь тоже! Сюзанна окидывает зал хозяйским взглядом. Освоилась. Это поначалу маешься, а потом… Да ладно! Каждый живет как может. — Присяду? — Не стоит, Сюзанна. Хочется побыть одной. — Ждешь кого–то? — Нет. Хочу посидеть одна. — Ты в себе? Что тут скажешь, объяснения не под силу маленькой девочке. Здесь охотно изливают душу, но жалостные признания остаются монологами и растворяются в пустоте. — Сюзанна… — Что? — Не уходи! Сюзанна мягко опускается на стул и царственно оглядывает окружающих. Она в центре внимания. — Да забудь ты о мужиках, Сюзанна, давай лучше поговорим. Сюзанна рассеянно берет ее за руку. — Сюзанна! Посмотри на меня. Пожалуйста. Скажи, какого мужчину ты хочешь встретить? — Брюнета. — Ты меня не поняла. Мне нужно, чтобы он хотел не того, что все вокруг… Они все сначала вежливые, говорят комплименты, а потом… потом молчат, думают только о себе и своей выгоде. И так всегда. А настоящий поведет меня куда–нибудь, будет внимательно слушать и ничего не потребует, понимаешь? Сюзанна кивает и небрежно поправляет пушистую лису. Она чувствует, что мужчины на нее смотрят, множество мужчин. И улыбается. Заученно. Для них. «До чего фальшивая улыбка, подумать только, ведь и я тоже так улыбаюсь!» Сюзанна не слушает, но соглашается: конечно, конечно. Вот и поговорили по душам. Манон подпирает кулачками щеки. Манон… Имя манит, как красный шарф. «Скажите, официант, как зовут ту крошку в красном?» Манон. Мужчинам нравится ее имя. «Манон? Как приятно!» — Я ухожу, Сюзанна. Сюзанна не трогается с места. Кокетливо поправляет лису. Она занята. — Счастливо, подруга. — Пока. Прыщавый вышибала наклонился к Манон, открывая ой дверь: — Сегодня ты не того… А бываешь даже очень… — И ущипнул ее за руку. Она вскипела. Потом успокоилась. Смешно кричать скверному мальчишке: «Да как ты смеешь!» Дурак, корчит из себя важную птицу, раз умеет отличить владельца «испаносюизы» от гостя, приехавшего на такси. Первый для него человек, о прочих он судит но качеству ботинок. И такой вот сопляк посмел ее ущипнуть… До чего же все опротивело. Будто ходишь в засаленном платье. А ведь есть на свете чистые девушки… Она представила себе такую. Невинная девчушка в простеньком платьице, никто ее не щиплет, вечером ложится в свою постель, спит себе, как кошечка, в тепле и покое, а утром встает выспавшаяся, свежая. Да. Для Манон такая жизнь — небывалая роскошь. Она вышла на улицу. Ночной холод, будто освежающий душ. Стоит закрыть за собой дверь кабаре, сразу чувствуешь облегчение, хоть и обманчивое, — всем красоткам знакомо это ощущение. Там вино, самодовольные кавалеры с вонючими сигарами, а здесь кроткие глаза звезд, грустишь и думаешь, что стала чище… Небо светлое. Свет холодный, кристальный. От дуговых ламп он — розоватый, не такой, как на окраине… там газ… А здесь розовый свет и дамы в мехах. Она–то сейчас нырнет в узенькую улочку, мощенную выщербленными плитами, по которым так неудобно и больно шагать на высоких каблуках. Они с улочкой — добрые знакомые. Улочка — брод в бурной реке. «Моя улочка». Как же здесь тихо, ни единого фонаря, небо такое высокое… Лунный свет под ногами, будто белый снег. Она думает: «Моя улица, моя келья…» Кошки крадутся по узкой улице, теплые шерстяные клубки, — их так приятно гладить… Она тихонько шепчет: «Конечно, что тут поделаешь?.. Мужчины знают, какая я… Вот и не стесняются». Тоска и отчаяние возвышают ее в собственных глазах: «Я в их власти… Игрушка». Она сжимает крошечный кулачок и повторяет снова и снова как заклинание: «А он меня будет уважать!» Мечтая, она медленно поднимается к площади Бланш, уличная толпа течет мимо, не задевая ее. * * * Его томила тоска. Глаза отмечали ущерб, неисправности. Он всегда испытующе оглядывал все вокруг, будто усталостью и унынием делились с ним вещи. Вот обернулся назад, словно сейчас поймает грозящую сзади опасность, но нет, вокруг все так же тихо и мирно. Он сидит, погрузившись в глубокое кресло, стоящее перед тяжелым массивным столом, словно крепко укоренен в этом мире, словно удобно устроился в нем. «До чего же тихо», — отметил он вновь про себя. В мыслях безнадежность потерпевшего крушение, а тело покоится в удобном кресле. Он привстал, груз сорока лет показался ему тяжким, оглядел свои руки, что оперлись на стол, — праздные руки и уже покрылись морщинками. Подумал: хорошо бы чем–то заняться, поработать; представил себе: локти крепко упираются в письменный стол, книга раскрыта, мир перестал существовать. Но мечтал он не о работе — о прибежище, которое каждому дает работа. Пробили часы на стене, шаги вторглись событием, но шаги–то привычные: вошла прислуга. Открыла ставни, задела стул, один раз, второй. Он мучился ожиданием, но ждать было решительно нечего. Решил пройтись. В самом деле, лето. Асфальт пышет жаром. Спят собаки. Вдоль реки в тяжелой, маслянисто поблескивающей воде чуть покачиваются парусники. Мир вращался по инерции, как заводской станок, когда мастер присел отдохнуть. «Я страдаю, — думал он. — И не чувствую, что страдаю». — А вы что тут делаете, милая барышня? Манон, опершись на парапет, наслаждалась утром, как наслаждалась бы дивным неведомым садом. Обычно в этот час она спала, видела сны, освободившись от тела. Но сегодня прогуливала неожиданную гостью — бессонницу. Как изумила ее утренняя налаженная жизнь, парусники, их размеренное движение по воде, и этот мужчина, такой серьезный. Плечи всегда говорят о мужчине правду. Говорят: он устал или, например, тщеславен до крайности. Порой свидетельствуют о непосильной тяжести. Как знакома ей тяжесть мужчины… А плечи этого незнакомца? Незнакомец смотрит на нее рассеянно, он пытается оживить воспоминания. Что за странный день! Былое нахлынуло и отступило, верные дружбы, страстные влюбленности, могучие усилия показались вдруг чуть заметной рябью и ничего больше не значили. Неужели это и была его жизнь? Милое забавное существо привлекло его внимание. Рядом с ним ему стало легче, он снова почувствовал себя самим собой. Усталым охотником, что ласково треплет за уши собаку. Приятно ее приласкать. — Так что вы тут делаете, милая барышня? Они все начинают разговор одинаково, с пустых глупых фраз, но этот, может, и впрямь обращается к ней: он смотрит ей прямо в лицо, он ее не оглядывает. И потом он неведомой породы — утренней. Должно быть, более благородной. «Я прогуливаюсь, как он, а он говорит с такой же, как он сам, прохожей, — вот в чем разница…» — Я? Мечтаю. — О чем же, милая барышня? Она внутренне съежилась. Все мужчины заняты одним и тем же. Почему им так хочется в нас проникнуть — и добро бы в сердце! — а насытившись, они не хотят ничего больше знать. Мужчина разомкнул объятия, лежит на спине и молчит, недоступный, как горная вершина. — О чем же, девочка? Нет, в самом деле похоже на нежность… А мы на нее так податливы… И признания нас так красят… Жизнь безрадостна и обыденна, но, рассказывая о себе, мы дарим себе прошлое, какого достойны, дарим себе сказку… * * * Они вместе завтракали, вместе ужинали. Официант подал кофе, и теперь она смотрела на мужчину. Обычно именно в это время мужчины становятся рассеянными, низко опускают голову. Желание пробуждается в них томлением, безрадостным, будто ярмо. Успокаивает их только уверенность в неизбежности обладания. — Ну что ж, домой? Она улыбнулась не без тревоги и не без нежности… Он отворил дверь и пропустил ее вперед. Она сделала первый шаг в неведомое: спальня всегда ловушка. Села у изножья кровати. Отворот простыни, будто свежий надрез ослепительной белизны. Мужчина ласково взял ее за плечо. — Дай мне привыкнуть… — Она немного задыхалась. Он сказал глухо: — Любовь моя… Слова ее потрясли. В комнате, полной книг, с тяжелой и такой устойчивой мебелью, что кажется, будто ты в корабельной каюте и они обрели весомость. Портрет… Может быть, жены… Давний? Могло миновать и двадцать лет. Комната приготовлена к долгому странствию. Целый мир. Это тебе не гостиничный номер, в нем не до странствий, в нем и дух перевести не успеваешь, и не холостяцкая квартирка, в них все на ходу, там не хранят воспоминаний. А в этой комнате она показалась себе жалкой, потрепанной вещицей… Не надо бы ему так говорить… Любовь моя… — Я ваша любовь? Хороша любовь! Да вы не знаете, кто я такая… Глаза спросили: кто? — Третьеразрядная танцовщица, понимаете? Понятное дело, жить одними танцами невозможно! — Ей стало так неловко. — Бедняжка! — пробормотал он и рассеянно погладил ее по голове. Она догадывалась, что он ее не слышит, не заметил ее признания. Еще полчаса назад оно бы развело их или, наоборот, сблизило, а теперь… Теперь и для него она только вещь, как для всех остальных. Неужели? Она сказала с тоской: — Я служу мужчинам! Он обнял ее и стал баюкать. Если бы просто баюкал, долго–долго… Он подарил ей день отдыха, разговаривал с ней по–дружески. А она — вся внимание! — столько узнала нового. Если бы так все осталось! Отважившись, она боязливо проговорила: — Я мечтаю о друге. У меня был друг. Когда мне становилось грустно, я говорила ему, и он… Он поцеловал ее. — Только не в губы! — Почему, детка? — В щеку, так ласковее. — Она прижалась головой к его плечу. А его донимает тоска, мучает, гнетет с утра, как проснулся. Ему необходимо забыться. В объятиях сгорает все — укоры, желания… После объятий ничего нет. Между тем она раздевается, обнажилось плечо, лучик света. Он приник к нему. Тепло. Жизнь. «Маленький прирученный зверек». Он повторяет это навязчиво, упорно. А ее охватывает безнадежность: мужчины, они не в себе, этот тоже, хотя так мягок, странно бережен, и говорит туманными фразами, обрывая себя на полуслове… Ох уж эти мужчины… Невозможно понять, на что они смотрят. Чего хотят. Знают или не знают, что лицо их вдруг искажается болью, радостью, а иной раз ненавистью. Не догадаешься, какая мечта их томит и можно ли им помочь… Они не в себе, мужчины. Она боязливо повторяет: — Стоит ли? Останемся лучше друзьями… — Ей так хочется сберечь ненадежный покой. — Вы подарили мне такой необыкновенный день. Она нежно гладит мужчину по щеке, надеясь своей нежностью возвести между ними преграду. Но он говорит шепотом: — Дай мне то, чего я так хочу, дай. Она ломает пальцы: — Знаете, но ведь это моя профессия. Представьте себе, вы метельщик, метете, метете день за днем, и наконец наступает выходной, вы приходите к другу, вы счастливы, а друг говорит: «Слушай, вот тебе метла, развлекись!» У нее на глазах слезы. А он совсем тихо, глухим голосом: — Ты не представляешь себе, как мне плохо, дай мне то, чего я хочу… Она скрестила на груди руки — маленький зверок, бессмысленная жертва, почти невинная. — Меня создали утешать мужчин и не позволяют забыть об этом. Она покорится, апатично, безвольно. Горькая гримаса выдаст страдание. Глаза закроются, откроются, она снова увидит спальню и добротную большую кровать, предназначенную для многолетних плодовитых союзов, для жизненно значимых часов. Такая кровать могла бы ее возвеличить, очистить… — Я жалкая горсточка грязи, я… я… — Она и не грустит больше: жизнь есть жизнь. * * * Пунцовые занавеси с преувеличенной торжественностью возвестили о рождении нового дня. А день оказался пасмурным. Ему все опротивело. Низкое серое небо, и на нем вороны, будто гарь на пепелище. Мужчина обвел взглядом спальню. Безликий свет выделял один предмет за другим. Каждый напоминал о чем–то, предлагая снова взвалить на себя нелегкий груз воспоминаний. На столе шляпа, платье на стуле и там же скомканная нижняя рубашка. Жалкие тряпки привлекли взгляд мужчины. Лихорадка возбуждения миновала, беспорядок вызвал недоумение. Жизнь ушла, перед глазами скудный итог. Он подумал: хозяева кабаре выметают сейчас за порог обрывки голубого серпантина, обломки розовых вееров, ночную радость. От его вчерашней радости остались вот это платье и смятая рубашка. Он оделся, застегнулся на все пуговицы, ощутил, как далеки сегодня все условности, ему и любезность ни к чему, можно смотреть в окно. Она проснулась, но не открыла глаз. Разве забудешь, какое одиночество тебя ожидает: мужчины поутру на противоположном берегу пропасти. Еще больше она боялась нежности, мужчина не отличает нежности от желания, ты никогда не бываешь в безопасности. Если вас обнимают, прижимают к себе, в вас чувствуют женщину… Вот почему лучше молчать, подставить на ходу щеку, отказаться от надежды на дружбу, от стольких иллюзий… Тебе не родиться поутру заново, прошлая жизнь облепила тебя влажной простыней. Он и она подвели итог, каждый по–своему. Он сидел, ждал, неизвестно почему вспоминая о давней любовной встрече. В глухой провинции. Он тогда впервые, не испытав никакой плотской радости, узнал любовь женщины, она была профессионалкой, и добраться до ее наготы было невозможно, она разучилась обнажаться. Привычка и скука заковали ее в броню. Он явственно увидел красный шершавый плед, она и его не удосужилась снять, не обнажила и белизну простыней. И еще он подумал: «Мне сорок, сорок, мне сорок лет…» Резко обернулся: — Ты меня ненавидишь. Оно и понятно. Я старый. Манон привстала, она поняла, какой он. Он из тех, кто не дружит с жизнью. Кто заказывает шампанское, пригубливает и говорит: «Пить мне тоже не хочется!..» Она уже таких встречала. Не поймешь, чем они занимаются. Деньги тратят без удовольствия. Однажды такого как раз и арестовали. Вечером, в баре, два полицейских инспектора. Он зажался, стиснул зубы, молчит, а она: «Я, господин инспектор, уважаемая женщина, танцовщица с улицы Бланш». И осталась сидеть перед полной рюмкой, но уже одна, его увели, а приятели вокруг смеялись. «Не повезло, Манон…» Хозяин провожал полицию до дверей: «Бывает, бывает… Что вы хотите, мсье, — уж на что я человек разборчивый, но всех клиентов все равно не узнаешь!» И сразу поползли слухи. «Спекуляция, контрабанда. Ясное дело, иностранец». Она спокойно допила свою рюмку, хотя хозяин косо на нее поглядывал. «Идиот! Я–то тут ни при чем». — Может, у тебя какая неудача? У одних не бывает неудач, на других они накладывают отпечаток. Сразу его не заметишь, но в любви… Неудачники, наверное, не такие расчетливые, но ты им тоже не нужна. Что же им нужно? Какая все это гадость. Мутит от омерзения. Подошла к зеркалу. Посмотреть, что еще повредилось со вчерашнего дня. Спала, подложив кулачок, и вот, пожалуйста, пятно на виске. Морщины возле губ стали резче. «Уродина». Достала из сумочки помаду, пудру. Привела в порядок волосы, причесалась, накрасила губы, попудрилась: розовое платье с декольте выглядит сейчас так неуместно. Она надела пальто, застегнулась. Так–то лучше. Вот теперь она упакована, коробка с конфетами, сбоку бантик. И всегда, всегда одно и то же. * * * Этой ночью она сожалела о своем кабаре. Вышибала у дверей, в конце концов, друг, к тому же услужлив. Бармен всегда что–нибудь посоветует, а служительница в дамской комнате — просто мать родная. Оркестр за ширмой притягивает, как толпа или море. И свет яркий–яркий: каждый как на ладони. Она появляется, когда звучит последняя нота. Саксофонист улыбается ей, выдувая си бемоль, она приветственно машет рукой и садится. Наступил антракт, публика устала. Каждый углубился в себя, закрылся, замкнулся. Погружен в послевкусие. Невеселое ощущение, когда ты противен даже самому себе. Тот, кто валял в зале дурака, примолк, сник, выдохся. На него еще смотрят, но он в смущении пробирается бочком к своему столу. Женщин тошнит от вкрадчивых жиголо, словно от приторных сладостей, но и солидные тучные любовники их не радуют, женщины смотрят перед собой, подперев ладонью щеку. Мужчины расправляют плечи, выпячивают грудь под белым картоном манишек, курят, изображая довольство, предчувствуя горькую минуту несогласия, когда женщина не потерпит ни слова, ни прикосновения. Один посетитель отважился и положил руку на обнаженное плечо своей спутницы. Она отпрянула: — Оставьте меня! Он улыбнулся, пропустил сквозь пальцы бахрому скатерти, с беспокойным недоумением покосился на женщину. Еще дуется? Не сто же лет она будет дуться? — А не уйти ли нам отсюда? — Как вы смеете мне дерзить! Он открывает рот и тут же закрывает, ищет слов, которые не задели бы ее. И не находит. «Что поделаешь? Женщина…» — думает он, и это туманное объяснение его успокаивает. Он чувствует, что логичен здесь он один и силен тоже. Похоже, все ждут какого–то тайного знака. Бармен, утомленный собственным глубокомыслием, зевает. «Оставь меня в покое, не мешай думать», — говорят приятелям девушки. В них вспыхнуло возмущение, они корят себя за молчание, за сдержанность, которые помешали им быть самими собой. Винят дружков — те не захотели узнать, каковы они на самом деле, не приняли их целиком, помешали высказать себя. Повели себя как зрители, отняв возможность чувствовать себя свободно. Уж он–то тебя знает… Иронически скривил губы, и порыв угас. Потребовал: «Хватит ломаться!» И приходится снова ломать комедию. Как ему скажешь: «Ты не знаешь меня!», ведь яснее ясного, что он не поверит. Тело оберегает сердце надежнее стыда, а ты с ним была — голой… Гложет чувство несправедливости. Вкладываешь его в одно–единственное слово: «Эгоист!», и дружок в обиде. Но почему, почему же рядом с ним ты всегда испытываешь одно и то же и ведешь себя одинаково? Тебя сковало его знание о тебе, ты ненавидишь его, как кандалы. Девушек томят смутные мечты о незнакомце, что однажды явится и освободит их, они мечтают: «Он… он…» Они верят в силу настоящей любви. Но ищут они неискушенного зрителя, желая предстать перед ним в новом образе. Ему они скажут: «Вот ты, ты меня понимаешь…» — и предадутся чувствительным излияниям, которые сейчас под запретом. Незнакомцу можно признаться: «Я пережила большую любовь и безутешна…», предаться воспоминаниям, они так красят, от них так влажно блестят глаза, и внезапно умилиться слушателем: до чего же внимателен и серьезен, и как я хороша в его представлении, я такой еще не была… Можно грустить, грустить и ощущать проснувшееся желание. «Я хотела бы жить в Норвегии… Да–да, милый, из–за волшебных северных сказок. Жить в Норвегии, заниматься душой». А этот знает все недостатки, слабости, ухищрения, и ты прикована к ним раз и навсегда. Какая каторга! Девушка замкнулась в себе и мечтает, а мужчина следит за смешной зверушкой, осторожно прикасается указательным пальцем к шее, пытается понять, «не надоело ли нам капризничать». Смотрит на часы, курит, расправляет плечи, не понимая, что происходит. А Манон, она — умница. Ждет, пока вновь заиграет оркестр, ведь музыка, шум, шампанское — это «то, что я и люблю… только это я и люблю…». Служительница говорит, что наконец–то видит разумную девушку. * * * — Знаешь, Сюзанна, когда ты с мужчиной, труднее всего оставаться веселой. — Скажешь тоже, — отзывается Сюзанна, — когда грустишь, им даже интереснее. — Но быть веселой веселее, — настаивает Манон. Мысль не совсем ясна, но Сюзанна с ней согласна. Они снова пьют обжигающий кофе в очередном ночном бистро, короткая остановка, и они продолжат свой путь. Официант маячит маятником от одного конца стойки к другому. — Который час? — Пять утра. — Официант наполняет чашки с молниеносной скоростью. Хоп! Черная струя кофе перекрыта. Забирайте! — Который час? — По–прежнему пять утра. Сюзанна уточняет: — Пять часов и одна минута. Манон трет глаза, зевает. Кофе обжигает губы, и хорошо, а иначе как узнаешь, что еще жива. Ночь кончилась, но ее отголоски пока не умолкли, так, вернувшись из путешествия, долго слышишь мерный стук колес. Два красавца–аргентинца мечтательно поглядывают по сторонам, они безобидны, не притянут тебя взглядом. — Инженеры, знаешь, да?.. У них есть профессия — значит, твердо стоят на ногах. Они тоже зевают и потягиваются. Не так–то легко высвободиться из тенет ночи. — Который час? — Да утро уже! В просвете между домами показывается солнце. От ночи у прохожих остались только длинные тени. Продавцы газет объявляют новое число звонко, будто возвещают о начале нового царствования. Свежие газеты пачкаются, прохожие снимают перчатки. У жизни запах теплых рогаликов и свежих простынь, которые ждут полуночников. Как мягко мы перекочевали в утро. — Пока, подружка! — Счастливо тебе! — Счастливо. Улица прозрачна, свет переполняет ее, как вода канал. Первые трамваи дребезгом и лязгом будят город. К площади Пигаль, к площади Клиши поднимаются танцоры, поднимаются женщины. Им зябко, и зябкий свой инструмент они прячут, будто в футляры, в пальто. Люди шагают, переговариваются, светел утренний шум. Меха, бальные платья расцвечивают толпу красочными пятнами. Стая перелетных птиц снялась с места… А утренний холодок пощипывает щеки… Манон вернулась к себе, в свою голубятню, растворила ставни. …Столица, а притворилась деревней — вставшее солнце осветило только одну колокольню, самую простенькую, оставив в тени все дворцы, все каменные украшения. Солнце обозначило один громоотвод, твою защиту, один флюгер, который сообщит о ветре, оно позволило лишь одной птице прилететь в город. «Что случилось? Почему я так счастлива?» Мужчины… она не делает между ними различий, хотя среди них встречаются филантропы, и они были бы разочарованы. Ведь их сочувствие — щедрый и благородный дар — нужно заслужить безысходным страданием. Но! На мужчинах свет не сошелся, ни на их пороках, ни на их добродетелях. Бескорыстны, нерасчетливы? Тем хуже для вас! У окна всего–навсего девчонка, она протерла глаза и почувствовала: как же хорошо жить! Почему? Да потому что сердце время от времени расцветает… Девчонка шепчет сама себе: «Живем, старушка!» * * * Рядом юный мальчик, а тебе грустно. Почему? В мальчика нельзя влюбиться, в лучшем случае он вроде младшего брата, молодые — они еще ничто, пустое место… — Манон… У него ребячий рот, красивые веки: у мужчин они уже дряблые. — Манон… я впервые… — Милый мой малыш! До чего юнцы восторженные, обнимают, целуют, благодарят. Им кажется, что они и тебя порадовали, ты их не разубеждаешь. Они так неуклюжи, ты учишь: «Женщины — существа хрупкие, с нами нужно обращаться нежно»… Наука пойдет впрок, они будут нежны с теми, кого полюбят. — Манон, тебе грустно? Да, она грустит. Его изумляет, что нагота может умиротворять, успокаивать; лицо, шея, грудь, бедра — это же все едино, одна и та же плоть. — Ты прекрасна, Манон. Он выбирает самое ласковое, самое красивое слово. Его переполняют смутные образы, какие обычно теснятся в голове школьников, обнаженная женщина — часть его самого. «Он думает, что я так же молода, как он сам…» Манон прижимается головой к его плечу. Они ровня, идут по жизни рука об руку, но только одну минутку. Завтра он ее обгонит. «Я вещица. Взял и положил обратно. Подружка из бара…» Она встретила брата, не различив родового сходства. Он закрыл глаза. Его лицо — сжатый кулачок, воля читается в складках губ. На щеках тень: неведомый мужчина еще дремлет. «Милый мой мальчик… ты пока еще полый, только розово–золотистая оболочка. В моих объятиях сегодня вечером ты почувствовал себя победителем, вот лицо у тебя и отвердело, будто кулачок. В тебе зарождается мужчина». — Манон… — Отдыхай! Будь умницей. У тебя вся жизнь впереди… * * * Манон на балконе, парит над городом, поднимается. Приближается ночь, и в сумерках без давящей перины дневных хлопот так отчетлив и так явственен каждый звук. Просвистел, отбывая, скорый — как отчаянно он пожаловался… Фасады домов опираются на неверный свет витрин. «Да, у меня вот такая жизнь». В вышине зажигается окно за окном, словно звезды. Старичок учил ее, застегивая пиджак: — Ты выбрала грязное ремесло. Ты заслуживаешь лучшего. Машинистки зарабатывают по шестьсот франков в месяц, выходят замуж, живут счастливо. Хорошо бы и тебе переменить образ жизни. Манон смотрит ему в глаза: — Вы сейчас это поняли? Да? А ведь я согласна, возьмите меня замуж. Такому, Сюзанна, хочется дать по морде! * * * — Пожалуйста… не мучайте меня! А кто ее мучает, дурочку? Бородач с лорнетом смеется. Юнец, похожий на девочку, крепко зажал ее локтем и заставляет пить. Край бокала уперся в стиснутые зубы — может и разбиться. Третий, пьяный вконец, говорит с медлительной важностью: — Она не понимает… Брось с ней возиться… — Ему кажется, что девицу пытаются чему–то научить. — Нет, она выпьет или получит пощечину! Бородач хохочет. Метрдотель, он только обслуживает, он человек–невидимка, руки, которые подают ликеры, никого не тревожа. Но она увидела метрдотеля: — Они меня мучают. Но метрдотеля это не касается. Он вежливо затворяет за ними дверь. «Какая красная у меня щека…» Она смотрится в зеркальце, и у нее текут слезы. Потом она пудрит красную щеку. Три посетителя за другим столиком смотрят на нее с сочувствием. Он поправляет манжет. Рука белая–белая. «Точь–в–точь молочный поросенок», — приходит ей в голову. Что же, идти с ним? Да ни за что! — Я сейчас вернусь… Сбежала. Ох, какое облегчение! Улица… Ночной холод. Люблю холод!.. — Ну, как? Хорошо поужинали? — Да, Сюзанна, но… Я сбежала. — Да–а, это на тебя похоже!.. Но ты не права! Ночь только началась, а Манон оставило мужество. Ночь… тяжелая ночь… — Я так к тебе привыкла, Сюзанна, но я тебя не люблю. Тебя ничем не проймешь, ты толстокожая. Говоришь мужчинам, что твое ремесло тебе опротивело, потому что им нравится спать с чувствительной лапочкой, но от души расхохочешься, если тебя пощекотать. И поддержка тебе не нужна, тебя ничто не колышет. Тебе повезло, а вот я все думаю, думаю. — О чем же? — Обо всем, Сюзанна… И знаешь, я тебя все–таки очень люблю… * * * Манон поглаживает чемоданы, они кожаные, с металлическими уголками. Надежность уголков укрепляет ее веру в жизнь. Манон восхищают и туго свернутые пледы, пушистые, мягкие, шерстяные, сколько в них тепла! Да, похоже, можно прочно укорениться в жизни. — Держи билеты, Манон. Как все стало легко. Портье, грумы, слуги расчищают перед вами день. Расчистили и приподняли фуражки. В светлом купе стоят чемоданы, на перроне полно народу, но ты–то знаешь, что живешь уже в другом измерении. Поезд сейчас тронется, мягко, без толчка, и уплывет от толпы, фонарей, от прошлого. И все станет чистым, чистым… — Ты замечтался, крепыш? О чем? Он задумался о багаже, о чем еще и думать, как не о чемоданах, сначала их приходится считать, потом за ними присматривать. Скорый скользит в ночной тьме, будто рельсы смазаны маслом. — Хочешь, погашу свет? До чего же луна сегодня яркая… Подплывает поляна, поворачивается, уплывает. Еще поляна… Еще… Нанизываются одна за другой деревни. Холм, будто облако, закрыл одну из них. Покачиваются башни, колокольни, и вот крушение — утонули за крутой спиной холма… Он смотрит на нее. — За что ты меня любишь, Манон? — Не знаю… Лунный луч осветил его лицо, побежали тени, он больше не из плоти и крови, он из мыслей. — Моя маленькая прилежная девочка… Манон улыбается. «За что я его люблю? Вот я говорила: мужчины…» Она размышляет о мужчинах. Но он, он совсем другой. С ним это не ремесло. «И к тому же он богатый. Но на богатство мне наплевать!» Манон не права: когда боязливо оглядываешься на цены, следишь за выражением лица, за рукой, за кошельком, некогда быть женщиной. Невозможно быть женщиной, когда мужчину грызет забота о завтрашнем дне. «Зато я люблю его всем своим существом…» Само собой разумеется. Манон спокойно засыпает. * * * У него немало расторопных друзей, которые охотно помогут ему избежать ошибок. — Неужели он в самом деле увез эту шлюшку? Бар кажется прибежищем призраков — четыре часа утра. Желание спать дурманит голову, как новая порция алкоголя после уже выпитого: глаза едва смотрят. Но затронутая тема всех воскрешает, и вот они уже слегка покачиваются, как водоросли, отдавая дань животворящей дружбе. Их движения так осторожны, словно они плывут против течения. Один из них медленно поворачивается на табурете, он обернулся, чтобы заказать кюммель, и все остальные поворачиваются вслед за ним к бармену, словно рыбы к червяку. — Он подцепил ее неизвестно где и неизвестно что вообразил о ней, дурачок. — Манон? Да цена ей десять луи. — Надо ему открыть глаза. Три сотни километров, когда ты под парами? Прогулка… * * * Фары пронзают ночь, проявляют фотографию за фотографией: смутные очертания, более отчетливые, и опять тьма. Фразы подхлестывают, торят дорогу, заставляют торопиться дальше. Тополя взмывают в небо, обрушиваются навзничь, будто дернули за веревку, метут небо. Подъемы, спуски ошеломляют, отпускают, и без всяких усилий. Дорога податлива при бешеной скорости. Неожиданно стихает шелковистый шорох листвы. Они растеклись по пространной равнине, а равнина, несмотря на рев мотора, хочет течь мирно и неспешно, на равнине светит луна, и высокие тополя вдали утверждают, что в ином измерении бег их бессмыслен и медлителен. Заяц выскочил пред ними на дорогу. Они медленно его нагоняют. Он медленно затягивается под колеса. На недвижимой равнине только поперечные дороги, белые в лунном свете, хлещут вспышками по глазам. Встало солнце и высветило подробности. Деревья, дома затемнели сумрачными обломками. А свет занялся другим — создал зеленые холмы, голубые озера. Люди с недоумением оглядели друг друга, оказывается, они обросли щетиной. Но хмель меховым воротником отгородил их от всего. Они не думают, они камни. * * * — С утра во фраках? Уже пьяны?.. — Манон узнала их и в тоске приникла к нему. — Привет, Манон! Дела идут? А как Пигаль?.. — Меня–то вспомнила, старая знакомица? А ты такая же симпануля, Манон!.. — Не хватит ли пощечин? — С чего вы здесь, пьяные идиоты?.. — Он поворачивается к ним. — Господи! Да объясните же! — Теперь он повернулся к Манон, и она закрывает глаза. Голоса становятся далеким–далеким шумом, слов она больше не разбирает. Она открывает глаза, видит перед собой светлую гостиную. В ней она с душой разложила все мелочи, как положено достойной супруге. Мирный покой ее корзинки с рукоделием на столике под угрозой. «Зачем он их слушает, я же его люблю…» Недосып сделал их лица задумчивыми и грустными, крахмальные рубашки, стоящие колом, наделили фальшивым достоинством. С неимоверным усилием она улыбается, а глаза с отчаянием еще цепляются за кресло, за корзинку с вышивкой и золотое солнечное пятно на паркете. Потом маленькая утопающая собачка перестала шевелить лапками, тяжкая усталость навалилась на нее, и она отделилась от солнечного спокойного мира, погрузившись на дно, где теснились дома, фонари, мужчины… * * * — Манон, это правда? Она уцепилась руками за отвороты его пиджака, спрятала лицо на груди, такой широкой. — Ах, крепыш, крепыш, разве ты поймешь?.. — Манон, это правда? — Я люблю тебя, так люблю! — Манон, это правда? — Да. — Ты меня обманула, ты мне солгала, ты…ты… поступила бесчестно. — Да… Но тебе никогда не понять! — Забудь меня! — Никогда! — Забудь. * * * Дребезжит последний звонок, крошечный чемодан весит тонну, рельсы блестят, как бритва. Он ее любил, теперь брезгует. «Он знает обо мне все постыдное, всю грязь…» * * * «Умоляю вас, приходите. Мне так нужно с вами поговорить». Они встречаются. Вместо прежней, скромной, шляпка на ней теперь побольше и понаряднее. Она пополнела, а не похудела: спрятала сердце поглубже. Она из тех женщин, которые от горя полнеют, которые рано или поздно перестают страдать. Она протягивает ему маленькую пухлую ручку, круглую, словно яблочко: «Подурнела, да?» Она поняла, что он хотел сказать. Смотрит прямо перед собой и кажется забытой вещью на банкетке в кафе. Губы дрожат, нос морщится. «Неужели она на что–то надеялась?» Она берет его за руку. Иллюзии женщины раздражают мужчину. Она покушается на его свободу. Он готов сказать что–то очень жестокое, и все будет кончено, он готов сказать… Но она заговорила первая. У нее все тот же нежный приятный голос, его лучше слушать, прикрыв глаза. С несказанной нежностью она произносит: «Старинный друг…» Она не борется. Она жертвует прошлым, жертвует счастьем, надеясь сохранить дружбу, надеясь, что он не отнимет руку, хотя чувствует, что ему уже не по себе, надеясь… Говорит: «Старинный друг». И все–таки плачет. «Прощай, Манон!» — «Я еще хотела тебе сказать, хотела сказать…» Она идет за ним следом. Она хочет понять, осталась ли хоть малая частичка ее в сердце того, кого она боготворит. «Почему ты так жесток? Почему?» Они идут быстро, идут через «Чрево Парижа». С грузовиков снимают тяжелые ящики с овощами, щекастая капуста при электрическом свете кажется отлитой из свинца. Похоже, что вокруг в страшной спешке воздвигают триумфальные арки, готовят жертвенники. Грузчики вытирают пот, они не хотят, чтобы рассвет застал их насквозь мокрыми, слабыми, постаревшими на сто лет, будто после ночи любви. Она думает: «Разгрузят еще вот этот грузовик, и покажется солнце…» Но как долго приуготовляется торжество встречи, как непросто дождаться солнечных лучей! «Скажи… скажи, это потому что я солгала? Потому что у меня такое ремесло? Если бы ты знал, как я его стыдилась, когда была с тобой!» Он стиснул зубы. Ничего не хочет знать. Он богат, она нищая, она хочет его обокрасть. Ему и в голову не приходит, что деньги дают ему возможность любить. Он понятия не имеет, какая невиданная роскошь любовь для жалких девчонок вроде Манон. «Не надо относиться с таким презрением…» Она уцепилась за его руку, но он твердо и жестко отстранил ее. И лицо у него стало таким неприятным… «Ты, кажется, считаешь меня идиотом, милая?!» Глаза у Манон раскрылись широко–широко. Колокольчики молочников оповещают о туманном молоке рассвета, едкая зябкость пронизывает улицы. Прохожие, что попадаются навстречу, грубые здоровяки, первыми отхлебнули свежесть нового дня, но она вместе с грузчиками начинает утро с непосильной тяжести. «Манон! Куда ты, Манон?!» Визг тормозов. Она вскрикнула. Она заметила только темную массу, что надвинулась на нее, а теперь ей так холодно. Голоса звучат глухо, долетают только отдельные слова, будто задремала в поезде: «Отойдите… Поймайте такси…» — «Он мне сказал… сказал… Он такой же, как все…» * * * Больница. С носилок видна только арка входа и нескончаемый коридор, он покачивается, покачивается… * * * Не мешайте мне умирать… Не трогайте меня… * * * Постель как морская пучина. * * * Нет, я не хочу его видеть. Нет, пусть уходит. * * * Сюзанна! Он мне сказал… Да, Сюзанна, я угождала мужчинам, но не сердцем, не сердцем… Для мужчин они кусок мяса. Она знала об этом. И для него, оплота добродетели, тоже — как это жестоко. * * * Температура все выше, выше. У постели сидит священник. Священник говорит: «Пора покаяться. Вы вели дурную жизнь…» Мне еще и каяться!.. Лицо у нее блестит от пота, горячка отнимает силы, как нескончаемая борьба. «Покаяться… дурная жизнь… метрдотель «Пигаль» всегда смотрел на меня так грозно. Оно и понятно. А почему? Потому что я всегда хотела убежать. На площадь Клиши. Там ярмарка. Карусель с деревянными лошадками. Сядешь, и кажется, что летишь, летишь… Больно–то как… Добрый вечер, мадам…» Пришла сиделка. Она так терпелива, ее можно попросить: «Зажгите лампу, дайте попить». У нее хватает времени выполнить все просьбы. Сиделка смотрит сосредоточенно, будто видит далекую цель, и уверена, что непременно ее достигнет. Интересно, какую? Наверное, старость? Сиделка подготавливает приход ночи. Наводит порядок на тумбочке, задергивает шторы, зажигает лампу под абажуром. Ходит по палате туда и сюда, возникает из тени белоснежным пятном, с ней становится светлее. Как мягко она двигается, исполняя свою таинственную работу. Наполняет палату покоем. Прикасается к вещам, будто желает им спокойной ночи. Расправляет простыню, пусть над болью царит умиротворяющая белизна. Она ненавидит смятое, скомканное, любое прибежище теней. И вокруг все успокаивается. «Свет погасить?» — «Не надо». Потом сиделка сядет в кресло и будет тихонько вышивать. Она бесшумно вытягивает иголку, проявляет на полотне невидимые цветы. До чего же умной стала Манон! Она все наконец поняла. Поняла, в чем разница между ней и вот этой женщиной в белом, что ходит туда и сюда, твердо ступая по земле, — она живет на другом берегу, город в ее окне с трубами, колокольнями и облаками готов принять ее. И она спокойно живет в этом городе. Манон прибило к противоположному берегу. Там все нереально. Город — всего лишь декорация, и жалкая жизнь маленькой Манон не в силах его оживить, он так и остается муляжом, картоном. Прошлые радости, прошлое горе тоже ничего не говорят больше сердцу, тени и призраки не причиняют боль. Она кукла в кукольном фарсе. Манон догадалась, что умирает: «Мадам, мадам…» «Поспите, милая. У вас жар». Руки сиделки такие прохладные. «Не убирайте, пожалуйста, руку». Прохладные, как родник, что трепещет в ней, насыщает ее, преображается в мысли… Медленно бьют часы. Один удар… Два… Три… И жизнь всякий раз замирает… Десять… Одиннадцать… Последний еще звучит, все еще звучит, и рождается необъятная тишина. Ночь… ночь… Колокольный звон пробуждает эхо… * * * «Будет прихрамывать», — сказал хирург. «А ведь я танцовщица…» Съежившись у окна, за которым сереет день, она снова склоняется над вышиванием, в нем вкус вечности, оно делает возможным невозможное бегство, с ним остаются наедине, когда жизнь безысходна… Нельзя же плакать и плакать — смиряешься. И тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое–белое, как стена.Авиатор
Колеса с силой давят на тормозные колодки. Завертелся винт, поднялся ветер, и трава метров на двадцать впереди заструилась, словно вода. Одним движением руки летчик может выпустить бурю, может удержать ее. Шум нарастает, мощнее, мощнее, и вот он уже ощутимая плотная среда, окружившая летчика. Когда пилот чувствует, что шум проник в него, его заполнил, слился с ним, он думает — «хорошо», и прикасается тыльной стороной ладони к гондоле — нет, не дрожит. Он рад, что энергия обрела такую плотность. Летчик наклоняется: «Друзья! Счастливо». Ради прощанья на рассвете друзья пришли, волоча за собой безразмерные тени. Но на пороге прыжка длиной в три тысячи километров летчик уже не с ними… Он смотрит на силуэт фюзеляжа, нацелившегося в небо, — против света он похож на ствол гаубицы. За винтом дрожащей пеленой стелется пейзаж. Винт теперь вращается не спеша. Летчик расслабляет руки, так отдают швартовы. Дивясь тишине, он застегивает ремни безопасности, крепления парашюта, потом двигает плечами, туловищем, устраиваясь поудобнее в гондоле. Еще немного — и взлет, с этого мига он уже в ином мире. Последний взгляд на приборную доску, где застыли говорящие циферблаты, — высотомер летчик аккуратно переводит на ноль. Последний взгляд на толстые короткие крылья, одобрительный кивок: «порядок», вот теперь он свободен. Катит медленно навстречу ветру, тянет ручку газа на себя, мотор выбрасывает гарь, становится горячее, самолет рвется вперед, роя винтом воздух. Эластичная струя воздуха подбрасывает самолет вверх, принимает обратно, смягчая удар. Прыжок, еще прыжок, еще. Летчик подлаживает скорость самолета к потоку воздуха, слившись с ним, чувствует, что расширяется, растет. Земля перед глазами вытягивается, вьется ремешком между колесами. Воздух сначала неощутимый, потом текучий, теперь уплотнился, пилот опирается на него и поднимается выше, выше. Исчезли ангары, что стоят вдоль взлетной полосы, потом деревья, потом холмы, и все шире и шире открывается горизонт. С высоты двухсот метров все кажется игрушечным — малютки деревья, раскрашенные домики, леса, похожие на клочки меха. Поднимешься еще выше, и земля оголится. Вокруг неспокойно, короткие жесткие волны толкают самолет, он упирается, задирает нос, завихрения сбоку теребят крылья, гондола дрожит. Но рука летчика удерживает самолет, будто Фемида чаши весов. На высоте трех тысяч метров полный покой, солнце висит неподвижно, вокруг ни единого колебания. И земля — так до нее далеко — тоже совершенно неподвижна. Летчик прикрывает закрылки, проверяет рули высоты, взятый на Париж курс и зависает на десять часов, отмечая лишь движение времени. * * * Неподвижные волны лежат на море веером. Солнце наконец стронулось с места. Пилот вдруг физически ощутил неудобство. Посмотрел: задрожала стрелка на счетчике оборотов. Посмотрел: внизу море. Мотор захрипел, запнулся, мысли тоже запнулись, и в голове пусто. Синкопа. Рука летчика автоматически тянет ручку газа. Что это? Капля воды? Пустяки. Летчик бережно доводит гуденье мотора до той ноты, которая его успокаивает. Если бы не холодный пот на лбу, никогда бы не поверил, что было страшно. Летчик снова слегка наклонился вперед, снова крепко оперся локтями о борта гондолы — так он чувствует себя спокойно и надежно. Теперь солнце нависает над ним. Усталость не мешает, если липший раз не шевелиться, если не тревожить защитившегося неподвижностью тела, если достаточно легких касаний, чтобы управлять самолетом. Уровень масла падает, потом поднимается — что еще стряслось? Мотор начал стучать. Вот сволочь. Солнце повернуло налево и уже покраснело. В голосе мотора слышится что–то металлическое. Нет… вряд ли шатун. Тогда что? Насос? Гайка на ручке подачи газа ослабла, теперь попробуй, выпусти ее из рук. Новое неудобство! Кто ж его знает? Может быть, и шатун. Сиплое дыхание, расшатанные зубы, седые волосы говорят, что организм изношен. С моторами то же самое. Хорошо бы додержаться до земли. * * * Земля действует успокаивающе — аккуратныеквадратики полей, прихотливая геометрия лесов, деревеньки. Пилот опускается ниже, чтобы лучше видеть землю. С большой высоты она кажется голой и мертвой, самолет снижается, и земля меняется: опушается лесами, покрывается зыбью впадин и возвышенностей — она словно бы дышит. Летчик планирует над горой, что похожа на спящего великана; стоит великану набрать в грудь побольше воздуха, и он толкнет самолет. Стойка на капоте нацелена на сад, сад расширяется, раскрывается, как объятья… «Мотор рокочет веселым громом». А настораживающий стук, в который он вслушивался? Летчику не верится, что он был. Рядом земля — сама жизнь. Он еще снижается, повторяя изгибы долины, что сереет лентой прокатного стана. Самолет тянет на себя поля, как простыни, отбрасывая их позади себя. Бросил тень на тополя и забыл о них, потом чуть приподнялся, чтобы пошире раздвинуть горизонт, так борец набирает полную грудь воздуха. Теперь летчик правит на аэродром, летит низко, видит сквозь стеклянную крышу завода свет, видит парк, видит сгустившуюся тень. Земля струится потоком и выносит ему навстречу из неистощимого окоема крыши, стены, деревья… Приземление — чистое надувательство. Обменял мощь ветра, рев мотора, свистящий шелест последнего виража на глухую провинцию: стену ангара, заклеенную белыми листками объявлений, подстриженные тополя, зеленый газон, на который выходят цепочкой юные англичанки с ракетками под мышкой из самолета Лондон — Париж. Пилот растягивается на земле возле липкого фюзеляжа. К нему бегут со всех сторон: «Отлично!», «Чудесно!». Офицеры, друзья, зеваки… Усталость внезапно берет его в тиски. «Мы вам поможем подняться!..» Пилот поднимается, наклоняет голову и смотрит, как блестят у него руки от масла, хмель прошел, ему грустно до смерти. * * * Теперь он всего–навсего Жак Бернис в пиджаке, чуть отдающем запахом камфары. Он весь поместился в затекшем, неловком теле и берет из аккуратно поставленных в углу чемоданов только преходящее, временное. А комната пока не обжита даже книгами, даже белоснежными простынями. — Алло! Это ты? Он вновь ощущает близость друзей. Слышит восклицания, поздравления. — Точно с неба свалился! Молодчага! — Так и есть, прямо с неба. Когда увидимся? Если честно, сегодняшний вечер занят. Значит, завтра? Завтра всей компанией играют в гольф, пусть он тоже приходит. Неохота? Тогда послезавтра пообедают вместе. Ровно в восемь часов. Бернис идет вверх бульварами. Ему кажется, он расшевеливает толпу, как сквозняк. Как будто бросает вызов. Навстречу такие попадаются, что тошнит, — едва шевелятся, разомлев от лени. А завоюешь вот эту женщину, и жизнь разомлеет, потечет еле–еле. Встречаются мужчины–трусы, а он в себе чувствует столько силы… Ощущая переполняющую его силу, он входит в дансинг. Бросает взгляд на жиголо, пальто не снимает, сохраняет форму любопытствующего путешественника. Жиголо суетятся всю ночь в этом загончике, будто рыбки в аквариуме, выдумывают комплименты, танцуют, подходят к стойке, когда захочется выпить. В полупьяной компании Бернис один сохраняет трезвый рассудок, в нем чувствуется весомая мощь грузчика, он твердо стоит на ногах, мысли у него не плывут, не дробятся. Решил посидеть и пробирается к свободному столику. У женщин, которых он задевает взглядом, гаснут глаза, они их отводят или опускают. Так при его приближении гаснут во время ночных обходов сигареты часовых. Гибкие молодые люди расступаются, давая ему дорогу. * * * Берниса назначили инструктором учебного отделения, и сегодня он завтракает в кафе по соседству с учебным аэродромом. Унтер–офицеры пьют кофе и переговариваются. Бернис невольно слышит их разговор. «Заняты делом. Славные ребята». Ребята толкуют о взлетной полосе, что раскисла от дождей, о наградных за сопроводительные полеты, о сегодняшних происшествиях. — Лечу на небольшой высоте, и — представляешь невезуху? — лопнул цилиндр. Вокруг ни одной площадки. Вижу двор позади фермы. Скользнул на крыло, выровнялся, и — ба–бах! — в навозную кучу. Раздается громкий смех. — Со мной еще смешнее было. В один прекрасный день врезался в стог сена. А наблюдатель мой, лейтенант, представьте себе, из гондолы вывалился! Уж я искал его, искал! А он сидит себе в сене… Бернис думает: они были на волосок от гибели, уцелели, и для них это стало смешным случаем. Говорят, не рисуясь, буднично, обыкновенно, будто подают рапорт или отчет. Славные ребята. Мы тут все свои не потому, что однополчане, а потому что можем говорить друг с другом попросту. Это женщины всегда просят: расскажите, что вы там почувствовали. * * * — Стажер Пишон? — Я. — Вы когда–нибудь летали? — Нет. Вот и хорошо, значит, начнем с чистого листа. Бывшие наблюдатели уверены, что уже все знают. У них на слуху команды: «ручку влево», «педаль от себя». Учить их непросто, упрямятся. — Пойдемте, в первом полете будете только смотреть. Оба устраиваются в гондоле. Механик летной школы раскручивает винт с непростительной медлительностью. Ему здесь маяться еще шесть месяцев и одну неделю, о чем он и сделал запись сегодня утром в туалете. Нацарапал, а потом подсчитал: впереди примерно десять тысяч оборотов винта. Каждый день одно и то же. Ну и куда торопиться, спрашивается… Стажер оглядывает голубое небо, дурацкие деревья, коров, что пасутся возле взлетной полосы. Инструктор протирает рукавом ручку газа: приятно, когда она блестит. Механик считает про себя обороты: насчитал уже двадцать два, сколько энергии зря пропало… — Может, свечи почистишь? Механик всерьез задумывается. Мотор если захочет, то заведется. Лучше оставить его в покое. Тридцать. Тридцать один. Завелся. Стажеру больше ничего не говорят слова «опасность», «героизм», «опьянение полетом». Аэроплан катится, стажер считает, что еще по земле, и вдруг видит внизу ангар. Ветер изо всех сил дует ему в щеки. Стажер уперся взглядом в спину инструктора. Господи! Что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, потом направо. Он цепляется за гондолу. Где она, эта земля? Он видит леса, они поворачиваются, приближаются, справа висит полотно железной дороги, небо… и вдруг прямо под шасси ложится спокойное ровное поле. Инструктор оборачивается, у него на лице улыбка. Стажер пытается понять, что произошло, Бернис учит: — Если происходит что–то неожиданное, соблюдайте следующие правила: первое — выключайте мотор, второе — снимайте очки, третье — крепче цепляйтесь за борта гондолы. Отстегивайте ремни только в случае пожара. Ясно? — Ясно! Наконец–то! Стажер дождался: ему сказали об опасности, сделав ее ощутимой, а его достойным знать о ней. Штатским обычно говорят: «опасности никакой». Пишон горд, что ему доверили тайну. — Впрочем, — прибавляет инструктор, — авиация — вещь не опасная. * * * Все ждут Мортье. Бернис не спеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову, и не без удивления наблюдает за своей левой ногой, которая отбивает такт. — Странное дело, Бернис, время словно застопорилось. Механик поднимает голову и видит, что горизонт уже заволокло туманной дымкой. Два–три дерева вдалеке видны пока отчетливо, но туман уже спеленал их понизу. Бернис стоит, по–прежнему опустив голову, и набивает трубку. — Да, остановилось, и мне это не нравится. У Мортье контрольный полет на диплом летчика, он давно должен прилететь. — Бернис, вы бы им позвонили… — Звонил уже. Он вылетел в четыре двадцать. — И с тех пор никаких известий? — Никаких. Полковник уходит. Бернис, уперев в бока руки, смотрит сердито на туман, — раскинулся, будто сеть, и прижал, кто его знает где, ученика к земле. «А у Мортье никакого хладнокровия, и самолетом управляет кое–как, вот беда–то!» — Смотри–ка!.. Нет, не то, едет какой–то автомобиль. «Мортье, если ты выберешься из тумана, я тебе обещаю… я… я тебя расцелую!» — Бернис! Тебя к телефону! — Алло! Что за идиот надумал снести крыши в Доназеле? — Этот идиот сейчас разобьется, оставьте его в покое, ругайте лучше туман! — Но… Неужели? — Отправляйтесь искать его с лестницей! Бернис вешает трубку. Мортье заблудился, пытается найти ориентир. Туман опускается толстым мягким пологом, теперь и в десяти метрах ничего не разглядишь. — Бегом в медицинскую часть за машиной «Скорой помощи». Если не будет здесь через пять минут, под арест на две недели! — Самолет! Все вскакивают. Ослепший самолет продирается к ним, их не видя. Полковник присоединяется к кучке смотрящих. — Господи! Господи! Господи! — машинально твердит он. Бернис шепчет про себя: — Выключи мотор, выключи, выключи… Прошу тебя, выключи мотор, выключи, выключи… Ты же обязательно врежешься! Мортье увидел препятствие лишь в десяти метрах от себя, но, что увидел, никто не узнает. Кто только не бежит к упавшему самолету. Солдаты — неожиданное событие сорвало их с места; унтер–офицеры, ревностные служаки; офицеры с огромным чувством неловкости. Дежурный офицер, хоть ничего не видел, но объясняет, как все произошло, полковник наклонился ниже всех, он и тут «отец–командир». Пилота наконец вытащили из гондолы, он бледен до синевы, левый глаз у него выпучен, сломана челюсть. Его положили на траву, встали кружком. — Может, можно… — говорит полковник. — Может, можно… — повторяет лейтенант. Унтер–офицер расстегивает ворот на комбинезоне раненого, вреда это не принесет, а всем становится легче. — «Скорая помощь»! Где она? — спрашивает полковник. По долгу службы он пытается принять решение. — Уже едет, — отвечают ему, хотя никто ничего не знает. Отпет успокаивает полковника. — Кстати, вот еще что! — восклицает полков ник и скорым шагом уходит, сам не зная куда и зачем. Суета не нравится Бернису. Толпа, собравшаяся вокруг умирающего, коробит его. — Идите, ребятки, идите… Расходитесь потихоньку… Люди по двое, по трое расходятся, исчезают в тумане, что ползет со стороны огородов и яблоневых садов, над которыми падал самолет. Пилот–стажер Пишон сделал для себя открытие: смерть — событие будничное. Встреча со смертью возвысила его в собственных глазах. Он вспоминает свой первый вылет с Бернисом, разочарование от того, что земля такая плоская, что все так спокойно, он не разглядел за спокойствием близости смерти. Но она там была, обыденная, заурядная, ее заслоняла улыбка Берниса, равнодушие механика, ослепительное солнце, синее небо. Пишон берет Берниса за руку. — Я хочу вам сказать… Завтра я непременно полечу. Не побоюсь. Берниса не восхищает его бесстрашие. — Полетите, ясное дело. Будете тренировать спирали. До Пишона доходит еще кое–что. — Только кажется, что они не переживают, им просто не до разговоров. — Обычная авария, — отзывается Бернис. * * * Высота кружит Бернису голову. Одноместный самолет–истребитель громко рокочет. Земля внизу некрасивая — ископанная, изношенная, заплата на заплате, будто всю ее поделили. Четыре тысячи триста метров, Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику внизу, будто на карту Европы в атласе. Желтые участки — пшеница, лиловые — клевер, людям они нужны одинаково, они сеют то и другое, но на взгляд участки враждуют, противостоят друг другу. Десять веков борьбы, ревности, соперничества выверили в конце концов границы, теперь людское достояние разместилось прочно. Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен, мечты усыпляют, обессиливают, его теперь опьяняет мощь, и он ей хозяин. Он прибавляет скорость, резко увеличив подачу газа, потом медленно и плавно тянет ручку на себя. Горизонт опрокидывается, земля откатывает назад, будто море во время отлива, самолет устремляется прямо в небо. На вершине параболы он опрокидывается и покачивается животом вверх, как мертвая рыба… Пилот, погрузившись в небо, видит над собой землю, она похожа на пляж и вдруг головокружительно обрушивается на него всем своим весом. Он выключает мотор, земля застывает неподвижно вертикальной стеной: самолет проходит высшую точку. Бернис осторожно подтягивает его, пока перед ним вновь не расстилается мирный окоем горизонта. Виражи вдавливают Берниса в кресло; свечи делают легче легкого, превращая в шарик, готовый лопнуть; прилив смывает горизонт, отлив возвращает на место; послушный мотор урчит, стихает и вновь урчит… Сухой треск: левое крыло! Пилота подловили, на лету подставили подножку: воздух под ним подкосился. Самолет штопором падает вниз. Окоем опускается на него покрывалом. Земля закручивает, поворачивая вокруг него леса, колокольни, равнины. Пилот видит: будто пущенная из пращи, пролетает мимо него белая вилла… Мертвого пилота, как волна утопленника, накрывает земля.Вокруг романов «Южный почтовый» и «Ночной полет»
Предисловие
«Южный почтовый» и «Ночной полет» — два первых романа, опубликованных Антуаном де Сент–Экзюпери. Когда они появились — первый в июле 1929 года с предисловием Андре Вёклера, второй в июле 1931–го (а не в октябре 1931–го, как часто писали о нем) с предисловием Андре Жида, — молодой писатель еще работал в компании Аэропосталь. История создания этих двух романов на виду благодаря письмам, которые автор, находясь вдалеке от своих друзей и близких, посылал из Парижа, Тулузы, затем из Дакара, Каи–Джуби, Буэнос–Айреса. Письма матери и ее кузине Ивонне де Лестранж — герцогиня де Тревиз, дружила с Андре Жидом и Марком Аллегре, которые звали ее Яблочко, — изобилуют свидетельствами о рождающемся призвании писателя. Годы, когда юный де Сент–Экзюпери жил в Париже, когда желанный союз с Луизой де Вильморен отдалялся все сильнее, он много писал и надеялся многое опубликовать. В то время он с равным воодушевлением откликался на соблазны писательства и на зов неба, отдавал силы призванию литератора и призванию авиатора. Сент–Экзюпери не летчик, ставший писателем, и не писатель, ставший летчиком, он изначально летчик и писатель одновременно. Стремление к той и к другой профессии было вызвано одинаковой страстью и вызывало нетерпеливое желание продвигаться вперед. До нас дошли самые первые произведения де Сент–Экзюпери — детские рассказики, подростковые стихи и новеллы; счастливый случай время от времени до сих пор приносит нам то одно стихотворение тех давних времен, написанное в духе парнасцев, то другое, в стиле ранних символистов. Но в начале 20–х годов, когда де Сент–Экзюпери освободился от обязанностей военной службы и еще не определился всерьез с профессией, он начал писать очень активно, пишет много и разное. Уже в 1923 году главный редактор «НРФ» Жак Ривьер оставляет у себя рассказ начинающего писателя под названием «Полет». Сент–Экзюпери, офицер запаса, хоть и не начал еще работать в коммерческой авиации, но уже накопил немалый опыт, летая в качестве военного летчика. Но пробует он себя и на совершенно иных темах, написав, например, рассказ «Манон, танцовщица», который так понравился и Андре Жиду, и Жану Прево, что обсуждался вопрос о его публикации как в журнале, так и отдельным изданием. В начале 1924 года Сент–Экзюпери начинает писать роман, «сжатый и в новом стиле», который приводит в восхищение всех его близких. Минуты воодушевления чередуются с периодами поисков и сомнений. Он надеется показать роман матери в июле месяце, но вскоре пишет: «Роман немного застопорился. Однако я продвигаюсь вперед внутренне и очень значительно. Заставляю себя быть в состоянии сосредоточенного наблюдения. Коплю». И спустя несколько дней своему другу Шарлю Саллесу, которому тоже намерен дать на прочтение рукопись: «Написал небольшие кусочки, перечитываю их с нежностью, которую хотел бы разделить с тобой. Но время от времени становлюсь в тупик. Ввел новый персонаж, он был нужен мне для определенной цели, и теперь не знаю, что с ним делать. К счастью, я был предусмотрителен и сделал его умирающим. Увяз и пока не понимаю, как свести концы с концами. Проигрываю все возможные варианты. Есть, кажется, какая–то игра для терпеливых, которая напоминает то, что я делаю, мозаика из множества квадратиков. (…) Хочу сложить их уж как–нибудь, наугад. Понять мою мешанину будет трудно, зато возникает ощущение тайны». Что это за роман? Первая версия «Бегства Жана Берниса», фрагмент из которого под названием «Авиатор» опубликуют Жан Прево и Адриенна Монье в последнем номере своего журнала в апреле 1926 года. Стал ли этот фрагмент первой публикацией нашего автора? Может быть, и так, но у нас нет никаких подтверждений этому, (ведения слишком сбивчивы. Так, например, в записке, которую Сент–Экзюпери прикладывает к рукописи «Авиатора», оставляя ее у кассирши в кафе «Дё Маго», поскольку вынужден уйти, не дождавшись Жана Прево, он называет ее «Рассказ о полете» . А Прево в тексте, сопровождающем публикацию, сообщает, что речь идет о фрагменте большой новеллы, которая была утеряна автором и восстановлена по памяти в укороченном варианте.» Теперь, после публикации вполне законченного произведения «Манон, танцовщица», новеллы, написанной в тот же самый период, мы с полной определенностью можем сказать только одно: прежде чем написать свой первый роман «Южный почтовый», Сент–Экзюпери создал множество самых разнообразных литературных текстов. Годы с 1923–го по 1926–й, когда он переживал сердечную трагедию, когда был не слишком удачно устроен в смысле работы, сформировали его как писателя. В конце 1926 года молодой человек поступил на службу в компанию «Латекоэр» и стал водить самолеты на линии Тулуза — Касабланка — Дакар, а в октябре 1927 года был назначен начальником аэродрома Кан–Джуби в Сахаре. Решительный и благодетельный поворот судьбы — этот период жизни для Сент–Экзюпери будет необычайно плодотворным: благодаря или вопреки одиночеству и аскетизму профессии, человек и писатель обретут свой жизненный путь. Роман «Южный почтовый», где главным героем стал Жак Вервие, был начат в Дакаре или на одном из промежуточных аэродромов, когда летчик отдыхал от полета, а может быть, от аварии на территории непокоренных мавров, а может быть, от охоты на львов… В 1927 году склонный к авантюрам молодой человек с гордостью сообщает из столицы Сенегала матери, которая с большим вниманием следит за литературным ростом своего сына — «писателя», что «затеял большую вещь для «НРФ». Он работает над ней еще и в 1928 году и в конце этого года пишет длинное письмо Ивонне де Лестранж, сообщая, что закончил книгу, что в ней две сотни страниц, что «она достаточно дурацкая». Роман «Южный почтовый» был передан Андре Жиду, и он, прочитав его, пришел в восторг и 8 января 1929 года отнес для ознакомления Жану Полану, главному редактору «НРФ», с тем, чтобы фрагменты, предваряя публикацию книги, появились в журнале. В том же письме Андре Жид пишет, что роман заслуживает отдельного издания и «публику нетрудно будет подогреть, учитывая героизм ее автора». 20 февраля того же года издательство подписало с Сент–Экзюпери контракт на семь романов. В Париж он возвращается в марте. А в мае едет на переподготовку в Брест. Критик Рамой Фернандес пишет к «Южному почтовому» предисловие, проникнутое благожелательной иронией, которая приводит Сент–Экзюпери в страшное раздражение (его превратили в этакого неуклюжего нескладеху, и этот портрет может повредить ему в глазах коллег–летчиков). Предисловие будет убрано, скорее всего стараниями Ивонны и Жида. Романист Андре Бёклер, близкий друг Гастона Галлимара, в конце концов уладит это дело: книга появится в июле с написанным им предисловием. В августе Сент–Экзюпери вновь начинает летать с почтой на линии Тулуза — Касабланка, в сентябре он узнает, что его переводят в Южную Америку, и 12 октября в Буэнос–Айресе его встречают Мермоз, Гийоме и Рэн. Жизнь побежала бегом. Рукопись «Южного почтового» вот уже пятьдесят лет хранится в коллекции Мартина Бодмера (Фонд Бодмера. Колони — Женева). Это рабочая рукопись, подаренная автором Луизе де Вильморен (см. письмо на стр. 108), содержащая различные варианты по сравнению с опубликованным текстом (варианты опубликованы в «Собрании сочинений» А. де Сент–Экзюпери «Библиотека Плеяды»). На некоторых листках рукописи фирменный знак ресторана в Сан–Рафаэле, и это наводит на мысль, что Сент–Экзюпери работал над своим романом летом 1927 года в Агее, у своей сестры Габриель, куда приехал выздоравливать, после того как пролежал несколько недель в больнице в Дакаре, заболев лихорадкой денге. Фрагменты, которые собраны в нашем издании, никогда не публиковались. Принадлежат ли они периоду работы над «Южным почтовым» или предыдущему, когда Сент–Экзюпери писал «Бегство Жака Берниса»? Сегодня нам этого не определить, они так и остались фрагментами и не вошли ни в то, ни в другое произведение. Однако приезд Берниса в старинный дом, образ дома–корабля не противоречат атмосфере его первого романа. Описание дома в этих фрагментах близко упоминаниям о доме Женевьевы (подъезд, липы…) — дома, откуда она сбежала, несмотря на прочную связь с родовым гнездом (часть вторая, главы 1 и VII); куда снова вернулась после недолгого побега с Бернисом, чтобы отправиться в последнее путешествие, дом — погребальный корабль, дом–мавзолей (часть третья, глава IV). Эти фрагменты близки и воспоминаниям о доме, в котором провел детство Бернис (часть третья, глава III), в них тоже постоянно присутствует морская стихия и постоянно слышится призыв к бегству, к странствию («Дом спущен на воду, как корабль»). По сути, образ «дома–корабля», рождающий мотив странствия и мотив перетекания материального в нематериальное и наоборот, является самым главным, ключевым для романа. «Южный почтовый», роман о полетах в небе, омыт со всех сторон водой, как корабль, застывший в призрачной неподвижности. «Мне чудится, где–то тонет корабль» — так звучит одна из фраз в конце «Южного почтового», словно бы взятая из публикуемого нами фрагмента. Но эти фрагменты близки и более позднему произведению, «Планете людей», в четвертой подглавке главы «Самолет и планета», которая сначала была опубликована в 1938 году в газете «Пари суар», мы читаем: «Был где–то парк, заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. (…) Он существует, и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность». Сент–Экзюпери посвящает в «Планете людей» прочувствованные страницы Муази, которая, после того как в 1914 году «фройлен» уехала в Германию, стала домоправительницей замка Сен–Морис–де–Реманс, где прошло его детство. Вернувшись из своего первого полета, он пришел в бельевую и увидел все те же стопы простынь и скатертей и ее, королеву своего белоснежного королевства. А вот парк, по которому бегали дети, заметно расширился, и невозможный Тонио вернулся из куда более дальнего одиночества… Однако маленькое белоснежное королевство обладало удивительной властью, потому что ощущение вечности в пустыне пришло не от песков, а от воспоминания о маленькой бельевой. Как привет от белоснежного царства Муази мелькает на горизонте белый парус удаляющейся яхты, и белый песок Сахары тоже напоминает царство Муази. Хорошо известно признание Сент–Экзюпери из январского письма к матери 1930 года: «Я не уверен, жил ли я с тех пор, как перестал быть ребенком». Но не все помнят, что перед этим он воздает хвалу Муази, написав: «Мадемуазель Маргарита помогла мне ощутить, что такое вечность». Дальше Сент–Экзюпери продолжает размышлять о том, чем был для него дом в детстве, вспоминает, как вечером перед сном к ним приходила мама, и ее приход был сродни благословению, которое давалось перед дальним путешествием в неведомый мир снов, уводящий за пределы знакомых стен дома и парка. Верность одним и тем же проблемам, возвращение все к тем же образам — признак серьезного творческого процесса. «Планета людей» уже живет в «Южном почтовом». Не вошедший в «Южный почтовый» фрагмент свидетельствует о том же постоянстве. Дом ли это Берниса, куда он возвращается, как вернулся Тонио? Или это дом Женевьевы? Неважно, важно, что неизменна суть. Продолжение размышлений о доме в чудесном письме бывшей невесте, Луизе де Впльморен. Автор «Южного почтового» присваивает себе окончившийся неудачей поиск Берниса: «Боюсь, что не узнаю свой дом. Старину Берниса, своего приятеля, я отправил умирать в пустыню, потому что дома он так и не нашел». Расставшись с Лулу, Сент–Экзюпери очень долго не мог прийти в себя и успокоиться. Его первые произведения передают то смятение чувств, в котором он жил. Неудивительно, что автор пытался посвятить свой первый роман той, которая вызвала это смятение, но безуспешно. Собранные нами и опубликованные письма так или иначе касаются первых произведений де Сент–Экзюпери и вместе с тем свидетельствуют, что отношения с Луизой де Вильморен продолжались и после 1923 года. Молодой человек нуждается в ее близкой дружбе, он страстно стремится к ней. Судя по всему, бывшая возлюбленная играет немалую роль в самом написании его романов. Как трогательно нетерпение, с каким он пытается получить от нее хотя бы строчку, которая свидетельствовала бы, что ее заинтересовал «Ночной полет», его второй роман, написанный в Буэнос–Айресе. Сент–Экзюпери очень нуждался в ободрении, он совсем не был уверен в себе как в писателе. Тем более что первая критическая статья, которую он прочел о своем романе, была появившаяся в июле 1931 года в «Аксьон франсез» кисло–сладкая критика Робера Бразияка. (Более подробно об этом в нашем предисловии к «Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет».) К этому времени он вновь стал летать с почтой по африканскому маршруту, поселившись с молодой женой в Касабланке. Статья тем более впечатлила Сент–Экзюпери, что жил он вне литературной среды, не получал никаких отзывов о своем романе и подозревал, что издатель уже приготовил ему «похороны по первому классу». В сентябре 1931 года он жалуется Ивонне де Лестранж на полное молчание, и вполне возможно, она и посылает тоскующему автору статью Бразияка. Ивонна де Лестранж и в этот период остается самой деятельной из его близких друзей–корреспонденток и, очевидно, чаще других оказывает ему помощь, как о том свидетельствуют опубликованные нами черновики обращенного к ней письма. Сент–Экзюпери отдыхает между полетами в Сент–Этьене, у него есть время поразмышлять, и он делится с ней своими мыслями политического и социологического характера, противопоставляя свой опыт и свои выводы относительно колонизации мыслям и опыту своего друга Андре Жида, чье предисловие к «Ночному полету» никого не оставило равнодушным. У противников колонизации Сент–Экзюпери обнаруживает своего рода лицемерие по отношению к черному населению и объявляет себя почти по–стендалевски противником любых политических систем, которые заботятся о выживании вида в ущерб жизни индивидуума, заботятся о наличии стада, а не о совершенствовании особи. С позиций приверженца к устоявшемуся и элитарности, он считает одинаково нерезультативными как Америку, так и Россию, демократию и коммунизм, так как эти режимы пренебрегают тем, на чем возрастает и базируется достоинство человека, что выстраивает иерархические ступени. Уравнивание всех по самому низкому уровню, формальное равенство, культурный и коммерческий империализм — вот чего не принимает, против чего всеми силами возражает Сент–Экзюпери, чья политическая мысль пока еще только созревает и формируется. Позже он сумеет найти для своей позиции иные формы, избавившись от ретроградных акцентов. Однако вернемся к статье Бразияка. Критик видит родство «Ночного полета» с Творческим методом автора «Подземелий Ватикана». Но это родство для него не явление, которое он исследует, а оценка, и он с убийственной легкостью объявляет о неестественности такого родства. Может ли Сент–Экзюпери быть настоящим летчиком, если он пишет с красочной изысканностью Жида? И собственно кто он такой и кем себя считает? Литератором — то есть человеком, умеющим искусно пользоваться языком и благодаря языку и собственному воображению открывающим новые миры? Или летчиком–профессионалом, которому чужды метафоричские ухищрения писателей? Сент–Экзюпери испытывает необходимость ответить критику. Свой ответ он строит, опираясь на анализ стиля своих современников, в частности Поля Морана. Его размышления не остались только в черновике письма Полю Кремьё, который мы здесь публикуем, они вошли и в письмо, которое было ему отправлено, и директор Пен–Клуба опубликовал фрагменты из него в декабре 1931 года. Главная проблема, которую обсуждает Сент–Экзюпери, — это проблема человека, обладающего профессией и пишущего о ней, возможность существования литературы, ориентированной на какую–либо профессию, совмещающую одновременно две точки зрения: взгляд извне, описательный, и взгляд изнутри, участника процесса. Бразияк помещает молодого писателя как бы в нейтральную полосу между двумя профессиями. Он пишет: «Книгу стоит прочитать, произведение весьма любопытное». И потом: «Это не книга авиатора и не книга литератора», усугубляя ощущение изолированности неуверенного в себе автора. Все последующие годы Сент–Экзюпери не избавится от сомнений относительно собственного профессионализма, но зато относительно судьбы своего романа и поддержки издателя он может быть совершенно спокоен — молодого автора удостоили премии Фемина. Ей предшествовали и положительные отзывы критиков, но, как свидетельствует набросок письма, который мы здесь публикуем, автор относился к себе с большей суровостью. Письмо обращено к журналисту, и мы видим в нем удивительно интересную самокритику относительно фигуры Ривьера, начальника летчика Фабьена. Читая отзывы о своем романе, Сент–Экзюпери понял, что Ривьера трактуют не так, как он его задумал, и произошло это по его вине: суровость Ривьера, что бы ни говорил о ней Бразияк (это письмо скорее всего тоже косвенный ответ на статью в «Аксьон франсез»), вовсе не индивидуальная черта характера. Необходимость делает этого человека авторитарным, он воплощает собой эту необходимость и передает ее дальше. Властность Ривьера не его человеческое качество, она зиждется на необходимости выполнить общую для всех миссию, это общее вбирает и подчиняет себе все личностные частности. Взаимоотношения летчика с вышестоящим начальством строятся не как межличностные или эмоциональные; их суть — взаимная ответственность, свидетельство того, что строгая субординация способна осуществить цивилизаторскую миссию и наделить значимостью каждого из служащих. Премия Фемина, безусловно, обрадовала и придала уверенности Сент–Экзюпери, хотя в письме к Ивонне де Лестранж молодой автор и сожалел, что не получил Гонкуровскую. Новость он узнал, получив 4 декабря телеграмму, и компания дала ему разрешение отправиться в Париж, чтобы получить премию, но он больше не вернулся на африканскую почтовую линию. После встречи Нового года в кругу семьи в замке Сен–Морис–де–Реманс Сент–Экзюпери 6 января 1932 года произносит речь на празднике, организованном журналом «Ла мод пратик». Его аудитория — молодые девушки, что не может не нравиться выступающему, а девушкам не может не понравиться речь героя, летающего в небесах. Писатель рассказывает своим слушательницам две необыкновенные истории — о том, как умер молодой человек по имени Прюнета, и о том, как выжил другой, по имени Гийоме. Обе эти истории мы встретим потом в его книгах. Однако важный этап в жизни Сент–Экзюпери в этом году закончился, начинался другой, не очень–то легкий. Героическая деятельность компании Аэропосталь подошла к эпилогу, и атмосфера в авиации становилась с каждым годом все более безрадостной. Сент–Экзюпери будет делать все возможное для того, чтобы продолжать летать, но с этих пор без конца будет возвращаться к пережитому им необыкновенному времени, — память о нем и его уроки он сохранит до конца своих дней, потому что через несколько лет авиация из героической стала коммерческой и уже не созидала человека в человеке, но перевозила его с места на место. Альбан Серизье Данная публикация сделана по текстам, написанным рукой де Сент–Экзюпери. Отдельные слова в них прочитать так и не удалось, и мы обозначаем их пометой «нрзб». Возможный вариант прочтения помещен в квадратных скобках. Пунктуация и орфография в случае необходимости были поправлены. Глубокая благодарность тем, чье душевное благородство и щедрость позволили этим текстам стать всеобщим достоянием.Фрагменты
Чего я боялся? Неужели смерти? Три фрагмента из «Южного почтового» — Чего я боялся? Неужели смерти? Жак Бернис распахнул дверь и, не спускаясь с веранды, смотрел в парк. Зеленые купы деревьев неподвижно застыли в мирной синеве вечера. Ему показалось, он любуется подводным царством. Деревья утонули в потемках. Он вообразил едва освещенные купы затонувшими кораблями. Парк был священен, как священно звездное небо. Вспомнилась молитва, которую он когда–то очень любил: «Господи! Пошли людям своим неизреченную благодать. Пошли покой, и да пребудет она в нем вечной». Что такое «неизреченная благодать»? Он ощущал ее сейчас, здесь, именно в этом мирке, таком хрупком, но обладающем прежней, не слабеющей с годами властью. «Где ты хочешь приземлиться и осесть, голубчик?» Вот на этой скамейке. Под липами он снова станет таким, каким был когда–то, ощутит весомость сотни условностей, и они помогут ему самому обрести весомость. Он повторил: «Странствия ничему не учат. В странствиях теряешь себя». Дом, темный парк, едва видимая между липами церковная колокольня — вот зачарованный замкнутый круг. А он сейчас на лечении в лечебнице, этот корабль построен , чтобы плыть сквозь дни к исцелению или смерти; больные лежат и ждут неведомо каких видений, неведомо каких обетованных земель. Лечебница, парк, корабль. Самое долгое странствие — это путь из конца в Конец парка, путь от рождения к смерти. «Исполнишь долг каждого дня, и Господь тебя примет». Принимал, после того, как читали старинные книги, мирили крестьян, поступали разумно… Дом для множества его предков служил надежным паромом, оставался самодовлеющим, самоценным, вдалеке от суеты и от жизни. Очутившись за каменными стенами, Жак Бернис явственно почувствовал: здесь не знают, что есть край света. — Детьми в этой комнате мы спали. И точно так же, как в давние–предавние времена, они освещали тяжелой лампой путь по старинному неудобному дому. В темноте наступившей ночи они вглядывались не в дом, а в прошлое. Видели не спальню, а пучок света, дрожащие на стенах ветвистые тени, углы, где затаились старинные вещи, едва угадываемые в темноте ночи, в темноте времен, свет никогда не обнимал их целиком. Он вторгался сюда мощной силой, кулаком, с которым не справиться. И слабые детские руки потемок, что их обнимали, опускались. — Может, выйдем в парк? — Но сейчас же ночь. — Неужели? (Предложить сейчас выйти в парк все равно что попросить, чтобы корабль посреди океана причалил к земле.) Бернис прекрасно знал, сколь священны обряды, приуготовляющие дом к приходу ночи, знал, сколько предосторожностей предпринимается против нее. Зимой готовиться начинали с шести часов вечера, слуги сновали по дому, закрывая и законопачивая дом, как корабль. Старались, чтобы ни один луч луны не проник сквозь ставни. «Смена караула». Но запоры на ставнях все же до того ненадежны… Потом раздавались шаги старой хозяйки, слуга нес перед ней лампу, и она проверяла, плотно ли закрыты ставни, все ли заперты замки, все ли наложены засовы, проверяла придирчивее старого генерала, который следит за соблюдением устава. Дом запирали от луны, звезд и еще цыган: стоило опуститься ночной тьме, и цыгане распространялись повсюду, плыли по воздуху, просачивались в любую щель, как опасный болезнетворный микроб. «А когда–то мы жили спокойно». Бернис, вернувшийся из южных стран, где распахивали двери и окна навстречу звездам, улыбнулся посреди [коридорного святилища]: — Но ведь еще день… Настал черед удивиться служанке. «В парк, конечно, надо бы выходить пораньше…» И вот Бернис смотрит, как трепещут листья на деревьях, налитых темнотой сумерек, и чувствует щемящую тоску от неизбежности молчаливого незаметного крушения. «Все накренилось, вот, вот…» — Вернемся… — Да, конечно… — А старая демуазель? — Сейчас вы ее увидите. Демуазель сидела с шитьем у окна. Она одна чинила все белье в этом доме. Не было в доме скатерти, простыни, которые не прошли бы через ее руки. Верная служанка старинного постельного и столового белья, она сновала проворной мышкой между больших шкафов, в которых высились белоснежные стопы, тонкими пальцами разворачивала скатерть, и вот она уже струится с ее колен. Бернис долго стоял на пороге бельевой. Эта комната казалась ему самой сокровенной, самой таинственной, она прятала источник свежести, из нее появлялись скатерти и простыни, облагораживающие белизной весь дом. Здесь было святилище старой демуазель, похожей на монахиню, посвятившей себя хранению чистоты, не жалевшей своих старых глаз ради того, чтобы снежное сокровище оставалось непорочно чистым. Бернис иногда задумывался: как мадемуазель представляет себе мир? Не было для нее преступления более тяжкого, чем: «Чернильное пятно! Какой ужас!..» Он вспомнил ее дрожащий голос. Он тогда смеялся. Он был молод, только что поступил в армию и любил дразнить ее. — А ты знаешь , что в полете или при встрече с врагом рубашка может порваться?.. — Господи! Какое злодейство! — А есть страны, где… И другие, там… Разговор всегда заканчивался одной и той же фразой: «Вы гордец, вы настоящий [язычник]». Можно было подумать, что дом в своих недрах выпестовал разрушителя, настоящего Атиллу… Сейчас впервые Бернис ощутил, что в бельевой обитала истина, маленькая, хрупкая, белоснежная и безукоризненно подлинная, как волшебные сказки детства. Но и эта истинность крахмальной белизны, которой истово служила та, что лишилась даже имени и была лишь служанкой, готова была исчезнуть. * * * Начинало темнеть, и дом задраивали. Делалось это тщательно и поспешно, будто по сигналу тревоги, будто в крепости менялись караульщики. Служанки разбегались по комнатам и закрывали ставни, за двадцать лет они привыкли закрывать их. «От воров», — говорила бабушка. От убийцы–железнодорожника, лет десять назад ночь стала смотреть на дом его страшными глазами. Бернис возвращался из колоний, где жили люди разных национальностей, где спали, не запирая дверей и окон, где дома наполнялись звездами. Его удивляли тяжелые железные засовы, которыми запирались от ночной тьмы. Будто на корабле, будто опасались малейшей протечки. Грузная госпожа Бернис, неукоснительно исполняя свой долг, тяжелым шагом обходила коридоры, гостиные, спальни, так капитан перед отплытием судна удостоверяется, что нигде нет ни капли воды. Все замечали наступающую тьму, но не замечали, как ветшают [ковры]. И только утром служанки распахивали ставни навстречу солнцу, ставили на поднос молоко и мед… Дядя и полковник Жак Бернис вышел на крыльцо, стоял и смотрел на деревья в парке. Недавно прошел дождь. Зеленые купы неподвижно застыли в неподвижном воздухе, будто подводный лес в глубинах вод. А как аккуратны газоны, но есть в них что–то манерное, как в элегантных гостиных [неразборчиво]. Нескончаемые, бессмысленные труды. Бернис посмотрел и на каменную стену, прочно внедрившуюся в землю. Взглянул на шезлонги — гости перенесли их с яркого солнца в тень под липы. Некое прозрение, поднимаясь из глубины, медленно рождалось в Бернисе, прозрение, которое не могло посетить никого из тех, кто проводит время здесь, сидя под сенью лип. Солнце, готовясь к самому обычному из закатов, залило весь парк сияньем, будто водой, и Бернис вспомнил, что с такой же щедростью оно ласкало и скудные пустынные земли. Полковник тоже вышел на крыльцо, предложил ему выпить стаканчик, а Бернис все острее чувствовал томящую сердце тоску. — Пойду поброжу по дому… И вот оно, озарение. Бернис все понял. Он понял, как близко крушение, понял, что этот корабль изветшал и […]. Замкнутая неисчерпаемая маленькая вселенная, которая, как корабль океанским волнам, противостояла текущему времени, вот–вот пойдет ко дну. — А сами–то они чувствуют, как сильно накренились борта?.. И вдруг успокоился: цепляются ведь за условности… Дети играют в какую–то игру. Обманчивая надежда. По вестибюлю прохаживался нотариус, туда и обратно, туда и обратно. Совсем молодой человек, не без странностей. Они вглядывались в ночь, которая должна была вот–вот опуститься… Фрагмент из «Ночного полета» Они вглядывались в ночь, которая должна была вот–вот опуститься. Ничего хорошего ждать не приходилось. Бывают вечера, когда небо освобождается от всех, самых незаметных помарок и застывает, ясное, чистое. Тогда внизу отчетливо видна земля, темная вращающаяся пластина. А небо, и потемнев, сохраняет ту же необычайную прозрачность. Фабьен знал и другое, знал, что туман или дождь ночью мешают иной раз меньше, чем днем. Днем свет обтекает предметы, освещает землю, и сама земля тоже словно бы светится, и становится непонятно, где источник света, и тогда исчезает линия горизонта. Туман в ночном небе противостоит тьме, он будто ее отталкивает. Наметанный глаз в тумане всегда различит темную платформу земли. Но эта ночь не сулила ничего хорошего. Сахара посылала на берег горячий ветер, насыщенный песком. Воздух, который опытный пилот словно бы щупал рукой, походил на горячечное тело больного, в нем трудно было отыскать частички здоровья. Теплые, холодные воздушные потоки, болтанка, влажность — все говорило, что пошла работа, большой котел понемногу закипал, но пока летчик ощущал вокруг себя напряженное полузабытье болезни, а не явно бушующую грозу, пока все смешивалось потихоньку, земля и небо смешаются потом. Пока и Фабьен довольно спокойно управлял самолетом. Наблюдатель сзади передавал по радио короткие сообщения: «Высота триста метров, видимость средняя, курс 210, все в порядке. Пересекаем границу Сегье и Хамры». Пилот передал наблюдателю сообщение: «Во сколько зайдет луна? Видимость тогда упадет совсем». С помощью радио наблюдатель уточнил: луна зайдет в половине первого ночи. Зато из Сиснероса, места их прибытия, поступали успокаивающие сообщения: «небо чистое, видимость превосходная». И должно быть, так оно и было. Открытие линии Набросок Париж. Официальные лица, министр, администрация. Принято решение открыть южную линию. Тулуза. Директор подразделения главной авиакомпании получает телеграмму: «Изучите вопрос и 15 марта откройте часть линии Каса — Дакар». Суматоха, карты, главные пилоты и проч. Пилоты в служебной комнате. На стене расписание полетов и объявление : «X,Y,Z летают на линии Каса — Дакар». Небольшая комната пилота. Несколько фотографий на стене, граммофон, книги. Сидит подружка, ждет его. Он возвращается после почтового рейса, собирается рассказать о полете, но подружка подает ему записку. Принесли после обеда. «Пилот X, получивший назначение в Дакар, вылетает завтра утром». Первое чувство — ярость. Вечно одно и то же! Не ремесло, а дерьмо! Ничего нельзя предвидеть заранее… А сам уже снимает со стены фотографии…Письма
Луизе де Вильморен [29] 1926–1933 I Париж, октябрь, 1926 г. До свиданья, голубчик Лулу. Вечером уезжаю в Ниццу и не хочу тебя беспокоить. Надеюсь, что не слишком досаждал тебе в эти дни, хотя ты знаешь, как я рад всегда с тобой повидаться. Я верный друг, но друзей, которым я рад всегда, у меня немного. Прости, что, появляясь, даю о себе знать. Я эгоист. Если я снова приеду, а у тебя найдется время прочитать мне конец твоей истории, я приеду в Верьер [30]. Я полон любопытства, твой роман мне нравится бесконечно. Мой почти не двигается, и это меня обескураживает. Я тебе рассказывал историю о замке за семью стенами, это та самая. Но самые любимые сказки никак не даются нам в руки. Напрасно уединяешься, запираешь дверь, погружаешься в мир мечты, легенда, которую пытаешься наделить жизнью, теряет краски. А история замка, семи стен и архангела могла бы стать красивой историей и такой же сюрреалистичной, как твоя. И, может быть, она бы тебе понравилась. Ты знаешь начало: о прекрасном архангеле, который не мог опуститься на землю, потому что не умел складывать крылья. Я придумал конец, мне кажется, замечательный. Но история ни с места. Мне не надо писать волшебные сказки, лучше начну писать рассказ о самолете. Рано или поздно должно прийти вдохновение, которого все нет и нет, как только начинаешь ждать, оно исчезает. Не чувствуешь дождя, ветра , но придет день, и ты их почувствуешь. Не знаю почему, но это состояние напоминает мне общение по телефону. Прощанье наступило из–за обрыва связи, ждешь и ждешь звонка, но впустую, и надежда постепенно оставляет тебя, и в тебе тоже все пустеет. Мне кажется, сам не знаю почему, что похоже. До свиданья, голубчик Лулу. Прости, если все–таки поднадоел тебе, но мне так хотелось узнать твое мнение о тех маленьких историях, которые я пишу. Твой старина Антуан. Дакар, 23 февраля, 1927 [31]. II Вы, должно быть, не поняли, Лулу, почему я так долго молчал, но мне нужно было молчание, чтобы вызрело все, что сейчас я готов вам подарить. Сами того не подозревая, вы требуете от меня очень многого. Я возвращаюсь к вам другом детства, и даже сердцем я вам друг. Подарок, по моему разумению, только то, что даришь от чистого сердца. Во мне жили воспоминания, и я каждый день возвращался в прошлое. Оно было моим единственным богатством. Мне понадобилось время на то, чтобы вырастить сад, так что не стоит на меня сердиться. Теперь я друг, только друг. Так проще и лучше. Мне легко и весело вернуться к вам другом, голубчик Лулу. Если я и пожертвовал немалой частью себя, то вознагражден сердечным покоем и, быть может, доверием и дружбой, которыми, кто знает, а вдруг вы меня удостоите. А мне бы так хотелось забавлять вас разными историями на правах старинного друга. Лулу — пусть никто этого не поймет, — но я правда могу но собственной воле и, не краснея, просто с вами дружить. Условности мне смешны, и я очень многое понял. Я был ребенком, вы были женщиной. Ваше сердце, ваша доброта были сердцем и добротой взрослой женщины. Вы склонились ко мне, это было чудесно, но не могло длиться долго. Я не раз перечитывал свои письма и понял, до какой степени они ребяческие. Я был ослепленным мальчишкой. Конечно, вам этого было недостаточно. У меня нет фальшивого самомнения, и поэтому я всегда «пристрастен к вам» и могу к вам тянуться поверх самого себя. Можно, я расскажу вам о своей жизни? Я далек от светской жизни, Лулу, я в Дакаре (это Сенегал). В один прекрасный день у меня возникло несварение от де Сегоней [32]и Си, их снобизма и рассеянной, бесполезной жизни. И еще от того, что мне самому нечего дать, раз нет любви. Я странный тип, мне всегда нужно что–то еще. Я сказал себе: «Жизнь одна (по крайней мере, так я предполагаю), и мне будет жаль, если я потрачу ее на серую работу и светские чаи». Я вернулся в авиацию, но на других условиях. Существует линия авиапочты Тулуза — Дакар, и скоро будет Тулуза — Южная Америка с остановкой в Дакаре. Часть этой линии — примерно две тысячи километров — проходит над непокоренными землями Африки. Случались катастрофы, летчиков убивали. Воодушевления не было. Дело шло неважно. Мне поручили заняться этой линией. Не только водить самолеты, но и постараться наладить отношения с арабами и, если представится возможность, с племенами в пустыне, несмотря на риск. Я почувствовал, что богат, раз могу столько отдавать. И еще — я узнал здесь товарищество, которое куда крепче любой салонной дружбы. Мы летаем на двух самолетах. Если поломка вынуждает одного приземлиться, приземляется и второй, чтобы помочь и выручить. О товарище, что летит от тебя в ста метрах, ты знаешь: он не пожалеет жизни ради того, чтобы тебе помочь. Отдаст все, что у него есть — солнце, радость, воспоминания, — без пафоса и фразы. Из порядочности. И ты поступишь точно так же. Это ведь здорово, правда? Если бы вы знали, как я презираю тех, кто отмеряет, готовясь отдать, кто считает, отдавая. Вы меня понимаете? Мне нравится быть щедрым. И для меня существуют только щедрые — богачи, для которых щедрость сама собой разумеется. Знаете, Лулу, вы мне дороги той нежностью, которую дарили так безоглядно, я не считаю, сколького лишился — сердцу не прикажешь. И потом, если б вы только знали, как я устал от мелочных интриг, от друзей, которые то «поссорились», то помирились, от постоянно меняющихся кодов: на что мы намекаем и что подразумеваем, когда никто уже не знает, на каком он свете. Ей–богу, жизнь куда проще. По крайней мере, я предпочитаю определенность и открытое забрало. Меня сочли сумасшедшим, когда я уехал. Но, Лулу, нужно жить так, как думаешь. Люди зачастую развлекаются, думая или споря. Размышления для них безопасная забава, поскольку никак не влияют на поступки и образ жизни. Меня собирались женить, хотели, чтобы я женился на богатой наследнице и жил мирной, утешительной жизнью. Хотя и здесь, голубчик, у меня иной раз случаются приступы отчаянной меланхолии: ведь женщина — это такая нежность. А я в одни прекрасный день начну стареть, да и мое ремесло быстро нас изнашивает: я могу переломаться, изуродоваться, попасть в плен к маврам. В общем, иногда меня охватывает яростное желание быть счастливым. Именно так: яростное. И если я встречаю очень красивую женщину, щемит сердце. Может, вам захочется написать мне, голубчик? Антуан Воздушная линия Латекоэр Дакар (Сенегал) Французская Западная Африка Париж, апрель, 1929 г. III Мне совершенно необходимо тебе написать [33]. Хотя словами мне сказать тебе нечего. Это слишком глубоко во мне, слишком переплелось со мной. И смута так велика, что ее не передать никакими словами. Но, несмотря ни на что, мне необходимо поговорить с тобой. Не потому что я надеюсь на понимание. Скорее я предпринимаю попытку, обреченную на провал. Слова. Так подбрасывают в воздух почтовых голубей, не зная, долетят ли. Но знаешь, может, посыл значим сам но себе, и он более значим, чем получение. Тебе я отдал всего себя. И теперь, может быть, по собственной воле повторно иду в рабство. Тебе измениться невозможно. Я сказал тебе, что не понимаю, но я понимаю все, понимаю, — когда ты становишься ближе, когда отдаляешься, когда приходишь ко мне, когда отправляешь меня в изгнание. Ты переменчивая погода, а я все пытаюсь погреть старые раны на солнышке. Не стесняй себя ни в чем, я прекрасно вижу то главное, что ведет тебя. Ты хочешь, чтобы тебя собрали. Мне трудно выразить тебя словами: жатва, собирающая сама себя. Я думаю о языке, это всегда сотворение мира, который мне кажется самым правдивым. «Под сенью вечно летящих голубей…» Вот так мне нужно было бы говорить с тобой, чтобы что–то сказать, опасная моя любовь. Иногда сердце во мне хмелеет, начинает потихонечку закипать. В горле щекотно от смеха. Я чувствую, счастье переполняет меня, но боюсь его заметить. Осторожно поднимаю глаза и поглядываю на свое счастье. Присаживаюсь поближе к ослепительному солнцу, подставляю спину, греюсь. Млею, как ящерка: я так долго спал… Но как опасна моя беспечность: по твоему лицу пробежала тень. Твое лицо. Потерянная мной колония. Как–то раз ты назвала меня «слабым ребенком»… Думаю, я и есть ребенок. Не умею строить, не умею владеть. Боюсь, что не узнаю свой дом. Старину Берниса, своего приятеля, я отправил умирать в пустыню, потому что дома он так и не нашел. А вот эту фразу, светлую и безнадежную, я люблю больше всего на свете. «Мое короткое жаркое грустное и блаженное лето». Я верил, что оно вернется. Вот. А мне много не надо. Скромный завтрак поздним утром в день отъезда. Вот. После этой минуты нежности говорю себе: вот он, мой скромный завтрак. Моя единственная любовь. Я знаю, что прожить со мной жизнь невозможно. Я слабее домов, деревьев, всего, что построено. Гораздо слабее. И я так предусмотрительно увел подальше от всего этого своего Берниса. Лучше ли то, что я дал ему взамен? Он врезался в звезду. Этого слабого ребенка я оставил на плато в Сахаре, вы такого не видали, оно похоже на огромный стаи под звездами. Звездами, падающими вниз. Но все начинается сначала. Узнаю счастье, узнаю весну и свою тоску. Узнаю слова, которые хочу сказать. Испуг разбуженного ребенка, он испугался раньше, проснулся и вспомнил об испуге. Любимая моя, не пугайтесь: я разговариваю сам с собой. Любовь много больше меня. Мне нужно ее рассказать. [Антуан] Париж, апрель, 1929 [34]г. IV […] Я нуждаюсь в прощении, у меня захмелело сердце [35]. Я сердит на себя, что не сумел удержать все в себе.[…] И все же будь уверена, голубчик Лулу, что я никогда больше не буду говорить с тобой об этом. Я вовсе не хочу сказать, что забуду тебя — думаю не без грусти, что это невозможно. Но видеться с тобой я больше не буду, сама того не желая, ты причиняешь мне слишком много боли […] Говорю тебе это без горечи, клянусь. Я досадую на любовь, похожую на затяжную болезнь, и не знаю, в самом деле, досадую или нет, потому что она лучшее, что у меня есть. Но встречи для меня опасны: покажется, что меня оделили капелькой нежности, и сердца не унять. […] И все–таки мне бы хотелось писать тебе время от времени — хотелось бы, чтобы ты отвечала [36]. Уверен, ты тоже этого хочешь. Еще хочу почувствовать тебя надежным другом. Может, и ты хочешь этого? Меня ты можешь просить обо всем, ты знаешь. Любую жертву, в любую секунду. Я не пытаюсь уверить тебя, что это с моей стороны большой подарок, потому что я никогда тебе по понадоблюсь, но, быть может, это чуть меньше одиночества в миг, когда очень одиноко. И я всегда прощу тебе все, пусть ты даже делаешь мне очень больно. Поверь, и это я говорю без желания убедить тебя в собственном великодушии: если я омрачу твой образ, что у меня останется? Ты навсегда неприкосновенна. [… [37]] Там я опять заживу кипучей жизнью, и буду мало похож на слабого ребенка, которого ты знаешь.[…] В эту ветхую одежду я ненадолго ряжусь, попав сюда. И снова поспешно мужаю, становясь немного варваром, немного завоевателем. [… [38]] Но как узнать, что ты думаешь о написанном. Мне хотелось бы показать и то, что я написал для тебя. А вдруг ты рассердишься? Антуан [39]V Порт–Этьен, 29 августа (1931) V Мне бы так хотелось знать, что ты думаешь о моей книге [40]. Нет сомнения, что она тебе не понравилась, раз ты мне не написала. Когда мы с тобой разговаривали по телефону, я понял, что ты еще ее не прочла, и не хотел тебя торопить. Потом я не смел тебя беспокоить, потому что ты родила ребенка [41]. И я уехал. До сегодняшнего дня я все надеялся, что книга хоть немного, но все–таки тебе нравится. Если я подарю тебе вторую, то непременно надпишу. А эту не мог, было бы неделикатно, Лулу. И я не знал, как будет для тебя лучше. Уверен, что ты меня понимаешь. Счастливо, Лулу, напиши хоть словечко. Антуан Генеральная компания Аэропосталь Касабланка Перпиньян [42](ноябрь. 1933) VI Лулу, милая, сегодня я получил твои письма от 5 и 11 марта, чувство неизъяснимое. Я не получал от тебя признаков жизни с твоего отъезда. Когда уехал И., я по части писем все уладил, но не пришло ни одного. И я боялся потревожить твой покой, раз ты предпочитаешь молчание. И ведь не радостно получить письмо, которое всего–навсего ответ, к тому же вынужденный. А сейчас я так остро и так чудесно чувствую твое присутствие в себе. Спасибо! Но знаешь, Лулу, я понял, что не умею писать тебе. Возле тебя я умею только молчать. Представь себе лес, поле, реку, все говорит — вода, птицы, листва. И вдруг наступает тишина. Необычайная. Мне всегда кажется, что в этот миг незримый хозяин спускается в свои владения, стопа его касается травы, и кузнечики от волнения замирают, затихают потрясенные птицы. Почтительно стихает ветер. Ничто не шелохнется. И со мной происходит то же самое, стоит тебе приблизиться. Моя нежность, желания, сожаления — все замирает. Замирают образы , что рождаются во мне, — я принимаю тебя всем своим существом. И боюсь в то же время, боюсь, что ты подумаешь: как здесь тихо! Мне скучно в этом королевстве, ручьи здесь знают слишком мало песен. И медленно уходишь, задевая подолом платья траву, а трава замерла потому, что прикоснулась к твоему платью. Ты не знаешь, в каком отчаянии будут потом кузнечики: она не слышала, как мы стрекочем! Птицы: она не слышала наших песен. Ветер: она не узнала моей силы. Моей своевольной ярости. Жалуются, переговариваясь все, по стоит тебе приблизиться, вновь замирают в молчании. И от этого мне так больно. Я посылаю тебе две написанных мной вещицы. Любопытно, но я все острее ощущаю, что в жизни я не прижился (я не хочу сказать, что высказываю именно это) и поэтому не то чтобы лучше все вижу, но как бы со стороны. Мне всегда кажется, что я наблюдаю за игрой, не всегда понятной, иной раз красивой, но я только наблюдаю. С каждым днем растет во мне равнодушие к оценкам, одобрения , неодобрения мне неинтересны. С каждым днем я все безразличнее к тому, что думают обо мне. Мне кажется, часть меня уже отлетела. Так мало людей, которые могут заполучить меня обратно. Ты можешь, Лулу. Как ты ощутимо весома! Скажешь, понравились ли тебе мои вещички, одна не опубликована, много времени они не займут. Прочитай, ради меня. Теперь, как я живу. Я испытываю образцы самолетов завода Латекоэр. Это небезопасно, но и к опасности я с каждым днем все безразличнее, не потому что грущу, а потому что странным образом чувствую себя наблюдателем, жизнь кажется мне такой преходящей (почему, я и сам не знаю, но не могу ни во что поверить всерьез). Да, вот так обстоит дело. Ты мое единственное нетерпение. Кроме тебя, все мимо идущие люди оставляют легкое ощущение горечи, кажется, они могли бы поделиться большим… Платят за мою работу мало (семь тысяч в месяц), так что в долги особенно не влезешь. Хотя вполне возможно, я скоро уеду в Венесуэлу, где мне обещают много золота. А еще я пишу книгу, медленно, она трудная, но я ее пишу. Если с Венесуэлой получится, я смогу подарить тебе твое путешествие. Однако жизнь устроена невесело, ты уедешь, и я тебя не увижу. Но мне было бы так радостно тебе помочь. Если не получится, не знаю, как будет дальше. Хотя кое–какие денежные поступления возможны. Но только возможны. В общем, посмотрим, может, и нам в конце концов повезет? Но если все так пойдет и дальше, как идет с июня, то поверь, Лулу, я буду еще несчастнее тебя. Теперь моя очередь извиняться, что я так говорю с тобой об этом. Хотя странно и смешно нам с тобой извиняться друг перед другом. Все наше происходит совсем не в этом сером мире. Скажи себе на ушко перед сном сегодня вечером, что кто–то любит тебя. Антуан До востребования, Тулуза, От–Гаронн Бенжамену Кремьё 1931 I Касабланка, 1931 г. Дорогой друг [43], несмотря на вашу нелюбовь к самолетам, путешествие, быть может, заинтересует мадам Кремьё, и вы побываете в Марокко. Думаю, я сумел бы достать для вас билеты, и мы с большой радостью приняли бы вас у себя. В Касабланке мы проживем несколько месяцев [44]. По разным причинам я решил вернуться на юг и какое–то время возить почту на линии Касабланка — Дакар. Старая моя Сахара нисколько не изменилась. Нас вздергивают вверх, как когда–то, и, как когда–то, мы блуждаем в тумане ночью: только что я пережил такую, после которой ночь, описанная у меня и книге, просто игрушки. В эту ночь я много думал о критике Бразияка и хочу поделиться с вами своими мыслями, а потом вернусь к разговору, который был у нас с вами в Буэнос–Айресе. Начнем с того, что мне не понятно, почему Бразияк отказывает автору в праве писать о своем ремесле. Допускаю, что девять из десяти романов о профессии могут быть скверными, но скорее всего потому, что обычно девять романов из десяти вообще не так уж хороши. Возможно и другое: бывает, что документальная ценность книги так велика, что она выходит в свет, несмотря на сомнительность своих литературных достоинств. Но ведь в данном случае не ремесло сковывает владеющего пером литератора, а профессионала подводит неумение писать, из–за чего об искусном в своем деле человеке судят превратно среди писателей. И если кузнец Бразияка пишет о наковальне очень посредственную книгу, то не потому — Бразияк признает это сам, — что он кузнец, а потому что читает низкопробные авантюрные романы. И хотя любовь не профессия кузнеца, он, начитавшись Рокамболя, напишет о любви не лучше, чем о наковальне. И почему должно быть по–другому? Разве профессия — это не набор умений, позволяющих человеку зарабатывать себе на жизнь? И почему если эти умения приносят доход, они непременно лишают человека возможности их описывать. Почему им свойственно бесплодие? Разве для того, чтобы воспевать любовь, нужно стать евнухом? Пруст мог наблюдать за жизнью немолодой дамы, анализировать свое отношение к ней и написать шедевр, потому что созерцал старую даму совершенно бескорыстно (не был ни жиголо, ни наследником), а я, общаясь во время полета со своим радиотелеграфистом, от которого зависит моя жизнь, не могу сообщить о своих чувствах ничего интересного, потому что в конце месяца получу зарплату, так, что ли? Каменщик не имеет права говорить о стенах и должен молчать. Но и критик тогда должен молчать о прочитанной книге. Я уверен, что ремесло тут совершенно ни при чем. Если моя книга плоха, то не из–за моей профессии. А вполне возможно, из–за «литературщины», как ее именует Бразийяк. Вот о чем я думал во время полета. И хотел бы с вами об этом побеседовать. […] II Дружище, как вы там? Мне бы очень хотелось узнать ваши новости… Надеюсь, вы о нас не позабыли и порадуетесь нашим. Сейчас мы в Касабланке. Я просил и получил разрешение несколько месяцев возить почту на линии Касабланка — Порт–Этьенн на отрезке Рио де Оро, потому что когда–то мне очень нравилась эта линия. Я нашел мало перемен: Сахаре трудно измениться, маврам еще труднее. Зато полеты каждый в особицу. Что говорят о моей книжке? Только что прочитал статью Бразийяка в «Аксьон франсез», пересказывать не хочется, лучше вложу в конверт. Свои предположения критик берет с потолка. Можно ругать мою книгу, можно обсуждать недостатки, это естественно, но зачем делать из меня последователя Тагора, которого я терпеть не могу? Сходства с Тагором у меня столько же, сколько с юной балериной. Что в моем Ривьере восточного? И почему нельзя писать о своей работе? (А Конрад?) Мнение мне кажется несправедливым, но моя книга почему–то должна подтверждать именно его. Я–то считаю, что любая работа — это прежде всего опыт. Работа и опыт как таковой различаются только тем, что за работу тебе платят деньги, но разве я писал о деньгах? Неужели о любви должен писать евнух? Если писатель влюблен, он находится по отношению к любви в том же положении, что и я по отношению к авиации, когда летаю на самолете. Или, может быть, нельзя путешествовать, если хочешь описать Африку или море? Может быть, мадам Кремьё никогда не испытывала сочувствия, материнской нежности и поэтому так трогательно их выражает? Я не принимаю этих теоретических построении, они кажутся мне страшной натяжкой. Мое мнение об атмосфере в доме, обстановке, убранстве, о красивой девушке может быть интересным только потому, что мне не заплатили денег за то, что я вошел в дом, обвел взглядом гостиную, заметил девушку? Мое отношение к самолету, звезде и радисту вовсе не работа, деньги я получаю за то, что ориентируюсь но звездам, управляю самолетом, жду от радиста помощи. И когда Бразияк пишет о кузнеце, который решил стать писателем и весьма цветисто описывает свою наковальню, он сам отмечает, что не ремесло кузнеца вдохновило его на писательство, а газетные романы с продолжением. Литераторы — чудесные люди, сидят себе в кабинетах, никогда не выходят за порог и тем вернее чувствуют себя властелинами мира, завладев даже сердцами маленьких негритяночек, которых увидели на фотографии, — или лучше не видеть и фотографий? Ведь это уже опыт, почти работа, зарабатывание денег тяжким трудом разглядывания фотографий. Но всерьез Робер Бразияк задел меня рассуждениями о литературе, образности и поэзии — клянусь, в моей книге нет надуманных, идущих от головы образов. На мой взгляд, образ обладает особой ценностью, поэтому я считаю его употребление правомерным, образ — это возможность передачи без долгих объяснений самой сути органического впечатления, ощущения, атмосферы; иначе, для того чтобы передать это впечатление, нам пришлось бы восстанавливать всю обстановку в мельчайших деталях, что невозможно. Само собой, я пользуюсь самыми разными способами выражения. Образ может быть грубым или поэтичным, может окрасить особой краской все повествование. Если самолет блуждает в ночи и летчик вынужден ждать рассвета, чтобы узнать свою судьбу, — я помню немало таких ночей, — я вправе уподобить темноту воде, которая постепенно убывает и наконец открывает землю, потому что суть происходящего именно такова. Главное, что летчик вынужден стать зрителем, не важно, за чем он наблюдает — за водой или темнотой, — не в его силах воздействовать на процесс, который неспешно течет сам собой. Состояние сродни тяжелому похмелью, когда невозможно ничем себя занять. Если бы вы часто летали на самолете, вы бы тоже знали, что потемки все «упорядочивают». Господи, боже мой! Да это же чистая правда! Каждая группа обособляется — что же тут непонятного? — днем дома разбросаны по равнине, в темноте они стали деревней, особенной, очень близкой к абстрактному понятию «деревня». Ночью деревня — символ, пятно света на равнине, ставшей символом равнины. Причин на такое восприятие много: сгущение теней, которые подчеркивают контур крупных объектов, обводя их словно бы кругом, четче очерчивая, отграничивая, выделяя, исчезновение всех других, более мелких деталей. Но каковы бы ни были причины, картина такова, и эту подлинность нужно передать. Шествие домов, что медленно и безразлично течет днем, вечером совершенно меняется, они обретают другой облик, и, чтобы передать его , я имею право написать ту фразу, за которую меня упрекают. Не могу же я пускаться в долгие объяснения, как играют тени, меняются цвета , чтобы воссоздать поразившую меня картину, тем более что от долгих объяснений только спать хочется. Обо всем этом я размышлял позавчера. Позавчера я прожил самую тяжкую ночь в моей жизни. Та, что описана у меня в книге, по сравнению с этой безопасная прогулка. А поскольку я только что прочитал Бразияка, то я повторял про себя: «Господи! Если я выпутаюсь, как я смогу передать другому то, что испытал я (я не думал о литературе, а просто о разговоре с другим человеком). Объяснить это пилоту не представляет труда. Достаточно обозначить те условия , в которых я находился, и он уже сам объединит все в эмоциональную картину, зная, что чувствовал сам в подобных условиях. Ему бы я сказал: горизонт исчез [неразб] на нуле, и радиопеленгатор врет». Но вы никогда не водили самолет. Вам я не сказал ничего.[…] Если язык моего рассказа не будет образным, он неизбежно будет техническим. Универсального языка не существует, и поэтому мне вначале придется объяснить множество вещей, которые мне потом понадобятся. И к чему сведется моя история? Неужели к изучению правил игры, которые сначала подвели меня, а потом спасли, словом, к правилам управления самолетом? Или к рассказу о том, что запечатлелось внутри меня, что во мне происходило и что единственное может подействовать и на вас тоже, так как будет передано не утомительными тяжеловесными объяснениями; а насыщенными чувствами и эмоциями образами. В этих образах–символах, которые вобрали в себя все, что необходимо передать, нет ничего специального, технического, и они окажутся для вас внятными, обратив вас к вашему собственному опыту, став той точкой зрения, с какой и вы можете смотреть, сделавшись и для вас естественным языком, словесным и чувственным. Робер Бразияк (Антуан де Сент–Экзюпери. «Ночной полет») Аксьон Франсез, «Иозри лшперер», 23 июля, 1931. Книгу Антуана де Сент–Экзюпери стоит прочитать, произведение весьма любопытное. Это и размышление о Начальнике, и рассказ о полете на самолете. Г–н де Сент–Экзюпери известил нас в предисловии к своей предыдущей книге, что он находится на службе в компании Аэропосталь, летал в Рио де Оро, выполнял опасные задания. Он летчик всерьез, не просто так, какой–нибудь литератор, что сразу порадует тех, кто любит профессионалов, хорошо знающих то, о чем они пишут. — и тем больше они будут удивлены впоследствии. «Ночной полет» не роман. Это рассказ об одном из путешествий, которые каждую ночь совершают летчики Аэропосталь, пролетая над равнинами Южной Америки и Андами. Пилот Фабьен погибает в циклоне. Книга рассказывает нам о полете и о размышлениях Ривьера (он и есть Начальник), об опасностях, на которые он посылает подчиненных. Начальник — фигура необычная. На протяжении книги он размышляет о своем долге, который состоит в жестокости. О вынужденной жестокости г–н де Сент–Экзюпери написал самые проникновенные страницы: «И все же, хоть человеческая жизнь дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?.. [45]» — размышляет Ривьер. Быть начальником значит совершать насилие, и требует этого технический прогресс. «Стоит ли мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ривьер вынужден проявлять жесткость, он выглядит бесчеловечным, знает, что без жестокости ему в своем деле не обойтись, но он не верит, что его дело обладает безусловной ценностью. У этого начальника душа восточного человека. Я уверен, что он читал Тагора. Как бы ни был умен Ривьер, он никогда не возвысится до идеи, что ценность машины, самолета, моста, денег далеко не механическая и не техническая, что она может (я говорю «может», а не «должна») по мере развития общества стать ценностью гуманной. Поэтому Ривьер сомневается. Поэтому он фигура в чистом виде книжная. Жестокость начальника понятна, если он — деловой человек и ценит в первую очередь свое предприятие или, напротив, верит, что важнее всего дело. Для Ривьера ни то, ни другое не главное, он жесток, и жесток даром. Даром. Любимое слово господина Жида. И действительно, господин Жид написал к этой книге предисловие. Скажем прямо, что в этой любопытной книге немало от Жида, в первую очередь от Жида–писателя. Разберемся поподробнее. Богатство этой книги, ее щедрость вызывают восхищение. Описание циклона, и в особенности необычайного покоя, охватившего пилота Фабьена, уже знающего, что он обречен на гибель, и поднявшегося над грозой на высоту семь тысяч метров, несравненны. От начала и до конца нас завораживают простые и мощные картины. Вот наугад одна из них: «Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он Совершает неторопливую прогулку, что он пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу, он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах». Очарование этой картины несомненно, но натуральна ли эта картина? Кто описал ее: летчик или литератор, который никогда не покидал своего кабинета? Мы склонны верить, что все–таки литератор. И узнав, что господин Сент–Экзюпери профессиональный летчик, мы крайне удивлены. Как–то Ривьер заговорил с летчиком, тот «говорил о своем ремесле просто, говорил о своих по летах, как кузнец о своей наковальне». Но если в один прекрасный день кузнец и в самом деле напишет книгу о наковальне, то это уже будет «литература». Он напишет книгу о наковальне в стиле романов с продолжением из своей любимой газеты, и его книга покажется нам фальшивой, изобилующей красивостями, а главное, совершенно нежизненной. Именно потому, что это его ремесло, кузнец не сможет просто говорить о наковальне. О наковальне просто расскажет кто–то совсем другой, кто не будет кузнецом. И в какой–то мере то же самое происходит с господином де Сент–Экзюпери. Он говорит о самолете совсем не просто, он говорит о нем весьма пышно. Пользуется всеми ухищрениями современной литературы, «творит поэзию», а просто о самолете, вполне возможно, напишет господин Жид, потому что он на нем не летает. Если совсем не знаешь ремесла, оно для тебя удивительно. Если знаешь его слишком хорошо, хочется его приукрасить и возвеличить. Если бы Костес написал роман об авиации, в нем было бы столько же дурновкусия, сколько в песнях о «его даме». У г–на де Сент–Экзюпери вкус куда лучше, но происходит с ним примерно то же самое. Вот почему его книга, сверкающая изумительными литературными красотами, представляет собой столь любопытный документ. Она для «утонченных» . Это не книга авиатора и не книга литератора. Это нечто среднее. Представьте себе рассказ о полете Ассолан–Лафкадио или о путешествии Костаса и Меналка. Письма к Ивонне де Лестранж [46] 1931 1 (октябрь, 1981) На всякий случай посылаю тебе книжку для доктора Хейц–Боера [47]. Хотя, может быть, он уже получил ее от Трефуэлей? Оставив в стороне познавательный интерес, который не имеет никакого отношения к моей книге [48], напиши мне, она нравится? Я нахожусь слишком далеко, чтобы понять, как обстоит дело. Тебе, наверное, кажется, что я в унынии. Беда в том, что все, что я здесь делаю, меня больше не интересует. «Знаю все наизусть». Точнее, мне нечего узнавать. Мне бы очень хотелось куда–то отправиться, узнать что–то новенькое или немного отдохнуть. Недавно в «Нувель литерер» от 3 октября прочитал хорошую статью о Ганди (Андре Суарес). Она показалась мне такой точной, что мне хочется, чтобы и ты ее прочла. Кажется, имеет смысл пересмотреть все, что наговорил нам Ромен Роллан. Суарес считает, что мораль — это первичная точка зрения, точка зрения примитива, и это правда. (Слово «примитив» несет и уничижительное значение.) Мысли Жида совпадают во многом с тем, о чем я размышляю все чаще и чаще и что хотел бы высказать тебе как можно отчетливее, но, к сожалению, мне и самому не все пока ясно. Беру за основу мнения Жида, потому что ход его размышлений мне ближе всего. Я хотел бы понять его отношение к неграм [49]. На каких основаниях он примет негра как равного и, без сомнения, отшатнется от дядюшки Юбера [50](и будет прав). Я уже знаю, почему он (и я тоже) возненавидел существующую систему колонизации: потому что она делает из негра дядюшку Юбера и никогда Жида. Бамбарец пленил Жида подлинностью реакций, бамбарец глубоко человечен, потому что его язык не ведает переносных значений. Он не располагает особой лексикой, с помощью которой морочит себе голову относительно собственной чувствительности. У бамбарца немного чувств, и они просты. (Сложность чувств, которую мы вновь и вновь обнаруживаем в каждой новой расе, кажется мне иллюзорной. Наш язык сложно передает чувства, но аборигены их так не формулируют, эта сложность для них не существует. Сложности упрощаются, когда язык прост.) (И вообще, мне кажется бессмысленным говорить о простых или сложных чувствах, чувства просто «есть». Сложны или просты слова, с помощью которых мы передаем их, в зависимости от разработанности собственного словаря.) В общем, я понимаю, что подлинность чувств негров, их искренность растрогали Жида, толпа черных умнее толпы в пригородном кинотеатре. И здесь у меня среди мавров то же самое, они никогда не шокируют меня «глупой» фразой, как случается с европейцем. И я прекрасно понимаю, что Жиду не нравится колонизация, которая «цивилизует» негра, навязывая ему мораль, алкоголь и глупость, и все–таки главная проблема в другом: считает ли Жид негра таким же человеком, как он сам? Конечно, нельзя остаться равнодушным, обнаружив что–то от самого себя в столь несхожем с тобой существе. Если я увижу, что негр сорвал для женщины цветок, то этот заурядный поступок изумит меня и растрогает, как неожиданное слово нашего общего языка. […] В конечном счете, похоже, Жид подспудно дает один–единственный совет: оставьте негров неграм и уходите. Не желая открывать им двери и учить в школах белых, которые не представляют для них никакой ценности, он защищает их, как защищал бы газелей, которых уничтожают. Получается, что в иерархии природного мира негры для нас что–то значат и ничего не значат в иерархии людей. Проблема колоний неразрешима. Как уйти, если считаешь себя существом высшего порядка? Если десять тысяч негров работают ради одного Декарта? Уважительное отношение к человеческой личности — обман, если есть люди высшего порядка. Все уважение достается им. Но я бьюсь над другой, еще более существенной проблемой, именно ее и хочу сформулировать: мне кажется, что уважительное отношение к личности и в случае негров, и шире — при демократическом строе вообще — приведет к разложению этой личности, в чем не отдают себе отчета те, кто так ревностно ратуют за уважение (Дюамель, Ромен Роллам, Бенда и сотни других). Более того, мне кажется, что современная социальная наука представляет собой реальную опасность для того единственного человеческого типа, который мне интересен. Уважение человеку никак не поможет, если мы не поймем, какого мы уважаем человека, а точнее, что в человеке уважаем. Немалое число понятий, которые чтили в 1830 году, кажутся нам устаревшими, потому что мы смотрим на них со стороны и видим, как условны те условности, которые их породили, но тогда они не нуждались в обоснованиях, ими просто жили. И я допускаю, что исчезновение некоторых других, значимых для нас сейчас, условностей поведет к исчезновению других понятий и чувств, например, чувства стыда или обесчещенности. И сейчас для нас множество положений потеряли свое неудобство. Хотя мы пока не лишились чувства стыда, чувства трагического или общественного пафоса. Представь себе, что Стендаль творит в наши времена, думаю, от его чувств осталась бы одна четверть. Мне кажется, что великое царство демократии, поощряя неуважение к привилегиям, наследию, религиям, иерархиям (не политическим, а родовым), уничтожает многообразие языков. Ополчается оно и на роскошь в наиболее любопытных ее проявлениях, ничего не имеющих общего с комфортом. И заменяет все однообразным, техническим, практическим языком. Разве не на таком языке говорят Соединенные Штаты (недавно я познакомился с экзаменационными темами их университетов)? Разве не таким будет язык в России через двадцать лет? (Касабланка, 1931) II Привет, старичок [51], жалею, что в прошлом письме рассказал тебе о том, что произошло. На бумаге все стало значительнее, чем на самом деле. Но я очень огорчился, что мама рассказала об этом Консуэло (без имени отца, которого не знала), а я и не подозревал, что она вообще что–то знает. Я привык считать, что моя семья уважительно относится к чужой свободе. И все, что произошло, мне было до крайности неприятно и страшно разочаровало. Всякий раз, когда я вижусь со своими, я чувствую, что пропасть растет. А мне бы хотелось уживаться. Печально, что некоторые люди становятся дня меня такими же чужими, как чужды рыбы млекопитающим. Нет возможности общаться. А знаешь, за что я все больше и больше ценю Жида? За то, что он постоянно и прежде всего общается. Что до меня, я странным образом меняюсь. Отхожу все дальше от демократии и… в обществе, сходном с обществом Лестранжей, восхищаюсь тем, что когда–то меня отталкивало. Идеал человека, рожденный почти что религиозной верой в существование прирожденной элиты, перестал мне казаться ложью. Разумеется, ошибочно считать отличительным признаком элиты титулы предков, нажитое богатство или положение в обществе, но есть правота в ощущении кожей множества разных человеческих пород, человеческой неоднородности. […] Колонизация, приносящая алкоголь и тяжкое отупение, мне не нравится, но еще меньше нравится колонизация, приносящая идеи. Я не обрадуюсь, если, усвоив новые идеи и надев новые костюмы, они уподобятся нам, не умилит, если увижу, что они так же, как мы, подвластны чувству любви (не так же, совсем по–другому), нет, во мне не возникнет чувство, что передо мной обретенные братья. * * * При демократии неизбежно утрачиваются особенности людей. Те самые, которыми человек отличается от окружающих, противостоит, что–то глубоко индивидуальное, ненормативное. Неправда, что демократия встала на защиту личности, которую подавляла власть, что способна дать пищу чувствам, какую давали когда–то религии. Нет ничего более жесткого и безжалостного для индивида, чем род. В политике, например, власть одиночки можно увидеть как борьбу индивидуальности с массами. Одиночка — представитель индивидуального. Он вычленяет и поддерживает особенное, а не присущее всем. Но как только власть переходит к виду, что, по моему мнению, и есть суть демократии, он будет уничтожать индивидуальность ради малоинтересных общих задач, будет действовать жестоко, безжалостно, потому что жестокость тоже в природе человеческой. С помощью выборов демократия избавляется от определенного вида несправедливости, но ее справедливость в конечном счете несравненно более жестока. Жестокость к тому же применяется во имя целей, которые мне совершенно неинтересны. Мне нет дела до биологического или механического (та же биология) выживания вида. К тому же трудно сказать, что выживание в биологии обеспечено разумными средствами. Эти средства безжалостны в силу несогласованности и в то же время неизбежности процесса. Так стоит ли обожествлять биологию? Быть человеком значит действовать не биологически. Никуда не годится прогресс, который, избавляя нас от несправедливости, приводит к улью или муравейнику. Не годится Россия, которая ради того, чтобы покончить с множеством несправедливостей, обрекла всех на жертвы, лишенные величия, на дисциплину улья, на бесчеловеческое. Я хотел бы знать, по какой причине господин Бенда считается «демократом», его книги обличают не столько «предательство грамотеев» [52], сколько европейскую демократию, ту демократию, которая осуществилась в России, где все грамотеи по определению стали предателями и не могли не стать ими, где превратили людей в муравьев. Я думаю, что греческий геометр был не так жесток, как бамбарец, что выживательный и стадный инстинкты в нем ослабели, так что он много с чем расстался по сравнению с пещерным человеком. И вот теперь под видом социологической науки нам опять навязывают пещерные ценности вместо интеллектуальных и духовных. И вот вам, пожалуйста, осуществление — Северная Америка, с идеальной гигиеной, комфортом и тупостью. Это совмещение не случайно, это две стороны, неизбежно присущие прогрессу демократии. (И я хотел бы понять, почему господин Дюамель демократ?) Для меня несомненно, что все самое интересное в человеке с точки зрения вида анормально. И богатство, которое он получает, благодаря владению языком, тоже. Дядюшка Юбер, великолепны!) В пещерные времена, теперь на нижней ступеньке из–за того, что чужд языку, зато в гостиной Жида и в твоей благодаря языку открывается столько тонкостей, наблюдательности, драгоценной игры ума, интеллектуальных радостей. При этом мы наблюдаем, как вид последовательно изничтожает многообразие языков, точнее, изничтожает возможности многообразия. Я спрашиваю себя, кто станет «идиотом» в глазах людей, проживших пятьдесят лет при коммунизме. Изменится и суть любви, утратив привнесенные языком нюансы, возникшие благодаря условностям, которые сами по себе тоже являются языком. Это происходит у нас, сегодня. Прекрасный тому пример — помолвка. III (Порт–Этьен, 1931) Милый старичок, все эти дни я думал о стольких вещах, которые мне не ясны, что мне захотелось их немного прояснить, беседуя с тобой. Я растянулся на кровати у себя в Порт–Этьене рядом с небольшим книжным шкафом и от нечего делать вытаскивал оттуда и листал всевозможные журналы. Технические, касающиеся самолетов, научно–популярные вроде «Науки и жизни»,хронику наподобие «Детектива», словом, конался в привокзальном развале. Не сомневаюсь, что, проведя полчаса перед стеллажами издательства Ашет, я не без некоторой подавленности ощутил бы то же самое — обожествление машины, — хоть и не выраженное столь откровенно. Я почувствовал его так явст венно, что удивился, почему социологи до сих пор не учитывают этой реальности. Час за часом я странствовал от плотины в Турции к генератору переменного тока в Аньере, потом к новым нефтяным скважинам. Передо мной возник целый мир, некоторое могучее единство, и у меня было твердое ощущение, что оно управляет нами, а не мы им. Каждое новое открытие живет своей жизнью, отстранив человека. Человек совершает открытие, но не становится ему хозяином. Согла сись , судьба дизеля вовсе непредсказуема (так же, как пара, нефти), хотя создавалось это вроде бы для человека. И вот наряду с биологией и ее динамикой возникает биология машин, и она не может не воздействовать на человека. Именно это ощущение и томило меня на каждой странице. Мне казалось, что человек лишь присутствует при рождении нового мира, он свидетель, а не свободный творец, который созидает его по собственной воле. Меня угнетало ощущение неотвратимости. Возникло чувство, что рождается нечто подобное новой религии, которая внедряется и распространяется сама собой. А вот что я думаю о как таковых документах и фактах в чистом виде. Они представляются мне вообще обесчеловеченными. Любой случай, событие — только единица статистики, только среднее арифметическое. Согласись, событие, в котором участвует человек, содержит в себе как бы два слоя. Цепочку фактов, о которой я еще скажу и которая не имеет никакого значения (разве что статистическое), и некое человеческое переживание, не совпадающее с фактами. На основе этих переживаний возникают произведения искусства, в них таится драматизм. Объясню на примере статьи об убийстве из «Детектива». Начинают с маршрута, проделанного убийцей, сообщают способ, каким оно было совершено, возраст и пол преступника, потом добавляют какие–то психологические детали, которые вроде бы имеют отношение к убийце как к человеку, но и они статистические, они «предшествовали», и ты чувствуешь их искусственность, понимаешь, что главного нет. Понимаешь, что и автор статьи это чувствует и собирает все эти частности, угнетаемый безнадежностью. Но чем больше набирает он подробностей, чем больше показывает фотографий, тем дальше удаляется от того, что на деле происходило. Подлинная история не имеет ничего общего с этими фактами — они всего лишь символическая, возможная оболочка. Подлинная история, которая всерьез угнетает душу, это история, как шаг за шагом двигался убийца, ощущения, какие возбуждали в нем эти шаги, смута, которая в нем поднималась, ожидание на лестнице, беспокойство из–за света фонаря, то физиологическое состояние, которое было не страхом вообще, а страхом, какой испытывал он. Критику 1931 […] [53]Легкость, которая вновь ко мне вернулась, была мне необыкновенно дорога. Но откуда взять снисходительность, если я, сбившись с маршрута, блуждал во мраке, потеряв ориентиры, если кончалось горючее, и я принимал мерцание за звезды, за планету Сатурн, обманываясь десятки раз? Подумайте сами, могу ли я быть любезным, когда, чудом избежав падения в море, дотянув до посадочной полосы, я иду на радиогониометрический пост, чтобы поговорить с оператором, по чьей вине я так натерпелся? Но вернемся к моему Ривьеру. Я вовсе его не «пристраивал». Скорее всего, я недостаточно ясно выразил то, что было для меня крайне важно. Дело не в герое, подвел язык. С годами я все явственнее ощущаю пропасть, которая лежит между теоретическими воззрениями на человека и житейской практикой. Я вижу, что существуют два этих плана, оба они очень значимы, но между собой несовместимы. Когда Ромен Роллан провозглашает: «Пусть этот мир погибнет, но мы не потерпим ни малейшей несправедливости», он прав, и его порыв прекрасен. Но переведи мы этот порыв на житейский план, и он покажется идиотизмом. В жизни говорят по–другому: «Мы готовы перетерпеть сотню несправедливостей, лишь бы остаться в живых». Был период, когда у нас постоянно летели шатуны, настоящая эпидемия. Механики могли бы сказать: «Мы тут ни при чем. За добротность металла мы не отвечаем!» Но как только с механиков стали брать штраф за поломку, число поломок уменьшилось на две трети. При этом определить, какой именно шатун сломается, независимо от усилий механика, невозможно. А ведь штраф в этом случае несправедлив. Но что тут поделаешь? Здесь Ромен Роллан не годится. С другой стороны, мне отвратительно компостирование мозгов фальшью. Мне не понравится, если кто–то мне скажет: «Вы полетите сегодня ночью, в эту свинскую погоду, из любви ко мне, чтобы меня порадовать. Если вы сломаете себе шею, нас утеплит мысль, что вы пожертвовали собой ради меня. Если справитесь, наградой вам будут мои поздравления». Я сочту это оскорблением. Нет такого человека, ради которого я должен жертвовать хотя бы пальцем. И если мне это внушают, меня обманывают. Меня устроит, если и он, и я будем повиноваться одному и тому же закону, и полечу я в общем для всех порядке. Если законом для нас будет естественный ход вещей, не нуждающийся в объяснениях и оправданиях, если ночной полет следует после дневного. Когда я выстаивал против грозы, мне не нужны были метафизические аргументы. В метафизических аргументах мы начинаем нуждаться на отдыхе. Против грозы летишь только для того, чтобы оказаться в спокойной зоне. Это простое соображение убедительно и для самых непокорных. Если в минуту, которая требует от человека наивысшего напряжения сил, он услышит: «Сделай это ради меня или ради группы Буйю–Лафона [54]или ради родины», он возмутится, почувствовав себя униженным. Я не сомневаюсь , что заведующий секцией трикотажа в галерее Лувр старается наладить со своими продавцами теплые отношения: не испытав большого счастья от продажи пары носков, они хотя бы вознаграждены улыбкой. Благодаря ей они работают ради чего–то еще, а не только из ничтожного коммерческого интереса. Но если власть начальника так велика, что посягает даже на жизнь человека, если работа, которой он руководит, влечет за собой физические травмы, душевные и даже жертвы, как это бывает у нас, то такое должностное положение намного превыша ет компетенции человека, и начальник сильно преувеличит свою значимость, если вообразит, что его улыбка способна кого–то утешить. Она будет означать, что он ни в грош не ставит тех, кем руководит. Вроде старшины, который уверен, что солдаты его собственность. Но на высоком уровне ответственности начальник из уважения к подчиненным обязан отстраниться от них. И подчиненные прекрасно это понимают. Я помню, как в один прекрасный день в Буэнос–Айрес прилетел директор агентства Гавас, полет был неимоверно трудным, и, сойдя с самолета, он решил, что порадует летчика, сказав: «Если бы вы знали, как господин Буйю–Лафон любит своих пилотов, как он им благодарен…» Пилот потерял дар речи и от обиды покраснел. Это что же? Три часа подряд он продирался со своим самолетом через грозу, разряды трещали чуть ли не в двадцати метрах, а он, яростно костеря все и вся, пробивался к земле, к аэродрому и все это ради какого–то типчика?! Постояв, пилот повернулся ко мне. «Буйю–Лаффон… Скажут же такую глупость!» И расхохотался. Бывают случаи, когда и благодарность неприлична. Например, рискуя собственной шкурой, я подобрал незнакомого летчика в Сахаре, и он благодарит меня за самоотверженность. Совершенно напрасно. Никогда мне не казалась его жизнь интереснее моей, я не дожил до такой степени уничижения. Он мне ничего не должен. Мне не удался Ривьер, потому что я не сумел передать, что понимаю под достоинством власти, а именно это я и хотел передать. Уважение. А вышло, что он просто–напросто более суров, более жесток. Очень жаль. Мне хотелось, чтобы он не унижал себя софизмами, пытаясь подладиться к жене Фабьена. В этом случае ему нет прощения, и пытаться получить его значит лукавить. Жена Фабьена права. Он тоже, но не имеет права голоса. Ривьеры бы стали чудовищами, если бы им не противостояли Ромены Ролланы. Но мне почему–то кажется, что земля бы остановилась, если бы Ромены Ролланы правили ей. Я чувствую, что выражаюсь довольно смутно. Но, быть может, вы умеете читать между строк. Мне бы очень хотелось объяснить все более отчетливо, но я торопился написать вам, потому что вряд ли будет вторая статья, которая меня так взволнует и растрогает, как ваша. Если вы мне напишете, буду счастлив. Антуан де Сент–Экзюпери, пилот компании Азропосталь КасабланкаДокументы
Приветствие на Празднике приданого журнала «Мод пратик» 6 января 1932 г. В среду 6 января 1932 года в зале Гаво Антуан де Сент–Экзюпери председательствовать на Празднике приданого, который каждый год устраивал своим «крестницам», девушкам из хороших семейств, разорившихся или попавших в трудные обстоятельства, еженедельник «Мод пратик», семейный журнал. После приветственного слова мадам Сен–Рене Таяндье счастливым лауреаткам, из скромности участвовавшим под псевдонимами Сиротка, мадемуазель Май, Анн, Антигона, Мужественная, Пострадавшая, вручили премии (от 8000 до 10 ООО тогдашних франков). «Автор «Ночного полета» сумел так просто и так проникновенно передать ощущение счастья от женского присутствия у семейного очага, что растроганные и завороженные слушательницы запомнили его слова на долгие годы». Праздник завершаться представлением: музыка, танцы, спектакль «У сердца свои законы» по пьесе Робера де Флера и Кайяве. Свою приветственную речь мадам Сен–Рене Таяндье завершила следующими словами: «Медам, сегодня мы устроили праздник в честь мужественной молодежи и попросили возглавить его молодого… победителя. Я уверена, что он несказанно удивлен, оказавшись здесь с нами, что, совершая подвиги в заоблачных высях среди звезд, он и представить себе не мог, перед какой аудиторией окажется. Но недаром говорят, мсье, что может случиться все! Вы знаете, медам, что мсье де Сент–Экзюпери авиатор, что он совершает полеты из Франции в Аргентину, из Касабланки в Дакар, из Буэнос–Айреса в Чили, что летал он и в мирное, и в военное время. Только что он получил, и уверена, тоже к немалому своему удивлению, премию Фемина за свою прекрасную книгу «Ночной полет». Неподдельная искренность, с какой она написана, явление редкое и необыкновенно отрадное. Я не стану пересказывать его замечательный роман, который, впрочем, и пересказать невозможно. Не стану объяснять, какой высокой и захватывающей теме он посвящен. Наш юный президент, будучи авиатором, рассказал о полетах, чего я никак не сумею сделать, так как никогда еще не поднималась в воздух, хотя, кто знает, возможно, еще поднимусь. Я скажу сейчас о другом: комитет премии Фемина принес славу «Ночному полету», а «Ночной полет» принес славу комитету Фемина. Мы с радостью убедились, что наш выбор одобрен прессой, критикой и даже кругами… весьма капризными, брюзгливыми, словом… непростыми. Я хочу сказать мсье де Сент–Экзюпери еще вот что: впервые в комитете Фемина я видела такое уверенное голосование с первого раза. Прибавлю, что наш единодушный порыв оставил у нас и чувство легкого огорчения, так как в тени остался роман «Клер» господина Шардона, который, но нашему мнению, должен был вызвать ожесточенную борьбу в комитете и отклики в публике. Но в этот день нас ожидал сюрприз: обмениваясь взглядами с коллегами, обращая к вновь прибывшим вопросительный взгляд, мы читали на губах два недлинных слова — «Ночной полет». И было что–то бесконечно радостное в нашем тайном и неожиданном согласии. Медам, мне особенно запомнилась одна страница из этой книги — летчик снижается, приближается к земле и видит множество мерцающих во тьме огоньков, ему шлют призыв дома, люди, сама жизнь. И если я, медам, пытаюсь понять, что связывает молодого авиатора, его книгу с нашими крестницами, то ответ мой таков: его связывает с ними тоже самое ощущение сближения с жизнью, какое он испытывает, видя с высоты россыпь слабеньких мерцающих огоньков, похожих на светлячков в траве. Свет — знак человеческой жизни, зов в ночи, свидетельство борьбы, радости, надежд. И вы, мсье, возможно, спустившие! к нам сегодня со звезд, видите вокруг себя свет обращенных на вас девических стаз. И тогда, человек, более необычный, чем принц из сказки, и куда более современный , вы вручите этим девушкам в праздничном конверте послание на юг или на север, самое радостное и самое благое из всех, какие вы когда–либо доставляли благодаря вашим опасным перелетам. Наконец пришло время выступить с речью Антуану де Сент–Экзюпери; он построил ее на двух историях — гибели Прюнета и спасении Гийоме, обе они войдут несколькими годами позже в «Планету людей», а потом в киноверсию, которую они задумывали вместе с Жаном Ренуаром («Дорогой Жан Ренуар», Галлимар, 1999). Прежде всего я хочу поблагодарить мадам Сон–Реми Таяндье и мадам Брутель [55]за величайшую честь и величайшую радость, которые они мне доставили, способствуя увенчанию премией моей маленькой книжки. И поскольку благодаря этой чести я получил возможность сказать несколько слов моим коллегам–лауреатам, я надеюсь вместе с вами, медмуазель, исправить недочет, допущенный мной в «Ночном полете», в котором слишком мало сказал о столь значимой роли жены, той роли, которая станет вашей после того, как у вас появится семья. Примеры, которые я приведу, будут связаны с людьми моей профессии, но вы убедитесь сами, что речь пойдет не только о женах летчиков. В прошлом году Марк Шадурн замечательно говорил вам о любви. Я, с вашего позволения, буду говорить о счастье. Обыкновенном, незамысловатом счастье. Топ особенной атмосфере дома, которую может создать каждая из вас, которая станет защитой от внешних помех, от рабочих неприятностей и которой я, к сожалению, уделил так мало внимания в своей книге. Думаю, потому, что летчик, одеваясь и готовясь ночью подняться с грузом почты в небо, уже далек от домашней тишины. Полет уже властно завладел им, неизбежные трудности так значительны, так серьезны, что покой кажется ему чудесным, но не обязательным подарком, который ему уже не принадлежит. Он знает, что его ждет, наконец, настоящее дело, реальный мир. Он уже в пути, пусть пока еще мысленно, он простился с женой и, кажется, даже без огорчения, как простился бы с цветами, книгами, песенками о любви, которые слушал на пластинке. Он невольно гордится своим могуществом и преисполнен снисходительности. Предстоящее и вправду серьезно, он должен постараться изо всех сил остаться к рассвету в живых. Со снисходительной улыбкой он выслушивает советы, принимает нежность, заботу, кашне, которое вряд ли спасет его от ночного урагана. Домашние мелочи кажутся мужчине детскими игрушками, а ему через час, вполне возможно, придется напрягать до крайнего предела и мысли, и мускулы. Но в миг крайности именно эти мелочи станут для него дороже всего на свете и спасут его. И поскольку мы собрались здесь, медмуазель, чтобы воздать честь вашим самым драгоценным человеческим качествам — долготерпению сиделки, самоотверженности старшей сестры, — я расскажу вам две истории, которые случились в Южной Америке с интервалом примерно в месяц, почти на моих глазах. Это драматические истории летчиков, но они помогут вам понять, как велика и значительна ваша роль. Мой друг Негрен летел на самолете с пятью пассажирами, и его самолет около часа ночи упал в море где–то возле берегов Уругвая. Самолет не сразу погрузился в воду, пассажиры успели выбраться на крыло. Зная, что они не так уж далеко от берега, они принялись раздеваться, чтобы добраться до земли вплавь, как только самолет окончательно погрузится в море. К несчастью, туман был настолько густой, что различить огни на берегу не было никакой возможности, и они вместо берега поплыли в открытое море и все погибли. Спасся только один пассажир, благодаря самоотверженности Негрена, который отдал ему свою надувную подушку, от него мы и узнали следующие потрясающие подробности. Бортовым радиотелеграфистом на этом самолете был молодой паренек по фамилии Прюнета. Добряк, умница, душа компании, товарищи его обожали за его жизнестойкость и оптимизм. Второго такого весельчака трудно было сыскать. И вдруг, в момент катастрофы, когда все остальные судорожно избавлялись от одежды, Прюнета равнодушно сидел на крыле, не снимая даже сапог. Вы можете сами представить, как все на него набросились. И вот этот мужественный человек, великолепный пловец, которого мало впечатлила катастрофа, так как была уже не первой в его жизни, сидел, опустив голову, и шепотом упорно повторял, что бессмысленно бороться со смертью, нет смысла тратить силы, если все равно рано или поздно наступит конец. Он предпочел погрузиться на дно вместе с самолетом. И вода сомкнулась над ними. Решение Прюнета показалось нам необъяснимым. На следующий день мы взяли его карточку, чтобы выяснить, кого нужно оповестить о его гибели, и узнали, что близких у него нет. Не найдя адреса родителей, мы попытались расспросить его товарищей, не было ли у Прюнета друга во Франции, которому нужно послать извещение, но они переглянулись, пожали плечами и ответили: «Прюнета никогда не получал писем». Страшный ответ. Ощутите, какое беспредельное одиночество стоит за этой короткой фразой, — а ведь было это в стране, где даже эмигрант ждет вестей из дома и живет ими. Прюнета не был эмигрантом, он, как мы все, приехал туда поработать на дна или три года, но был так одинок, как если бы жил на необитаемом острове. И в ту минуту, когда все бросились в воду и плыли в тумане каждый к своему сокровищу — к жене, к детям, зажженной на столе лампе, картине, дороже которой нет ничего на свете, Прюнета тонул в тумане и снаружи, и изнутри. Не было картины, не было мелочи, которая зацепила бы его и пробудила желание жить. Каждодневная жизнь заслоняла от немо пустоту, в которой он пребывал, но ни работа, ни товарищи, ни привычки не оказались столь значимыми, чтобы заставить его броситься в черную воду, отстаивая свою жизнь. В момент истины стало ясно, что для человека ценно и что нет. Прюнета узнал этой ночью, что для него одного нет берега ни на западе, ни на востоке, ни на севере, ни на юге, ему некуда было плыть. Так что, медмуазель, мужчины могут думать, что жена, домашний уют, улыбка значат меньше, чем ремесло, опасность, радость охотника или контрабандиста, какую дарит порой ночной полет, могут покидать в полночь дом со снисходительной улыбкой — сильный мужчина оставляет дома слабую женщину, но они ошибаются, только слабая женщина помогает мужчине спастись. Домашнее счастье, которым часто пренебрегают как излишней роскошью, в гибельную минуту, когда смерть расставляет все но местам, стаиовится главной ценностью, пробуждая глубинную необходимость жить. Но обязательно быть авиатором, чтобы обладать таким счастьем и не замечать его. Счастье, которое вы дарите, ваши близкие, скорее всего, не ощущают в полной мере , оно незаметно, потому что ВОШЛО в привычку, стало обыденностью, но и не замечаемое, оно существует. Я хотел бы в нескольких словах рассказать вам о другом опыте, которому был свидетелем , на этот раз положительном. Moii коллега и друг, нилот Анри Гийоме, летал в прошлом году по самому трудному маршруту нашей почтовой компании, — он летал через Анды. Что такое Анды? Огромная горная цепь шириной в двести километров и высотой от четырех с половиной тысяч метров до семи. Маршрут мы постарались проложить через самые невысокие горы, высотой где–то около пяти тысяч. Зимой горы становятся неприступной крепостью, куда никому но проникнуть. Если горец задержится на тропе, ого может смести или запереть снежная лавина. Каждый год от лавин погибает не меньше двадцати человек. В Чили знают, что после ночи в горах ни один человек не выжил. 11 вот однажды, попав в снежную бурю, Гийоме был вынужден посадить самолет на высоте трех с половиной тысяч метров в глубине воронки , расположенной в центре массива. Он оказался примерно в восьмидесяти километрах от равнины, и дорогу к ней преграждали ему горы высотой в Монблан, около четырех с половиной тысяч метров, но более отвесные. У меня нет времени, чтобы подробно рассказать вам, каким чудом вернулся этот пилот. Скажу только, он шел без веревок, без ледоруба, почти без еды — три последних дня он ничего не ел, но все–таки преодолел все горные заслоны и спустился в долину. В первый день он двигался по плечи в только что выпавшем снегу и продвинулся всего–навсего на восемьсот метров. Но не остановился. Он шел пять дней и пять ночей, карабкаясь, скользя, падая, выцарапывая руками в отвесной стене дыры, чтобы за них уцепиться, но давая себе ни минуты ни на сон, ни на отдых, потому что при морозе 40 после десяти минут отдыха он никогда не поднялся бы. Уже на второй день снег и холод принялись усыплять его, туманя голову желанием все забыть, от всего отказаться, лечь и уснуть. Никакая надежда не грела его, потому что не в человеческих силах было справиться с этими горами, и он знал, что претерпеваемые им муки бессмысленны, так как спастись невозможно. Но он не поддавался соблазнам уснуть, не слушал голоса разума. Потом он говорил мне, что главным его трудом на протяжении всех пяти суток было заставить себя не думать. Сначала он двигался вперед из присущей ему добросовестности, потому что негоже сразу сдаваться. По ни добросовестность, ни чувство долга но могли долго противостоять желанию все оставить и крепко уснуть, жить требовала только одна маленькая женщина, которая ждала его дома. К этой женщине, к теплу очага, к незаметному счастью, значимость которого этот крепкий здоровый паренек даже и не подозревал до этого, шел он долгих пять дней и ночей в 30 и 40 градусов мороза. Каждый день он разрезал все глубже сапоги, потому что обмороженные ноги опухали все больше; обессилев, он на третий день снял и бросил обледеневшую куртку, так она стала тяжела; он знал, что сделал все возможное как пилот, отвечающий за почту, и с полным правом мог позволить себе отдохнуть, что заслужил долгий–предолгий отдых. Желание лечь и уснуть с каждым мучительным шагом становилось все настоятельнее, но долг перед собственным счастьем заставлял сделать еще один, хоть самый маленький шажок, потом еще один, и еще и так все пять дней и пять ночей. Он стремился сделать все возможное ради той, которая ждала его и верила в него. И вот что я вам скажу, медмуазель, дом–прибежище, который создала эта женщина в маленькой квартирке Буэнос–Айреса, то счастье, которое она дарила, монотонное, скучноватое, потому что муж ее предпочитал риск и приключения чтению по вечерам, оказалось на поверку такой человеческой ценностью, такой мощной силой, что она смогла протащить Анри Гийоме через все Анды и помогла ему спуститься с высоты четырех с половиной тысяч метров на равнину. Это счастье его спасло. Чудо с Гийоме случилось примерно спустя месяц после гибели Прюнета, который не знал, куда же ему плыть. Думаю, что сравнение двух этих судеб будет для вас и поучительно, и утешительно. Ведь и вам иной раз может показаться, что вы тратите свои дни на монотонную работу, что ваша преданность никому не нужна, что беспрестанная забота о скромном домашнем счастье — увы — незначительна, но вспомните тогда, что каждый день , сами о том не подозревая, вы созидаете нечто очень важное. То, что, к счастью, может никогда не открыться во всей своей значимости, а может пять дней и пять ночей при сорока градусах мороза тащить ослабевшего от голода мужчину по заснеженным горам [56]. Вступительное слово к фильму «Южный почтовый» Задуманный в 1931 году, фильм «Южный почтовый» начал сниматься в 1936–м режиссером Пьером Байоном по сценарию автора. Сент–Экзюпери не ограничился написанием сценария, он вникал в каждую деталь съемок. Премьера фильма состоялась в Париж в марте 1937 года. Предваряло показ это небольшое вступительное слово, написанное Сент–Экзюпери не без горечи. Несколько месяцев тому назад вы могли прочитать в газетах следующее объявление: «Для пассажиров открылась воздушная линия Касабланка — Дакар». Вы скользнули глазами дальше и без особого любопытства узнали, что каждую педелю определенное число чиновников, туристов и коммерсантов поднимаются в Тулузе на борт современною трехмоторного самолета и после остановки в Марокко осуществляют ночной перелет до Сенегала. Сенегал теперь отделен от Франции лишь двадцатью часами дремоты. Пассажир не участвует теперь в опасном приключении. Самолет, летающий по расписанию, оснащенный кожаными креслами, полированными панелями, перестал быть для пассажира возможностью познавать, а превратился в продолжение коммерческого офиса. Помещение, где пассажиру расхваливали удобство путешествия, сообщали расписание, выписывали билет, и салоп самолета, где это путешествие стало реальностью, кажутся ему совершенно одинаковыми, органично перетекающими одно в другое. Пассажир не чувствует теперь и того, что путешествие его зависит от совершенно разных людей — любезных торговцев, которые его соблазняют, и летчиков, которые отвечают за него среди звезд. Такова цена успеха. Когда механизм отлажен, он становится незаметным. Не видна техника, но исчезла и поэзия. На борту «Нормандии» из Гавpa можно долететь до Нью–Йорка и не заметить океана, механиков, звезд… Фильм, который вы увидите, напоминает о временах, когда человеческое дерзание еще не было так удачно закамуфлировано. Мы отлаживали этот механизм, мы прокладывали воздушные дороги, и каждый полет для нас становился знакомством, раз от раза более близким, с новым неведомым миром. Вылетев из Дакара, первую остановку мы делали в Нуакшоте. Маленький форт, затерянный в песках, был похож на спасительный илот посреди океана. Этим фортом мы и начали наш фильм. А потом еще посадка, еще, и мы одолели опасную пустыню. Вот они, наши остановки: Порт–Этьен, Вилла Сиснерос, Кап–Джуби… Нет, не причудливые четки звучных названий. Нам грозила смертельная опасность, и мы шаг за шагом продвигались к выздоровлению. Как только незадолго до Агадира мы замечали первые обработанные поля, первую зелень марокканского юга, мы понимали — мы здоровы. Антуан де Сент–ЭкзюпериЭтим летом я ходил посмотреть на свой самолет. Пилот. Можно верить в людей
Предисловие
Может быть, эти три текста части одного? Может быть, это этапы или фрагменты некоего целого, в котором Антуан де Сент–Экзюпери объединяет личные воспоминания с размышлениями морального характера, продолжая передавать свои убеждения и распространять опыт? Или, может быть, их сродство связано только с тем, что они были написаны в одно время, где–то в середине 30–х годов? К этому времени у Сент–Экзюпери было опубликовано только два романа, «Южный почтовый» и «Ночной полет», но известность автора, получившего за второй роман премию Фомина, была уже очень велика. На протяжении последующих десяти лет известность Сент–Экзюпери будут поддерживать его многочисленные статьи в прессе, которые станут потом основой его книги «Планета людей». Вновь публикуемые тексты близки общей тональностью, выбором рассказанных случаев да и стилем к тому, что Сент–Экзюпери писал именно в этот период. Большинство листков, на которых сделаны его записи, носят фирменный знак кафе «Лини», завсегдатаем которого он стал после своего возвращения в Париж в 1933 году. Сент–Экзюпери приходил туда чуть ли не каждый вечер и сидел, ведя нескончаемые беседы с приятелями или заполняя размашистым почерком листок за листком. По существу, мы не можем с точностью определить, для кого и для чего предназначались эти тексты. Мы получили их в виде рабочих заметок, явно не в окончательном варианте, но, судя по малому количеству правки, все–таки близком к окончательному. Обращение к публике в «Пилоте» говорит о том, что этот текст — лекция, и, вполне возможно, одна из тех лекций, который Сент–Экзюпери читал во время своего турне по странам Средиземноморья в ноябре 1935 года. Он совершил его вместе с друзьями Жаном–Мари Конти и Андре Прево. Из рапорта верховного комиссара Франции в Сирии и Ливане, отправленного министру иностранных дел, мы узнаем, что пилот–писатель провел в Бейруте 14 ноября «непритязательную беседу весьма изысканным языком, в котором не чувствовалось ни искусственности, ни натужности», и «очень удачно передал психологию работающего на авиалинии пилота». Описание подходит для найденного текста, хотя размышления писателя сосредотачиваются скорее вокруг проблем стилистического и литературного характера, чем психологического. Эти проблемы, как мы знаем, стали крайне актуальными для писателя после появления критических статей о его романе «Ночной полет». Организовать турне с чтением лекций предложил Жан–Мари Конти, молодой инженер, выпускник политехнического института, товарищ Сент–Экзюпери по компании Аэропосталь. Писатель в это время работал в отделе пропаганды компании Эр Франс, участвуя в различных престижных акциях и давая технические консультации при съемках документальных фильмов. Уверенные в финансовой поддержке молодой компании — что подвергает сомнению в своем отчете верховный комиссар, — трое молодых людей перелетают из города в город на борту личного самолета Сент–Экзюпери — великолепной машины ярко–красного цвета — и читают лекции. От Касабланки до Марселя — таково было их путешествие, во время которого они побывали в Алжире, Тунисе, Триполи (12 ноября), Бенгази, Каире, Александрии, Дамаске, Бейруте, Адане, Стамбуле, Афинах (22 ноября), Бриндизи. Лекции, о которых мы очень мало знаем — кроме рассказа Нелли де Вогюэ, других свидетельств о них не сохранилось, — скорее всего проходили с большим успехом. Писатель собирал полный зал, и полученных средств вполне хватало троим друзьям на каждодневные нужды. Сент–Экзюпери не отличался ораторскими способностями, зато был великолепным рассказчиком, публика ему аплодировала. Ливанские франкофоны не поставили ему в вину даже охрипший голос и кашель… В Египте он подхватил бронхит и не без успеха лечился от него по дороге. Писатель Жан Прево, которому мы обязаны первым опубликованным рассказом Сент–Экзюпери, назвал своего друга «мастером на воспоминания». Характеристика лучше всего соответствует именно тридцатым годам. До этого у Сент–Экзюпери был необыкновенно счастливый период, длившийся пять или шесть лет. Период, когда он работал в компании Аэропосталь, а она процветала технически, коммерчески и… человечески. Потом ее деятельность была приторможена, а потом и вовсе прекратилась — сказался кризис 1929 года и очень громкий политико–финансовый скандал вокруг ее владельца. А на Сент–Экзюпери после успеха «Ночного полета» обрушилась еще и критика коллег. Сент–Экзюпери исполнилось тридцать, он недавно женился и в своих журналистских статьях без конца обращается к недавнему прошлому. Похоже, что именно в это время он активнее, чем когда–либо, старается осмыслить полученный бесценный опыт. Хотя его сотрудничество с гражданской авиацией продолжается. Он вернулся из Латинской Америки в феврале 1930 года, а в мае уже снова летает на африканской линии, еще остававшейся в ведении Аэропосталь. Когда Аэропосталь окончательно разваливается, Сент–Экзюпери получает место летчика–испытателя у Латекоэра на юге Франции и работает там до 1933 года. Однако главное для него уже позади. Чары рассеялись, состояние благодати миновало. Но осталось редкостное сокровище — сгусток переживаний, чувств необыкновенной яркости, напряженных картин. На их основе сформируется впоследствии практическая мораль, возникнет парение духовного поиска, забьет неиссякаемый источник вдохновения… Детство писателя и линия с ее миссией и чувством долга переплетутся, превратившись в прошлое. Жизнь будут напрягать отныне два полюса — стремление вновь обрести домашний очаг и желание принадлежать душой и телом полному риска существованию коллег–летчиков. Если в конце двадцатых годов Сент–Экзюпери был романистом, писавшим о линии, то в тридцатые он становится ее неутомимым летописцем и создает золотую легенду о подвигах своих товарищей, которые торили и пролагали небесные пути. В бесконечном припоминании, конечно же, не лишенном повторов, но проникнутом живой связью со своим временем, Сент–Экзюпери черпает материал для своих размышлений о моральных проблемах, нащупывает ответы на вопросы, которые не дают ему покоя: как прожить свою человеческую жизнь со смыслом? Что нужно сделать, чтобы на земле можно было жить по–человечески? Он осмысляет прожитое, и эту своего рода «паузу» завершат «Планета людей» и «Военный летчик». «Пауза» была нелегким периодом в жизни писателя, но во время нее вызрели два его шедевра. Все статьи, заметки, наброски этого периода, в том числе и публикуемые сейчас, отмечены неким родством, их роднит, по замечанию Нелли де Вогюэ, «упорное стремление автора извлечь из самых разных фактов один и тот же урок». Вот почему не нужно удивляться, находя во вновь опубликованных текстах мотивы, эпизоды, темы, размышления, уже встречавшиеся в других произведениях, написанных Сент–Экзюпери. Так, например, описание плато в Сахаре между Кап–Джуби и Сиснеросом и метеоритов, лежащих на толще спрессованных ракушек, появится сначала в четвертом очерке серии «Полеты и посадки», опубликованном в «Пари суар» («Вечерний Париж») в конце 1938 года, а потом, через год, в «Планете людей» (глава «Самолет и планета»). Рассказ о ночи, проведенной в форте, который охраняет старый сержант и пятнадцать сенегальцев, был опубликован сначала в «Марианне» в 1932 году («Пилот на линии»), потом в другом варианте в «Пари Суар» («Полеты и посадки»), а затем в третьей версии в «Планете людей» («В пустыне»). А впервые Сент–Экзюпери напишет об этой ночи в письме к Анри де Сегоню от 14 февраля 1927 года из Дакара. Что касается фрагмента о детских играх «Шевалье Аклен» и «Колдунья», то они возвращают нас к великолепным страницам из «Военного летчика», когда пилот группы 2/33 в разгар войны, которая охватила Францию, вспоминает о своем детстве и няньке из Тироля по имени Паула. Если мы будем перечитывать письма и произведения Сент–Экзюпери, мы найдем сотни соответствий с вновь опубликованными фрагментами. То же можно сказать и о размышлениях относительно писательства и литературы, эхо которых мы найдем в «Пилоте», где ведется речь в том числе и о том, каким образом адекватно передать опыт, почерпнутый в полете (особом времени, когда человек управляет самолетом, а значит, воспринимает тысячи нюансов поведения мотора, расшифровывает тайные сообщения звездного неба и земли, над которой летит). Сент–Экзюпери ведет здесь подспудную полемику с критиком, который заподозрил, прочитав «Ночной полет», что автор выдумывает свои состояния. Счел, что писать правдиво о своем ремесле невозможно, так как реальность ремесла и реальность литературы лежат в совершенно разных плоскостях. Пытаться совместить эти плоскости — значит лишить себя той и другой. Фальсифицировать отношения с вещами, людьми, словами… Эта точка зрения совершенно неприемлема для молодого писателя. Воодушевленный страстью к своему ремеслу, он ищет и находит свой оригинальный голос, благодаря особенностям своего ремесла, благодаря своему участию в событиях, которые он описывает. Неужели только слепой Гомер способен описать Троянскую войну? Анализ стиля Поля Морана, писателя, ставшего в каком–то смысле воплощением литературного модернизма, явления по сути своей космополитического (хотя автор «Планеты людей» не ощущает себя причастным к подобному универсализму), помогает Сент–Экзюнери прояснить свою писательскую позицию. На этом анализе он строит свою защиту. Впервые он воспользовался таким анализом в письме к одному из своих друзей, критику Вонжамену Кремьё, написанном в ноябре 1931 года. Сент–Экзюпери разбирает фрагмент первого романа Морана «Льюис и Ирен» (1924): «Мне кажется произвольным образ М. «автобусное желе“, предназначение которого передать пробку на дороге. Хватило бы и «пробки“. Что прибавит мне в данном случае холод, липкость и эластичность желе? Неужели вы думаете, что шофер такси, утомленный за день бесконечными пробками, увидит их во сне в виде желе? Скорее он увидит их в виде куч из камней. И этот образ мне кажется более литературным и точным, чем образ, сплетенный из одних слов. Образ должен опираться на личностное видение и ощущения, только тогда он может присниться». Образы прозы Сент–Экзюнери не несут в себе ничего искусственного, они органично вырастают из ощущений пилота, они порождения его плоти и крови. В этом их правомерность и убедительность. Образ — это непосредственная передача, более правдивая, адекватная, полная, чем любое объяснение». Сент–Экзюпери называет образное мышление символическим, отличая его от аналитического, технического и литературного. Образ вбирает в себя все, он не обманывает. Он подлинность эмоции, вылившейся в слова. Летчик, который не обладает даром слова, тоже признает его своим, не ощущая в нем фальши. Образ–символ не имеет отношения к литературе, если литературу (читать продуктом мастерской, где занимаются искусством словоплетения и смыслоплетения. Если не искать в литературе связи с действительностью, с жизненным опытом, если считать, что для литературы не нужна правда, а достаточно правдоподобия. Сент–Экзюпери иллюстрирует свою мысль образом летчика, раскачивающеюся на трапеции среди звезд, и в письме к Бенжамену Кромке, и в «Пилоте». Сент–Экзюпери вновь и вновь возвращается к этим размышлениям, невольно свидетельствуя, как глубоко задела его критика. Он возвращается к ним, повторяя вновь и вновь свои доводы, словно меняет повязки на ране. Отзвуки их есть даже в «Письме к заложнику», но эти страницы, написанные в 1941–1942 гг. в Нью–Йорке, Сент–Экзюпери не включил в окончательный текст. Он сравнивал стиль Леона Верта и Поля Морит: «Современные мы возненавидим фальшь какого–нибудь Морана, который ловчит, искажая суть вещей, не имея другой цели, как только привлечь внимание к искусному в манипуляциях автору. Но зато мы с жадностью ребятишек, столпившихся вокруг плотника, будем смотреть, как работает Верт. Вот она, доска. Простая и совершенная. Каждое движение плотника — забота о доске. Разве суетится плотник, стараясь, чтобы на него посмотрели?» Свой вывод Сент–Экзюнери обобщает, относя ко всей «романской» литературе, по его мнению, ее творцы слишком заняты самоанализом. Прочитав с большим удовольствием «Нимфу с верным сердцем» Маргарет Кеннеди, он подводит такой итог: «Они (писатели) не удосуживаются спрятаться за своими героями. Любая «романская» книга — это портрет автора. Она всегда самоочищение, если пользоваться понятиями Фрейда». Читая письма Сент–Экзюпери к его родственнице, Ивонне де Лестранж, которая дружила с Андре Жидом, мы с особенной остротой понимаем, что его размышления как о прошлом, так и о своем месте в литературе порождены глубокой душевной травмой, тоской, которая гнездится в душе. В письме от И сентября 1931 года из Сент–Этьена он признается Ивонне, что не испытал особой радости, вновь оказавшись в Сахаре, поскольку не поглощен целиком и полностью своей работой и делами местных жителей. Он уже не способен чувствовать себя заодно с племенем, которое живет рядом, а когда–то он так любил чаепитие в шатрах соседей–мавров. Теперь ничего его здесь не радует, и он пытается понять, что же произошло и что такое, собственно, путешествие — что, кроме зрелищной экзотики, может быть в нем полезного и плодотворного. «Мне кажется, чтобы почувствовать страну, народ, среду, нужно принять местный уклад, обычаи. Только они укореняют. Тоскливо жить вне общепринятых условностей, тебя словно бы лишают реальности». Восприимчивый, вбирающий, Сент–Экзюпери, попав в Сахару в первый раз, жил в соответствии с чужим укладом и точно так же осваивал потом стиль жизни Южной Америки. Но, вернувшись в Африку, когда сама профессиональная деятельность стала менее интересной, он уже не ощутил былого обаяния пустыни, не счел нужным жить жизнью местных племен, не вменил себе в обязанность соблюдение их условностей. То же самое переживают вернувшиеся на родину изгнанники и те, кто очень долго путешествовал: их радостно изумляют полузабытые обычаи, а заботы близких или соотечественников совсем не близки. В яблоко проник червячок. Отправившийся в путешествие лишился под ногами почвы; вернувшись, он не сможет ощущать своими своих. «Это особенно чувствуется, когда возвращаешься в Париж. Моран становится очень Мораном (и это неприятно). Жироду очень Жироду (что, собственно, не так уж важно). И очевидно, совершенно очевидно, очевидно до зубной боли, что, открыв что–нибудь из Анри Бордо, наткнешься на страшную глупость. Ты как будто в аптеке, где давно изучил все этикетки. Уже знаешь заранее, что будешь пить. И пить не хочется. И это несправедливо. Ты бы ничего этого не замечал, если бы не двигался с места». Интересно, что делает Моран в размышлении об изгнаннике. И откуда там взялся Анри Бордо? Наверное, Моран упомянут потому, что его стиль и мода на него кажутся Сент–Экзюпери проявлением конформизма, потому что сам он решил не иметь ничего общего с подобной литературой. Вопреки претензии на новизну, язык этой литературы стал уже общепринятым, и он его отвергает, не хочет принять его, признать своим. И ощущает себя изгнанником вдвойне — выбрав жизнь странника, он отлучил себя от своей среды, а от коллег по литературе отлучен тем, что не признает их язык своим. И второе свое изгнанничество он ощущает тем острее, чем чаще ему дают его почувствовать. Опасение, что заблудился, что пошел по кривой дороге, рождает тоскливое ощущение. Маленький Принц спасся бегством и обречен на скитания: возможно ли для него возвращение? Возможно ли положить предел страданиям разлуки? Если читать историю Маленького Принца внимательно, то ясно — вопрос повисает в воздухе. Именно поэтому в «Южном почтовом» три смерти, это грустный роман о невозможности убежать и о невозможности вернуться, короче, о невозможности жить. Сент–Экзюпери как–то сказал: «Я спрашиваю себя, не углубишься ли в жизнь серьезнее, живя в уединении со старой служанкой, чем бродя по всему свету, как брожу я». Онпродолжает размышлять на тему, уже присутствующую в «Южном почтовом» («Что с вами станется за порогом дома — корабля, для которого утекающие часы исполнены смысла, как для форштевня утекающая вода»), И его размышления — вновь начало творчества, источник неизбывной печали и… посыл, который поможет написать ему столько чудесных писем любимым женщинам — матери, жене, подругам, с которыми расстался. Письма, умоляющие об утешении на этой странной земле, о которой неведомо — можно на ней жить или нет. Письма, пронизанные чувством вины по отношению к тем, кого он однажды решится покинуть. В них рождаются размышления об укладе, обычаях и языке, который их передает. Именно обычаи, в конечном счете, торят путь к подлинным ценностям, втайне накапливают таланты, как девственные пески Сахары метеориты, а расстеленное иод яблоней полотно — яблоки. «Мы знаем одно — нам неведомо, что именно для нас Плодотворно. […] Если вот эта религия, вот эта культура, эта шкала ценностей, эта форма деятельности — эта, а не другая — помогает полноте человеческих достоинств, высвобождает в нем благородного рыцаря, о котором он и не подозревал, то значит, эта шкала ценностей, эта культура, эта форма деятельности соответствуют подлинной человечности». Революция, жажда революции справедливы; консерватизм Сент–Экзюпери полон нюансов, он видит справедливость в революциях. Но, подхватив сопоставление Бенжамена Кремьё между «Завоевателями» Андре Мальро и «Ночным полетом» («НРФ». Октябрь, 1931), говорит о том, что революционные чаяния остаются в области теории и истории, они — манок и обреченына провал. И вот еще одна дилемма — по–настоящему путешествовать можно, только усваивая чужие обычаи, но покинув родную почву, отказавшись на какое–то время от своего, человек уже не принадлежит больше ничему, он теряет самого себя. Освобождение, которое сулит путешествие, и обретение домашнего уюта при возвращении — два равнозначных миража. Оторвавшись от царства привычного, летчик со временем осознает, что единственная для него возможность возрождаться и возвращаться к самому себе — это осваивать все новые территории и выполнять все новые задания. Он обречен на своеобразное бегство вперед, но его порыв, его стремление жертвовать собой ради себе подобных питается запасом рвения, накопленным в том краю, откуда он родом и куда может вернуться только во сне, в стихах, в рисунках или в своем любящем сердце. Размышления Сент–Экзюпери приводят его к своеобразной мистике: человек жив лишь взаимосвязями, которые ведает и ощущает только он, его утешение и дом за пределами этого мира. Вне этих пределов человек обретает " — нет, не искупление, но достойную и долгую жизнь. Так наконец примиряются литература и профессиональная деятельность, поэзия и самолет. «Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет. Я–то знаю, чего ждут от самолетов, от кораблей. Знаю, какие глубинные источники хотят в себе оживить. Плоть и душу протягивают другому солнцу, просят: согрей! Помоги прорасти! Словно давно уже ощущают себя засеянным полем, которому не терпится дать всходы…» Альбан Серизье Тексты соответствуют рукописным автографам А. де Сент–Экзюпери. Некоторые слова остались непрочитанными и помечены как таковые. Вариант прочтения предлагается в квадратных скобках. Пунктуация и орфография в случае необходимости были выправлены. Благодарим за щедрость и благожелательность тех, кто сделал возможной публикацию этих текстов.Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет
Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет. Я–то знаю, чего ждут от самолетов, от кораблей. Знаю, какие глубинные источники хотят в себе оживить. Плоть и душу протягивают другому солнцу, просят: согрей! Помоги прорасти! Словно давно уже ощущают себя засеянным нолем, которому не терпится дать всходы. Мы пытаемся с детства убежать от старения, но на деле боимся измениться. У меня была подруга. Я заходил к ней иногда ближе к вечеру, и мы, глядя на огонь в камине, сидели и разговаривали. Удивительно мы с ней дружили! Путешествовали. Хотя беседовали совсем не о Китае или Индии. Многозначительной становилась незатейливая песенка с граммофонной пластинки, терпкий аромат вина. И если кто–то еще — друг или подруга — присоединялись к нам, они тоже включались в беседу, все, что ни происходило, наполнялось смыслом, становилось драгоценным сокровищем. Хозяйка помогала нам сделаться [мудрее]. Путешествие — это ведь в первую очередь постижение нового языка, новых правил игры. Открываешься и приближаешь к себе магию мира. Мы отыскивали, находили, приобщались к чудесному. Святая святых всевозможных чудес — пухлый альбом, сокровищница моей приятельницы: причудливые карикатуры, билеты на метро, описания островов, не упомню, что еще. Листаешь, и вдруг фотография парусника, и сразу слышишь шорох крыльев, перелетаешь в царство грез. Радость нежданных сближений. Для нас двоих мы создали особую цивилизацию. В какую–то минуту я стал отдаляться от нашего мирка. Искал того, что называл про себя настоящими чувствами. Возненавидел тесные кружки, книги в духе тридцатых годов, игры, правила. Я искал человеческую подлинность. Но понял: без условностей игры человеческое исчезает. Жизнь нуждается в дрессировке, нет правил, и утек смысл. Уничтожая правила и условности, уничтожаешь язык общения. Я и в двадцать лет отличал, где чувство, а где притворство, но не понимал, что чувства всегда настоящие, притворных чувств не бывает. Кажется, что без утеснения правил любовь будет обращаться только к достойному, но на деле вместе с этими утеснениями исчезла и любовь. Определенные правила игры настраивают душу на определенный лад, дают возможность видеть все в определенном свете, придают жизни определенный смысл. Щит языка избавляет живущих от забот о будущем. Я немало размышлял о мнении, которое, как мне казалось, таило в себе некоторую загадку: «Не жившему в восемнадцатом веке не узнать, что такое сладость жизни». Я–то считал, что эта пресловутая сладость обрела себе убежище в словах и, не завися от людей, будет существовать себе и дальше. Она упрочится, завладев какой–то материей, и крестьяне с крестьянками, усвоив ее вместе с языком, проживут в реальности пастушеские идиллии. Но вот я услышал знаменитые […] и […] [57], и ощутил — до меня дотянулся последний луч ласкового солнца, и оно закатилось навсегда. Я был удивлен и растроган, что все–таки почувствовал эту ласку, едва ощутимая, она мне сказала о невозвратной гибели целого мира. И еще я понял, что сопротивляется революциям, стоит насмерть, защищаясь от святотатства — идеалы, условности, иерархия. Само но себе это все бессмысленно и несправедливо, посягает на будущность человека, искажает его счастье (так принято говорить, хотя никто не знает, что такое счастье). Я считал «справедливыми» революции, и они справедливы. Но со временем я понял другое: борются, чтобы спасти человека, но в борьбе этот человек погибает. Погибает целая человеческая раса, целая цивилизация. То, что происходит, непоправимо, и претерпевающие революцию не сомневаются, что гибнет род человеческий. Желал выяснить для себя, что же происходит во время революций, я подобрал сравнение — мне кажется, даже больше, чем сравнение, думаю, когда речь идет о любви, происходит то же самое. Мужчина потерял любимую, он страдает, он в растерянности. Если у него заработало воображение, он начинает ощущать ее «присутствие», погибшая любовь превращается в религию, человек отказывается с ней расстаться. Он не позволит отвлечь себя. Как бы ни старались близкие, он замкнется в своей скудной игре внутри себя. Отстранится от жизни. Перестанет существовать, потому что тому, чем обусловлено его поведение, наполнены мысли, нет места в мире. Он вывел сам себя за пределы этого мира. Если воображение не заработало, но мужчина жил этой женщиной, он покончит с собой. Ведь что бы он ни делал, ни думал, ни чувствовал, ведет к пустоте. Он лишился своей картины мира. Каждая дружба полноценна, забирая лишь небольшую частичку нас самих. Но всепоглощающая любовь забирает человека целиком, и с исчезновением любимой он уничтожен, он лишается языка, на котором только и мог говорить. Не слышит больше отзыва. И не хочет жить. Он понимает, что со временем выздоровеет, что ему опять найдется место в жизни, что новые отношения свяжут его с внешним миром, но ему это безразлично, потому что его уже нет. Этот будущий человек ему так же безразличен, как прохожий на улице. Как разбудить в нем желание жить? Замещение в этом случае невозможно. Изменить язык — значит изменить человека. И тот, кто не принял участия в революции, тоже не может представить себе жизнь «после». Революция — это гибель некоего смысла жизни. Человек может отдать предпочтение реальной гибели [58]. Поэтому мне всегда казалось, что трагедия русского генерала–изгнанника не в том, что он изгнанник, и не в том, что разорился. Политическая несправедливость вызывает в человеке естественный гнев, обиду, стремления, которые поддерживают в человеке жизнь. Можно жить ощущением несправедливости и даже раздувать ее в себе, чтобы жить ею дальше, но нельзя жить дальше, если ты утратил язык: если слова больше ничего не обозначают [59], все вокруг обессмысливается, если слова лишены подоплеки. Все награды старого служаки враз обесценились. А этот старичок генерал, когда–то такой преданный, вполне, может быть, был бы доволен своей тусклой жизнью, если бы в ней сохранялся смысл, если бы и за ним оставалось отведенное ему место. Но вся его жизнь обесценена. Старость всегда страдает среди молодых, новые условности, новые правила игры не дают им возможности общаться. Тремя четвертями своей популярности Моррас обязан яблоневым садам Франции, милоте провинциальных [нрзб] и вечным горам, он предлагает молодежи надежный язык–убежище, язык взаимного понимания, язык, на котором беседует вечность. Но пусть нас все задевает, пусть царапает каждая вновь появившаяся колонна, теснит каждая железнодорожная ветка. Подлинность? Да, и она есть в каждом новшестве. Подлинность, но еще, возможно, и жизнь. Мальро. «Завоеватели». Гарин потерпел поражение и усомнился в себе. Улучшила ли участь людей революция? Критика отметила — и отчасти справедливо, — что Мальро интересовало только революционное действие, но я заметил и еще кое–что. Гарин отказался от одной системы условностей и заменил их другой. Революционной. Отвергнув старую, утратив ее, он никогда уже не ощутит ее вкуса (слишком горд и деспотичен). Но революция потерпела поражение, и новой системы у него тоже нет. [У мавров ветер с песком и пулями.] Он на пороге человеческого… Я приведу несколько примеров, чтобы проиллюстрировать то, что мне кажется самым главным, а именно: внешние формы — язык, который усваиваешь, произвольные правила, которым следуешь, любые ограничения, которые сами по себе ничего не значат, — позволяют человеку осознать самого себя, испытать те или иные чувства, словом, жить определенной внутренней жизнью, особенной жизнью, какая не может возникнуть на основе другой культуры. Если определять еще более точно, то суть определенной культуры в том, что она позволяет человеку прожить именно такую, а не другую человеческую жизнь. Поняв это, я понял и вот еще что: у туриста не может возникнуть контакта с окружающим его миром (разовью это позже). Разумеется, просмотр звукового документального фильма и поездка в Азию — разные вещи, хотя разница, между прочим, не так уж и велика. У путешественника, безусловно, есть преимущества перед зрителем, он участвует в зрелище всеми отпущенными ему от природы чувствами, не только зрением и слухом, но и обонянием, осязанием. Запахи, ароматы, легкость, тяжесть, жара, холод и мало ли что еще. Всей кожей он ощущает новизну окружающей среды и все–таки никуда не двигается. Как не почувствовать разочарование, вернувшись? Константинополь, где твоя поэзия? Африка, где тайны? Туристу приходится искать и находить какие–то особые магические действа, которые произведут на него впечатление и дадут понять, что находится он очень и очень далеко. Хотя рядом с ним мир не менее волшебный и таинственный, чем мир искусников–факиров, но он за ледяной тончайшей и непреодолимой пленкой. Если примешь без спора новые условности, тогда ты войдешь в него. Тогда ощутишь то глубинное обновление, которое избавит тебя наконец от ветхого человека, потому что путешествие осуществляется не в пространстве, оно осуществляется в самом себе. Но иногда и туристу удается стать странником, например, Жиду в Конго. Особый род человеческой чуткости позволил ему усвоить суть закона каст, который сродни чувству сословного достоинства в Европе, и путешествовал он, уже оснащенный необходимым языком условностей. Приведу несколько примеров из своего раннего детства. Мне было тогда лет шесть или восемь. Нас было пятеро братьев и сестер, и мы играли только в те игры [60], которые придумывали сами, и очень дорожили ими. Я вспоминаю наш маленький мирок с самым живым чувством, ощущаю его в себе как след невозвратимо ушедшей культуры, благодаря которой прожил свой восемнадцатый пек, где было так сладко жить, но его никогда не вернуть, ключ к былому общению с миром утрачен навсегда. Мир общается с нами неизбежно грубо. Но наш собственный ум способен переустроить и его. У наших игр были названия. Я помню некоторые из них: «Шевалье Аклен», «Колдунья». И вот в чем было их особое очарованье, вот что держало нас так долго, задержавшись даже в памяти. В «Шевалье Аклена» мы играли в парке большого имения. Играли только в определенный час, вернее, минуты, когда после знойного душного дня наконец нависала гроза, когда парк сотрясал первый порыв холодного предгрозового ветра. Кончалась наша игра с первыми каплями дождя. Правила игры были очень сложными, мы должны были очень быстро бегать, с каждым мгновеньем все быстрее, потому что, помимо выполнения разных заданий, в игре был еще и мистический смысл: наши взаимоотношения с приближающейся грозой, радость, умещающаяся всего в несколько минут, развязка, которую мы ждали с замиранием сердца, она знаменовалась первыми каплями дождя, что падали на наши разгоряченные, мокрые от пота щеки, мгновенно успокаивая нас. В «Колдунью» мы играли на огромном чердаке и только во время ливней, когда дождь барабанил со всех сил по крыше и вода текла потоками по оконным стеклам. Ливень усиливал ощущение уюта, сухости и тепла на нашем чердаке, а зыбкий зеленоватый, почти что подводный свет придавал старым балкам, висящей паутине, сваленному в беспорядке старью необходимую таинственность. И этой игре придавал особую прелесть внезапный конец — первый проблеск синевы, луч солнца обрывал ее, делал невозможной, несуществующей) потому что нам немедленно было нужно бежать в парк и играть там в игры, которые играются только в парке, только после дождя, когда с листьев еще падают капли. Но солнце уже светит вовсю, и трава кажется нестерпимо зеленой, сверкающей, чуть ли не прозрачной. «Колдунья» была игрой неторопливой и всякий раз новой. Состояла она в придумывании разных персонажей, которым мы давали разные имена… Я знаю, что наши игры рождались благодаря внешним принуждениям. Как только начинался дождь, нас загоняли в дом под крышу; как только показывалось солнце, нас выставляли с любимого чердака, потому что дети должны дышать свежим воздухом. По именно эти внешние принуждения, распорядок, который нельзя было отменить, вынуждал нас продолжать игру и мысленно, позволяя вступить в общение, очеловечить и грозовой ветер, и озон, и тяжелые, набухшие дождем ветки. Мы были вынуждены их очеловечить. Вез внешних принуждений подобные отношения не возникли бы. Эти принуждения помогали нам жить особой жизнью. А теперь, когда я, взрослый человек, думаю о грозе, о солнечной погоде, о необходимости подняться на чердак, во мне возникают только зрительные, слуховые или тактильные ощущения, по они не имеют никакого продолжения и тут же исчезают, так как их не подкрепляет никакая внутренняя умственная работа. Но бывает, что свежий запах озона или черные громады туч и трепещущая листва деревьев неожиданно напомнят мне о «Шевалье Аклепо», вернут в детство, и я, подчинившись на миг забытым законам–правилам, вновь становлюсь жителем забытой цивилизации, с печалью ощутив ее глубинную человечность [61]. Я хотел бы рассмотреть и другой пример, взятый уже из моей профессии: скука в полете. Если я лечу как пассажир, то очень скоро принимаюсь зевать. Пейзажи, которые разворачивает передо мной Испания Во время пути от Тулузы до Касабланки, не имеют для меня большого значения. Я имею в виду, что они никак не воздействуют на мою внутреннюю жизнь, она от них не зависит и никак не меняется. Отсутствие значимых точек, крупных планов, слишком яркое солнце — все делает полет монотонным. Но стоит мне перестать быть пассажиром и вести самолет в качестве пилота, мне не до скуки. И не в том дело, что мне приходится работать руками, я привык и многое делаю механически. Дело и не в ответственности — охранник порохового склада может невыносимо скучать, — дело в том, что между мной и пейзажем внизу начинают работать отлаженные связи, и все вокруг приобретает для меня значение. Начинает действовать так называемая небесная топография, куда более значимая, чем земная, но куда менее явная, зачастую опирающаяся лишь на признаки. Белая полоса на море в этом месте говорит, что подует такой–то ветер, который на такой–то вот высоте сулит такую вот погоду. А вот эта темная масса внизу свидетельствует о новой стратегической задаче, знаменуя трехмерное пространство, куда предстоит войти. Этот ветер будет меня поднимать, этот тормозить, а в сумерках я смогу определить по виду крепости, исчезнет ли горизонт или, наоборот, будет виден совершенно отчетливо. Так жестокая необходимость заставляет весь мир говорить со мной и наполняет мою жизнь смыслом. Работая в компании Аэропосталь, я летал на пиши Касабланка — Дакар. Летали мы тогда над враждебной нам Сахарой. Летали на старых «бреге» четырнадцатой модели, производства 1916 года, с весьма ненадежными моторами. Страхуясь на случай поломки, мы летали группами по два самолета. Если один аппарат терпел аварию и падал вниз, второй экипаж спасал его от воинственных мавров. Случалось, что, не найдя подходящей площадки для посадки, терпел аварию и сопровождающий самолет, и тогда летчиков убивали или брали в плен, и они ждали, всматриваясь долгие дни в пустое небо, зная, что где–то там, в этом синем океане, уже движется самолет, отправленный на их поиски. Я уверен: спроси любого из моих товарищей, которые хоть немного, но летали в те времена, какой период в своей жизни кажется им лучшим, они назовут именно то давнее время, потому что тысячи нитей связывали тогда пилота с землей, потому что тогда были значимы даже малейшие детали. (Например, клочки скудной травы в Сахаре свидетельствовали, что здесь прошел дождь, а еще, что скорее всего именно здесь и находятся кочевники со своими верблюдами и, конечно же, ружьями.) Что может быть однообразнее пустыни Сахары? Но условия, в которых мы летали, устанавливали с этой пустыней такие мощные, такие разнообразные связи, что наша внутренняя жизнь становилась несоизмеримо богаче. Возьмем, например, песок. Так ли уж сильно меняется его цвет? Но когда мотор у тебя может отказать в любую секунду, ты все время помнишь о возможной посадке и пристально следишь за песчаными полосами внизу. Малейшее изменение цвета говорит тебе о состоянии песка: сухой он или влажный, тверд или зыбуч. Как важны были для нас эти оттенки, как они были зримы. Все описанное мной можно выразить одной фразой: «Ненадежный мотор делает Сахару нескучной». Хочу подчеркнуть два пункта. Выведенная мной аксиома, которая для меня неоспорима, вовсе не означает, что ненадежные моторы лучше надежных. Все мы без колебаний выбрали бы хороший мотор. Мы все были против плохих моторов. Но вот тут–то и кроется главная проблема. Ведь я, уже все понимая, все–таки, ни секунды не колеблясь, выбираю надежный мотор, хотя знаю, что ненадежный доставлял мне больше радости, напрягая меня до крайности, делая мою внутреннюю жизнь необычайно интенсивной. Это первое. И второе. Я подчеркиваю, речь идет не о приобретении знаний, хотя само собой разумеется, что необходимость, которая заставляет летчика внимательно наблюдать за песком, увеличивает его знания о песке. Теперешние летчики не знают о песке и десятой доли того, что знали мы, но знания сами по себе нейтральны и не обладают психологическим воздействием. Воздействуют на внутреннюю жизнь внешние принуждения, произвольные и неоспоримые. Несмотря на все мои познания о песке, если я смотрю на него сегодня, я скучаю. Еще один фактор: мавры. Мы покидали крепости испанцев и отправлялись пить чай в шатры к тем разбойникам, которых сумели приручить. Сидя в этих шатрах, я чувствовал себя счастливым. До чего ослепительно сверкал песок у входа и как тяжело нависала вылинявшая синева неба. Шатер создавал тень, и в этой тени выделялись пестрые халаты, смуглые лица и блики света от медных подносов и чайников [62].Мы были чужими и поэтому должны были соблюдать местные обычаи, и мы разувались у входа, чтобы войти в шатер. Завтра братья этих людей могли взять кого–то из нас в плен, и поэтому мы должны были вникать во все, что у них происходило, — выслушивать истории о кровной мести, об отношениях с рабами. Понемногу участвовать в их жизни. И участвуя, ощущали себя счастливыми, потому что менялись и молодели. Человека живит жажда омоложения. Она питает упование на жизнь вечную, на воскрешение во плоти, о нем мечтал Фауст. Все мечтают обновиться. Мечтает омолодиться и путешественник, он сидит в каюте корабля, ощущает вибрации двигателей, надеется и ждет, когда в нем начнется глубинное обновление [63]. Два года тому назад, вернувшись из Южной Америки, я, храня счастливые воспоминания о полетах с почтой, снова попросился на линию Касабланка — Дакар. Так явственно жило во мне ощущение этой надежды, растворенной в воздухе и неведомо почему бывшей главным нервом нашей жизни. Мы словно бы соприкасались с особым магическим миром. (Туристу никогда с ним не соприкоснуться.) С двумя моими товарищами, Гийоме и Ригелем, я потерпел аварию и провел ночь в Мавритании, в маленьком форте, откуда старик–сержант с отрядом из пятнадцати сенегальцев наблюдал за пустыней, как наблюдают с маяка за морем. Мы провели эту ночь, сидя на башне, опустив ноги в пустоту безграничной пустыни. В этой бескрайности таился язык, знакомый морякам, и я потихоньку начал постигать его. И вдруг ночь перерезал вой одинокого шакала, — нота, знак, разом открывший нам, как далек от нас горизонт и как нежданно то, что мы можем встретить, сидя в ожидании неведомого [64]. В зыбком мраке ночи казалось, что воют даже волны песка. Я сохранил живую память об этой жизни, мы тогда постоянно говорили о чуде, по–другому никак не назовешь этого ощущения — ощущения близкого чуда, близкой дружбы, чего–то неведомого, идущего из пустыни [65]. Я помню, как приземлялся на плато Рио дель Оро. На площадки этих усеченных конусов с такими отвесными склонами, что до них не добирался не только ни один европеец, но ни один человек вообще, и только ветры миллионы веков подряд выветривали горные вершины. Поверхность этих выветренных гор была всегда [нрзб.] и однородна, и тянулась иной раз на сотни километров. Она была гладкой, совершенно гладкой, без малейшей неровности и сложена из крошечных ракушек, без единой травинки, без единого камешка. Слой ракушек достигал трех сотен метров, и по мере того, как мы спускались к подножию плато — а такое иной раз бывало возможно, по причине разлома, — ракушки, становясь все древнее и хрупче, крепче спаивались и внизу превращались в камень, в котором мы, не будучи геологами, уже не различали никаких ракушек. И вот это девственное, гладкое, будто скатерть, плато, обращенное к звездам, не знавшее ни следов зверей, ни следов человека, наполняло меня ощущением пространственной, небывалой тишины. И еще значимости отдельной личной судьбы, потому что человек на нем ощущает себя особой ценностью, которую словно бы достали из породы, единственной, под взглядами звезд на этом голом нетронутом полотне — полной противоположности густому лесу или болоту, в которых напор жизни лишает человека веры в себя, веры в собственные мысли. Здесь он отдален от тягостной родственности, где ощущает себя только ячейкой. Ночью на плато в одиночестве среди каменного холода под холодным светом звезд так явственно чувствуешь свое тепло и свои мысли. В этом случае тоже можно сказать об оболванивании, о фаршировке мозгов — на это я и отвечаю: да, условности, благодаря которым я испытываю все эти чувства, были мне навязаны, пришли ко мне извне [66]. Язык условностей заставил пережить меня все эти чувства — и в самом деле можно сказать, что фаршировка мозгов имела место, — но! — я повторю: не будь у нас этого языка, мы бы вообще ничего не почувствовали. И вот что я еще помню: не только удивительные алтари, на которых мы вдруг оказывались, не только редкостный песок, который мы пересыпали в руках и который казался нам дороже золотого и радовал, будто драгоценное сокровище, обрадовало меня и сравнение, которое пришло мне в голову после первой прогулки, оживив фантазии и мечты: полотно, расстеленное под звездами. Я тогда видел другое полотно — на траве, под яблонями, ожидающее зрелых яблок. Сколько бы ни лежало оно, ничего из окружающего не касалось его, ни кусты, ни цветы, ни земля, ни кротовые кучки, — только спелые яблоки. И вдруг я споткнулся о камень — это–то на спрессованных ракушках высотой в триста метров, — и камень показался мне дороже алмаза. Я взял его в руки. Он был черным, походил на металл, со странной поверхностью, похожей на застывшую лаву. Я поднял голову, чтобы посмотреть, что за яблоня роняет такие камни, — стояла ночь, сияли звезды, и я мгновенно, без малейшего усилия понял, что в руках у меня аэролит, подтверждал это и ракушечник толщиной в триста метров под моими ногами. Тысячи тонн спрессованных документов подтверждали, что этот единственный небольшой камешек был заблудившейся звездой, которая погасла. И конечно, я сразу подумал, что под этой небесной яблоней должны быть и еще яблоки. И тут же отправился на поиски. Сердце у меня замирало в предвкушений чудес, и я в самом деле нашел сначала один, он был более квадратным, потом, на расстоянии метра от него, второй, а потом и третий. И вот о чем еще мне сказали мои находки — на полотно, которое собирало все падающие яблоки, за миллионы и миллионы лет упало всею четыре, свидетельствуя, как скудны звездные дожди, как скупы небесные колодцы. И вот под этими звездами, на песке, казавшемся в лунном свете снегом, я так остро чувствовал свое одиночество, и не менее остро то, что я жив — тепло своего, тела, биение своего сердца (жизнь возникла как чудо, она появилась на земле и т. д… а следом и мысль) [67]. * * * Итак я вернулся из Южной Америки и в один прекрасный день поднялся в воздух в Касабланке, чтобы лететь в Дакар. После недели полетов я понял, — хоть и не мог догадаться почему, — что здесь я ничего не найду, что искать обновление мне придется в другом месте, потому что ни Мавритания, ни Сенегал мне не помогут. Они больше не брали меня за живое [68]… Мало–помалу я понял, в чем дело. Я жил в Южной Америке, следовал там обычаям то Бразилии, то Патагонии, вникал в разные местные сложности, в тысячи особенностей разных человеческих семейств, и теперь мне не так–то было легко ощущать истории моих мавров под шатрами как единственно важные; вражда к племени Аит Туеса уже не открывала мне тайн ислама, мне стало трудно принять их сторону и все правила их игры. Глядя на эту вражду, я вспоминал ссоры дворников в Лон–ле–Сонье или в Карпентра и ничего не мог с собой поделать. Множество людей жили совсем по–другому, и забыть об этом я не мог. Хотя всегда знал, что этот племенной мирок, его замкнутая вечность, его чувства столь же значимы, как мирок преподавателей Коллеж де Франс и их интеллектуальные интересы. Дело было не в том, что я сравнивал две цивилизации между собой, а в том, что, опираясь и на ту, и на другую, уже не мог погрузиться в одну из них, как в единственно существующую. И если в шатре пахло грозой, и люди с трудом сдерживали бушевавший в них гнев из–за того, что Мурад выпил вина, я уже не мог гневаться вместе с ними. Я отвергал их правила игры. Но не из высокомерия, а из–за недостатка гибкости, из–за того, что все имело вкус подогретой пищи: нельзя уезжать, а потом возвращаться. Когда ты попадаешь в новый для тебя мир, ты жадно осваиваешь его особенности, следуешь условностям, увлеченный неведомым, но повторять все по второму разу — значит играть комедию, и все это ощущают. Я чувствовал ту печальную безнадежность, которую может ощутить лесной брат, который привык обороняться против зверей, против людей или управлять большой провинцией, но вот приехал погостить во Францию и видит свою родню, которая недовольна легкомыслием соседа но площадке или модой выщипывать брови. Дело не в том, что кто–то из них не прав, дело в том, что они говорят на разных языках. И если у лесного брата не достанет смирения, которое позволяет принять чужой мир, он на следующий же день с отвращением уедет обратно в джунгли. Со мной происходило обратное, но по той же причине. Мир ощущался мной как абстракция, а во мне работало одно измерение — изучение, которое дает примерно столько же чувств и возможностей для внутренней жизни, сколько и словарь, — общаться с миром в качестве туриста значит прогуливать свои финансовые затруднения, недовольство любовницей и хронический ревматизм по восточному базару, а не по лесу. (Изучение тоже дает возможность испытать эмоции, но не само но себе, а тем, как организован его процесс.) Я не говорю здесь о туристе, который меняет спальные вагоны, останавливается в роскошных отелях и проводит вечера с соотечественниками за стаканчиком виски и священнодействием бриджа, кто получает от путешествия примерно столько же, сколько зритель документальных фильмов, — я говорю о настоящем туристе, вполне возможно, бедном, он едет туда, где в самом деле нужно побывать, ночует там, где все ночуют, и его вместе со всеми кусают блохи, помогая ему почувствовать себя одним из тех, среди которых он путешествует. Но если он продолжает жить по своим правилам, убивает блох, а не отпускает их, и чтит законы семьи, он поддерживает тончайшую, но герметичную ледяную перегородку, которая разделяет ЭТИ миры. Он тоже не путешествует, если путешествие понимать как обновление. Но вполне возможно, он привезет из путешествия более яркие фантазии, а балансируя на двух разных точках зрения, увидит смешным то, что до этого его не смешило, увидит особую выразительность в зрелищах, которые придутся ему по вкусу, хотя эта выразительность будет плодом игры слов, плодом мнимых отношений между разными точками зрения. Я не хочу сказать, что мне кажется, будто обычному туристу легче, чем туристу из спальных вагонов, наладить общение с новым миром, но ему в силу необходимости предоставлено больше возможности принять чужие условности, потому что, находясь в более тесном общении, он будет испытывать неудобство, не приняв их. В глубине души он может с ними не соглашаться, но, следуя им, даже внутренне отвергая, человек все равно приобретает новое качество. Ум тут ни при чем. Так ребенок, получив пощечину, может открыть в себе чувство собственного достоинства. Нарываясь на удары, он постигает иное измерение [69]. И вот, если я из–за тумана вынужден был лететь очень низко и мавры стреляли в меня, я не испытывал к маврам ровно никаких чувств. Мавры пребывали для меня абстракцией. Из опыта я знал, что сухие щелчки выстрелов сопровождают самолет, мавры уменьшались до сухих щелчков. Никаких движений души или сердца не возникало по этому поводу. Но вот однажды ночью я почувствовал необычайное счастье…Пилот
Я назвал свою лекцию «Пилот» вовсе не потому, что хочу посвятить ее особенностям своего ремесла. Речь пойдет совсем не об умении управлять самолетом. Воздушная стратегия интересна разве что профессионалам. Не буду я пересказывать всякие истории, случающиеся в полетах. Не буду описывать Рио–де–Жанейро в лучах закатного солнца. Украшать, расцвечивая зеленым, синим и розовым, воздушные пейзажи, на деле весьма однообразные. То главное, чему учит самолет человека, который сделал его своим ремеслом, нельзя передать набором почтовых открыток или учебником управления мотором. И это естественно. Не передашь, что такое Африка, историями о сафари. * * * Все вы, я думаю, так или иначе путешествовали. Многих из вас путешествия, вполне возможно, разочаровали. Моран, например, скорее всего в шутку пожаловался, что никак не может уехать достаточно далеко, назвав свою книгу «Всюду земля». И действительно, в наши времена нетрудно вернуться обратно, куда бы мы ни уехали. Но если путешествие вас разочаровало, то, значит, вы хотели уехать как можно дальше от самого себя и понадеялись на дальние страны. Когда вы сидите на террасе кафе на Бульварах и воображаете себя в Китае, вы ощущаете его дальность во всей полноте. Но переместившись в Китай по–настоящему, вы перевезете туда свои привычки, понимания и взгляды, ревматизм, если им страдаете, и уже не будете чувствовать, что уехали так уж далеко. Вы ждали от путешествия омоложения, но не омолодились. Надеялись на ощущения, которые испытывали в детстве, на ту эмоциональную сосредоточенность, с какой ребенок вбирает в себя окружающий мир, но, повзрослев, вы закрылись и воспринимаете окружающее всего–навсего как зрелище. Вы откликаетесь на экзотику, а она враг истинного путешествия, потому что удивляет отличием чужого уклада от вашего собственного, а вечно новое мы постигаем, лишь вникнув в чуждое. Если бы вы приняли чужой уклад, подчинились ему, были бы вынуждены следовать чуждым обычаям, если бы […] Путешествуют не в пространстве, путешествуют внутри самих себя. Новое место чарует нас в той мере, в какой обновляет нас. Ни чувства, ни краски, ни сердце не обладают больше возможностью изменить нас. Вникнуть в жизнь чужой страны означает постепенно поддаться изменению, которое она тебе навязывает, начать по–иному думать и чувствовать, родившись таким образом во второй раз. Подобное мощное омоложение и влечет к себе человека. Чувствуя эту возможность, он пускается в путь. Ждет от путешествия многого, а получает мало. Возвращается и говорит, что Азия его разочаровала. Он считает, что побывал в Азии, а на деле посмотрел страну, как смотрят документальный фильм. Хотя в просмотре участвовали и чувства. Он ощущал вкус и запах, а не только зрение и слух, как в кино. И все–таки путешествия не случилось, был просмотр. Потому что путешествует тот, кто осваивает новый язык, а не присутствует на спектакле. Всякий раз, когда я начинаю думать о путешествиях, мне вспоминается одно и то же. Однажды я сидел в баре. Было около двух часов ночи, и никого, кроме меня, там не было. Я позабыл бы, что путешествую, если бы не тихий плеск моря, что тихо толкалось в борт корабля, не вентилятор с большими лопастями, что тихо жужжал у меня над головой своеобразным символом неизбежности. Бармен читал. Тишину не оттеняли ни шорох шагов, ни шепот. Ни одно дуновение ее не тревожило, хотя целых четыре двери бара смотрели в темноту, в ее тяжелый душный бархат. Ни единого звука, и только вдалеке негромкое бульканье моря, похожее на бульканье самовара. Я зевнул. Подумал, что пора идти в каюту, и потянулся, прислонившись затылком к деревянной обшивке. Вдруг всем телом я ощутил вибрацию турбин. И в ту же секунду передо мной словно бы предстала подспудная работа двигателей, скоростное вращение роторов, топка, жадно пожирающая мазут. А море было так спокойно, так лениво, что мне очень трудно было поверить, что нужно такое немыслимое количество усилий, чтобы превозмочь это море и эту ночь. Мне показалось, что главная цель этих усилий именно вибрация, похожая на биение сердца, которая оживляет металл, деревянную палубу, обшивку, наполняя их таинственной жизнью. Мне показалось, что работает тело корабля, что оно только на поверхностный взгляд неподвижно, а на самом деле в постоянном изменении, молодеет или стареет. II немыслимое количество усилий тратится, чтобы одолеть что–то несравненно более серьезное, чем ночь или море. Я встал, вышел на палубу, оперся руками о решетку. Корабль казался недвижимым, потерявшись во тьме, что обняла океан. Передо мной не было ничего, кроме темноты, и мне нечем было обновить свой багаж воспоминаний — ни запаха, ни звука, ни цвета. Я не понимал, чего я собственно жду и что ждет меня — разочарование или неожиданность, когда спустя две недели мы причалим к берегу. Но вибрация передавалась мне через планки палубы, пронизывала меня насквозь, настаивая, что я уже не тот, каким был, что я в пути. Граница неведомого мира, к которому, отправляясь в путешествие, ты стремишься, все отодвигается от тебя, и, путешествуя, ты никак не можешь ее перейти, но я чудом пересек ее. И мне было уже неважно, что ждет меня за причалом, материя мира вокруг меня обновилась. * * * Полет начался трудным взлетом, а взлетал я в десять вечера из Сент–Этьена. У меня есть две возможности передать вам эти трудности: первая не ставит никаких литературных задач и состоит в том, чтобы дать достаточно сведений, которые позволят вам почувствовать себя на моем месте. Сейчас я попробую это сделать. Я взлетал в абсолютной темноте, не видя горизонта, дул ветер с песком, впереди находились песчаные дюны высотой метров в двадцать. Самолет был полностью загружен, и его было трудно поднять по следующим причинам: с малым углом подъема я бы врезался в дюны, с большим — самолет, потеряв скорость, упал бы на землю. Чем больше загрузка самолета, тем точнее должен быть угол подъема. Не видя горизонта, не видя земли, я понятия не имел, под каким углом взлетаю. Все физические ощущения на самолете обманчивы (об этом мне придется еще говорить). С другой стороны, все данные о скорости, угле подъема, крене, центробежной силе виража тут же появлялись на приборной доске, и я мог оторваться от земли, найдя правильный угол но отношению к искусственному горизонту. Когда вокруг полная тьма, ощущение движения исчезает, и вы отрываетесь от земли в полной «неподвижности». Происходящее не связывается со скоростью, которую увеличиваешь, с препятствиями, которые преодолеваешь (чтобы передать вам это ощущение, не прибегая к образам, нет другого способа, кроме как посадить вас управлять самолетом ночью). По мере того, как возрастала скорость (я фиксировал возрастание бегущими секундами), нажиму моих рук на рычаги управления самолет отвечал изменением амплитуды. И… И я не передал вам пока и сотой части того, что вам нужно знать, чтобы оказаться на моем месте, и я спокойно мог бы вам сказать: и вот произошло то–то, а затем то–то. Но если бы я и сумел передать вам все необходимые сведения, возникла бы не одна стилевая неувязка. Во–первых, курс вождения самолета очень утяжелил бы книгу в целом, а любителям технических сведений все равно было бы предпочтительнее изучить все–таки руководство, изложенное четким специальным языком. Во–вторых, технические сведения не дают возможности передавать драматизм событий — мгновенное обжигающее ощущение потребует многословного описания, зато затяжной процесс уложится в несколько коротких слов. Такое изложение не увлечет вас, вы ничего не почувствуете. И по сути, главного я вам не передам. Главное вовсе не в передвижении рукояток, не в следовании технике действий, а в том, что происходит со мной. История, которой я всерьез хочу с вами поделиться, моя личная история. Ведь даже если бы мне удалось, благодаря всем специальным сведениям, посадить вас на свое место, вы вряд ли бы что–то почувствовали, вы оказались бы в середине муляжа, в мертвом музее Гревен. Мои ощущения мгновенны, я не успеваю облечь их в слова. Слишком они глубинны, слишком личностны. А если вдруг у меня в мозгу возникают некие соответствия, не важно — технического характера или нет, они не имеют отношения к самолету. Обычно возникает картинка, образ. И этот образ, не важно, с чем связанный, передает самое существенное. Я уверен, что эта сущность требует именно этого образа, зато суть воспоминания во сне может быть передана десятью самыми разными символическими картинками. Если мне снится весло, значит, мои мускулы определенным образом напряглись и вспомнили некое напряжение, сходное с тем, какое необходимо при взмахе весла. Часть, общая для реальности и для символического образа, и есть самая действенная, она затронула мою чувствительность, она способна воздействовать на мой темперамент, она свидетельствует о свойственной мне внутренней жизни, а не о наборе абстрактных идей, она запечатлелась во мне явственнее, чем событие как таковое. И если случится так, что этот образ окажется для вас понятнее, чем реальность техники, если он войдет в соответствие с вашим внутренним опытом, то он и будет лучшим передатчиком, переводчиком. Разве нет? Эти образы вовсе не литература. У самого необразованного из пилотов в трудный для него миг может возникнуть образ, точно так же непроизвольно, как ему снятся сны. Образ будет мыслью его тела, более подлинной, чем слова. Благодаря образу я передаю вам личностную особенность моих ощущений, то, что произвел именно мой организм, а не то, что в теории я мог бы почувствовать. Если с наступлением сумерек я проникаюсь особой нежностью к деревням внизу, то происходит это по причине оптики, о которой вы не имеете понятия и объясняя которую я вас сейчас утомлю: дело вот в чем — вечером тени удлиняются, и каждый предмет, ограниченный тенью, видится более отчетливо. С высоты при ярком дневном свете земля кажется серой, зато к вечеру все вновь обретает краски. Согласитесь, зеленая равнина больше схожа с равниной, деревня с красными крышами больше деревня. Вместе с тем мелкиеподробности стираются, пейзаж обретает порядок, которого днем в нем не было. Без мелочей все выглядит значительнее, а став значительным, обретает и особый смысл: дом — это дом всерьез. Продолжая свои объяснения, я могу рассуждать еще очень долго и занять своими рассуждениями целых десять страниц. Но суть пережитого — нежность, что окутала мир облаком, сквозь которое по–иному видится жизнь. И если вы тоже растрогались, я рад, потому что хотел, чтобы и вы ощутили ту же нежность. Передать ее мог бы и другой образ, таящий в себе ту же суть. Ведь на самом деле я не хочу обсуждать с вами особенности оптики, не хочу толковать о деревне, я хочу вас растрогать, хочу поделиться ощущением наступающих сумерек во время полета и сделать это как можно живее. И когда я рассказываю о взлете, я ведь тоже хочу поделиться своими ощущениями. Итак, я продвигался вперед, но движения не чувствовал и судил о нем косвенно, лишь по отвлеченным значкам, и мне казалось, я пребываю в неподвижности. Однако время от времени самолет, набирая скорость, вздрагивал все сильнее и сильнее, и тогда я ощущал, будто металлическая масса вокруг меня изменялась и обретала собственные возможности. Неосторожной попытке моих рук ускорить движение самолет ответил бы на пятой секунде слабым подпрыгиванием, на десятой прыжком повыше, а на пятнадцатой капотажем, его скорость к этому времени равнялась бы ста двадцати пяти км в час, и он бы разбился. Но я не думал ни о скорости, ни о прыжках, ни о капотаже, с каждой секундой во мне росла мощь внутреннего напряжения, которое передавалось моим рукам, и они словно бы заряжались от электрического конденсатора; мне казалось, будто я формирую взрывчатое вещество, и, по мере того как сжатие увеличивалось с каждой секундой, и приборы на доске словно бы сообщали мне, как идет химическая реакция, управлять ими нужно было все более и более бережно. Поначалу все шло как обычно. Мы часто взлетаем в темноте, и наработанный опыт помогает чувствовать себя вполне комфортно. Но внезапно лампа, которая освещала левую часть доски приборов, перегорела, а я еще не оторвался от земли. С этого мига у меня оставались только руки, которые должны были все понимать и в которых сосредоточилась вся моя жизнь. Вот тогда–то я и почувствовал, что готовлю взрывчатое вещество. Это не было сравнением, именно взрывчатку я и готовил. Главным событием, которым я хотел поделиться, был мой отрыв от земли. И я мог бы сразу передавать вам свои ощущения, обойдясь без технических деталей. Я ничего бы не исказил: в ночной темноте для меня все вот так и происходило, это была сама правда, явственная, неоспоримая. Таким был первый возникший у меня образ. Разумеется, приблизительный, может быть, не слишком удачный. Любой образ можно отбросить, не потому что в нем чего–то не хватает, в нем хватает всего, но потому что в нем, кроме необходимого, есть и лишнее. Успешно взлетев, я все–таки опасался дюн, хотя понимал, как держать самолет под тем углом, который выбрал и который мог оказаться вполне удачным. Я поднял голову и заметил над собой несколько слабо светящихся звезд, остальные загораживала песчаная [гора]. Звезды я сделал своими ориентирами. Одну старался удержать справа от стойки на капоте, другую у верхнего крыла слева. Песчаная гора пыталась заслонить их тоже, болтанка заводила их за крылья. Невероятных усилий стоило мне удерживать их на месте, а значит, удерживать и самолет, сохраняя намеченный курс. Я вдруг показался сам себе гимнастом, который раскачивается на трапеции. В голове у меня зашевелились слова, не в качестве литературного сравнения, а бессознательно, как шевелится что–то с похмелья или со сна: «Я качаюсь на звездных качелях». И как много общего было с цирком — сверкающие огоньки, покачивание, равновесие, которое готов потерять и находишь вновь. Слова несли в себе физическую и зрительную память. Они гораздо правдивее любых технических выкладок о равновесии передавали мое состояние. Однако с литературной точки зрения этот образ был весьма несовершенен. Но не потому, что он книжный, а потому, что требовал от читателя слишком много технических познаний, чтобы он воспринял его как точный. Можно было бы пойти но совсем уж ложной дороге, оставить в покое необходимость соблюдать равновесие и обойтись искусно–искусственной конструкцией, сообщив, что я поднимался все выше и выше по лестнице звезд. Но я такого не люблю. Я продолжал полет, а трудности все множились и множились. Неожиданно отказало радио, а оно мне было очень нужно: как иначе свяжешься с пунктом посадки, крошечным местечком в Сахаре, похожим на плот в океане? Как без радио его найдешь? Если я взял хоть несколько километров в сторону, слабого мерцания огоньков в густой темноте я уже никак не мог заметить. К тому же местечко находилось на оконечности мыса, перелети я мыс, я летел бы уже над морем. Но пока я летел и летел. Должен был бы приземлиться два часа назад, но по–прежнему не замечал внизу ни одного огонька. То ли мой самолет тормозил сильный ветер — не видя земли, я никак не мог судить об этом, — то ли — и это было гораздо вероятнее, [70]— я уже перелетел через пункт своего назначения и вот уже два часа, уменьшая запас горючего, углублялся, сам того не подозревая, в открытое море. Время от времени над горизонтом появлялись спавшие до этого звезды. Не ведаю, по каким оптическим причинам, они были необычайно яркими. И всякий раз я держал курс прямо на них. А они очень быстро исчезали. Мы с наблюдателем обменивались сообщениями, уточняя маршрут. «Проверим, конечно, но мне все же кажется, что это звезда…» Мы плавали в межпланетной пустоте, в пустоте абсолютной, и мне вдруг показалось, что я не смогу отыскать среди еле видных звезд–обманок той единственной, на которую можно приземлиться, нашей обжитой, обитаемой земли. Мысль не была риторической фигурой, не была образом, она отражала реальность, и я мог бы спросить наблюдателя: «А может, земля — вот та звезда справа?» И он бы не засмеялся. Можно счесть мое ощущение банальным или патетическим и выспренним. Можно упрекнуть меня в вычурности (мое ощущение далеко от любых технических данных), в надуманности, заподозрить в претензии на поэтичность, но на деле сказанное передает реальность и ничего больше. Суть реальности. Я имею право пользоваться языком техники — любой техники, — чтобы передать то, что я ощутил. Важно одно: при передаче не должно утратиться то непередаваемое, чем нагрузила меня реальность, мое послание не должно оказаться пустопорожней игрой словами, словами, которые породили слова. Ослепительное слово Морана изничтожает предмет (сейчас я уподобился Морану; вместо «изничтожает» я мог бы сказать «мешает видеть», мысль осталась бы той же, но выражена была бы менее эмоционально. Употребив слово «изничтожает», я прибавил ощущение жестокости, и не просто жестокости, а намеренной, целеустремленной… «мешает видеть» было бы нейтральным выражением. Я мог бы сказать по–другому: «прячет предмет», глагол «прятать» тоже звучит нейтраль но, и не выводит на сцену фокусника с плащом. Но я мог бы вывести и фокусника, если бы захотел, и сделал бы это намеренно. Выводя на сцену фокусника, строит свои образы Моран. Они производят впечатление точности, но это точность зрительной картинки, а не точность передачи предмета или явления). Я ни разу не встречал у Морана сглаженного, незаметного слова, главная забота которого передать смысл происходящего. Моран непременно скажет: «горе грызло ее» вместо «она горевала». У меня есть замечательный пример сдержанности слов перед значимостью того, что они выражают, это последнее четверостишие стихотворения Рене Гиля: (…) как на летучей рыбке и в воздухе соль морская, так в безвременном воспоминании горечь его времени. Здесь мог бы появиться глагол, подразумевающий некий образ, — «храпит», «таит», — который привнес бы нечто постороннее, какое–то дополнительное движение, и если бы это движение было бы достаточно ощутимым, оно бы заслонило то, что поэт хотел передать. И если мне захочется показать вам картинки, чья роль мне не совсем ясна, я открою наугад «Льюиса и Ирен» Морана и прочитаю вам: 1. «на бегу (…) под струящимся стягом слов: надо бы». 2. «постараться пробить ту кору, которой сковывают наши учреждения молодежь». 3. Ирен застыла, услышав последнюю фразу. 4. Учреждения порциями выбрасывают толпы служащих. 5. Автобусное желе… Каждая страница каждой его книги изобилует дополнительными образами. Эту книгу я открыл наугад. Всякий раз некая конкретность замещается неким символом, символ часто тоже материален и обладает своей собственной конкретикой: 1. военной, 2. кулинарной, 3. из области механики, 4. гидравлики, 5. химии. Но если сравнение взято не из языка техники, который передает конкретикой термина сложные, но органичные для этой сферы понятия, то в тексте возникают искажения и потери. Искажения, потому что я хотел, но не передал самое общее, самое обыкновенное, самое существенное в явлении транспортной пробки. Искажения, потому что я ввел элементы, чужеродные пробке, и вы должны будете выправить эти искажения. Вам придется постоянно быть настороже, и вы либо оглохнете, либо будете слышать страшную какофонию (тягучее, вязкое, желтое, холодное — ничего из того, что относится к желе, не относится к автобусам). Я часто задавался вопросом: какого рода удовольствие получают люди от подобных текстов? Думаю, их радует подобие точности. Но точен только язык техники, слова в нем четки, тверды, не заменяются одно другим, лишены малейшей неопределенности. Читатель находится под обаянием точности, но не замечает, что точна картинка, с какой сравнивается происходящее, впечатляет она, а не то, что происходит на самом деле. И выходит, что существует стиль, но нет основы, фундамента, подоплеки, и этот стиль кажется мне внечеловеческим, поскольку все то, что на самом деле неопределенно, невесомо, колеблемо и меняет тональность, завися от слов, безжалостно растоптано и уничтожено. У меня множество способов передать то, что я задумал передать. Мне может прийти в голову образ «желе» для того, чтобы показать множество независимых частичек, объединившихся в одно целое, образовав вязкую податливую массу. Я могу сравнить с желе и автобусы, которые изначально существуют сами но себе, но, попав в пробку, становятся чем–то однородным, каким–то образом все–таки продвигаясь вперед. Словосочетание «автобусная пробка» передаст то же самое явление, но техническим языком, отчетливо обозначив происходящее. И если для описания автобусной пробки мне понадобилось дополнительное сравнение, значит я хочу передать и еще что–то, совершенно непередаваемое. Хочу передать какую–то подлинность живого ощущения, которое возникло у меня в автобусной пробке, которое, возможно, вернется ко мне во сне, быть может, мне показалось, что я задыхаюсь, и теперь я ищу для моего переживания подходящий образ. Глядя на все прибывающие машины, я могу с тоской представить себе прибывающую воду прилива. Может мне прийти в голову и образ ребуса (царящая вокруг неразбериха, которой необходимо найти решение), но ничто меня не натолкнет на воспоминание о желе. Связь желе и пробки чисто умозрительная. Ее основа — аналогия между значками, но реальной основы под ней нет. Мы можем совмещать любые значки, но не получим никакого прибытка от совмещения. При такой стилевой прихотливости фразам трудно взаимодействовать между собой. Они обособлены, как маленькие отдельно стоящие крепости. В таком тексте никогда не возникнуть лиризму, который, если мнение мое справедливо, есть эхо, которым отзывается фраза на фразу. Необходимую слитность тексту придают не идеи, не образы, не цепочки событий, а то единство ощущения, которое порождает образы. А образы, пусть самые разнородные, продлевают и множат действие. Стиль, в котором образы только словесные, обрывает текст на каждом шагу. * * * Образ, по–моему, что–то вроде транспортного средства и может повезти нас в две совершенно противоположные стороны, может в обобщенной форме, под фальшивой личиной довести до нас подлинность того, что хочет передать автор, или увести куда–то, сосредоточив на картинке, как это случается у Морана или в рассуждениях Морраса. В первом случае образ помогает сделать очевидным некое переживание или впечатление (в противовес реальному миру), во втором — сосредотачивает внимание на процессе сравнения. Поскольку в основе образности лежат разные типы чувствительности (у Морраса, например, образы едва заметны, скромны, часто строятся на метафорическом употреблении глагола и гораздо реже на сравнении), То мы не замечаем, что формирует их одинаковое движение мысли. Я вспоминаю одну статью из «Аксьон франсез» — воистину шедевр, — в которой «поток событий» предательски повлек за собой географические термины вроде «водораздела», «паводка» и других, но они только замедлили восприятие сути статьи, так как вызывали в воображении природные явления, плохо соотносясь с психологией, ради которой были привлечены. Аналогичный эффект я замечал иной раз и у Валери, построение рассуждения у него напоминает математический трактат, и его выводы по части психологии производят впечатление безупречных, но безупречность относится все–таки к математическим аналогиям, а не к той материи, о которой он трактует. Если привлеченный мной образ (понятие «образ» я употребляю в самом широком смысле) хоть в какой–то мере искажает то, что я стремлюсь передать, я не вижу смысла в этом образе; я не понимаю, как можно частичку истины заменить фальшью, пусть более эффектной на взгляд, но не содержащей и крупицы подлинности. Совсем иное те образы, которые, произвольно выплывая из любой области человеческой деятельности, позволяют донести то непередаваемое, что ты уловил в явлении; в этом случае может понадобиться не просто более яркий, более конкретный, а не отвлеченный глагол, не сравнение, а целое отступление, как это бывает у Жироду, когда он ловит то неуловимое, что таится в атмосфере.Можно верить в людей
Можно верить в людей, пока ты молод, пока мир — создание твоего воображения. Позже неизбежно приходит чувство отвращения, не потому что общество так уж плохо, а потому что ты никак не можешь надеяться, что дело кончится добром. В какой бы системе ты ни оказался, тебя ждет гибель… Человека питает божественность восемнадцатого века, которую сберег маленький городок, замкнувшийся в своих стенах, пастухи, живущие в горах Моро, катакомбы. Юноша, глядящий из своего «испано», как старухи берут из источника воду, далек от них, будто от Китая, но о чем–то догадывается и чувствует себя бедняком. Ни ты, ни я не почувствуем себя счастливыми, если, живя другими условностями, примем участие в их игре. Старинная опера нас не порадует, хотя вряд ли она глупее кино. Но нам не играть больше в ту игру. Не обрести покоя. Разве что признать главной игрой бридж, согласиться, что бридж и есть жизнь, а мы обречены на бессмысленное блуждание между столами, наблюдатели за чужой игрой, зная, что столы служат только карточным играм. И все–таки. Все–таки. Именно так осуществляется поиск истины. И сколько нужно примирить противоречий… Если я пытаюсь создать социальную систему, в которой человек сможет жить благополучнее, в которой техника, которая уже прижилась в мире и не может быть из него изъята, будет спасать его, а не закабалять, то от чего я в первую очередь должен буду отказаться и ради чего — ради электрического подогрева воды и возможности добраться от Парижа до Пекина в три дня? Это главные ценности? Не думаю. Те, кто ратуют за абстрактные будущие поколения, неизбежно сведут к минимуму (по сути, они защищают […] что–то вроде мелкого служащего, который наслаждается рыбной ловлей и фильмами про Бубуля с Мильтоном [71]). По возвращении блудный сын, возможно, скажет себе после стольких пройденных путей, поисков и блужданий, открытий и постижений: вот она, подлинность, потому что здесь я существую и здесь могу рассказать о своих странствиях. И его воспоминания, превратившиеся в мертвый груз знаний, снова обретут краски, исполнятся смыслом, вызовут сочувствие, негодование или зависть — сейчас, а не тогда, когда он был нищим скитальцем. Невозможно быть жалким, если тебя никто не жалеет, богатым, если тебе никто не завидует. Если нет различия в ступенях, нет системы мер, то нет и чувства гордости, ничтожества или всемогущества. Вот что мне показалось самым поучительным в России: обувью богатого француза восхищались, но ей не завидовали. Только вернувшись, блудный сын отправился в скитание, пока он скитался, он жил домом. Вернувшись, он странствует по бескрайнему миру и претерпевает тяготы странствия. Вечером он целует отца, целует мать, желает спокойной ночи ссохшимся тетушкам, которые служили для него незримыми опорами, придавая каждому его поступку смысл, превращая один в скандал, другой в любовь, и отправляется спать. Точно так же переход с одной социальной ступени на другую, от бедности к богатству, ощутим только во время перехода. Но когда он свершился, человек больше не ощущает радости. Пока ты беден, богатство — часть твоей мечты. Но когда ты осуществил мечту… Цель, которая достигнута, всегда оставляет чувство разочарования. Но то молоко, на котором человек вырос, выстраивает его жизнь и придает ей смысл. Отсюда же ненависть к чужакам. Как опасен этот блудный сын, вернувшийся издалека, если рисует дальние страны яркими красками, если не судит о них, исходя из веками установленных правил. «Представьте себе, что в Китае скорее солгут, чем ответят «нет»…», и все покатились со смеху. И ссохшиеся тетушки тоже усмехнулись. Но если он вернулся и молчит, или рассказал о любви с сиамской девушкой не как о насилии, которое допускают иссохшие тетушки для абстрактных стран (они потеряют сознание, если жиголо ущипнет их за ягодицу), но насилие, кровь, резня неотъемлемы от завоевателя, это фон в глубине картины… а он говорит о любви, подразумевая любовь, и сразу становится опасным изгоем, дурным семенем, потому что нет ничего уязвимей, чем система условностей, и ее охраняют с безжалостной жесткостью. Как быстро разлагается общество, стоит допустить в него новый росток! Как опасен апостол! Вся семья — отец, мать, иссохшие тетушки, двоюродный братик, которого нужно уберечь от вредного влияния, идут на приступ, они судят сатира, убийцу, вора и обрекают в нем на смерть чужака. Сжигают книгу. Они не говорят: это преступление заслуживает смерти, они говорят: смертный приговор успокаивает нас, свидетельствуя о чудовищности преступления, выставляя его напоказ, исторгая преступника из нашего тела, позволяя нам и дальше жить мирно в окружении горшков с цветами; симпатизируя экзотике, мы примем и лимон из Азии, но только заключенный в тюрьме горшка, обреченный на бесплодие карточкой с надписью «Лимон, Индокитай», встроив его таким образом в общество. Антропометрия, благодаря которой и лицо убийцы, и лицо сатира обретают свое место, перестав вызывать тревожные сомнения, став вне всякого сомнения лицом убийцы, вора, сатира, опознанными антропометрически, так нужна нам, она позволяет нам жить в покое. Джунглям среди нас не место. «Образчик» — рекомендует нам наклейка. «Образчик» — рекомендует общественное мнение. Образчик фальсификатора и смутьяна, который способен был бы открыть нам странные и неведомые пути. По сути, ненависть к чужаку, что так нам по вкусу, оберегает вовсе не наших девушек — девственных или нет, кто это знает? — а образ девушки, особое мужское чувство перед девственной невинностью и слезы матери в канун свадьбы. Ее, она должна стать женщиной, и становится. Его, он должен почувствовать, что получает с неба звезду. Ничто другое не может дать ему почувствовать, что он получает звезду с неба. Законники позволяют мужчине получить с неба только одну звезду. Лучший из моих друзей говорил мне: «Революции, просыпающееся человечество… Мне кажется ложной не столько решение, сколько проблема: поиск драмы, чтобы выковать в испытаниях человека. Не надо далеко ходить за драмами, они интимнее, незаметнее, они постоянно с нами — болезни, любовь, смерть, деньги. Как насыщена драмами жизнь семьи, которая кажется такой мирной среди зеленеющих виноградников». Так–то оно так… Но в китайских деревнях младенцев отдают свиньям, детей сдают в государственные приюты, и, если ваш лучший друг тонет в Яндзы и кричит, зовя на помощь, вы смотрите, думая про себя, что лучше утонет он, чем вы, и спорите с соседом на несколько монет, утонет он или выплывет. По существу, драмы буржуазной жизни вовсе не главное, общий уклад насыщает их смыслом. Когда три ваших иссохших тетки, незыблемые опоры, и маленький кузен держатся за уклад, они делают это бессознательно, не ради того, чтобы защитить жизнь ребенка, которого вытолкнули на свет, но ради трусов, которые будут улыбаться вокруг колыбели, из гордости, из |якобы] родительского чувства. Защищая царство долгих болезней, которые подчиняют себе весь дом, и больной становится подобием вездесущего бога, его не видно, но он царит повсюду, все говорят шепотом, все ходят на цыпочках. Защищая гудение колоколов, что передают ветру весть о том, что суета человеческая наконец умиротворена. Потому что все, что считали самым главным, на деле оказалось хрупким и уязвимым, и хорошо бы людям постараться с самого начала не искать в жизни драм. Итак, основы. Но что такое пропасть, если нет головокружения?Письма Натали Палей
Предисловие
Семь найденных писем Антуана де Сент–Экзюпери к Натали Палей датируются 1942 годом [72]. В апреле и мае этого года Сент–Экзюпери находился в Монреале по приглашению своего канадского издателя Бернара Валикетта. Он собирался прочитать лекцию о своем участии в войне, отстаивая и защищая против многочисленных полемических выпадов свою любимую мысль: необходимость для Франции быть единой. Предполагалось, что он пробудет в Канаде два дня, и вдруг неполадки с визой грозят ему задержкой чуть ли не на полгода [73]. Хлопоча о визе, Сент–Экзюпери прожил шесть недель в гостинице Виндзор, куда к нему приехала Консуэло, поначалу решившая остаться в Нью–Йорке. Сент–Экзюпери болезненно воспринял свое новое вынужденное изгнание, возникшее на фоне другого, тоже вынужденного, но еще более продолжительного, продлившегося в общей сложности два года. Несмотря на внимание своих французских и американских друзей, несмотря на творческую активность, благодаря которой возникли такие произведения, как «Военный летчик», «Маленький принц», «Письмо заложнику», «Цитадель», несмотря на попечения, ободрения, улыбки, общие воспоминания, пребывание в Америке воспринималось писателем как трагедия [74]. Сент–Экзюпери в Монреале очень нервничает [75], опасаясь, что его не хотят пускать в Америку, но мало этого — его укладывает в постель приступ холецистита, от которого он лечится белладонной. В этой не слишком благополучной обстановке он пишет влюбленные письма Натали Палей. А еще одно письмо пишет позже, уже из Нью–Йорка. Скорее всего, они с Натали были знакомы до американского периода жизни Сент–Экзюпери. Вполне возможно, встреча произошла во время съемок фильма «Южный почтовый» и познакомил их общий друг Пьер Ришар–Вильм [76]. Сложный человек со сложной судьбой, Натали Палей заслуживает того, чтобы о ней было рассказано более подробно. Родилась она в Париже в 1905 году. Ее отцом был великий князь Павел Александрович Романов (1860–1919), матерью — графиня Ольга Валериановна Хохенфельзен (1865–1929). Натали Палей, княгиня из рода Романовых, приходилась внучкой русскому царю Александру II. Судьба то баловала ее счастьем и утонченной роскошью, то преследовала с неумолимой жестокостью. Брак ее родителей был морганатическим, они жили во Франции в изгнании, и детство их детей в особняке в Булони было необыкновенно счастливым. Отец отличался необыкновенной добротой и проводил с детьми очень много времени. Любимыми друзьями была сестра Ирина, с которой в детстве Натали была очень близка, и брат Владимир, которым она безмерно восхищалась. Брат уехал в Россию продолжать образование в Пажеском корпусе. В 1912 году русский царь Николай II распорядился, чтобы его дядя, великий князь Павел, с семьей приготовился к возвращению в Россию. Семья вернулась на родину за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Великий князь и его сын — сын несколько раньше отца — поступили на военную службу. Между тем в стране назревала революция, Распутин все активнее влиял на политику царя [77], недовольство росло. После того как революция произошла, великий князь Павел был арестован (1918 г.). Наталье было тогда тринадцать лет, ее сестре — одиннадцать. Мать сумела переправить дочерей в Финляндию, и сама через несколько дней присоединилась к ним, за эти несколько дней великий князь Павел был расстрелян. Прошло несколько месяцев, и они узнали о гибели Владимира, он был сброшен живым в угольную шахту вместе с другими членами царской семьи. Княгиня Палей с дочерьми, прожив некоторое время в Швеции, в 1920 году вернулась во Францию. Ужасы и страдания войны и революции переживались Натали с тем большей остротой, что до них жизнь протекала в райских кущах среди утонченных радостей и удовольствий. Подобные контрасты будут сопровождать Натали Палей всю жизнь. «В двенадцать лет я носила хлеб отцу, сидевшему в тюрьме. Могла ли я быть такой же, как мои девочки сверстницы? Я всегда молчала, не любила играть. Зато очень много читала. Смерть подошла ко мне совсем близко: был расстрелян отец, брат, кузен, дяди — кровь всех Романовых темными сгустками запеклась на моем отрочестве… Я полюбила все, что источало печаль, полюбила поэзию — ледяное и огненное преддверие смерти. В скором времени я нашла со сверстницами общий язык. Они стали относиться с уважением к моим странностям» [78]. В августе 1927 года Натали Палей вышла замуж за великого кутюрье Люсьена Лелонга и стала причастна мирку моды и богемы, в котором вращались аристократы, артисты и художники [79]. Этот мирок крайностей, утонченного вкуса и полной раскованности, существовавший между двумя войнами, вошел в историю под названием «Café–Socety». Натали не осталась чужда безумствам тех лет, — она олицетворение дома моды Лелонга, она фирменный знак авангардного кутюрье, она божество, обладающее властью соблазнять и завораживать. Она пленяла самых великих людей того времени — как мужчин, так и женщин одинаково — врожденным пристрастием к роскоши, красотой, оттененной грустью, утонченной элегантностью. Ее светская и неброская экстравагантность, артистичная и одновременно интеллектуальная, украшала вечера самых модных салонов и гостиных Парижа, Венеции, Лондона, Сен–Морица, Зальцбурга и Нью–Йорка. Семейный очаг, общественные условности мало интересовали Натали Палей, она любила игру воображения, беседы и свободу. В ней была какая–то особенная прелесть, она завораживала бесхитростностью и простотой: «До обеда в лыжном костюме, с короной золотых кос на голове, она напоминала юного лучника, хрупкого и торжествующего… два часа спустя в пленительном, черном с белым платье — удлиненную, утонченную вазу, которая вот–вот станет совершенством и застынет навсегда» [80]. Трудно теперь сосчитать, сколько статей посвятил ей «Вог», трудно переоценить их влияние на читательниц, трудно забыть художественное нововведение тех лет — фотографии. Анри Жансон, с которым Сент–Экзюпери познакомится несколько лет спустя, сравнит ее с Гретой Гарбо [81], другие с Марлен Дитрих. В те времена мода и кино были союзниками. Таинственное очарование Натали Палей, ее мягкая грация «египетской кошечки» [82]привлекают к ней толпы поклонников, очаровывая таких талантливых и ярких людей, как Серж Лифарь, Поль Моран, Мари–Лор де Ноай, Жан Пату, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Лукино Висконти, Эрих Мария Ремарк и… Антуан де Сент–Экзюпери. Моран, хоть и жалуется, что его «ласкают каленым железом», не может не восхищаться «ее грацией, ее одинокостью» [83]. Любовное приключение с Кокто вознесло их, будто на ковре–самолете, к опиумным облакам, откуда они смотрели на себя будто «с высоты аэроплана», испытывая «возвышенное отравление» [84]. Но связывал Натали и Кокто не опиум, а сродство душ и взаимное восхищение [85]. Натали Палей признавалась: «Жан свел меня с ума своим остроумием и шармом» [86]. «Ты всегда был для меня особенным, необыкновенным, твоя любовь и гений озарили мою жизнь. Остановившись рядом со мной, ты помог мне вырасти и воспитал меня» [87]. Жан Кокто отвечал ей таким же восхищением: «Я переродился целиком и полностью» [88]. «Я тебя обожаю. И это неодолимая сила. Если ты любишь меня — это вторая неодолимая сила. И что тут можно предвидеть? Смешно. Наши звезды позаботятся обо всем, они не хотят, чтобы вмешивались в их работу. Я полон доверия» [89]. Их страстная привязанность породила слух, что Натали ждет от Жана ребенка [90]. Жана Кокто и Антуана де Сент–Экзюпери сближает то, что оба они были страстно влюблены в одних и тех же женщин — Луизу де Вильморен и Натали Палей, светских аристократок, которые стали для них музами–вдохновительницами. Любовь Антуана де Сент–Экзюпери к Натали Палей длилась совсем недолго, но письма к «любимой» полны пронзительного лиризма, свойственного их автору, он колеблется между желанием любить, жаждой обрести утешение и безнадежной надеждой найти в любви убежище, которое сулит мужчине покой. Любовь открывается ему как откровение, и его гимн черпает свою силу в чувстве сродни религиозному. «Ты во мне — благодатный хлеб. […] Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года, не хочу бессмысленного вращения Земли, которое не ведет ни к кому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет». Сент–Экзюпери опять хочет и надеется — и это его постоянное желание, — чтобы женщина вернула ему душевный покой. Он ухаживает, соблазняет, прельщает чаще всего для того, чтобы заполнить в душе лакуну. Всегда одолеваемый чувством вины, он не в силах расстаться с женой, за которую чувствует глубинную ответственность. Но его любовные опыты множатся и множатся, и в Америке, и даже в Северной Африке [91]. Этим опытам сопутствует постоянное стремление к отсутствию столкновений. Сент–Экзюпери все время повторяет, что не хочет никому причинять страданий, хотя в то же время прекрасно понимает, что «встретить весну — значит принять и зиму. Открыться другому — значит потом страдать в одиночестве». Сент–Экзюпери пишет, как трудно ему открыться и выразить свои чувства, вместе с тем, стремится к этой открытости, и для него важнее всего точно передать, что именно он чувствует. Он тщательно отбирает слова по значимости, по весомости, они должны высветить его любовь, его нежность, они должны объяснить, как подлинно его смятение, его противоречия. «Нелепая планета, нелепые проблемы, нелепый язык. Может быть, есть где–нибудь звезда, где живут просто». Лирическая, почти религиозная наполненность чувством любви сменяется трогательной элегией «Умоляю вас, когда мы увидимся, обнимите меня. Убаюкайте. Успокойте. Помогите». И в то же время, может быть впервые, он заполнен чувственными переживаниями [92]: «Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь: расстегнешь ваше платье — и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами. Знаешь… желание, оно не уснуло. […] Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов…» Откровения звучат особенно щемяще, если принять во внимание, в какое именно время, при каких обстоятельствах пишет писатель свое письмо; если знать, насколько сдержанна и стыдлива в своих интимных отношениях Натали Палей, о которой известно, что чаще всего ее отношения с влюбленными поклонниками оставались платоническими, что у нее бывали влюбленные дружбы с людьми, не скрывавшими своих гомосексуальных пристрастий. Сент–Экзюпери всегда помнит о своем детстве, о простыне–океане, который мама выравнивала одним движением, принося успокоение, тишину и сон, «потому что постель выглаживается, как море, одним божественным прикосновением» [93]. В сорок два года именно это благословенное воспоминание всплывает в его памяти, когда он болен, лежит в постели, думает о любимой и отстаивает свое право «ненадолго сбежать от забот взрослой жизни»: «Милая, я лежу, болею и несказанно этому рад. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю». Читая произведения Антуана де Сент–Экзюпери, читая его письма, мы ощущаем, насколько мир его пронизан воспоминаниями, соткан из них. Воспоминания всегда для него очень дороги, в том числе и детские, из них он складывает свою жизнь. Его творчество — отклик на окружающий его мир, слова взаимодействуют, пытаясь сделать планету понятнее и более пригодной для нашей совместной жизни. Встреча и влюбленность — время, которое они проводили вместе, — вполне возможно, плод тоски, которую каждый из них таил в душе. Как Натали Палей, которая «казалась изгнанницей, сосланной на нашу землю» [94], Сент–Экзюпери на протяжении жизни искал и не находил свой дом. От любви этих двух людей, такой всепоглощающей вначале, а потом все более отстраненной, веет глубочайшей нежностью, беззаветностью, человеческой незащищенностью, которая приводит к слабости, неловкости, затруднениям, растерянности и наконец к невозможности чувствовать себя свободно и органично. Только такие исповедальные письма могут открыть всю уязвимость человеческой души. Не знаю, стоит ли читателю этих писем задаваться вопросом, сколько в них было любви, а сколько дружбы, сколько мечты и идеализации, а сколько обыденной реальности. Да и как в самом деле определить, что человек искренне открыл в себе, а что ему почудилось? Как устоять перед властью фантазий? И мне кажется, нам, читателям, лучше быть как можно более доверчивыми. Но как бы там ни было, Сент–Экзюпери всегда и во всем, доходя даже до парадоксов, искал «качества человеческих отношений», [95]«чудесное окружение», которое придает жизни вкус и цвет. «Мой друг всегда правее окружающего мира. Я наделил его правом быть независимым», просто потому, что он мой друг, потому что он живет на другой планете. Дельфина Лакруа В основе публикации письма, написанные рукой Антуана де Сент–Экзюпери. Пунктуация и орфография исправлены в случае необходимости. Мы горячо благодарим господина Жерара Энеля за благосклонное согласие предоставить в наше распоряжение эти письма.ПИСЬМА
I Я верю в архангела Гавриила. Но, видишь ли, он явился… в другом обличье. Я точно знаю: меня только что взяли за руку. Впервые за много лет я закрыл глаза. Ощутил покой в сердце. Мне больше не нужно искать дорогу. Я всегда закрываю глаза, когда счастлив. Так закрываются двери житниц. Переполненных житниц. Ты во мне — благодатный хлеб. Да, я сделаю тебе больно. Да, ты сделаешь больно мне. Да, мы будем мучиться. Но таков удел человеческий. Встретить весну — значит принять и зиму. Открыться другому — значит потом страдать в одиночестве. (Как нелепы телефонные звонки, телеграммы, возвращения на скоростных самолетах, люди разучились жить ощущением присутствия.) В XIII веке моряк–бретонец ни на миг не разлучался с невестой, что осталась ждать в далекой Бретани. Она просто была рядом с ним. В час отплытия к мысу Горн он уже торопился к ней. И я, не боясь нажить непоправимое горе, предаюсь радости. Благословенна грядущая зима. Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года, не хочу бессмысленного вращения Земли, которое не ведет ни к кому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет. Я знаю, как много существует для меня ограничений, знаю, как часто погружаюсь в небытие, тоскую. Знаю, сколько у меня обязательств, преград, противоречий. Само несовершенство. Но это лишь материал. Ничего, что сейчас все в разладе. Будьте светом, взрастите дерево. Любимая моя, так давно я не произносил этого слова. Оно сладко мне, как новогодний подарок. Знаешь, вчера вечером я почувствовал себя рабочим из черного от копоти предместья, который вдруг увидел перед собой луг и ручей с белыми камешками. Я тут же зажмурил глаза, чтобы сберечь чудесное виденье. Свежий мой ручеек с белыми камешками, поющая вода, моя любимая… Антуан II Вчера я послал тебе письмо и вдруг испугался. Ты не позвонила. Я подумал, тебе не понравилось. Не знаю, право, что тебе почудилось, но поверь, в нем только нежность. Прими от меня подарок: обещаю тебе никогда не лгать. Разумеется, о чем–то я умолчу. Мои воспоминания принадлежат не мне одному. Гнусно, если признания становятся предательством. Но тебе я не солгу, даже при всей многозначительности умолчаний. На душе у меня светло и ясно. Я не омрачу этот свет политикой. Никогда. Сразу скажу тебе правду: у меня было много любовных историй, если только можно назвать их любовными. Но я никогда не предавал значимых слов. Никогда не говорил просто так: «люблю», «любимая», лишь бы увлечь или удержать. Никогда не смешивал любовь и наслаждение. Я даже бывал жесток, отказывая в значимых словах. Они срывались с губ три раза в жизни. Если меня переполняла нежность, я говорил: «я полон нежности», но не говорил «люблю». Я сказал тебе «любимая», потому что это правда. Не сомневаюсь, что больше никогда и никому не скажу этого. Озарения сердца редки. Я встретил любовь, может быть, последнюю. В моей жизни это ничего не меняет. Но это правда. Скажу тебе еще вот что. Я довольно скрытен и не рассказываю о тех давних обязательствах, с которыми невозможно покончить. Если ты впоследствии узнаешь о них, не подумай, будто они возникли после нашей встречи. Я глубоко чту ожившее сердце. Я страшно неловок, я запутался, но любовь я не предаю. Это письмо покажется вам, возможно, еще нелепее предыдущего. Нелепее и бессмысленнее. Но я нащупываю язык, слова которого говорили бы о сути. Я не лукавлю с весной и чудесами. Происходящее для меня необычайно странно. Самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это положить мне на лоб руку доброй самаритянки. Я издерган, несчастен: исцелите меня. Слеп: помогите прозреть. Иссох: сделайте щедрым в любви. Не делай мне слишком больно без особой надобности и спаси меня от возможности причинить боль тебе. Пребывай всегда в мире. Антуан III Милая, я лежу, болею и несказанно этому рад. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю. На животе у меня пузырь со льдом, в животе белладонна, и я наслаждаюсь передышкой от надсады писательства. Нелегко ждать каждую секунду спазма — строчка, еще строчка, еще… Оба процесса необычайно схожи между собой. Сейчас я не работаю. Краду отдых, пока незаслуженный, незаконно обеспеченный мне белладонной. Но мне так не хватает жалоб и утешений. Окажись ты со мной, я бы поплакал — конечно, притворно, ведь я был бы так рад тебе! А ты приняла бы мои слезы всерьез, но не слишком, потрепала бы меня за ухо, положила руку на лоб, улыбнулась. Ты приласкала бы меня с радостью и на меня не досадовала бы. Так ведь? А мне так хочется любить вас. Сейчас я совершенно спокоен, необыкновенно мил и лежу на подушке совершенно ручной — но недавно, мечтая о тебе, страшно злился на заточение. Бессонные ночи долги. А когда ты один, не гаснет и желание. Вот и воображаешь, воображаешь, а что — я тебе никогда не скажу. Я в плену твоего естества, и ты щедра ко мне. Я умираю от жажды. Но опять начались боли, и этим вечером я совершенно безгрешен, я сама нежность. А как хорошо было бы чувствовать твою руку у себя на лбу. Удивительно хорошо, любовь моя. У меня приступ холецистита. И не первый. Желчный пузырь у меня износился от недостатка воды в Ливийской пустыне. Но до сегодняшнего дня мне удавалось уберечь от хирургов эту семейную реликвию. Надеюсь уберечь и на этот раз и встать с постели самое позднее завтра. (И, разумеется, уехать, если дадут визу. Тут уж меня не удержать! Ни за что!) Мне даже кажется — признаюсь тебе на ушко, — что сегодня вечером я не так уж интересен. Хотя, может быть, мне удастся избавиться, например, от пузыря со льдом. Но думаю, будет лучше, если ты меня еще немного пожалеешь, а я еще немного пожалуюсь. Так будет гораздо симпатичнее. Мелкие неприятности мне отраднее, чем большие, которые меня поджидают. Конфликты, хлопоты. Я имею полное право ненадолго сбежать от забот взрослой жизни. Имею право на небезутешное горе и твое утешение. Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь: расстегнешь ваше платье — и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами. Знаешь… желание, оно не уснуло. Кроткий малыш на подушке — картинка весьма обманчивая. Мои помыслы не так уж невинны. Стоит тебе положить руку мне на лоб, как я схвачу ее, и ты попалась. Будь настороже — я хитер и коварен. Лежу с закрытыми глазами, чтобы придать тебе смелости, но на самом деле я их только прикрыл и сквозьресницы наблюдаю за тобой… Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов. Мне так нужна ложбинка у твоего плеча, я прижмусь к ней щекой. Нужна твоя грудь, чтобы вить любовь. * * * Любимая, не могу больше мечтать. Поговорим о другом. Я обещал, что буду говорить тебе все. В прошлый раз я дал тебе понять, что кое–чего опасаюсь, оно и случилось помимо моей воли. Я же говорил, что у меня непростая жизнь. Случилось путешествие длиною в сутки. Разумеется, я не могу сказать с кем, но могу сказать: случилось. С одной стороны, было очень тепло, а с моей — горько и уныло. Грустная комедия. Милая, это случилось не по моей вине. Как уйти, не сделав слишком больно? Я уже многое упорядочил в своей вольной жизни. Хочу быть хранимым и связанным одной тобой. Оставалась последняя неурядица, я считал, что повел себя очень умно, но ко мне прилетели на помощь, приняв молчание за отчаяние. Да творит ваша рука чудеса. Положите ее мне на сердце и умиротворите его. На лоб, и дайте немного мудрости. На тело, и пусть оно принадлежит вам. Антуан Посылаю вам несколько страничек — письмо, которое писал в тот день между двумя телефонными звонками, первый известил, что все потеряно, второй — что сообщение о катастрофе было ошибкой. Любовь моя, пришла отвратительная телеграмма от секретаря канадского посольства, меня примут только в среду. Готов повеситься. Не могу больше без тебя. Я в отчаянии, полном, безысходном. Любовь моя, моя любимая, я обрел благодаря тебе покой. Обрел в тебе кров. Обрел доверие, а теперь терзаю ожиданием. Причиняю боль, выматываю. Меня нет с тобой день за днем, я нарушаю все свои обещания, хоть и не по своей воле. Я заслуживаю, чтобы ты обо мне забыла. Заслуживаю, чтобы больше не ждала. Заслуживаю одиночества. А я, хоть и не могу пересечь без визы границу, люблю тебя с каждым днем сильнее. С каждым днем становлюсь несчастнее. Разучился даже тебе писать. Жестоко увидеть рай и тут же потерять. Очень устал. Антуан V Любовь моя, любимая, моя любовь, я в таком волнении, в таком отчаянии, что перепутал каблограммы. Я похож на пьяного, качаюсь из стороны в сторону, не понимаю зачем, почему. Я все–таки пошлю тебе каблограмму, которую собирался послать. Я люблю тебя слишком сильно, сомнений нет. Страдаю всем существом. Я болен от ожидания. Ты мне нужна. Необходима. Как воздух. Как дневной свет. Умоляю вас, когда мы увидимся, обнимите меня. Убаюкайте. Успокойте. Помогите. Мне и так невыносимо, и стало еще невыносимее с тех пор, как со мной сыграли злую шутку, поманив покоем и счастьем, а потом лишив их. Умоляю, любите меня, когда я вернусь. Антуан VI Странно, никак не могу тебе дозвониться. А мне хотелось прочитать тебе все, что я наработал за последние месяцы. И еще я хотел сказать тебе что–то, что сказать очень трудно. Некоторое время мы виделись очень редко. Думай обо мне, что хочешь, но не обвиняй в равнодушии. Это не так. В Канаде мы ждем с минуты на минуту телеграммы–освободительницы, ждем вдвоем, моя жена, с которой внезапно меня свел случай, и я. Вышло так, что в мое отсутствие она распечатала твою телеграмму, подписанную полным именем. Я не сразу узнал об этом. А когда узнал, почувствовал себя виноватым. Не по отношению к ней (мы давно живем врозь). Я виноват перед тобой. Невыносимо, если вдруг из–за меня поползут компрометирующие слухи. Я едва ли уговорю ее молчать, тем более при таких обстоятельствах. Я клялся всем, чем только можно, старался затемнить смысл телеграммы. Настаивал: «мы давным–давно не виделись», ссылался на алиби (сцены ревности я всегда выносил с трудом). Все это отвратительно, мне тяжело писать тебе об этом, дрязги калечат любовь. Глупая, пошлая, дурацкая случайность. Вот я и объяснил тебе причину своей необъяснимой сдержанности. Я ждал передышки. Сто раз собирался сказать тебе об этом. И не решался. Мне было невыносимо стыдно. Неужели я не смогу защитить тебя? Я сказал тебе все. Я хотел все сказать. Мне показалось, что ты замолчала намеренно, и поэтому я никак не могу тебе дозвониться. Хотя вполне возможно, мне просто не везет. Наверное, больше не буду и пытаться. Я никогда не был навязчивым. Уважаю даже то, чего не понимаю. Ну вот, я все написал. Должен был написать. Нелепая планета, нелепые проблемы, нелепый язык. Может быть, есть где–нибудь звезда, где живут просто. Целую тебя с такой тоской. Антуан VII Я в дурацком положении. Написал тебе несколько слов, уловив что–то неощутимое, невесомое, как воздух. Вполне возможно, нежданное ощущение обмануло меня. Зато письмо могло внушить тебе мысль, что писать мне домой не стоит. А я, ничего не получив, снова пишу тебе. Я так остро чувствовал твою любовь вопреки всей нескладице жизни, что не могу из–за недоразумения — если оно было — принять твое молчание. Прошлое письмо не отличалось ясностью и в другом отношении. Речь не шла о необходимости опасаться «моего дома». В «моем доме» вот уже четыре года мы живем каждый своей жизнью. Однако случилось так, что короткое путешествие друзей обернулось в силу нелепых обстоятельств свадебным путешествием длиной в сорок дней и накалило атмосферу до крайности. После злосчастного происшествия с телеграммой — а оно не было даже следствием нескромности — я страшно мучился и без конца повторял (не из–за себя, я ни перед кем не отчитываюсь, из–за тебя), что это сущий пустяк, мы сто лет знакомы, я отказался от твоей помощи, когда лежал в больнице, мы редко видимся, отношения у нас чисто дружеские. Я говорил небрежно, ни на чем не настаивал, не требовал молчания, опасаясь дать повод к лишним разговорам. Да и не вправе был чего–то требовать. Делал, что мог. Я не хотел, чтобы нечаянная встреча, сопоставление случайных фактов или еще что–то в этом роде вновь разожгли костер, который, надеюсь, сумел погасить. У меня печальный опыт: на протяжении жизни мои сугубо личные проблемы не раз становились достоянием широкой публики, а теперь я оказался в ужаснейшем положении по отношению к тебе. Я никогда–никогда–никогда никому ничего не рассказывал, ни разу в жизни не обмолвился словом ни о ком, а сейчас могу стать причиной слухов, которые принесли бы большие неприятности человеку не только мне не безразличному (я страдал бы и в этом случае), а той, кого люблю глубоко, всем сердцем. Я решил больше никогда не видеться с тобой, мне показалось, я нашел самое правильное решение, вот только не знаю, как быть с собой и с тобой. Я не хотел ничего говорить. Не хотел, чтобы жалкие уловки подтачивали нежность. «Правильное решение», горькое, мучительное, возникло как компромисс. Разворачивались другие трагические события, усугубилась сложность моей общественной позиции. Настал день, когда я не смог дышать. Я сказал себе: если не хочешь сойти с ума или повеситься, если исчезло преображающее вдохновение, укорени в себе порядок. Пришлось начать с собственного дома. Выбрать насущные обязанности, первостепенный долг. Когда самые простые проблемы будут разрешены, я яснее увижу более сложные. Я долго раздумывал о новом браке. Долго и тяжело. И принял решение. (Правильное: я начал писать. Для меня — это главное.) Теперь о нас с тобой. Если твое молчание — плод моего воображения, я просто дурак. И все–таки я рад, что ничего не утаил от тебя. Я должен был сделать это «признание». Я не открещиваюсь ни от чего, что исходит из «моего дома». Если твое молчание не случайность, объясни его. Я не буду оспаривать твое решение, я чту права другого. Все права. Твои — в особенности. Твой ответ будет знаком уважения ко мне. Я не из тех недочеловеков, что, настаивая на своем, засыпают телеграммами и способны замучить до смерти телефонными звонками. Думаю, ты во мне не сомневаешься. Мы с тобой одной породы. Своих я узнаю издалека. Ты тоже всегда верна себе. Думаю, телефонная молчанка не для нас. Будем самими собой. Я настаиваю на объяснении только потому, что для меня нестерпима мысль: ты обижена из–за недоразумения или ошибки. Мы живем в отвратительное время. Всюду грязь, она пятнает каждого. Не могу перенести, что она коснется моего, глубоко личного. Запачкает. Моя вселенная не от мира сего. Ничто извне не заставит меня изменить мнение о тебе. Если я не могу смириться с тем, что внешний мир искажает твой внутренний, то только потому, что полон глубокой нежности. Потому что в моих глазах до тебя ничто не может дотянуться. Мой друг всегда правее окружающего мира. Я наделил его правом быть независимым. Я дома завтра, в понедельник. Позвони мне между одиннадцатью и тремя. Если ты согласна позавтракать со мной (потом можем не видеться, я не стану докучать тебе), позвони в одиннадцать и разбуди (звони подольше, этой ночью я работаю). Позже я, возможно, буду занят. Мы пойдем в спокойное кафе, любое, какое захочешь. Хочу прочитать тебе, что я написал. Мне это необходимо. Если не позвонишь, я останусь со своим недоумением, но никогда больше не потревожу тебя (не подумай, что «я удаляюсь, преисполненный собственного достоинства», ты можешь увидеться со мной, когда захочешь, просто я больше не буду тебя тревожить). Причина недоумения проста: честное слово, я понимаю, что жить со мной невозможно (я себя знаю), но во всех остальных отношениях я не сделал ни единого движения, не сказал ни единого слова, за которое мог бы краснеть. Держу свои обещания. Не унижаю того, чем дорожу. Прощаюсь. Сказать больше нечего. АнтуанАнтуан де Сент-Экзюпери Можно верить в людей… Записные книжки хорошего человека
© Переводчики: Я. Лесюк, Д. Кузьмин, Р. Грачев, Ю. Гинзбург, Л. Цывьян, Е. Баевская., 2015 © ООО «ТД Алгоритм», 2015Вместо предисловия. Антуан де Сент-Экзюпери «Молитва»
…Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя! Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов!Антуан де Сент-Экзюпери (Андре Моруа)
Авиатор, гражданский и военный летчик, эссеист и поэт, Антуан де Сент-Экзюпери, вслед за Виньи, Стендалем, Вовенаргом, вместе с Мальро, Жюлем Руа[96], а также несколькими солдатами и моряками, принадлежит к числу немногих романистов и философов действия, которых породила наша страна. В отличие от Киплинга, он не просто восторгался людьми действия: он, подобно Конраду[97], и сам участвовал в деяниях, которые описал. На протяжении десяти лет он летал то над Рио-де-Оро, то над Андийскими Кордильерами; он затерялся в пустыне и был спасен владыками песков; однажды он упал в Средиземное море, а в другой раз – на горные цепи Гватемалы; он сражался в воздухе в 1940 году и вновь сражался в 1944. Покорители Южной Атлантики – Мермоз и Гийоме[98] – были его друзьями. Отсюда та достоверность, которая звучит в каждом его слове, отсюда же берет начало и жизненный стоицизм, ибо деяние раскрывает лучшие качества человека. Однако Люк Эстан, написавший превосходную книгу «Сент-Экзюпери о самом себе», прав, говоря, что деяние никогда не было для Сент-Экзюпери самоцелью. «Самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин»[99]. И Люк Эстан прибавляет: «Он пашет и не для того, чтобы просто провести борозды, но для того, чтобы их засеять. Действие для самолета – то же, что пахота для плуга. Какие она сулит посевы и какой урожай можно будет собрать?» Я полагаю, что ответить на этот вопрос можно так: правила жизни – вот что сеешь, а урожай – это люди. Почему? Да потому, что человек способен постичь только то, в чем он сам принимал непосредственное участие. Вот откуда возникала та тревога, которая на моих глазах терзала Сент-Экзюпери в Алжире, в 1943 году, когда ему не разрешали летать. Он терял контакт с землею, потому что ему отказывали в небе.I. Промежуточные этапы
Многие современники рассказывали об этой краткой, но полной событий жизни. Вначале был Антуан де Сент-Экзюпери, «сильный, веселый, открытый» мальчуган, который в двенадцать лет уже изобретал аэроплан-велосипед и заявил, что он взлетит в небо под восторженные клики толпы: «Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!» Учился он неровно, в нем проявлялись проблески гения, но заметно было, что ученик этот не создан для школьных занятий. В семье его называют Король Солнце[100] из-за белокурых волос, венчающих голову; товарищи прозвали Антуана Звездочет, потому что нос его вздернут к небу. В действительности он уже тогда был Маленьким принцем, надменным и рассеянным, «всегда радостным и бесстрашным». Всю жизнь он сохранял связь со своим детством, он всегда оставался восторженным, любознательным и с успехом играл роль мага-волшебника, как бы в ожидании восторженных возгласов: «Да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!» И эти возгласы раздавались. Но только чаще говорили: Сент-Экз, Антуан или Тонио, потому что он неизменно становился частицей внутренней жизни всех тех, кто его знал или читал его книги. Никогда еще, пожалуй, призвание авиатора не проявлялось в человеке более явственно, и никогда еще, пожалуй, человеку не было так трудно осуществить свое призвание. Военная авиация согласилась зачислить его только в запас. Лишь когда Сент-Экзюпери исполнилось двадцать семь лет, гражданская авиация позволила ему стать летчиком, а затем начальником аэродрома в Марокко – в пору, когда страну эту раздирали противоречия: «Маленький принц становится важным начальником». Он публикует книгу «Южный почтовый» и приобщает небо к литературе, что не мешает ему оставаться смелым и энергичным пилотом, а затем техническим директором филиала компании «Аэропосталь» в Буэнос-Айресе – тут он работает бок о бок с Мермозом и Гийоме. Он попадает в многочисленные и тяжелые аварии. И только чудом остается в живых. В 1931 году он женится на вдове испанского писателя Гомеса Каррильо – Консуэло, уроженке Южной Америки: фантазия этой женщины приводит в восторг Маленького принца. Аварии продолжаются;: то Сент-Экз чуть не разбивается во время чудовищного падения, то после вынужденной посадки он оказывается затерянным в песках. И, мучимый изнурительной жаждой в самом сердце пустыни, он испытывает острую потребность вновь отыскать «Планету людей»! 1939 год. Вспыхивает война. И хотя врачи упорно признают, что Сент-Экзюпери совершенно негоден к полетам (следствие многочисленных переломов и контузий), он, в конце концов, добивается зачисления в разведывательную авиагруппу 2/33. В дни вражеского вторжения, после нескольких боев группу эту отправляют в Алжир и личный состав ее демобилизуют. В конце года Сент-Экз прибывает в Нью-Йорк, где мы с ним и встретились. Там он пишет книгу «Военный летчик», снискавшую огромный успех в Соединенных Штатах, а также во Франции, в то время оккупированной врагом. Я всей душой привязался к нему и охотно повторил бы вслед за Леоном-Полем Фаргом: «Я его очень любил и всегда буду оплакивать». Да и как было не любить его? Он обладал одновременно силой и нежностью, умом и интуицией. Он питал пристрастие к ритуальным обрядам, он любил окружать себя атмосферой таинственности. Неоспоримый математический талант сочетался в нем с ребяческой тягой к игре. Он либо завладевал разговором, либо молчал, словно мысленно уносился на какую-нибудь иную планету. Я бывал у него на Лонг-Айленд в большом доме, который они снимали с Консуэло, – там он писал «Маленького принца». Сент-Экзюпери работал по ночам. После обеда он разговаривал, рассказывал, показывал карточные фокусы, затем, ближе к полуночи, когда другие ложились спать, он усаживался за письменный стол. Я засыпал. Часа в два утра меня будили крики на лестнице: «Консуэло! Консуэло!.. Я голоден… Приготовь мне яичницу». Консуэло спускалась из своей комнаты. Окончательно проснувшись, я присоединялся к ним, и Сент-Экзюпери снова говорил, причем говорил он очень хорошо. Насытившись, он опять садился за работу. Мы пытались снова заснуть. Но сон был недолгим, ибо часа через два весь дом заполняли громкие крики: «Консуэло! Мне скучно. Давай сыграем в шахматы». Затем он читал нам только что написанные страницы, и Консуэло, сама поэт, подсказывала искусно придуманные эпизоды. Когда генерал Бетуар[101] прибыл в Соединенные Штаты за вооружением, мы оба – Сент-Экз и я – вновь попросили зачислить нас на службу во французскую армию в Африке. Он уехал из Нью-Йорка на несколько дней раньше меня и, когда я сошел с борта самолета в Алжире, уже встречал меня на аэродроме. Вид у него был несчастный. Ведь Антуан так сильно ощущал узы, объединяющие людей, он всегда чувствовал себя в какой-то мере ответственным за судьбы Франции, и вот теперь он обнаружил, что французы разделены. Два генеральных штаба противостояли друг другу. Он был зачислен в резерв командования и не знал, разрешат ли ему летать. Ему было уже сорок четыре года, а он упорно и настойчиво добивался, чтобы ему позволили управлять самолетом «П-38», быстрой машиной, созданной для более молодых сердец. В конце концов, благодаря вмешательству одного из сыновей Рузвельта, Сент-Экзюпери получил на это согласие. А в ожидании он работал над новой книгой (или поэмой), которая позднее была названа «Цитадель». Произведенный в чин майора, он сумел присоединиться к дорогой его сердцу разведывательной группе 2/33, группе «Военного летчика», но начальники, тревожась за его жизнь, неохотно разрешали ему полеты. Ему пообещали пять таких полетов, он вырвал согласие еще на три. Из восьмого полета над оккупированной в то время Францией он не возвратился. Он вылетел в 8 часов 30 минут утра, а к 13 часам 30 минутам его все еще не было. Товарищи по эскадрилье, собравшись в офицерской столовой, ежеминутно смотрели на часы. Теперь у него оставалось горючего всего на один час. В 14 часов 30 минут не осталось больше никакой надежды. Все долго хранили молчание. Потом командир эскадрильи сказал одному из летчиков: «Вы выполните задание, порученное майору де Сент-Экзюпери». Все закончилось так, как в романе Сент-Экза, и можно было легко представить себе, что, когда у него не осталось больше горючего и, быть может, надежды, он, подобно одному из своих героев, устремил самолет ввысь – к небесному полю, густо усеянному звездами.II. Законы действия
Законы героического мира постоянны, и мы вправе ожидать, что обнаружим их в творчестве Сент-Экзюпери почти такими же, какими мы их знали в повестях и рассказах Киплинга. Первый закон действия – дисциплина. Дисциплина требует, чтобы подчиненный уважал своего начальника; она требует также, чтобы начальник был достоин такого уважения и, чтобы он, со своей стороны, уважал законы. Нелегко, совсем нелегко быть начальником! «О господи, я жил могучий, одинокий!»[102] – восклицает Моисей у Альфреда де Виньи. Ривьер, под началом у которого находятся летчики в «Ночном полете», добровольно замыкается в одиночестве. Он любит своих подчиненных, питает к ним какую-то сумрачную нежность. Но как может он открыто быть их другом, если он обязан быть суровым, требовательным, безжалостным? Ему трудно наказывать, больше того – он отлично знает, что наказание порою несправедливо, что человек не мог поступить иначе. Однако только строжайшая дисциплина оберегает жизнь остальных летчиков и обеспечивает регулярное несение службы. «Правила, – пишет Сент-Экзюпери, – похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей»[103]. Порою необходимо, чтобы один человек принес себя в жертву ради спасения множества других. На плечи начальника ложится ужасная ответственность – избрать жертву, и, если приходится пожертвовать другом, он даже не имеет права выказать свою тревогу: «Любите подчиненных, но не говорите им об этом»[104]. Что дает начальник своим людям в обмен на их послушание? Он дает им «директивы»; для них он подобен маяку в ночи действия, указывающему летчику путь. Жизнь – это буря; жизнь – это джунгли; если человек не борется с волнами, если он не борется с густым переплетением лиан, он погиб. Постоянно подстегиваемый твердой волей начальника, человек побеждает джунгли. Тот, кто подчиняется, считает законной суровость того, кто им командует, если суровость эта играет роль постоянных и надежных доспехов, служит защите его жизни. «Эти люди… любят свое дело, и любят его потому, что я строг»[105], – говорит Ривьер. Что еще дает начальник людям, которыми он командует? Он дает им победу, величие, долгую память в сердцах современников. Созерцая воздвигнутый на горе храм инков, который один только уцелел от погибшей цивилизации, Ривьер вопрошает себя: «Во имя какой суровой необходимости – или странной любви – вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и, тем самым, заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?»[106] На это какой-нибудь доброжелательный человек, без сомнения, ответил бы: «Разве не лучше было бы не строить этот храм, но зато и не заставлять никого страдать, возводя его?» Однако человек – существо благородное, и он любит величие больше удобств, больше счастья. Но вот приказание отдано, люди начинают действовать, и тогда по законам героического мира в дело вступает дружба между сотоварищами. Узы общей опасности, общей самоотверженности, общих технических средств сначала рождают эту дружбу, а затем поддерживают ее. «Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего, в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком»[107]. Работать ради материальных благ? Какой самообман! Таким путем человек приобретает всего лишь прах и пепел. И это не может принести ему то, ради чего стоит жить. «Я перебираю самые неизгладимые мои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого – да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира». У богача есть сотрапезники и прихлебатели, у человека могущественного – придворные, у человека действия – товарищи, они же – и его друзья. «Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов[108]. Но за этим скудно освещенным столом горсточка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами. Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается – все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря»[109]. Находясь рядом с другими людьми в составе эскадрильи, в армии, на заводе или в спортивной команде, человек, забывая о самом себе, обретает себя. «Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину»[110]. Именно потому, что товарищи по общему делу верят человеку, а он хочет быть достойным их доверия, он и становится в полном смысле слова человеком. И, даже находясь вдали от своего отряда, он будет хранить в своем сердце эту потребность в понимании и одобрении своих товарищей. Затерянному в снегах, дошедшему до крайнего изнеможения Гийоме мучительно хотелось лечь на землю и уснуть последним сном: «Товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь…»[111]. Впрочем, эта мужская дружба, это товарищество в свою очередь отличается суровостью: «Когда товарищ умирает… это никого не удивляет, – таково наше ремесло». И все же ни один вновь приобретенный друг не сможет заменить погибшего товарища: «Старых друзей наскоро не создашь!»[112] Какую роль играет в этом героическом мире женщина? В произведениях Киплинга женщина выступает либо как подруга в опасностях и трудах («Голод»), либо как соблазнительница, отрывающая человека от его призвания («История семейства Гэдсби»)[113]. Порой в романах Сент-Экзюпери на заднем плане проходят жены летчиков – нежные, любящие, покорно обрекшие себя на жизнь, связанную с постоянным ожиданием человека, которого каждый день подстерегает смерть. В былые времена человек действия идеализировал женщину, с которой он был разлучен. Так, крестовые походы вызвали к жизни Прекрасных дам, Знатных дам средневековых героических песен. Но, когда наблюдаешь за героями Сент-Экзюпери, начинает казаться, что у летчика гораздо меньше времени грезить об отсутствующей возлюбленной, чем у солдата или моряка. Для летчика опасность более постоянна. Если глохнет мотор – это смерть. Если во время полета на большой высоте засорится баллон с кислородом, летчик засыпает вечным сном. Что для такого человека далекие города и женщины? Всего лишь остановка в пути. Юная девушка, которую мельком видит герой, на мгновение волнует его своей строгой красотою («Военный летчик»). Но что делать? Ему ведь надо лететь дальше. Летчик отличается от всех других людей действия еще и тем, что мир его необычайно абстрактен. Когда смотришь на землю с огромной высоты, она кажется как бы пустой. Девять часов из десяти самолет парит над океаном, или над пустыней, или над джунглями. Между Марракешем и Дакаром людей так мало, что чудится, будто они еще не вполне осели на земле. Между Дакаром и Бразилией вообще нет следов человека. Да и в самой Бразилии – множество заболоченных мест и лесов, где никогда не ступает нога человека. Для воздушного путешественника климат и времена года – понятия неустойчивые. Он переходит от весны к зиме, а еще через несколько часов возвращается к лету. Жизнь для него поистине сон. Ей присущи безрассудство и внезапные перемены, свойственные сновидениям. Сент-Экзюпери рассказывает, что когда он впервые опустился на землю Африки, то пробыл там всего 30 секунд. Его уже ожидал другой самолет, к которому он, едва приземлившись, сразу же подрулил, подчиняясь сигналу. «Вы тотчас же отправитесь во Францию с почтой», – сказал ему начальник, и Сент-Экзюпери немедленно улетел. Разве Африка может быть для летчика такой, какой она была для спаги или стрелка колониальных войск? Для летчика многие города – всего лишь взлетное поле, место для посадки. Где бы он ни побывал – в Мельбурне или Чунцине, в Калькутте или Нью-Йорке, в Тунисе или Рио-де-Оро, – он увидит только взлетные дорожки, ангары, бензовозы, песок, утрамбованный грунт, да еще, быть может, несколько деревьев вдалеке. Реальность для него – в другом месте. Реальность человеческого общества – это эскадрилья, это товарищи по воздушной линии; что касается реальности природы, то ее он познает с помощью самолета. Он познает ее, как крестьянин: «Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет – орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам»[114]. Состояние моря, морские течения, различные предвестники бурь, ясность небосвода – все это ведомо и понятно моряку, потому что он должен думать о спасении деревянного или металлического корпуса своего корабля. Летчик же привыкает вопрошать облака, ямы на воздушных дорогах и неровности почвы. Обратите внимание на то, как в книге «Планета людей» опытный летчик описывает Испанию своему товарищу, которому предстоит в первый раз лететь над этой страной. Он говорит не о городах, не о людях, но о каком-то ручье, который коварно размывает луг, о трех апельсиновых деревьях, что мешают приземлению, о стаде баранов, которое опасно своим неистовством. Перечтите строки об отступлении 1940 года; вот как оно выглядело с высоты птичьего полета: «И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока»12. Когда летчик говорит о людской реке, то для него это не поэтический образ, а просто точное и правдивое описание того, что он видит. Любое описание приобретает смысл только тогда, когда человек смотрит сквозь призму своей профессии. Летчик мыслит масштабами созвездий и континентов. Ну а что может знать о мире, скажем, чиновник? «Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты – человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир – через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам»[115]. Человек действия – поэт в самом высоком смысле слова, ибо он «тот, кто создает, тот, кто творит»[116]. Я любил слушать, как Сент-Экзюпери (на этот раз я говорю уже о человеке, а не о писателе) описывал какое-нибудь событие. Порой – даже находясь в обществе друзей – он долго хранил молчание. Внезапно, когда кто-нибудь касался волновавшей его темы, он оживлялся и стремительно вступал в разговор. Разбирая какую-нибудь проблему стратегии или даже политики, он делает ее очень ясной и простой, потому что видит все как бы с высоты. Он говорит, как ученый, прибегая к самым точным словам и неоспоримым доводам. Но в то же время он говорит, как поэт. Люди и даже неодушевленные предметы словно оживают в его речах. Фраза течет свободно, она разделена на короткие периоды, никогда она не походит на ораторский оборот, она, точно жест, подтверждает мысль. Образы поражают новизной и неожиданностью, часто они берут начало в его профессии. Окружающие с восхищением слушают его до той минуты, когда, окончив свою поэму или завершив цепь доказательств, Сент-Экз вновь погружается в безмолвие, начинает показывать карточные фокусы или затягивает песню. Ибо существует еще один закон героического деяния: оно порождает людей, которым очень трудно приноравливаться к светским и социальным условностям.III. Творчество
Можно ли назвать его книги романами? Едва ли. От произведения к произведению элемент вымысла в них все сокращается. Скорее это эссе о деянии, о людях, о Земле, о жизни. Декорация почти всегда изображает летное поле. И дело тут не в стремлении писателя прослыть специалистом, а в его тяге к искренности. Ведь именно так живет и мыслит автор. Отчего же ему не описывать мир сквозь призму своей профессии, коль скоро именно таким способом он, как всякий летчик, вступает в контакт с окружающим миром. «Южный почтовый» – это самая романтическая книга Сент-Экзюпери. Летчик Жак Бернис, пилот компании «Аэропосталь», возвращается в Париж и встречает там подругу своего детства – Женевьеву Эрлен. Муж у нее человек посредственный; ее ребенок умирает; она любит Берниса и соглашается уехать с ним. Но почти тотчас же Жак понимает, что они не созданы друг для друга. Чего он ищет в жизни? Он ищет «сокровище», в котором заключена истина, «ключ к разгадке» жизни. Сначала он надеялся найти его в женщине. Неудача. Позднее он, как Клодель, надеялся найти его в Соборе Парижской богоматери, куда Бернис зашел, потому что он чувствовал себя слишком несчастным; но и эта надежда обманула его. Быть может, ключ к разгадке лежит в ремесле? И Бернис упорно, мужественно везет почту в Дакар, летя над Рио-де-Оро. Однажды автор находит труп Жака Берниса – летчика сразили пули арабов. Но почта была спасена. Она будет доставлена в Дакар в установленный срок. «Ночной полет» относится к южноамериканскому периоду жизни Сент-Экзюпери. Для того, чтобы почта, полученная из Патагонии, из Чили, из Парагвая, вовремя прибыла в Буэнос-Айрес, пилотам компании «Аэропосталь» приходится лететь ночью над нескончаемыми горными хребтами. Если там их настигает буря, если они сбиваются с пути, они обречены. Но их начальник, Ривьер, знает, что на такой риск необходимо идти. Вместе с Ривьером, вместе с одним из инспекторов, Робино, вместе с женой летчика Фабьена мы следим за продвижением трех самолетов во время грозы. Один из них, самолет Фабьена, сбивается с курса. Перед ним словно смыкаются цепи Кордильер. У летчика остается всего на полчаса горючего, он понимает, что надежды больше нет. И тогда он поднимается к звездам, туда, где нет ни одного живого существа, кроме него самого. Завоеватель легендарных сокровищ, Фабьен погибнет. Молодая женщина, зажженная ею лампа, с такой любовью приготовленный обед тщетно будут ожидать его. Тем не менее, Ривьер, который также на собственный лад любил Фабьена, с холодным отчаянием занимается отправкой почты в Европу. Ривьер прислушивается к тому, как трансатлантический самолет «возникнет, пророкочет и растает», словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд. Стоя перед окном, Ривьер думает: «Победа… поражение… эти высокие слова лишены всякого смысла… Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы… Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий. Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом – решение всех задач. Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет. Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы»[117]. «Планета людей» – это прекрасный сборник эссе, некоторые из них имеют форму новеллы. Рассказ о первом полете над Пиренеями, о том, как старые, опытные летчики приобщают к ремеслу новичков, о том, как во время полета происходит борьба с «тремя изначальными божествами – с горами, морем и бурей»[118]. Портреты товарищей автора: Мермоза, исчезнувшего в океане, Гийоме, который спасся в Андах благодаря своему мужеству и упорству… Эссе о «Самолете и планете», небесные пейзажи, оазисы, посадка в пустыне, в самом стане мавров, и рассказ о том дне, когда, затерявшись в ливийских песках, точно в густой смоле, сам автор едва не умер от жажды. Но сюжеты сами по себе мало что значат; важнее то, что человек, который обозревает с такой высоты планету людей, знает: «Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека»[119]. За последние двадцать лет слишком много писателей прожужжали нам уши разговорами о слабостях человека. Наконец-то нашелся писатель, который говорит нам о его величии. «Ей-богу, я такое сумел, – восклицает Гийоме, – что ни одной скотине не под силу!»[120] Наконец, «Военный летчик». Эта книга написана Сент-Экзюпери после короткой кампании – и поражения – 1940 года… Во время немецкого наступления во Франции капитан де Сент-Экзюпери и экипаж самолета получают от своего начальника, майора Алиаса, приказ совершить разведывательный полет над Аррасом. Вполне возможно, что во время этого полета их встретит смерть, смерть бесполезная, так как им поручено собрать сведения, которые они уже никому не смогут передать, – дороги будут безнадежно забиты, телефонная связь прервана, генеральный штаб переместится в другое место. Отдавая приказ, майор Алиас и сам знает, что приказ этот бессмыслен. Но что тут можно сказать? Никому и в голову не приходит сетовать. Подчиненный отвечает: «Слушаюсь, господин майор… Так точно, господин майор…» – и экипаж отправляется на выполнение ставшего бесполезным задания. Книга состоит из размышлений летчика во время полета к Аррасу, а затем, во время его возвращения, посреди рвущихся вокруг вражеских снарядов и висящих над ним вражеских истребителей. Размышления эти возвышенны. «Так точно, господин майор…» Почему майор Алиас посылает своих подчиненных, которые являются в то же время его друзьями, на бессмысленную гибель? Почему тысячи молодых людей согласны погибнуть в ходе сражения, которое, судя по всему, уже проиграно? Потому что они понимают: участвуя в этом безнадежном бою, они поддерживают дисциплину в армии и укрепляют единство Франции. Они хорошо знают, что им не удастся за несколько минут, совершив несколько героических поступков и, принеся в жертву несколько жизней, превратить побежденных в победителей. Но они знают также, что поражение можно превратить в отправной пункт на пути к возрождению нации. Почему они сражаются? Что ими движет? Отчаяние? Вовсе нет. «Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы – ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, – я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне: – Курс сто семьдесят пять, господин капитан… И я возьму этот курс»[121]. Так размышлял французский летчик в ожидании гибели над охваченным пламенем Аррасом; и до тех пор, пока у таких людей будут такие мысли, и пока они будут излагать их столь возвышенным языком, французская цивилизация не погибнет. «Слушаюсь, господин майор…» Сент-Экз и его товарищи не скажут ничего другого. «Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна»[122]. Испытываешь крайнее изумление, что нашлись критики, которые сочли эту прекрасную книгу «пораженческой». А вот я не знаю другой книги, которая вселяла бы большую веру в будущее Франции. «Поражение… Победа… (повторяет автор вслед за Ривьером). Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие – пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице»[123]. Французские семена прорастут. Они уже пустили ростки с той поры, когда был написан «Военный летчик», и новая жатва близится. И Франция, которая долго страдала, терпеливо ожидая новой весны, сохраняет признательность Сент-Экзюпери за то, что он ни разу не отрекся от нее. «Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни сделали. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения… Вот почему я не снимаю с себяответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пастеров[124], Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется, слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими. Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью; я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены…»[125]. Признавать свою собственную, а не только чужую ответственность за поражение – это не пораженчество; это справедливость. Призывать французов к единству, которое сделает возможным будущее величие, – это не пораженчество; это патриотизм. «Военный летчик», без сомнения, останется в истории французской литературы книгой столь же значительной, как «Рабство и величие солдата». Разумеется, я не стану даже пытаться «объяснить» «Маленького принца». Эта «детская» книга для взрослых изобилует символами, и символы ее прекрасны, потому что они кажутся одновременно прозрачными и туманными. Главное достоинство произведения искусства заключается в том, что оно выражает само по себе, независимо от абстрактных концепций. Кафедральный собор не нуждается в комментариях, как не нуждается в аннотациях звездный небосвод. Я допускаю, что «Маленький принц» – некое воплощение Тонио-ребенка. Но подобно тому, как «Алиса в Стране Чудес»[126] была одновременно и сказкой для девочек, и сатирой на викторианское общество, так и поэтическая меланхолия «Маленького принца» заключает в себе целую философию. «Короля тут слушают лишь в тех случаях, когда он приказывает сделать то, что и без этого осуществилось бы; фонарщика тут уважают потому, что он занят делом, а не самим собою; делового человека тут осмеивают, так как он полагает, что можно «владеть» звездами и цветами; Лис тут позволяет приручить себя, чтобы различать шаги хозяина среди тысяч других. «Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – говорит Лис. – Люди покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей»[127]. «Маленький принц» – творение мудрого и нежного героя, у которого было много друзей. Теперь следует поговорить о «Цитадели», посмертно изданной книге Сент-Экзюпери: он оставил для нее множество набросков и заметок, но у него не хватило времени, чтобы отшлифовать это произведение и поработать над его композицией. Вот почему так трудно судить об этой книге. Сам автор, несомненно, придавал «Цитадели» большое значение. То был как бы итог, обращение, завещание. Жорж Пелисье, который был в Алжире близким другом Сент-Экза, утверждает, что в этом сочинении следует видеть квинтэссенцию мыслей писателя; он сообщает нам, что первый набросок носил заглавие «Владыка берберов» и одно время Сент-Экзюпери хотел назвать эту поэму в прозе «Каид»[128], но затем вернулся к первоначальному варианту заглавия, «Цитадель». Еще один из друзей писателя, Леон Верт[129], пишет: «Текст «Цитадели» – всего лишь оболочка. И самая внешняя. Это собрание заметок, записанных с помощью диктофона, заметок устных, заметок беглых… «Цитадель» – это импровизация». Другие высказывались более сдержанно. Люк Эстан, который так восхищается Сент-Экзюпери, автором «Ночного полета» и «Планеты людей», признается в том, что он не приемлет «этот монотонный речитатив восточного владыки-патриарха». А ведь этот «монотонный речитатив» занимает сотни страниц. Кажется, что неумолимо течет песок: «Набираешь в горсть песку: искрятся красивые блестки, но они тотчас же исчезают в монотонном течении, в котором увязает и читатель. Внимание рассеивается: восхищение уступает место скуке». Это правда. Уже сама природа произведения таит в себе опасность. Есть нечто искусственное в том, что современный нам житель Западной Европы усваивает тон, присущий книге Иова. Евангельские притчи возвышенны, но они лаконичны и полны тайны, между тем как «Цитадель» растянута и дидактична. В этой книге, конечно же, есть кое-что от «Заратустры»[130] и «Речей верующего» Ламенне, конечно же, ее философия остается философией «Военного летчика», но нет в ней жизненного стержня. И все-таки блестки, остающиеся в тигле после чтения этой книги, из чистого золота. Ее тема в высшей степени характерна для Сент-Экзюпери. Старый владыка пустыни, который делится с нами своей мудростью и опытом, был в прошлом кочевником. Затем он понял, что человек может обрести мир, только если он воздвигает свою цитадель. Человек испытывает потребность в собственном крове, в своем поле, в стране, которую он может любить. Груда кирпичей и камней – еще ничто, ей не хватает души зодчего. Цитадель возникает, прежде всего, в сердце человека. Она соткана из воспоминаний и обрядов. И самое главное – хранить верность этой цитадели, «ибо мне никогда не украсить храм, если я каждое мгновение начинаю возводить его заново». Если человек рушит стены, желая обрести этим свободу, он сам уподобляется «полуразрушенной крепости». И тогда им овладевает тревога, потому что он перестает ощущать свое реальное существование. «Мои владения – это не стада, не поля, не дома и не горы, это нечто совсем иное, это то, что главенствует над ними и связует их воедино». И цитадель и жилище скреплены узами определенных отношений. «И обряды занимают такое же место во времени, какое занимает жилище в пространстве». Хорошо, когда время также представляет собою как бы некое сооружение и человек постепенно переходит от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от одного сбора винограда к другому. Уже Огюст Конт, а вслед за ним Ален доказывали важность церемоний и торжественных обрядов, ибо без этого, считали они, не может существовать человеческое общество. «Я вновь учреждаю иерархию, – говорит владыка пустыни. – Сегодняшнюю несправедливость я преобразую в завтрашнюю справедливость. И таким путем я облагораживаю свое царство». Сент-Экзюпери, подобно Валери, восхваляет условности. Ибо если уничтожить условности и забыть о них, человек снова становится дикарем. «Несносный болтун» упрекает кедр за то, что он не пальма, он хотел бы уничтожить все вокруг и стремится к хаосу. «Однако жизнь противится беспорядку и стихийным наклонностям». Такая же строгость и в вопросах любви. «Я замыкаю женщину в браке и повелеваю побивать камнями неверную супругу, уличенную в прелюбодеянии». Разумеется, он понимает, что женщина – существо трепетное, она вся во власти мучительного желания быть нежной и потому взывает к любви во мраке ночи. Но тщетно станет она переходить из шатра в шатер, ибо ни одному мужчине не дано удовлетворить ее желания полностью. А раз так, для чего разрешать ей менять супруга? «Я спасаю только ту женщину, которая не преступает запрета и дает волю своим чувствам лишь в мечтах. Я спасаю ту, которая любит не любовь вообще, а лишь того мужчину, чей облик воплотил для нее любовь». Женщина также должна воздвигнуть цитадель в своем сердце. Кто так повелевает? Владыка пустыни. А кто повелевает владыкой пустыни? Кто диктует ему это почтение к условностям и прочным узам? «Упрямо я поднимался к богу, чтобы вопросить его о смысле вещей. Но на вершине горы я обнаружил только тяжелую глыбу черного гранита, она-то и была богом». И он молит бога вразумить его. Однако гранитная глыба остается непроницаемой. И должна вовеки пребывать такой. Бог, который разрешает себя разжалобить, – уже не бог. «Он уже не бог и тогда, когда прислушивается к молитве. Впервые в жизни я постиг, что величие молитвы состоит прежде всего в том, что она не находит отклика, в том, что это общение между верующим и богом не омрачается неприглядной сделкой. И урок молитвы – это урок молчания. И любовь возникает только тогда, когда уже не ждут дара. Любовь – это, прежде всего, упражнение в молитве, а молитва – упражнение в молчании». Вот, быть может, последнее слово мистического героизма.IV. Философия
Были люди, которым хотелось бы, чтобы Сент-Экзюпери удовольствовался тем, что он писатель, небесный путешественник, и они говорили: «Зачем он постоянно пытается философствовать, когда он отнюдь не философ». А вот мне как раз нравится, что Сент-Экзюпери философствует. «Надо думать с помощью своих рук», – писал некогда Дени де Ружмон[131]. Летчик думает с помощью всего своего тела и с помощью своего летательного аппарата. Самый прекрасный образ, созданный Сент-Экзюпери, даже более прекрасный, чем образ Ривьера, – это образ человека, чье мужество исполнено такой простоты, что рассказывать о его мужественных поступках было бы смешно. «Ошедэ – бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и, прежде всего, за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться»[132]. Мужество не может возникнуть в результате ловко составленной речи, оно рождается из своего рода наития, которое становится действием. Мужество – это реальный факт. Дерево – это реальный факт. Пейзаж – это реальный факт. Мы могли бы мысленно разъять на составные части эти понятия, прибегнув к анализу, но это было бы пустым занятием и только нанесло бы им ущерб… Для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Сент-Экзюпери относится пренебрежительно к отвлеченному мышлению. Он мало верит в различные идеологические построения. Он бы охотно повторял вслед за Аленом: «Для меня всякое доказательство заранее порочно». Как могут абстрактные понятия заключать в себе истину о человеке? «Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды – значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная, дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе не подозревал, – значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело – объяснить жизнь, пусть выкручивается как угодно…»[133] Что же такое истина? Истина – это не доктрина и не догма. Ее не постигнешь, присоединившись к какой-нибудь секте, школе или партии. «Истина человека – то, что делает его человеком»[134]. «Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества думает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым – и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники… К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же. Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтоб в каждом ударе кирки был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но, если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми»[135]. Тот, кто создал столь относительное представление об истине, не может упрекать других людей за то, что их верования отличны от его собственных. Если истина для каждого – это то, что его возвеличивает, тогда вы и я, хотя мы и поклоняемся разным богам, можем ощутить между собою близость благодаря общему пристрастию к величию, благодаря нашей общей любви к самому чувству любви. Интеллект только тогда чего-нибудь стоит, когда он служит любви. «Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. Зерно кедра, так или иначе, превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения…»[136]. О человеке не следует спрашивать: «Какой он придерживается доктрины? Какому он следует этикету? К какой партии он принадлежит?» Главное: «Что он за человек», а не что он за индивид. Ибо в счет идет человек, принадлежащий к той или иной социальной группе, стране, цивилизации. Французы начертали на фронтонах своих общественных зданий: «Свобода, равенство, братство». Они были правы: это прекрасный девиз. Но при том условии, прибавляет Сент-Экзюпери, если сознают, что люди могут быть свободны, равны и могут чувствовать себя братьями только в том случае, если кто-то или что-то их объединяет. «Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне – значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодцу. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места»[137]. В этом же смысле можно сказать: «Солдат и его командир равны в нации». Верующие были равны в боге. «Выражая бога, они были равны в своих правах. Служа богу, они были равны в своих обязанностях. Я понимаю, почему равенство в боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядков. Демагогия возникает тогда, когда за отсутствием общей веры принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации». И наконец, братство. «Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я – братья в группе 2/33. Французы – братья во Франции»[138]. Подведем итог: жизнь человека действия полна опасности; смерть все время подстерегает его; абсолютной истины не существует; однако жертвенность формирует людей, которые станут владыками мира, ибо они – владыки самих себя. Такова суровая философия летчика. Достойно удивления, что он извлекает из нее некую форму оптимизма. Писатели, проводящие жизнь за письменным столом, в которых медленно остывает жар души, становятся пессимистами, потому что они изолированы от других людей. Человеку действия неведом эгоизм, потому что он сознает себя частью группы товарищей. Боец пренебрегает мелочностью людей, ибо он видит перед собою важную цель. Те, кто вместе трудится, те, кто разделяет общую ответственность с другими, поднимаются над враждою. Урок Сент-Экзюпери все еще остается живым уроком. «Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда»[139], – говорит Маленький принц; он говорит также: «И когда ты утешишься (в конце концов, всегда утешаешься), ты будешь рад, что знал меня когда-то. Ты всегда будешь мне другом»[140]. Мы рады, что знали его когда-то; и мы всегда будем ему друзьями.Репортажи (Антуан де Сент-Экзюпери)
Москва
Под гул тысячи самолетов Москва готовится праздновать годовщину революции
Позавчера вечером, в канун 1 Мая, я бродил по улицам ночной Москвы и смотрел, как она готовится к необычайному празднеству. Город превратился в строительную площадку. Одни бригады украшали дома и памятники лампочками, флагами и красными полотнищами; другие отлаживали прожекторы, третьи суетились прямо на Красной площади, возя тачки с булыжником, ровняя мостовую. Ревностная ночная работа кипела повсюду – шла большая игра, танцевался трудный молчаливый танец вокруг костров. Ветер надувал огромные красные полотнища на фасадах домов, и казалось, парусники готовы тронуться в путь, все сдвинулось с места, пустилось в странствие к неведомым горизонтам. Мужчины и женщины работали, не останавливаясь. Те самые мужчины и женщины, числом около четырех миллионов, что послезавтра пройдут колонной по площади перед Сталиным, воздавая всем городом ему честь. Вот на стену подняли огромное, похожее на памятник, панно: на фоне заводов, словно вырубленный топором, Главный мастер, и я решил не спеша обойти вокруг Кремля, где, быть может, мастер уже спит, где, быть может, тоже готовятся к празднику. – Проходите! Охрана днем и ночью бдит над запретным кварталом, где обитает Хозяин. Оказывается, вдоль красных стен гулять запрещено. Как же оберегают этого человека! Не только стены и часовые охраняют крепость, что похожа на город и вмурована в город, – внутри Кремля, между стенами и зданиями, темными, поблескивающими золотом, зеленеют откосы-ловушки. Зеленый безмолвный пояс окружает Сталина, ни один человек не проскользнет через него незамеченным, любое появление покажется взрывом. Тихо, пустынно. Легко вообразить, что Сталин не существует вовсе, до такой степени он незрим. Однако спящий сейчас под охраной часовых, зеленых откосов, стен, воодушевляет незримым присутствием всю Россию, действует на нее, как бродило, как дрожжи. И если никто не видит самого вождя, сотни тысяч его портретов висят на московских улицах. Нет магазинной витрины, ресторана, театра без портрета, нет стены, с которой бы он не смотрел. И мне кажется, я разгадал причину такой удивительной популярности. Поначалу, я думаю, Сталин показался русским безжалостным угнетателем. Он навис над Россией, когда люди пытались спастись, кто как мог: одни бегством за границу, другие грабежом, третьи спекуляцией. Сталин запер голодных и отдал приказ: «Не трогайтесь с места! Стройте! Голод и нужда – враги, которых можно уничтожить на месте, нося камни, копая землю». Так он повел народ к земле обетованной, и эту обетованную землю заставил родиться на месте пустоши, отказавшись от исхода на тучные пастбища, отказавшись от миражей, порожденных авантюристами. Удивительная, необычная власть. В один прекрасный день Сталин объявил, что только тот достоин имени человека, кто не пренебрегает своим внешним видом, небритые лица признак распущенности. На следующий же день после изданного декрета мастера на заводах, заведующие отделами в магазинах, преподаватели факультетов отправляли домой работников и студентов, явившихся со щетиной на подбородке. – Времени не было, не успел, – оправдывался студент. – Добросовестный студент, – отвечал преподаватель, – всегда найдет время, чтобы оказать честь главному. Так, буквально в один день, Сталин одарил Россию свежими помолодевшими лицами, одним махом вытащил ее из грязи. Такой вот, согласимся, весьма необычный был заключен договор. На московских улицах я видел только свежевыбритых милиционеров, солдат, официантов, прохожих. Верится, что волшебная палочка планирования коснется однажды и одежды москвичей, тогда улицы Москвы посветлеют, а пока кепки и рабочая одежда горожан придают ей что-то щемяще серое. Не кажется невероятным, что в один прекрасный день Сталин из глубин Кремля отдаст приказ: уважающий себя пролетарий одевается к ужину. И в этот день Россия сядет ужинать в смокингах. Таков спящий сейчас в Кремле человек-невидимка, он покажется соотечественникам только послезавтра. На собственном горьком опыте я убедился, что появление бога из табакерки дело непростое: мне отказали в пригласительном билете на Красную площадь. Чтобы попасть туда, нужно было приехать гораздо раньше, так как каждый приглашенный заполняет особую анкету, после чего подвергается тщательной и суровой проверке. У меня не достало времени запустить в действие административную машину, задействовать посольство, попросить помощи у друзей, а собственные мои усилия не привели ни к чему. В радиусе с километр вокруг Сталина не может появиться ни один человек, чье гражданское положение и прошлое не было бы тщательно проверено, перепроверено и для надежности проверено в третий раз. Ранним утром Первого мая я спустился, собираясь пройтись по городу, но нашел дверь гостиницы запертой. Мне сообщили, что откроется она только в пять часов вечера. Те, у кого не было пригласительного билета, оказались пленниками. Грустно слонялся я по гостиничным коридорам и вдруг услышал рокот грозы. Но то была не гроза – летели самолеты. Тысяча самолетов летела над Москвой, и земля сотрясалась. Не видя, я ощущал тяжесть железного кулака, нависшего над Москвой. Я решил непременно выбраться из гостиницы и выбрался не совсем честным путем. Улица оказалась до странности пустынной – ни машин, ни прохожих, и только несколько ребятишек играли на мостовой. Я поднял глаза к небу и увидел стальные треугольники, они нависали над узкой полосой доступного мне пространства, не исчезая. Жесткий порядок, в котором летели самолеты, требовал необычайной слаженности. Неспешное продвижение темных треугольников, громогласный торжествующий неумолчный рокот тысячи летящих самолетов действовал подавляюще, не было человека, который не ощутил бы их властной мощи. Они летели и летели, а я, прислонившись спиной к стене, смотрел на них и понял одно: несколько самолетов летят, множество самолетов надвигаются, словно лава. Я прошел еще несколько мертвых улиц, обошел несколько оцеплений и добрался, наконец, до улицы живой – по ней текли демонстранты к Красной площади. Она была запружена вся, от края до края. Толпа продвигалась медленно, неотвратимо, шаг за шагом, и тоже была похожа на темную лаву. В шествии целого города, в перелете тысячи самолетов есть та же неумолимость, что и в единодушном решении присяжных. Медленное шествие людей в темных одеждах с красными флагами, не ведающих о своей силе, впечатляло больше, чем маршировка солдат, солдаты исполняют свою работу, покончив с ней, становятся разными людьми. Эти же были едины во всем – в рабочей одежде, плоти, мыслях. Я видел, что они движутся вперед и тогда, когда остановились на месте. Стояли они долго. Для прохода на Красную площадь открыли, как шлюзы, несколько других улиц, и на этой должны были подождать. И люди ждали, стоя на ледяном холоде, – вчера вечером шел снег. И вдруг произошло чудо. Чудом было обретение человечности, единое целое рассыпалось на живых людей. Послышались звуки аккордеона. Музыканты, рассеянные в толпе с трубами и тарелками, тоже встали в круг и заиграли. Толпа, желая, наверное, и согреться, и развлечься, и попраздновать, пустилась в пляс. Десятки людей, мужчин и женщин, у входа на Красную площадь, сразу утратив напряжение целеустремленности, улыбаясь во весь рот, танцевали, и улица стала доброй и симпатичной, похожей на улицу парижского предместья в ночь на 14 июля. Незнакомец окликнул меня и протянул сигарету, второй дал огонька: люди выглядели счастливыми… Но вот толпа заволновалась, музыканты убрали инструменты, демонстранты подняли вверх флаги, выстроились в ряды. Распорядитель одной из колонн протолкнул женщину вперед, помогая занять ей в ряду свое место 41. Помощь была последним человеческим, семейным жестом, и вот уже все подтянулись, посерьезнели и зашагали к Красной площади, толпа вновь обрела монолитность, готовясь предстать перед Сталиным.По пути в Советский Союз
Ночью в поезде среди шахтеров-поляков, возвращавшихся на родину, спал маленький Моцарт, похожий на сказочного принца. Я рассказал о первомайской Москве, куда приехал в канун праздника. Отдал дань сиюминутности. А должен был бы описать сначала, как добирался до России. Рассказать о дороге – предисловии, что готовит нас к пониманию страны. Атмосфера международного поезда, и та что-то приоткрывает. Полями и перелесками мчится ночью не поезд – средство проникновения и постижения. Мчится по прямой через Европу, а ее сотрясает дрожь тревоги и гнева. Проникновение, казалось бы, по касательной дается легко, но и благодаря ему удается заметить невидимые раны. Полночь, лежу на полке в купе, светит синеватый ночник, я просто еду. Постукивают колеса. Металл, дерево передают мне это постукивание, оно похоже на биение сердца. Снаружи что-то происходит. Изменяется качество звука. На мосту громче становится скрежет. На просторных вокзалах звук утекает, будто в песок. Больше пока я ничего не знаю. Тысячи пассажиров спят в купе, перемещаясь с той же легкостью, что и я. Им так же тревожно, как мне? Скорее всего, мне не удастся добраться до того, чего я ищу. Не экзотики, ей я не доверяю. Я слишком много странствовал, чтобы не знать, как она поверхностна. Происходящее кажется нам зрелищем, интригуя и вызывая любопытство до тех пор, пока мы смотрим на него со стороны, как чужие. Пока не понимаем сути. Назначение обычаев, обрядов, правил игры в том, чтобы придавать жизни вкус, наполнять ее смыслом. И если обычаи обладают такой возможностью, они уже не причудливы, они так просты, так естественны. И все-таки каждый смутно чувствует сокровенную суть путешествия. Для всех нас в нем есть что-то похожее на свидание, незнакомая женщина движется нам навстречу. Она не видна в толпе, мы должны ее отыскать. Женщина неотличима пока от всех других. И кто знает, может быть, нам придется заговорить с тысячью женщин, потерять понапрасну время и все-таки не встретиться с той, которая бы открылась нам, потому что мы не сумели ее угадать. Да. Именно таково путешествие. Я решил осмотреть свое пристанище – дом, пленником которого сделался на три дня, обреченный днем и ночью слушать, как море перекатывает гальку. Я поднялся со своего места. Час ночи. Я прошел поезд из конца в конец. Спальные вагоны пусты. Пусты купе первого класса. Вспомнились роскошные отели Ривьеры, может, какой-то из них и откроется разок за зиму, чтобы приютить одного-единственного постояльца, представителя исчезающего вида, знаменующего, что времена неблагополучны. Зато вагоны третьего класса набиты сотнями уволенных рабочих поляков, они возвращаются к себе в Польшу. Я продвигался узкими коридорами, которые образовали изгибы лежащих тел. Останавливался, смотрел на спящих. Стоя в вагонах без перегородок с запахом казарм или тюрем, я наблюдал в свете ночников, как сотрясает уснувших скорый поезд. Спящие видели скверные сны, возвращаясь в свою нищету. Большие бритые головы мотались на деревянных скамейках. Мужчины, женщины, дети постоянно ворочались, словно шумы и тряска, вторгаясь в их ненадежное забытье, чем-то им грозили. В милосердии крепкого сна им было отказано. Мне показалось, что им отказали и в праве быть людьми, отдав на волю экономических сквозняков, которые оторвали и унесли их от маленьких домиков с палисадниками на севере Франции, от горшков с геранями на подоконниках, – я заметил, что герани всегда цветут на окнах у шахтеров-поляков. Они собрали лишь кухонную утварь, одеяла и занавески, кое-как увязав их в узлы и мешки. Но всех, кого они гладили, любили, с чем сжились за четыре-пять лет во Франции, – кошек, собак, герани они с болью отсекли от себя, подхватив лишь узлы с кастрюлями. Младенец сосал материнскую грудь, а мать до того устала, что, похоже, спала. Жизнь не иссякала и в нелепом хаосе их перемещения. Я посмотрел на отца. Голый череп каменной тяжести. Спит тревожно, ему неудобно, тело сковано грубой одеждой, которая топорщится горбами. Похоже, лежит груда глины. Бродяга из тех, что ночуют, прячась в рыночных прилавках. Я подумал: «Я ведь не о нищете, не о грязи, не о некрасивости. Этот мужчина и эта женщина когда-то познакомились. Мужчина наверняка улыбнулся женщине. Он наверняка после работы принес ей цветы. Застенчивый, неуклюжий, он, возможно, боялся, что его отвергнут. А она, не сомневаясь в своей женской прелести, возможно, из присущего женщинам кокетства, мучила его. И у мужчины, который стал теперь инструментом, лопатой, кувалдой, от волнения сладко заходилось сердце. Как же он сделался грудой глины, вот загадка. Какие жернова перемололи его и изуродовали? Олень, газель, любое животное, состарившись, не теряют природной стати. Почему же так искажается добротное человеческое естество?» Я двинулся дальше, пробираясь среди тревожно спящих людей. Неспокоен был даже воздух, слышался храп, хрипы, невнятные стоны, стук башмаков, – у людей затекали руки и ноги, и они переворачивались на другой бок… А море все шуршало и шуршало галькой… Я присел напротив семейной пары. Примостившись между мужчиной и женщиной, спал ребенок. Он повернулся во сне, и свет ночника упал на его лицо. До чего хорош! Среди кривых ветвей сияло золотое яблочко. Неуклюжая тяжесть скопила красоту и изящество. Я наклонился, чтобы разглядеть получше безупречно гладкое личико, красиво очерченный рот. Я сказал себе: «Вот лицо музыканта, это маленький Моцарт, чудесное обещание, подаренное жизнью!» Он был точь-в-точь как маленький принц из средневековой легенды. Если заботиться о нем, баловать, учить, кто знает, чего он сможет добиться? Когда в саду, благодаря чудесам мутации, вдруг расцветает необычная роза, сбегаются все садовники. Ее окружают заботой, ухаживают, берегут. Но нет садовников для людей. Маленького Моцарта тоже переработают жернова. Лучшее, что услышит этот Моцарт, будут расхлябанные песенки в дешевом кафе-шантане, пропахшем табаком. Моцарт обречен… Я вернулся к себе в вагон. И вот с какими мыслями: «Эти люди привыкли к нищете. И меня томит вовсе не жажда благотворительности. Я не ищу мази, которая смягчила бы боль незаживающей раны. Они истекают кровью, но боль их не мучает. А меня мучает урон, который нанесен человеческой сути, не одному человеку – весь наш род терпит ущерб. Не жалость щемит мне сердце, жалости не доверишься. Забота садовника мешает мне спать этой ночью. Я опечален не бедностью, с бедностью сживаются так же, как сживаются с бездельем. На Востоке люди живут в грязи, и грязь им в радость. Печалит меня то, чему не поможет бесплатный суп. Печалят не горбы, не дыры, не безобразие. Печалит, что в каждом из этих людей погасла искорка Моцарта». Я снова у себя в купе. Проводник окликает меня. Вагон покачивает, и проводник покачивается вместе с ним, в синеватом свете ночника лицо у него восковое. Проводник тихо задает вопрос. Ночью в поезде кто бы ни заговорил, кажется, он открывает тайну. Меня он спросил, во сколько завтра меня разбудить. Какая тут тайна, казалось бы. И все-таки я что-то для себя открыл. Очень важное. Явственно ощутил, что мы с проводником замкнуты каждый в своем мире, между нами пустота, мы отгорожены друг от друга. В городе не до человека. Людей нет, есть функции: почтальон, продавец, сосед, который мешает. Человеком дорожишь в пустыне. Самолет потерпел аварию, и я долго брел, отыскивая форт Ноутшот. Он чудился мне в миражах, возникавших в бреду от жажды. В конце концов, я добрался до форта, там, в полном одиночестве, долгие месяцы жил старик-сержант, – от волнения он расплакался. Я тоже. И под необъятным покровом ночи каждый из нас рассказал другому свою жизнь, передал в дар груз воспоминаний, благодаря которым люди понимают: они родня. В пустыне встретились два человека и почтили друг друга дарами, достойными двух послов. Вагон-ресторан. Чтобы до него добраться, я вновь прошел по вагонам, где ехали поляки. Днем все выглядело совершенно иначе. Ночная правда днем не видна. Люди собрались, прибрались, вытерли детям носы, расселись компаниями. Они смотрят в окно, они шутят. Кто-то тихонько напевает. Трагедии больше нет. Посмотрев на этих людей при свете дня, можно жить совершенно спокойно. Их тяжелые грубые руки умеют только копать. Они не мучают себя умозрениями, они созданы своей участью, и эта участь подходит им как нельзя лучше. Я мог бы порадоваться, глядя, как они достают из промасленной бумаги еду, как незатейливо веселятся. Мог бы успокоить себя, сказав, что социальных проблем не существует. Люди эти грубы и похожи на камни. Но ночная магия показала мне, что в глубине породы может спать маленький Моцарт… Вагон-ресторан мчит равнинами и лесами. За окнами уже тощая земля, скудные леса, похожие на мех, траченный молью. Вагон-ресторан приближается к центру Германии. Сегодня вагон-ресторан немецкий. Официанты обслуживают нас с прохладной вежливостью знатных сеньоров. Интересно, почему официанты, будь они поляки, немцы, русские, держатся с аристократической величавостью? Почему, оказавшись за пределами Франции, убеждаешься всякий раз, что французы одрябли? Откуда взялось во Франции пошловатое запанибратство предвыборных кампаний? Почему людям стала безразлична их работа, почему не интересна общественная жизнь? Почему они спят? Лучший пример безразличия – провинциальные торжества: министр перед памятником неведомому выскочке целый час расточает ему похвалы, читая речь, которую сам не писал, а толпа слушает его, не слыша. Все играют в игру, все притворяются. И думают как один о банкете. Но вот ты пересек границу и видишь, что люди всерьез заняты своей деятельностью. Официанты вагона-ресторана в безупречных фраках безупречно подают на стол. Министр, открывая памятник, умеет найти слова, которые задевают людей. Слова зажигают сердца, и открытие самого незначительного памятника окружают крепким каркасом полиции, опасаясь подземного огня. Игра играется не впустую. Так-то оно так, но во Франции так приятно живется, и друг другу мы все как родные… Шофер такси своим запанибратством сразу принимает вас в друзья, а уж до чего расположены к вам официанты на улице Рояль! Они знакомы с половиной Парижа, со всеми ее секретами, раздобудут для вас самый потаенный телефон и, если понадобится, одолжат сто франков, а когда распускаются почки, они оборачиваются к старым клиентам, чтобы и те порадовались радостной вести, которую они готовы сообщить: – Смотрите-ка, ведь весна пришла… Все противоречиво. Беда, если сделаешь выбор, если откроешь для себя, куда движется жизнь. Эта мысль пришла мне во время разговора с немцем, он сидел напротив меня и говорил: «Если Франция и Германия объединятся, они будут заправлять всем миром. Почему французы боятся Гитлера, он же оплот против России? Он поможет здешнему народу стать свободным народом. Он из тех, кто строит, после таких в городах остаются прямые проспекты, носящие их имя. Гитлер – воплощенный порядок». А за столом я сижу с испанцами, они так же, как я, едут в Россию и заранее полны энтузиазма. Я слышу их разговор о Сталине. О пятилетнем плане. Обо всем, что там расцветает… Пейзаж, тем временем, опять изменился. Как только пересечешь французскую границу, весна занимает тебя чуть меньше, зато судьбы людей, похоже, волнуют чуть больше.Москва! А где же революция?
Через полчаса после того, как мы пересекли границу России, наш скорый замедлил ход. Он будто выдохся. Я закрыл чемодан, нам предстояло пересесть на другой поезд, и я стоял в коридоре, уткнув нос в окно и мечтая. Польша останется во мне воздухом, скрипящим песком и черными елями. Увезу и воспоминание о скудном побережье. Чем ближе мы к северу, тем интереснее раскрашивает все свет. В тропиках свет яркий, но рисовать он не умеет. Там есть свет, и в ослепительном свете черные предметы. Даже небо кажется черным. А здесь все вокруг оживает, поблескивает. Этим вечером свет устроил елкам безмолвный праздник, посеребрив их. Ели – деревья невеселые, но они дружат со светом, а пожар в еловом лесу напоминает ураган. Я вспоминаю еловые леса у себя в ландах, они не сгорали, они улетали. Поезд мягко замедляет ход у платформы… Мы в России: Негорелое. Что за предубеждение настроило меня на мысль о разрухе? В помещении таможни можно устраивать празднества. Просторное, проветриваемое, с позолотой. В привокзальном ресторане не меньший сюрприз. Тихонько наигрывает цыганский оркестр, среди кадок с растениями стоят небольшие столики, за ними обедают посетители. Действительность обманывает мои ожидания, и я становлюсь подозрительным. Все это устроено для иностранцев. Да, вполне возможно. Но таможня в Белгороде тоже для иностранцев, а там она похожа на складской двор. Разумеется, я могу допустить, что мне втирают очки, но поскольку я сейчас не судья, а обычный иностранец, у которого досматривают багаж, то я ничего не имею против, чтобы его досматривали в чистоте. Мой сосед настроен не так добродушно. «Я понимаю, вы у себя хозяева, и не могу помешать вам пачкать мое белье…» Таможенник посмотрел на него и вновь с непоколебимым спокойствием принялся перебирать вещи у него в чемодане. Он до того спокоен, что даже не считает нужным проверять их с нарочитым пристрастием. Не ощущает надобности подчеркивать свою власть. И я чувствую вдруг – за его спиной стоят сто шестьдесят миллионов человек, они его опора. Россия огромна, и я остро чувствую мощь поддержки. Сосед потерялся перед спокойствием таможенника. Его натиск закончился ничем, точно так же, как натиск целой армии, встреченной безмолвием и снегом. Сосед умолк. Потом, расположившись в московском поезде, я пытаюсь рассмотреть в темноте, что же за окном. Передо мной страна, о которой если говорят, то говорят с пристрастием. О которой из-за пристрастий мы не знаем почти ничего, хотя Советский Союз совсем недалеко от нас. Мы куда лучше знаем Китай, у нас есть точка зрения на него, и с этой точки зрения мы его обсуждаем. Мы никогда не спорим из-за Китая. Но если мы обсуждаем Советский Союз, мы обязательно впадаем в крайности – восхищаемся или негодуем. В зависимости от того, что ставим на первое место: созидание человека или уважение прав личности. Но пока передо мной не стоит никаких проблем. Дверь в эту страну открыл передо мной вежливый таможенник. Наигрывал цыганский оркестр. А в вагоне-ресторане меня встретил самый стильный, самый подлинный из метрдотелей. Наступило утро, вагон слегка лихорадит близость прибытия. На уплывающей земле появились домики. Домиков все больше, стоят они все теснее. Выстраивается сеть дорог, впереди манит некий центр. Пейзаж стягивается в узел. Узел – Москва, она главная среди этих пятен. Поезд поворачивает, и перед нами открывается столица, вся целиком, как целостная панорама. А над Москвой самолеты, я пересчитал их, – семьдесят один. Первое впечатление – огромный, живой, кипящий пчелами улей, и над ним жужжащий, гудящий рой. Жорж Кессель встретил меня на вокзале, подозвал носильщика, и воображаемый мир лишился еще одного призрака – носильщик самый обыкновенный, как везде. Он уложил мои чемоданы в такси, а я, прежде чем сесть, огляделся вокруг. Увидел просторную площадь, по гладкому асфальту катят, рыча, грузовики. Увидел цепочку трамваев, как в Марселе, и неожиданно заметил совсем провинциальную картинку: толпа ребятишек и солдат окружила разносчика мороженого. Потихоньку меня избавляли от наивной веры в сказку. Я уразумел, что шел неверной дорогой, ждал таинственных знаков, каких и быть не могло. С детским простодушием я искал революционности в носильщике, в устройстве витрины. Хватило двухчасовой прогулки, чтобы избавить меня от иллюзий. Не стоило искать революции там, где искал ее я. Обыденная жизнь ничем меня больше не удивит. Я не буду удивляться юным девушкам, которые будут отвечать мне: «У нас в Москве не принято, чтобы девушка одна приходила в бар». Или: «В Москве тоже целуют руки женщинам, но не во всех слоях общества». Не удивлюсь, если мои русские друзья отменят обед, потому что кухарка попросила отпустить ее навестить больную мать. На собственных просчетах я вижу, как постарались исказить предпринятый русскими эксперимент. Совершенно в другом нужно искать жизнь Советского Союза. По другим приметам можно открыть, как глубоко эта почва была перепахана революцией. Хотя улицы и здесь по-прежнему будут мостить мостильщики, а заводами управлять директора, а не кочегары. И если у меня будет еще день или два на знакомство с Москвой, то я ничему не буду удивляться. Не откроешь Москву на перроне. Город не посылает к приезжим послов. Только президенты республик обнаруживают на вокзале маленькую эльзаску в национальном костюме. Только президенты республик целуют разнаряженную малышку и сразу постигают душу города. Только они радостно делятся своим нежданным открытием в приветственной речи, держа малышку на руках.Преступление и наказание перед лицом советского правосудия
Первое, что сказал судья, едва началась наша беседа в его кабинете, – показалось мне и самой главной его мыслью: «Не в том дело, чтобы наказывать, а в том, чтобы исправлять». Говорил он так тихо, что я наклонился, чтобы расслышать, между тем его руки осторожно разминали невидимую глину. Глядя далеко поверх меня, он повторил: «Надо исправлять». Вот, подумал я, человек, не знающий гнева. Он не удостаивает себе подобных признанием того, что они действительно существуют. Люди дляэтого судьи – хороший материал для лепки, и как не чувствует он гнева, так не чувствует и нежности. Можно прозревать в глине свое будущее творение и любить его большой любовью, но нежность рождается только из уважения к личности. Нежность свивает гнездо из мелочей – забавных черточек лица, пустяшных причуд. Теряя друга, оплакиваешь, быть может, это его несовершенство. Этот судья не позволяет себе судить. Он как врач, которого ничто не поражает. Он лечит, если может, а если не может, то, служа всему обществу, расстреливает. Приговоренный заикается, на его губах страдальческая гримаса; у него ревматизм, и от этого он так смиренно близок нам, – но все это не вызовет милосердия судьи. И я догадываюсь уже, что за великим неуважением к отдельному человеку здесь стоит великое уважение к человеку вообще, длящемуся из века в век поверх отдельных человеческих жизней и созидающему великое. А виновный, думаю я, здесь больше ничего не значит. Я понимаю теперь, почему русское законодательство, так часто карающее смертью, не предусматривает заключения больше чем на десять лет и допускает всяческие снижения этого срока. Если отступник может вернуться в лоно общества, он вернется и раньше. Зачем же продлевать наказание, если наказанный уже стал другим человеком? Ведь и с арабским вождем, признавшим наши законы, мы обращаемся как с равным. Так что само понятие наказания здесь, в СССР, потеряло смысл. У нас говорят, что осужденный расплачивается за свой долг. И каждый год искупления – выплата по некоему незримому счету. Долг может оказаться неоплатным – и тогда осужденному отказывают в праве снова стать человеком. И пятидесятилетний каторжник все еще платит за двадцатилетнего мальчика, которого гнев однажды толкнул на убийство. Судья продолжает, будто размышляя вслух: «Если надо вызвать страх, если преступления против общества множатся, и речь уже идет об эпидемии, – мы караем более сильно. Когда армия разлагается, мы расстреливаем для примера. И тот, кто двумя неделями раньше получил бы три года исправительных работ, расстается с жизнью за мелкий грабеж. Но мы остановили эпидемию, мы спасли людей. Если что и кажется нам аморальным – то не эта жестокость в случаях, когда общество в опасности, а заключение заключенного в рамки одного-единственного слова. Разве убийца является убийцей по своей природе, на всю жизнь, как негр – на всю жизнь негр? Убийца – всего лишь истерзанный человек». Руки судьи все лепят и лепят невидимую глину. «Исправлять, исправлять, – говорит он. – Мы достигли на этом пути больших успехов». Попробую встать на его точку зрения. Представляю себе гангстера или сутенера, их мир со своими законами, своей моралью, своей жестокостью и самоотверженностью. Признаю: человеку, прошедшему такую школу, не стать деревенским пастухом. Он не сможет без приключений, без ночных засад. Без упражнения способностей, выработанных в нем его жизнью, – будь то решительность, смелость, быть может, талант вожака. Он будет чувствовать себя ущемленным, сколько ни тверди о преимуществах добродетели. Жизнь накладывает свой отпечаток. Проститутки тоже отмечены печатью своего ремесла и не слишком позволяют обратить себя в другую веру: они сжились с тоской изматывающего и горького ожидания, с ледяным и скорбным вкусом рассвета, с самим страхом своим, наконец, со свежим рогаликом – лучшим другом в пять утра, в час замиренья с полицией и всем этим непокорным, враждебным городом, в час, когда распутывается хитросплетенье ночных угроз. Кто знает вкус беды? Те и другие стали собой на войне, а потому их не прельстит мир. Тем более – мир, основанный на совести. Но вот перед нами чудо. Этих воров, сутенеров, убийц вытаскивают из каторжной тюрьмы, словно из гигантского бака, и отправляют под охраной нескольких ружей рыть канал от Белого моря до Балтийского. Вот и снова приключение для них, да еще какое! Им предстоит, пахарям-исполинам, провести борозду от моря до моря, глубокую, как овраг, под стать морским кораблям. Возвести соборы стройплощадок и встретить земляные пласты, оползающие с откосов выемки, лесом мощных брусьев, трещащих, точно солома, под напором сил Земли. С приходом ночи они возвращаются в бараки под прицелом карабинов. И густая усталость разливается мертвой тишиной над этим народом, разбившим лагерь на самом переднем крае своего пути, лицом к еще не тронутым землям. И мало-помалу людей захватывает эта игра. Они так и живут бригадами, управляют ими свои инженеры и мастера (ведь в тюрьме оказываются и они). Во главе встают те из них, кто лучше умеет предъявить свой дар вожака. – Да, в том, что касается основ правосудия, я согласен с вами, господин судья. Но нескончаемая борьба, постоянный надзор, внутренний паспорт, порабощение человека коллективом – вот что кажется нам недопустимым. И, однако, я начинаю понимать и это. Они требуют, чтобы люди не только подчинялись законам созданного здесь общества, но и жили ими. Они требуют, чтобы люди объединялись в единый социальный организм не только по видимости, но и всем сердцем. И только тогда они ослабят дисциплину. Один мой приятель рассказал мне прекрасную историю, она немного прояснит, в чем тут дело. Опоздав на поезд в каком-то далеком маленьком городке, он устроился ближе к вечеру в зале ожидания местного вокзала, между узлов с пожитками, среди которых попадались неожиданные предметы, вроде самоваров; он подумал, что это вещи отъезжающих. Но наступила ночь, и один за другим в зал стали возвращаться хозяева всего этого скарба. Они шли не спеша, умиротворенные обыденностью происходящего. В лавочках по дороге они купили все необходимое и теперь собирались варить овощи. Воцарился дух доверия, как в старом семейном пансионе. Кто-то пел, кто-то вытирал нос ребенку. Мой приятель спросил у начальника вокзала: – Что они тут делают? – Ждут, – ответил тот. – Чего ждут? – Разрешения ехать. – Ехать куда? – Просто ехать, сесть на поезд. Начальник вокзала не был этим удивлен. Они просто хотели ехать. Неважно куда. Чтобы исполнить свое предназначение. Чтобы открыть для себя новые звезды: эти, здешние, казались им траченными временем. Мой приятель сперва восхитился их терпением: два часа в этом зале ожидания представлялись ему уже невыносимыми, три дня свели бы его с ума. Но эти люди потихоньку пели и мирно склонялись над самоварами; и тогда он снова подошел к начальнику вокзала и спросил: – А давно они ждут? Начальник приподнял фуражку, почесал лоб и огласил плод своих подсчетов: – Пожалуй, лет пять или шесть. Потому что у многих русских – душа кочевника. Они не слишком привязаны к своему жилью, им не дает покоя древняя азиатская страсть к странствиям – караваном, под светом звезд. Это племя вечно устремляется на поиски: Бога, правды, будущего… А дом – привязывает к земле, и от него освобождаются легко, как нигде. Как постигнуть это равнодушие, приехав из Франции, где маленький домик на краю поля, потихоньку прядущий тонкую шерстяную ниточку дыма, обладает таким могущественным притяжением? Где судебный исполнитель, выселяя вас, вторгается в самую плоть, разрывая тысячи незримых уз? Во Франции невозможно вообразить жителей Севера, заполонивших вокзалы и опьяненных зовом Прованса: на Севере любят свой родной туман. А здесь… Здесь любят огромный мир. Здесь живут, быть может, не столько в доме, сколько в мечте. Нужно приучить этих людей к земле. Нужно приучить их к земному. И власть борется с этими вечными странниками. С внутренним зовом тех, кто заметил звезду. Нужно не дать им пуститься в странствия – к северу, к югу, по воле незримых приливов и отливов. Нужно не дать им пуститься в странствия вновь, к какому-то новому общественному строю – ведь Революция уже свершилась. Не от звезд ли занимаются пожары в этой стране? И тогда строят дома, чтобы приманить кочевников. Не сдают жилье, а продают его. Вводят внутренний паспорт. А тех, кто поднимает глаза к небу с его опасными знаками, отправляют в Сибирь, где надо еще выжить зимой в 60 градусов мороза. Так, может быть, создают нового человека – стойкого, влюбленного в свой завод и коллектив, как садовник во Франции влюблен в свой сад.Трагическая гибель самолета «Максим Горький»
«Максим Горький», самый большой в мире самолет, разбился. Он шел на посадку, когда его задел истребитель, летящий на скорости более четырехсот километров в час. Одни говорят, что задето было крыло, другие – центральный мотор, но доподлинно известно, что охваченный огнем самолет начал падать. Затем почерневшие крылья, мотор, фюзеляж неспешно разъединились в воздухе. Скорость падения, – и та, казалось, была сдержанной. Зрителям и свидетелям показалось, что они наблюдают за головокружительным скольжением или за торжественным погружением подбитого торпедой корабля. Самолет весом сорок две тонны обрушился на деревянный дом, поджег его и раздавил, обитатели его погибли. Одиннадцать человек экипажа вместе с великим пилотом Журовым и тридцатью пятью пассажирами погибли тоже. Воздушная катастрофа унесла сорок восемь человек. Размах крыльев «Максима Горького», гордости русского воздушного флота, был шестьдесят три метра, длина – тридцать два метра. Восемь моторов, шесть из которых были вмонтированы в крылья, обладали мощностью семь тысяч лошадиных сил. Скорость полета достигала двухсот шестидесяти километров. На самолете был поставлен мощный радиопередатчик, и его голос, несущийся с облаков к тем, кто слушал его на земле, перекрывал рев восьми моторов. За день до катастрофы я летал на «Максиме Горьком». Я был первым иностранцем, который удостоился такой чести. И последним… Меня долго заставили ждать необходимого разрешения и, когда я уже потерял всякую надежду, во второй половине дня принесли разрешение. Я уселся в носовом салоне и оттуда наблюдал за взлетом. Самолет мощно вздрогнул, и я почувствовал, как быстро монумент поднимает в воздух свое основание весом в сорок две тонны. Мягкость взлета меня поразила. Пока мы разворачивались, чтобы лететь к Москве, я отправился на прогулку. С чистой совестью называю осмотр прогулкой, потому что во время полета осмотрел одиннадцать основных отсеков, связанных между собой автоматической телефонной связью. Мало этого, телефонную связь дублировала система пневматической почты, обеспечивая возможность передавать еще и письменные распоряжения. Самолет потрясал своей величиной – помещения располагались не только внутри фюзеляжа, но и в крыльях. Я осмелился войти в коридор левого крыла и стал открывать одну за другой двери, выходящие в него. За дверями открывались комнатки, потом помещения для моторов, каждый мотор был изолирован от других. Меня догнал инженер и показал электростанцию. Электростанция снабжала током не только радиотелефон, громкоговоритель и взлетное устройство, но еще и восемьдесят осветительных точек, общей мощностью двенадцать тысяч ватт. Я осматривал самолет уже четверть часа, погрузившись в его нутро, словно в трюм миноносца, и мне все время светил электрический свет. Я купался в неутомимом и победительном пении моторов. Навстречу мне попались телефонисты, я заметил, что есть помещения с кроватями, видел механиков в синих брезентовых костюмах. Но больше всего я изумился, когда обнаружил небольшой кабинет и в нем юную машинистку, которая печатала на машинке… Но вот мне снова светит дневной свет. Москва медленно разворачивается под крылом. Бортовой командир, сидя в уголке салона, передает по телефону уж не знаю какие там распоряжения своим пилотам. С радиопоста по пневматической почте ему поступают сообщения. Все вместе создает ощущение сложного механизма, сложно организованной жизни, какой у меня в полете никогда не было. Я уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Через спинку кресла до меня доходили послания восьми моторов. Я чувствовал, как струится по моему телу живая горячая вибрация. Мысленно видел перед собой электростанцию, снабжающую все вокруг светом, вспоминал отсеки с моторами, жаркие, словно печи. И снова открыл глаза. В широкое окно салона проникал голубой свет, а я будто занял место на террасе дорогой гостиницы и сверху озирал землю. Привычное устройство тяжелого аппарата, в котором кабина пилота, бортовое оборудование и пассажирский салон составляют целое, в этом самолете отсутствовало. Отдельно салон управления, отдельно холл, где можно отдыхать, мечтать… Назавтра самолета «Максим Горький» не стало. Его гибель переживается здесь как общенародное горе. Советский Союз потерял не только выдающегося пилота Журова и десять членов его экипажа, не только тридцать пять пассажиров, работников конструкторского бюро ЦАГИ, для которых полет был наградой за отличную работу, Советский Союз потерял великолепное подтверждение жизненности его юной индустрии. Я говорил с людьми, работающими в области авиации, и мне показалось, что их хоть немного, но утешает то, что причиной гибели гиганта была нелепая случайность. Драма произошла не из-за ошибки в расчетах инженеров, не из-за неопытности или неумелости рабочих, не от просчета экипажа. Во время уверенного спокойного полета «Максима Горького» его траекторию, прямую, как выстрел, пересек истребитель.Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет…
Убедившись, что это и есть дом номер тридцать, я останавливаюсь перед большим унылым зданием. Сквозь подворотню виден длинный ряд дворов и построек. Вход в Сальпетриер[141], и тот не выглядит тоскливей. Такие муравейники – умирающая часть Москвы, в конце концов, их разрушат и возведут на их месте высокие белые дома. За несколько лет население Москвы выросло на три миллиона жителей. Эти люди, за неимением лучшего, ютятся в квартирах, разгороженных на отдельные углы, и ждут нового жилья. Система проста: группа преподавателей истории или, скажем, группа краснодеревщиков создают кооператив. Государство дает ссуду (ее надо будет выплачивать ежемесячно). Кооператив заказывает строительство своего дома государственной строительной организации. Каждый знает свою будущую квартиру, выбрал краску для стен, обсудил все тонкости обустройства. Каждый отныне терпеливо ждет в своей унылой комнате – в прихожей настоящей жизни (ведь это лишь на время!). Новый дом уже растет из земли. И они ждут – как ждали в бараках покорители новых земель. Я уже познакомился с современным жильем, где личная жизнь вновь обретает краски. Но мне хотелось посмотреть своими глазами и на эти остатки мрачного прошлого, все еще многочисленные. Потому-то я и скользил, как тень, взад и вперед перед домом номер тридцать. Я еще смутно верил в тайных агентов, что по пятам следуют за иностранцами. Я боялся, как бы они не выросли вдруг прямо между мною и сокровенными секретами СССР. Но, пройдя, наконец, через подворотню, я не уловил никаких предостерегающих знаков. Моя прогулка никого не интересовала. Проникнув в муравейник, я остановил первого встречного, чтобы узнать, где живет особа, которую я хотел непременно застать, хоть она и не подозревала о моем существовании, – имя у меня было тщательно записано: «Где живет мадемуазель Ксавье?» Первым встречным оказалась огромная тетка, тут же проникшаяся ко мне симпатией. Хлынул поток слов, из которого я ничего не понял: я не знаю русского. Моя робкая попытка что-то сказать вызвала волну дополнительных объяснений. Я не посмел обидеть бегством эту воплощенную любезность, но, желая показать, что не понимаю, дотронулся пальцем до уха. Тогда она решила, что я глухой, и принялась кричать вдвое громче. Пришлось мне положиться на удачу: подняться по первой попавшейся лестнице и позвонить в первую же дверь. Меня провели в комнату. Мужчина, впустивший меня, заговорил по-русски. Я отвечал по-французски. Он долго рассматривал меня, потом повернулся и исчез. Я остался один. Вокруг было множество вещей: вешалка с пальто и кепками, пара ботинок на шкафу, чайник на фетровом чемодане. Где-то кричал ребенок, слышался смех, потом звуки патефона, в недрах квартиры скрипели, то ли закрываясь, то ли открываясь, двери. А я все оставался один в чужом доме, словно взломщик. Наконец, мужчина вернулся, и с ним – женщина в переднике, о который она вытирала мыльную пену с рук. Она заговорила со мной по-английски. Я отвечал по-французски. Оба они как будто приуныли и опять скрылись на лестнице; до меня доносился возрастающий шумок: за дверью набирало ход секретное совещание. Время от времени дверь приоткрывалась, незнакомые люди озадаченно меня разглядывали. Надо полагать, решение было принято, и весь дом ожил. Послышались крики, беготня, наконец, дверь распахнулась настежь, и явилось новое лицо, на которое все участники сцены определенно возлагали большие надежды. Этот персонаж приблизился, представился и заговорил по-датски. Все были разочарованы. Среди общего замешательства я по большей части размышлял о том, сколько усилий было затрачено, чтобы прийти сюда незаметно. Между тем толпа жильцов и я грустно смотрели друг на друга, пока в качестве специалиста по еще одному языку ко мне не подвели мадемуазель Ксавье собственной персоной. Это оказалась маленькая старая колдунья, худая, сгорбленная и морщинистая, со сверкающими глазами, – совершенно не понимая, кто я и зачем пришел, она попросила меня следовать за ней. И все эти славные люди, сияя оттого, что меня удалось спасти, разошлись. Теперь я у мадемуазель Ксавье и слегка волнуюсь. Их триста – француженок в возрасте от шестидесяти до семидесяти, затерянных, словно серые мышки, в этом четырехмиллионном городе. Прежние классные дамы или гувернантки при юных девицах прежних времен, они пережили Революцию. Невероятные времена. Прежний мир рухнул, будто огромный храм. Революция давила сильных и рассеивала слабых – игрушки бури – на все стороны света, но не тронула три сотни французских гувернанток. Они были такие маленькие, такие сдержанные, такие незаметные! В тени своих прекрасных воспитанниц они так давно привыкли оставаться невидимками! Они учили нежности французской речи, и прекрасные воспитанницы тотчас сплетали из самых нежных слов ловушки для блистательных женихов-гвардейцев. Старые гувернантки не знали, что за тайная власть у правописания и стиля, ведь сами они не пользовались своей наукой в делах любви. Учили они и манерам, музыке, танцам, делаясь от причащения этим тайнам лишь чопорнее, – а у юных воспитанниц эти тайны оборачивались чем-то легким и живым. И старые гувернантки старели вместе со своими черными одеждами, строгие и скромные, их присутствие оставалось незримым, как добродетель, как хороший тон и хорошее образование. И Революция, выкосившая самые лучезарные цветы, не коснулась, по крайней мере, в Москве, этих серых мышек. Мадемуазель Ксавье 72 года, и мадемуазель Ксавье плачет. Я у нее первый француз за тридцать лет. Мадемуазель Ксавье повторяет в двадцатый раз: «Если бы я знала… если бы я знала… я бы так убрала комнату…». А я замечаю приоткрытую дверь и думаю о множестве посторонних обитателей этой квартиры, которые двенадцать раз донесут о нашей тайной встрече. Я все еще во власти романтических представлений. Мадемуазель Ксавье придает легенде реальные очертания. – Это я нарочно открыла дверь! – гордо признается она. – У меня такой замечательный гость, все соседи будут завидовать! И она с грохотом открывает шкафчик, звенят стаканы. Достает бутылку мадеры, печенье, снова гремит стаканами, звонко ставит бутылку на стол. Должен быть слышен шум оргии! И я слушаю ее рассказ. Мне особенно любопытно, что она скажет о Революции: что значат великие потрясения для серой мышки? И как выжить, когда все рушится вокруг? – Революция, – признается моя хозяйка, – это ужасно утомительно. Мадемуазель Ксавье жила тем, что учила французскому дочку повара – за обед. Каждый день приходилось ехать через всю Москву. По пути она, чтобы еще чуть-чуть заработать, продавала по поручению знакомых стариков разные мелочи: губную помаду, перчатки, лорнеты. – Это было незаконно, – доверительно сообщает она, – это считалось спекуляцией, – и рассказывает о самом страшном дне гражданской войны. В то утро ее попросили продать галстуки. Галстуки, в такой-то день! Но мадемуазель Ксавье не видела ни солдат, ни пулеметов, ни убитых. Она была слишком занята продажей галстуков, которые, говорит она, шли нарасхват. Бедная старая гувернантка! Социальное приключение обошло ее, как прежде – приключение любовное. Приключениям она была не нужна. Так на пиратских кораблях, должно быть, можно найти несколько тихих стариков, вечно ничего не замечающих за штопкой матросских рубах. Но однажды она все-таки угодила в облаву. Ее заперли в мрачном помещении среди двух или трех сотен попавших под подозрение. Вооруженные солдаты одного за другим вели их на допрос, отделявший живых от мертвых. – Половину узников, – говорит мадемуазель Ксавье, – после допроса отправляли в подвал. И что же? В эту ночь на лице приключения по-прежнему было написано снисхождение. Лежа на нарах, под которыми текла прямо в вечность черная вода, мадемуазель Ксавье получила на ужин кусок хлеба и три засахаренных орешка. Эти орешки, быть может, самое яркое свидетельство нищеты, – а можно взять и другую историю, с огромным концертным роялем красного дерева, который одна приятельница мадемуазель Ксавье продала тогда за три франка. Но у трех орешков, несмотря ни на что, был привкус игры и детства. Приключение обошлось с мадемуазель Ксавье, как с маленькой девочкой. А между тем ее точила большая забота. Кому доверить перину, купленную ею в час ареста? Спала она на ней и на допросе тоже не захотела с ней расстаться. Прижимая необъятную перину к своему крохотному телу, предстала она перед судьями. И судьи тоже не приняли ее всерьез. Вспоминая о допросе, мадемуазель Ксавье вся дышит возмущением. Судьи сидели за обширным кухонным столом, окруженные солдатами; председатель, утомленный бессонной ночью, проверил ее документы. И этот человек, от которого неумолимо раздваивалась дорога – к жизни и к смерти, – этот человек робко спросил ее, почесывая ухо: «У меня дочке двадцать лет, мадемуазель, – Вы не согласитесь давать ей уроки?» И мадемуазель Ксавье, прижав к сердцу перину, отвечала с сокрушительным достоинством: «Вы меня арестовали. Теперь – судите. Если я останусь жива, завтра мы поговорим о Вашей дочери!» А сегодня она добавляет, сверкнув глазами: – Они не смели на меня взглянуть от стыда! И я уважаю эти восхитительные иллюзии. Я говорю себе: человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе. Нужно обладать определенной широтой личности, чтобы почувствовать высокий накал обстановки и уловить, что он означает. Мне вспоминается рассказ жены одного моего знакомого. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу. Суденышко было забито до отказа, любой дополнительный груз потопил бы его. Оно медленно отходило от причала; трещина пролегла между двумя мирами – узкая, но уже непреодолимая. Стиснутая толпой на корме, молодая женщина смотрела назад. Разгромленные казаки вот уже два дня как хлынули с гор к морю, и поток их не иссякал. Но кораблей больше не было. Доскакав до причала, казаки спрыгивали с коней, перерезали им глотки, скидывали бурку и оружие и бросались вплавь к спасительному борту, столь близкому еще. Но с кормы по ним стреляли из карабинов. С каждым выстрелом на воде вспыхивала красная звезда. Скоро вся бухта была расцвечена этими звездами. Но лавины казаков, упорные, как в дурном сне, все выносились на причал, все резали глотки коням, все прыгали в воду и плыли до новой красной звезды… А мадемуазель Ксавье нынче устраивает вечеринку – с десятью такими же французскими старушками, у той из них, чье жилье краше. Это прелестная маленькая квартира, вся расписанная хозяйкой. Я добыл для них портвейна и ликеров. Мы все чуточку захмелели и поем старинные песни. У старушек их детство встает перед глазами, они плачут, в душе им снова по двадцать лет (ведь они называют меня не иначе как «мой дружок»!). Я словно прекрасный принц, опьяненный славой и водкой, среди обнимающих меня маленьких старушек! Появляется бесконечно важный господин. Это соперник. Он приходит сюда каждый вечер выпить чаю, отведать печенья, поговорить по-французски. Но сегодня он присаживается к уголку стола, суровый и полный горечи. Однако старушки хотят показать мне его в полном блеске. «Это русский, – говорят они, – и знаете ли, что он сделал?» Я не знаю. Пробую догадаться. Новый гость напускает на себя все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Это скромность большого барина. Но старушки окружают его, торопят: «Ну же, расскажите нашему французу, что Вы делали в девятьсот шестом!» Мой соперник играет цепочкой от часов, заставляя наших дам изнывать. Наконец он уступает, поворачивается ко мне и небрежно роняет, выделяя, впрочем, каждое слово: – В девятьсот шестом я играл в рулетку в Монте-Карло. И старушки, торжествуя, хлопают в ладоши. Час ночи, пора и возвращаться. Мне устраивают пышные проводы. Я иду к такси, окруженный маленькими старушками. На каждой руке по старушке. Не слишком крепко стоящей на ногах. Сегодня я у них за дуэнью. Мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо: – В будущем году моя очередь получать квартиру, и мы все соберемся у меня! Вот увидите, как там будет мило! Я уже вышиваю салфетки. Она тянется еще ближе к моему уху: – Вы навестите меня раньше, чем остальных. Я буду первая, правда? Мадемуазель Ксавье через год исполнится всего семьдесят три. У нее будет своя квартира. Она, наконец, начнет жить…Испания в крови
В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны
Миновав Лион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них – широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу как бы на дне колодца. Я один на борту, я смотрю вниз и вспоминаю. Здесь я жил несколько месяцев. В то время я испытывал гидросамолеты в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. После работы я возвращался в центр этого всегда по-воскресному праздного городка. Просторная площадь, кафе с оркестром, вечерний портвейн. Я сидел в плетеном кресле, а передо мной текла провинциальная жизнь. Она казалась мне такой же безобидной игрой, как игра в оловянных солдатиков. Принаряженные девушки, беспечные прохожие, безоблачное небо. Вот и Пиренеи. Последний благополучный город остался позади. Вот Испания и Фигерас. Здесь люди убивают друг друга. Я бы не удивился, если бы обнаружил пожар, развалины, признаки человеческих бедствий: удивительно то, что ничего подобного здесь не видно. Город как город. Всматриваюсь: никаких следов на этой легкой кучке белого гравия. Церковь – мне это известно – сгорела, а она блестит на солнце. Я не вижу ее непоправимых увечий. Уже рассеялся бледный дым, унесший ее позолоту, растворивший в небесной синеве ее резной алтарь, ее молитвенники, ее утварь. Ни одна линия не нарушена. Да, город как город. Он сидит в центре расходящихся веером дорог, словно паук посреди своей шелковой сети. Как и другие города, он питается плодами долины, которые поступают к нему по белым дорогам. И передо мною только этот образ медленного всасывания пищи, которое на протяжении веков определило лицо земли, свело леса, размежевало пашни, протянуло эти дороги-пищеводы. Ее лицо никогда больше не изменится. Оно уже состарилось. И я думаю, что достаточно построить для пчелиного роя улей среди цветов, он раз и навсегда обретает мир. А вот человеческому рою покой не дарован. Где же трагедия? Ее еще придется поискать. Ведь чаще всего она разыгрывается не на поверхности, но в человеческих душах. Даже в этом мирном Перпиньяне на больничной койке мечется страдающий раком, пытаясь ускользнуть от боли, как от безжалостного коршуна. И в городе уже нет покоя. Таково чудесное свойство человеческой природы: любое страдание, любая страсть излучаются вовне и обретают всеобщее значение. На каком бы чердаке человека ни снедал огонь желания, пламя его охватывает весь мир. Вот, наконец, Херона, затем Барселона, и я потихоньку скольжу с высоты моей обсерватории. Но и здесь я не замечаю ничего необычного, разве что улицы пусты. И опять разоренные церкви кажутся нетронутыми. Угадываю вдали чуть заметный дымок. Может, это один из тех признаков, что я искал? Свидетельство той самой ненависти, которая так мало разрушила, была так бесшумна и которая, однако, опустошила все? Ведь в этой легчайшей позолоте, уносимой одним дуновением, – вся культура. Да, с чистым сердцем можно спросить: «Где же террор в Барселоне? Где же этот испепеленный город, если сгорело каких-нибудь два десятка зданий? Где массовые убийства, если расстреляно всего несколько сотен из миллиона двухсот тысяч жителей?… Где же этот кровавый рубеж, за которым начинают стрелять?…» Я и в самом деле видел мирные толпы гуляющих по Рамбла, а если мне и попадался вооруженный патруль, одной улыбки часто бывало достаточно, чтобы пройти дальше. Линии фронта с первого взгляда я так и не увидел. В гражданской войне линия фронта невидима, она проходит через сердце человека… И все-таки в первый же вечер я оказался с нею рядом… Только я устроился на террасе кафе среди нескольких разомлевших посетителей, как вдруг перед нами возникло четверо вооруженных мужчин. Они разглядывали моего соседа, потом молча навели карабины прямо ему в живот. Струйки пота побежали по его лицу, он встал и медленно поднял отяжелевшие, точно свинцовые руки. Один из патрульных обыскал его, пробежал глазами документы и подал знак следовать за ним. И человек оставил недопитый стакан, последний стакан в своей жизни, и пошел. И его руки, поднятые над головой, казались руками утопающего. «Фашист», – процедила сквозь зубы женщина за моей спиной: только она и осмелилась показать, что видела эту сцену. А недопитый стакан остался на столе свидетельством безумной веры в счастливый случай, в милосердие, в жизнь… И я смотрел, как удаляется под прицелом карабинов тот, через кого только что в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне
Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему: – Сойти с тротуара! А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую… Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит: – Вы что, оглохли? Восхитительно, не правда ли? Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных «испаносюизах». В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики. Они отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт. Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах… А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю: – Что происходит? – Рекогносцировка… – Зачем? – Ставим на крыше пулемет… – Зачем же? Пожимают плечами. Утром по городу прошел слух: говорят, правительство попытается разоружить анархистов… А я думаю, что оно откажется от этого намерения. Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона – в каждом отеле есть свой гарнизон – и теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение. – Где он? Я хочу отдать ему фотографию. Смотрят на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются: – Пришлось его расстрелять… Он донес на одного, что тот фашист. Ну, раз фашист, мы его к стенке… А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник… Им не откажешь в чувстве справедливости. В час ночи, на Рамбла, слышу: – Стой! В темноте возникают карабины. – Дальше нельзя. – Почему? Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их: – Можете пройти, но берегитесь: тут, наверно, будут стрелять. – Что происходит? Не отвечают. По улице медленно тянется колонна орудий. – Куда это? – На станцию, отправляются на фронт. Хотелось бы посмотреть на эту отправку. Пытаюсь подольститься к анархистам. – До станции далеко, а тут еще дождь… Может, вы дадите машину?… Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквизированном «делаже». – Мы вас подвезем… И я качу к вокзалу под защитой трех карабинов. Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться и повидаю их великого трибуна Гарсиа Оливера.Гражданская война – вовсе не война: это болезнь…
Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, на них под брезентами цвета сажи топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства – сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут немного ржавчины, дождливая ночь – и от станции остается один скелет. Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков. Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика. Только время от времени проскрежещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно. У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде. В черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре, лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка. Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает: «И мы пойдем на Сарагосу…». Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Да-да, ощущение именно такое… Гражданская война – вовсе не война: это болезнь… Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы, – они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера – это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, которых они не могут распознать. Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов… Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне враг сидит внутри человека, и воюют здесь чуть ли не против самих себя. И поэтому, конечно, война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть – это инфекционный барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики. А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова: «Здесь больше нет коммунистов!» Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач… А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах… – К службе непригоден! На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или керосином. Никакого уважения к человеку. Проявления его духа и в том и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить, и улыбаться, и жертвовать собой, – это тело даже не собираются хоронить. И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка, и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь, в самом деле – это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек – это чудо. И мертвых у нас вспоминают много лет… Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие. О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают меня, разглядывают, и в глазах у них какая-то серьезность с оттенком грусти. Они знают, что их ждет, если их схватят. И мне становится жутко. И я вдруг замечаю, что тут нет ни одной женщины. Это тоже понятно. На что тут смотреть матерям, которые, рожая сыновей, не знают ни того, какой лик истины их озарит, ни того, кто их расстреляет по законам своего правосудия, когда им минет двадцать лет.В поисках войны
Вчера я приземлился в Лериде и выспался тут, в двадцати километрах от фронта, а утром отправился на фронт. Этот город, расположенный в районе военных действий, показался мне более мирным, чем Барселона. Автомобили катили спокойно, из них не торчали дула винтовок. А в Барселоне днем и ночью двадцать тысяч указательных пальцев положено на двадцать тысяч спусковых крючков. Эти грозно ощетинившиеся оружием метеоры неустанно проносятся сквозь толпу, и поэтому все без исключения граждане как бы взяты на прицел. Но они уже привыкли жить под наведенным в сердце оружием и спокойно занимаются своими делами. Здесь никто не разгуливает, небрежно поигрывая пистолетом. Совсем нет этих довольно претенциозных аксессуаров, которые принято носить с потрясающей небрежностью, словно перчатку или цветок. В Лериде, фронтовом городе, люди серьезны: здесь уже не приходится играть в смерть. И все-таки… – Плотнее закройте ставни. Часовому напротив отеля приказано стрелять на свет. Проезжаем в автомобиле по зоне войны. Баррикады встречаются все чаще, теперь мы то и дело вступаем в переговоры с революционными комитетами. С нашими пропусками считаются лишь кое-где. – Вы что, хотите ехать дальше? – Да. Председатель комитета подходит к висящей на стене карте. – Вам не удастся. В шести километрах мятежники оседлали дорогу. Придется вам объехать вот тут… Тут, кажется, свободно… Правда, утром говорили про кавалерию… Разобраться в линии фронта невероятно трудно: свои деревни, вражеские деревни, деревни, то и дело переходящие из одного лагеря в другой. Эта чересполосица мятежных и республиканских участков наводит на мысль, что война ведется какими-то слабыми импульсами. Тут и намека нет на линию траншей, разделяющую противников с жесткой определенностью ножа. Впечатление такое, словно увязаешь в болоте. Здесь грунт твердый, там проваливаешься… И мы отправляемся в эту трясину… Сколько простора, сколько воздуха между очагами боев! Этой войне удивительно не хватает плотности… На околице деревни тарахтит молотилка. В нимбе золотой пыли рабочие творят хлеб для людей, они широко улыбаются нам. Какая неожиданность – этот прекрасный образ мира!.. Хотя вряд ли смерть нарушает здесь течение жизни. На ум приходит географический термин: один убийца на квадратный километр… и между двумя убийцами – неизвестно чья земля, чьи хлеба и виноградники. Долго вслушиваюсь в пение молотилки, неустанное, как стук сердца. Снова упираемся в тупик. Дорогу преграждает стена из булыжника, и шесть винтовок наведены на нас. За стеной лежат четверо мужчин и две женщины. Впрочем, сразу замечаю, что женщины даже не умеют держать оружие. – Проезда нет. – Почему? – Мятежники… Нам показывают другую деревню в восьмистах метрах – точное повторение той, где мы находимся. Там, конечно, тоже баррикада – точная копия нашей. И, возможно, тоже молотилка, хлеб которой претворится в кровь мятежников. Садимся на траву рядом с бойцами. Они кладут наземь винтовки и нарезают ломтями свежий хлеб. – Вы здешние? – Нет. Каталонцы из Барселоны, коммунисты… Одна из девушек поднимается и, подставив волосы ветру, садится на баррикаду. Она чуть полновата, но свежа и красива. Улыбается нам, излучая радость: – Останусь здесь после войны… В деревне куда лучше, чем в городе… Вот уж не думала! И она восторженно осматривается, словно сделала открытие. Она знала только серые пригороды, дорогу на фабрику по утрам и ничтожные радости грустных кафе. А тут все вокруг кажется ей праздничным. Она вскакивает на ноги, бежит к роднику. И ей, конечно, представляется, что она пьет из самого лона земли. – Воевали вы здесь? – Нет, тут только мятежники иногда что-то затевают… Заметят у нас грузовик или людей и караулят на дороге… Но вот уже две недели как тихо. Они поджидают своего первого врага. А в деревне, что напротив, шесть таких же бойцов тожеподжидают врага. И во всем мире только и есть что эти двенадцать воинов… За два дня, проведенных на фронте в скитаниях по дорогам, я не услышал ни единого выстрела. Я ничего не увидел, кроме этих уже привычных дорог, которые никуда не ведут. Они как будто продолжались между другими хлебами и другими виноградниками, но там была уже иная вселенная. И нам они были недоступны, как те дороги в затопляемых странах, что с незаметным уклоном уходят под воду. На столбе еще можно было прочесть: «Сарагоса, 15 км». Но Сарагоса, как древний Ис, покоилась, недоступная, на дне морском. В поисках войны нам, вероятно, повезло бы больше, если б мы добрались до тех главных пунктов, где грохочет артиллерия и командуют начальники. Но тут так мало войск, так мало начальников, так мало артиллерии! Мы, вероятно, могли бы добраться до этих участков, где пришли в движение массы людей, – есть на фронте узлы дорог, на которых сражаются и умирают. Но между ними остается свободное пространство. Повсюду, где я был, линия фронта – словно распахнутая дверь. И хотя существуют стратеги, пушки, колонны войск, мне кажется, подлинная война происходит не здесь. Все ждут, когда, наконец, что-то родится в незримом. Мятежники ждут, не объявятся ли у них сторонники среди беспартийных в Мадриде… Барселона ждет, что после вещего сна Сарагоса проснется социалистической и падет. В движение пришла мысль: по сути дела, не солдат, а мысль осаждает города… Она – великая надежда, и она же – опаснейший враг. Мне кажется, несколько этих самолетов и бомб, несколько снарядов и несколько бойцов сами по себе не могут одержать победу. Один обороняющийся в окопе противник сильнее сотни осаждающих. Но может быть, где-то пробирается мысль… Время от времени затевают атаку. Время от времени трясут дерево… Не для того, чтобы выкорчевать его, а чтобы проверить зрелость плодов. Когда город созреет, он падет…Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга
Когда я вернулся с фронта, приятели разрешили мне присоединиться к их загадочным экспедициям. И вот мы среди гор, в одной из деревушек, где мир уживается с террором. – Да, мы их всех расстреляли, семнадцать… Они расстреляли семнадцать «фашистов». Священника, его служанку, ризничего и четырнадцать местных «богатеев». Ведь все относительно! Стоит им вычитать из газет, как выглядит «властелин мира» Базиль Захаров, и они тут же переводят это на язык своих представлений. Они узнают в нем своего владельца парников или своего аптекаря. И когда они расстреливают этого аптекаря, они убивают в нем как бы частицу Базиля Захарова. И только сам аптекарь этого не понимает. Теперь мы находимся среди своих, и здесь спокойно. Почти спокойно. Я только что видел в здешней харчевне последнего возмутителя спокойствия – он любезен, он улыбается, он так хочет жить! Он пришел сюда уверить нас, что, несмотря на несколько гектаров виноградников, которыми он владеет, он все-таки принадлежит к роду людскому, как все люди, страдает насморком, сморкается в голубой платок и немного играет в бильярд. Разве можно расстрелять человека, который умеет играть в бильярд? Играл он, впрочем, неважно, неуклюжие руки дрожали: он был встревожен, он еще не знал, считают ли его фашистом. И я представил себе несчастных обезьян, танцующих перед удавом, чтобы его умилостивить. Но мы ничем не можем ему помочь. Сейчас, сидя на столе в помещении революционного комитета, мы пытаемся завести разговор на другую тему. Пока Пепен достает из кармана засаленные документы, я разглядываю этих террористов. Странное противоречие. Это славные крестьянские парни с ясными глазами. Повсюду мы встречаем такие же внимательные лица. Хотя мы всего лишь иностранцы без полномочий, нас неизменно встречают с серьезной предупредительностью. Пепен говорит: – Да… так вот… Его зовут Лапорт. Знаете такого? Документ переходит из рук в руки, и члены комитета качают головами: – Лапорт… Лапорт… Я уже хочу вмешаться, но Пепен останавливает меня: – Они знают, только не хотят говорить… – И небрежно добавляет: – Я французский социалист. Вот мой членский билет… Теперь по рукам пошел билет. Председатель поднимает глаза на нас. – Лапорт?… Что-то не помню… – Ну как же! Французский священник… конечно, переодетый… Вы вчера схватили его в лесу… Лапорт… Его разыскивает наше консульство… Болтаю ногами, сидя на столе. Ничего себе переговоры! Мы буквально у волка в пасти, в горной деревушке, откуда не менее ста километров до первого француза, и требуем у революционного комитета, который расстреливает даже служанок священников, чтобы нам в целости и сохранности возвратили самого священника. И все же я не чувствую опасности. Их предупредительность не показная. С чего бы это им церемониться с нами? Мы ведь здесь беззащитны и вряд ли значим для них больше, чем отец Лапорт. Пепен подталкивает меня локтем: – Кажется, опоздали… Председатель, покашляв, решается наконец: – Утром мы обнаружили труп на дороге у околицы… Он, должно быть, еще там… И он посылает человека якобы проверить документы. – Они его уже расстреляли, – шепчет мне Пепен, – а жаль: могли бы вернуть. Тут славные ребята… Смотрю прямо в глаза этим несколько необычным «славным ребятам». Я действительно не замечаю ничего внушающего тревогу. Меня не пугают их лица, которые, замыкаясь, становятся непроницаемыми, словно стены. Непроницаемыми, с чуть приметным оттенком скуки. Жуткий оттенок! Просто не верится, что наша столь щекотливая миссия спасет нас от подозрений. Как они отличают нас от «фашиста» из харчевни, танцующего танец смерти перед неумолимыми врагами – своими судьями? На ум приходит странная мысль, настойчиво внушаемая инстинктом: стоит только одному из них зевнуть, и мне станет страшно. Я почувствую, что человеческие связи разрушены… Отъехали. Говорю Пепену: – Мы побывали вот уже в трех деревнях, а я никак не пойму, опасно ли наше занятие… Пепен смеется. Он и сам не знает. И все же он спас уже десятки людей. – Правда, вчера был неприятный момент, – признается он. – Я вырвал у них одного картезианца, который буквально уже стоял у стенки… Ну, запах крови… они рассердились… Конец истории я знаю. Как только Пепен – социалист и убежденный антиклерикал, – рискнув жизнью ради этого картезианца, оказался в машине, он повернулся к монаху и в отместку отпустил самое крепкое ругательство из своего лексикона: – Черт побери этих б… монахов! Пепен торжествовал. Но монах не слышал. Он бросился своему спасителю на шею, плача от счастья… В следующей деревне нам вернули одного человека: четверо вооруженных крестьян с таинственной торжественностью извлекли его из погреба. Это был бойкий монах с живыми глазами, имя его я уже не помню. Переодет он крестьянином, в руке узловатая палка, вся в зарубках. – Я отмечал дни… Целых три недели в лесу… Грибами сыт не будешь, я подошел к деревне, тут меня и схватили… Деревенский староста, благодаря которому мы получили живую душу, сообщает не без гордости: – Уж мы в него стреляли, стреляли. Думали – готов… И в свое оправдание добавляет: – Но дело-то ведь было ночью… Монах смеется: – Я ничуть не испугался! И так как нам пора уезжать, начинается бесконечный обмен рукопожатиями с этими «славными» террористами. Особенно достается спасенному. Его поздравляют с тем, что он жив. И монах отвечает на поздравления с радостью, не скрывающей его задних мыслей. А мне бы хотелось понять этих людей. Проверяем список. Нам сообщили, что в Ситхесе находится человек, которому грозит расправа. Мы у него. Проникаем в дом, словно воры на мельницу. На указанном этаже нас встречает худощавый юноша. – Вы, говорят, в опасности. Мы переправим вас в Барселону и вывезем на «Дюкене». Юноша о чем-то долго размышляет. – Я подведу сестру… – Что? – Она живет в Барселоне. Она не может платить за воспитание ребенка, я ей помогаю… – Это другой вопрос… Вам угрожает опасность? – Не знаю… Вот сестра… – Хотите бежать или нет? – Не знаю… А вы как считаете? В Барселоне у меня сестра… Этот, невзирая на революцию, занят своей маленькой семейной трагедией. Он останется здесь и сыграет злую шутку со своей загадочной сестрой. – Ну, как хотите… И мы уходим. Останавливаемся, выходим из машины. Где-то поблизости послышалась частая стрельба. Над дорогой возвышается небольшая роща. Из-за нее в пятистах метрах торчат две фабричные трубы. Патруль останавливается вслед за нами, бойцы вскидывают винтовки, спрашивают нас: – В чем дело? Прислушавшись, показывают на трубы: – Это на заводе… Стрельба смолкла, снова стало тихо. Чуть-чуть дымят трубы. Порыв ветра приглаживает траву, ничего не изменилось… И мы ничего не ощущаем. Однако в этой роще только что умирали. Наступившее безмолвие красноречивее стрельбы: раз она прекратилась, значит, не в кого больше стрелять. Человек, быть может, целая семья только что переселилась из этого мира в другой. Они уже скользят над травами. Но этот вечерний ветер… Эта зелень… Легкий дымок… Вокруг мертвых все остается по-прежнему. Я уверен, что смерть сама по себе ничуть не трагична. Глядя на буйную свежую зелень, я вспоминаю провансальскую деревушку, открывшуюся мне однажды за поворотом дороги. Прижавшаяся к своей колокольне, она выделялась на фоне сумрачного неба. Я лежал в траве и наслаждался покоем, когда ветер донес до меня звуки погребального колокола. Он оповещал мир о том, что наутро будет предана земле сморщенная выцветшая старушка, завершившая свою долю трудов. И мне казалось, это медленная музыка, плывущая в воздухе, звучит не отчаянием, а сдержанным и нежным ликованием. Колокол, что славил одним и тем же звоном крестины и смерть, возвещал о смене поколений, о движении рода людского. Над прахом он сызнова славил жизнь. И, слушая звон во славу обручения бедной труженицы с землей, я испытывал только глубокую нежность. Завтра она впервые уснет под царственным покрывалом, расшитым цветами и поющими цикадами. Рассказывают, что среди убитых есть девушка, но это только слухи. Какая жестокая простота! Покой наш не был нарушен этими глухими выстрелами в море зелени. Этой короткой охотой на куропаток. Эта гражданская панихида, прозвучавшая в листве, оставила нас спокойными, не вызвала мук совести… Да, конечно, у событий человеческой жизни есть два лица – трагическое и бесчувственное. Все меняется в зависимости от того, идет ли речь об отдельном человеке или обо всем человеческом роде. В своих миграциях, в своем слепом движении род забывает умерших. Потому, вероятно, и серьезны лица крестьян, – ясно, что они не кровожадны. И все же, возвращаясь с охоты, они скоро пройдут мимо нас, удовлетворенные расправой, безучастные к девушке, что споткнулась о корень смерти, – она, словно пронзенная на бегу копьем, покоится в лесу, и рот ее полон крови. Я коснулся здесь противоречия, которое мне, конечно, не под силу разрешить. Величие человека определяется не только судьбами всего рода: каждый человек – это огромное царство. Когда обваливается шахта, когда она смыкается над единственным шахтером, жизнь всего поселка висит на волоске. Товарищи, женщины, дети ждут в оцепенении, охваченные тревогой, пока спасательные команды перерывают под их ногами внутренности земли. Разве дело в том, чтобы спасти единицу из толпы? Разве дело в том, чтобы вытащить человека, как вытаскивают лошадь, оценив, какую службу она еще может сослужить? Десяток товарищей того и гляди погибнет во время спасения – это же такой убыток! Нет, не в том дело, чтобы спасти одного муравья из муравьев муравейника, – спасают сознание, это огромное царство, не имеющее цены. В черепной коробке шахтера, над которым не выдержала крепь, заключен целый мир. Близкие, друзья, домашний очаг, теплая вечерняя похлебка, праздничные песни, ласка и гнев и, может быть, даже всечеловеческий порыв, великая всеобъемлющая любовь. Как измерить человека? Его предок когда-то нарисовал оленя на сводах пещеры, и спустя двести тысяч лет движение человеческой руки еще излучает тепло. Еще волнует нас. Продолжается в нас. Движение человека – это неиссякаемый источник. И пусть нам суждено погибнуть, мы поднимем из шахты этого всечеловеческого, хоть и единственного шахтера. Но вот, возвратившись вечером в Барселону, я сижу у приятеля и смотрю из окна на маленький разрушенный монастырь. Обвалились своды, в стенах зияют огромные пробоины, взгляд проникает сквозь них в самые потаенные уголки. И я невольно вспоминаю, как разрывал в Парагвае муравейники, чтобы проникнуть в их секреты. Разумеется, для победителей, разрушивших этот храм, он был таким же муравейником. Удар солдатского сапога выбросил наружу маленьких монашенок, они забегали взад-вперед вдоль стен, и толпа не почувствовала этой трагедии. Но мы-то не муравьи! Мы – люди. Над нами не властны законы числа и пространства. Физик в своей мансарде, завершая расчеты, держит на кончике пера судьбу целого города. Больной раком, проснувшийся ночью, – средоточие человеческого страдания. Может быть, один шахтер стоит того, чтобы погибла тысяча людей. Когда речь заходит о человеке, я отказываюсь от этой чудовищной арифметики. Пусть мне говорят: «Что значит какая-то дюжина жертв по сравнению со всем населением? Что значит несколько сожженных храмов, если город продолжает жить?… Где же террор в Барселоне?» Я отвергаю такие масштабы. Духовный мир человека недоступен складному метру. Тот, кто заточил себя в своей келье, в своей лаборатории, в своей любви, как будто совсем рядом со мной, в действительности вознесся к тибетскому одиночеству, забрался в такие дали, куда никакое путешествие никогда меня не приведет. Достаточно разрушить бедные стены этого монастыря, и я уже никогда не узнаю, какая цивилизация только что навсегда погрузилась на дно моря, словно Атлантида. Охота на куропаток в роще. Девушка, убитая вместе с мужчинами. Нет, вовсе не смерть ужасает меня. Она кажется мне почти сладостной, когда сопряжена с жизнью; мне хотелось бы думать, что в этом монастыре день смерти тоже был праздничным днем… Но это непостижимое забвение самой сущности человека, эти арифметические оправдания я решительно отвергаю. Люди перестали уважать друг друга. Бездушные судебные исполнители, они рассеивают по ветру имущество, не ведая, что уничтожают живое царство… Вот вам комитеты, производящие чистку именем лозунгов, которым достаточно два-три раза измениться, чтобы оставить позади себя только мертвецов. Вот вам генерал во главе своих марокканцев, который со спокойной совестью уничтожает целые толпы, подобно пророку, подавляющему раскол. Здесь расстреливают, словно лес вырубают… В Испании пришли в движение толпы, но каждый отдельный человек, этот огромный мир, тщетно взывает о помощи из глубин обвалившейся шахты.Мадрид
Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником, лейтенантом, не обращали внимания на эти сухие щелчки и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковой, чувствовали себя на белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками – никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысяче метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны, но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков. И пули тоже. Шальные пули, брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь: их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя. Вся ночь была пронизана их несуразными параболами; родившись, они жили три секунды свободного полета и погибали. Одни звякали о камень, другие, пролетая в вышине, полосовали звезды длинными ударами бича, и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели, будто на одном месте, как пчелы, опасные на миг, ядовитые, но недолговечные. Насыпь слева от нас кончилась, и мой спутник спросил: – Ну как, спустимся в ход сообщения? А то, пожалуй, пойдем по дороге: сейчас ведь темно… Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война, – вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивавшие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища: «Он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело: раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит, прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать». – Конечно, пойдем по дороге… В такую погоду!.. Безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в Кап-Джуби я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в двадцати метрах от форта. И вот, когда ко мне являлся какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе. – Гм… уже поздненько… не вернуться ли нам назад? Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором, теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. И вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил, как ни в чем не бывало: – Вообще-то я не прочь еще пройтись… Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен. Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения. Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством. Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет: просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело. – Ага, это по Мадриду, – сказал лейтенант. Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчеля. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее двух километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышается «Телефоник». Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые две минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты. Всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде. Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-то там, в звездах, откупорили бутылку… Секунда, две, пять… Невольно подаюсь назад: мне кажется, что стреляют прямо в меня, и – трах! – будто рушится весь город! Но Мадрид по-прежнему перед моими глазами. Ничто не изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта: каменное лицо остается невозмутимым. – По Мадриду… – машинально повторяет мой спутник. Он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами, следить за этими акулами, ныряющими за добычей. – Нет, теперь отвечает наша батарея… А вот это они… но в другом месте… А это… это по Мадриду… Разрывов, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь! Огромное давление все возрастает, возрастает… Скорей бы взорвался этот котел! Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. Восемьсот тысяч жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку. А между бульканьем и разрывом все восемьсот тысяч находятся под угрозой смерти. Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу. И я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростерла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, к горлу подступает тошнота, и, сам не свой, я невнятно бормочу: – Мадрид… бомбят Мадрид… А мой спутник откликается эхом, считая разрывы: – По Мадриду… шестнадцать. Я выбрался из хода сообщения. Лежу ничком на насыпи и смотрю. Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночи. Город прочнее человека: Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколение. Он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети. И они ждут – одни безропотно, другие дрожа от страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на опоздания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами – он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я научился медленно отсчитывать секунды. И я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор, умер несчастный ребенок. Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну-единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, в месиво из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать: «Как странно!» В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жестокой медлительностью и захлестывала его. Пораженный, прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений и искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть. Но ему осталось лишь кровавое месиво. А легкая позолота, составлявшая неповторимый облик возлюбленной, растаяла! И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку. Не эти глаза, а их взгляд. Не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби. Он успел осознать, наконец, причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет, бесплотного ангела, легкую оболочку… И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян. Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды: так неужели же я уверую в справедливость ответных мер? Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды и окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвано играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей. Деморализующую? Но ведь обстрел приводит к обратному результату! Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решение. Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а, напротив, сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид: лицо или корабль, он безответно принимает удары. Но так уж устроены люди: испытания постепенно укрепляют их мужество. Потому и воодушевился мой спутник: он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей… – Это будет шестьдесят… Удар звенит по наковальне: гигантский кузнец выковывает Мадрид.Продолжаем путь к передовой у Карабанчеля. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка – бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все двадцать километров фронта, она распространяется, словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война. Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья – и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу! Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну! Для того чтоб спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззаботна, как пастух. Она так надеется, что ее услышат… Но, прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкает ружейный выстрел. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного-единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну. И я думаю о тишине, наступающей после взрыва – то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке, идущего впереди лейтенанта, вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка, презрение к смерти, покорность? Постепенно я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе десяти метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука. На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками Карабанчеля – его прорезают траншеи. Идем, не замечая этого, узкой улочкой, – только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы. Здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины. И здесь, внизу, мы окунаемся в странную подводную жизнь. Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Выталкиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны. Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня: перед рассветом назначена атака. Ее цель – отбить тридцать домиков Карабанчеля. Тридцать бетонных крепостей из сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятия смерти. А сколько из них, не пройдя и этих пятнадцати шагов, рухнет, потонет в лунном свете? Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого часа. Все они – добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, от личной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки – дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто, узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва, боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступление, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению: боятся-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак. И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночи, моря. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там, снаружи, пули просто не дают вздохнуть, они буквально заперли нас в нашем убежище, но снаряды и мины, разрывы которых становятся все чаще, каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапное покушение, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет: «Ручаюсь, они атакуют первыми». Но вот взрывная волна окатила нас с ног до головы. Люди дрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкости. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке. Я скажу ему: «Сержант, почему ты согласен умереть?» Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви. Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается – это уже безотчетная, хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В тридцати сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне тридцати сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость эта обращена против призрака, а он не поддается заклинаниям! Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение! Я ничего не заметил сквозь бойницу, клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку: вот сейчас… сейчас… И вдруг – все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее. Я думаю. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, не хочу… Не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка! Берегись! Я бью вслепую. Берегись! Худо будет тому, кто приблизится! Я сливаюсь с этим пулеметчиком, вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись! Я вовсе не хочу убивать людей: я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак… Так вот что такое паника! Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась ложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака? Капитан пожимает плечами. Ведь и он только исполняет приказы. И он придвигает нам две рюмки коньяка. – Мы с тобой пойдем первыми, – говорит он сержанту. – Пей и ложись спать. Сержант лег. Мне освобождают место, и мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Пью сладковатый, противный коньяк. У него печальный привкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики Карабанчеля цвета морской воды. Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из трех, слева играют в шахматы. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех напряженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего – отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения, я узнаю время по обросшим за ночь лицам, а снаружи с удвоенной силой грохочет морской прибой. Скоро эти люди омоются – пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, – все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как им удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно! И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот, расправив плечи, они затянут ремни. Капитан тащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все, не спеша, двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова: «Какая луна!» или «Как тепло!» И устремятся к звездам.
Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир – все они начинают жаловаться. Жалоб тысячи. – Мы что, бабы? – Воюем мы или валяем дурака? Тысячи язвительных упреков по адресу штабных: они, видите ли, отказываются от лобового удара, им, верно, плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей; иначе они не отменяли бы атаку как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам. Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что, даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-нибудь восемьдесят метров и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних восьмидесяти метров, доступных обстрелу. Мне кажется также – да они и сами этого не скрывали, – что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать вволю, пропустив в утешение – и не без удовольствия! – несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь, после телефонного звонка, странным образом изменился. Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством, ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть, умереть без громких слов, и знал я еще кое-что, о чем мне хотелось бы рассказать. Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я, простой зритель, подвергавший себя опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они, мечтал этой ночью о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой. Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца; в сорока метрах от противника, под перекрытием, пробитым полуночными снарядами, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка, и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим – капитан, сержант Р., лейтенант – они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы: «Салюд, амиго!» – и они хлопают друг друга по плечу. Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вершин, и мне кажется, что я здесь по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира. Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб, и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище, но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, и капитан ломает этот белый хлеб, плотный пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый, с кулак, душистый ломоть, который претворится в жизнь. Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Р., того, которому предстояло выйти первым и который перед атакой прилег поспать. Я видел его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из пятнадцати па, от которого умирают. Траншеи Карабанчеля вьются среди маленьких домиков рабочего поселка; в них сохранилась мебель, и сержант Р., растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или ассенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь – разгрузка корабля. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтоб она вращала свой жернов. – Эй, сержант! Послышался вздох, тяжелый, как волна, потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь которые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника. Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение; этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать и упрямо отворачивается от скотобойни. – Эй, сержант! Его опять вызвали из морских глубин, он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего: теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились каникулы, он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми… Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, – оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там – тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка. Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, подсумками, тремя гранатами, рядом скоторыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец, он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас. – А! Да… пора… И он протянул руку за карабином. – Атаку отменили. Сержант Р., я свидетельствую: мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы, в самом деле, даровали его тебе in extremis, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство: я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо. Трогательно некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит: – Ну что ж, тем лучше. Опять качает головой и добавляет: – Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады две-три, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм… Сержант, сержант… как ты распорядишься дарованной тебе жизнью? Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания. И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать: «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить свою сущность, у тебя, такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы… – В сущности, почему ты сюда пошел? В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа – все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: – Пошли? – Пошли. И вы пошли. Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя. Передо мной возникает образ. Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины – ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает. Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает. Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства, прежде всего, и требуют объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда мир твой был нарушен? Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос – жертвенностью, поэзией или приключением, – он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухи к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это – не человеческая жизнь. И ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал – ты должен вылинять, ты должен распахнуть крылья. Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса, – и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, – она хочет стать дикой уткой… Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне. Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству, и на вопрос: «Пойдем?» – ты отвечаешь: «Пойдем!» – и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе. Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались: чего они лишились? Что они открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать? Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей же ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан. И океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега. Но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет. Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью – единственным твоим богатством? Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься. Медленно создаешь свое творение. Слишком ранняя смерть равносильна грабежу: чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго. Но внезапно благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового, доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что свое жизненное призвание ты осуществишь именно теперь и что тебе не так уж необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с преходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его. И вот он свободен от оков, – спавший в тебе властелин – человек. Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все Любови обретают единый смысл. Если же ты страдал, если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища, – любовь принимает тебя.
Кто ты, солдат[142]
Чтобы излечиться от душевного смятения, надо уяснить себе его суть. А мы, конечно же, живем в смятении. Мы сделали выбор: спасти Мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей[143]. Между тем, без сомнения, многие из нас были готовы рисковать жизнью ради долга дружбы. И сейчас им стыдно. Но если бы они пожертвовали миром, им было бы не менее стыдно. Потому что в таком случае они пожертвовали бы человеком – дали бы согласие на непоправимое уничтожение библиотек, соборов, лабораторий Европы. Они дали бы согласие на разрушение ее традиций, на превращение планеты в облако пепла. Вот потому-то мы и метались между двумя решениями. Когда нам казалось, что мир в опасности, мы ощущали весь позор войны. Когда показалось, что война нам не грозит, мы познали позор мира. Не нужно поддаваться отвращению к самим себе: от него мы не были бы избавлены, какой бы выход ни избрали. Нужно взять себя в руки и подумать, в чем причина такого отвращения. Если упираешься в подобное неразрешимое противоречие, значит, сама проблема поставлена неверно. Когда физик обнаруживает, что Земля, вращаясь, увлекает за собой эфир, в котором распространяется свет, и что в то же время эфир этот неподвижен, он не отказывается от науки, он меняет язык и отказывается от идеи эфира. Чтобы понять, где же гнездится смятение, надо непременно подняться над событиями. Надо на несколько часов забыть про Судеты. Мы слепы, пока смотрим со слишком близкого расстояния. Нам нужно немного поразмышлять о войне, коль скоро мы одновременно и отвергаем, и приемлем ее. Я знаю, какие услышу упреки. От газеты читатели ждут предметных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши для журналов или книг. Но я другого мнения на этот счет. У меня до сих пор перед глазами впечатления первой моей лётной ночи в Аргентине. Тьма кромешная. Но в этой бездне слабо мерцают, словно звезды, людские огни, рассеянные по равнине. Каждая звездочка означала, что среди ночи там, внизу, люди думали, читали, вели разговоры по душам. Каждая звездочка, как сигнальный фонарь, свидетельствовала: здесь бодрствует человеческий разум. Вот там, быть может, размышляли о счастье людей, о справедливости, о мире. А эта звезда, затерянная в стаде других, – звезда пастуха. Тут, может быть, устанавливали связь со светилами, ломали голову, вычисляя туманность Андромеды. А там любили друг друга. Повсюду в долине горели эти огни, и все они нуждались в пище, даже самые скромные. Огонек поэта, учителя, плотника. Но среди этих живых звездочек – сколько затворенных окон, сколько угасших звезд, сколько спящих людей, сколько огней, уже не дарящих света, потому что им больше нечем питаться. Пусть журналист ошибается в своих размышлениях, неважно – непогрешимых нет. Пусть он проникает не во все жилища, неважно – смысл каждой местности придают только те жилища, где не спят. Журналист не знает, какие из них откликнутся, но это неважно; раскидывая хворостинки по ветру, он надеется поддержать хоть несколько огоньков из тех, что горят тут и там по равнине. Это были тяжкие дни – те, что мы прожили перед громкоговорителями. Так ждут найма у железных заводских ворот. Люди, столпившиеся, чтобы слушать речи Гитлера, уже видели мысленно, как они набиваются в товарные вагоны, а потом становятся к стальным орудиям, поступив служить на тот завод, которым обернулась война. Они уже словно подрядились на эту нечеловеческую работу, и ученый прощался с вычислениями, приоткрывавшими ему вселенную, отец прощался с вечерней миской супа, наполняющей своим ароматом дом и сердце, садовник, положивший жизнь на новую розу, мирился с тем, что не украсит ею землю. Всех нас уже вырвали с корнем, перемешали и бросили, как попало под жернова. Тут не дух самопожертвования, а сдача на милость абсурду. Запутавшись в противоречиях, которые мы уже не могли разрешить, растерявшись перед нелепостью событий, которые уже никаким языком нельзя было объяснить, мы в глубине души принимали кровавую драму: она навязала бы нам обязанности вожделенно простые. А между тем мы понимали, что любая война, с тех пор как она стала питаться минами и ипритом, может кончиться только крушением Европы. Но нас мало трогают описания всяких катастроф – гораздо меньше, чем принято думать. Каждую неделю, сидя в креслах кинотеатров, мы присутствуем при бомбежках в Испании или Китае. Мы можем слышать взрывы, от которых города взлетают на воздух, – но нас эти взрывы не потрясают. Мы с изумлением глядим на витые столбы копоти и пепла, неторопливо извергаемые к небу этими вулканическими землями. И все-таки! Ведь это зерно из закромов, домашние сокровища, наследство предков, плоть сгоревших заживо детей стелется дымом и утучняет мало-помалу то черное облако. Я исходил в Мадриде улицы Аргуэльяса, где окна, похожие на пустые глазницы, не отгораживали больше ничего, кроме блеклого неба. Устояли только стены, и за этими призрачными фасадами содержимое шести этажей обратилось в пяти-шестиметровую груду мусора. От кровли до фундамента прочные дубовые полы, на которых многие поколения проживали свою долгую семейную историю, на которых, может быть, в ту самую минуту, когда грянул гром, служанка застилала свежими простынями постель для ночного отдыха и любви, мать клала прохладную руку на пылающий лоб больного ребенка, отец обдумывал завтрашнее изобретение, – эти опоры, казавшиеся каждому из нас незыблемыми, в один миг, среди ночи, опрокинулись, как кузов самосвала, и сбросили свой груз в канаву. Но ужас не просачивается сквозь экран, и на наших глазах, при полном равнодушии зрителей, авиационные бомбы скользят бесшумно, отвесно, как лот, к этим живым домам, чьи внутренности они сейчас выпотрошат. Не стану предаваться негодованию – у нас пока нет языкового ключа ко всему этому. Мы – те же самые люди, которые пошли бы на смертельный риск ради спасения одного-единственного угольщика, погребенного в шахте, или одного ребенка, попавшего в беду. Ужас ничего не доказывает. Я плохо верю в действенность таких животных реакций. Хирург входит в больничную палату, и сердце его не сжимается при виде чужих страданий, как у юной девушки. Его жалость выше, она поднимается над раной, которую он должен лечить. Он ощупывает рану, а не слушает стонов. Вот так, когда наступает час родов и раздаются первые жалобные крики, весь дом охватывает лихорадка. Торопливые шаги в передней, хлопоты, распоряжения, и никого не пугают вопли молодой матери. Она и сама их забудет, они подернутся пленкой в ее памяти, значения они не имеют. Но сейчас-то она корчится и истекает кровью. И ее держат узловатые руки, руки палача, которые помогают исторгнуть плод, вырывают плоть из ее плоти. Все меж тем заняты делом; все улыбаются. Слышится шепот: «Все идет хорошо». Готовят колыбельку, готовят теплую ванночку – и вдруг кто-то бросается к двери, распахивает ее настежь и кричит: «Благодарение богу, это сын!» Если мы ограничимся изображением ужасов, то не найдем убедительных доводов против войны. Но мы не получим таких доводов и в том случае, если будем только расписывать радости жизни и боль бессмысленных утрат. Вот уже несколько тысячелетий мы разглагольствуем о слезах матерей. Приходится признать, что этот язык отнюдь не мешает погибать сыновьям. Спасение придет не из рассуждений. Большее или меньшее число смертей… Начиная с какой цифры смерть приемлема? Мир нельзя основать на этой постыдной арифметике. Мы скажем: «Неизбежные жертвы… Величие и трагизм войны…» А, скорее всего, мы ничего не скажем. У нас нет языка, который позволил бы разобраться в многообразии смерти без сложных рассуждений. А наш инстинкт и опыт велят нам не слишком доверять рассуждениям: доказать можно что угодно. Истина – это не то, что можно доказать; это то, что делает мир проще. Наши терзания стары, как род людской. Они сопутствовали прогрессу человечества. Общество развивается, а люди все пытаются осмыслять сегодняшнюю действительность с помощью устаревшего языка. Мы всегда в плену у языка и рождаемых им образов, независимо от того, годится нам этот язык или нет. Противоречивым мало-помалу становится неподходящий язык, а вовсе не действительность. Человек высвобождается только тогда, когда придумывает новые понятия. Работа ума, дающая толчок прогрессу, состоит отнюдь не в том, чтобы вообразить себе будущее: как можно предугадать противоречия, которые завтра возникнут неожиданно из наших нынешних дел и, властно требуя новых решений, изменят ход истории? Будущее не поддается анализу. Человек движется вперед, придумывая язык для понимания сегодняшнего мира. Ньютон подготовил открытие рентгеновских лучей не тем, что предвидел рентгеновские лучи. Ньютон изобрел простой язык для описания известных ему явлений. И из этого изобретения через цепь других – родились рентгеновские лучи. Любой иной путь – утопия. Не допытывайтесь, какие меры уберегали человека от войны. Спросите себя: «Почему мы ведем войну, хотя знаем, что она нелепа и чудовищна? Где таится противоречие? Где таится истина войны, истина столь всемогущая, что ей покоряются ужас и смерть?» Только найдя разгадку, мы перестанем сдаваться на милость слепой судьбе, как будто она сильнее нас. Только тогда мы убережемся от войны. Конечно, вы можете мне ответить, что вероятность войны заложена в человеческом безумии. Но тем самым вы отрекаетесь от собственной способности понимать. Точно так же вы могли бы сказать: «Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья». Возможно. Но какими уравнениями эта воля описывается? На каком достаточно ясном языке мы можем описать это безумие и тем избавиться от него? Мне все-таки кажется, что «дикие инстинкты», «алчность», «кровожадность» неподходящие отмычки. Пользоваться ими – значит обходить самое, может быть, существенное. Это значит забывать о лишениях, связанных с войной. О готовности жертвовать жизнью. О дисциплине. О братстве, рожденном опасностью. Это значит, наконец, забывать обо всем, что поражает нас в солдате, в любом солдате, который согласился идти на лишения и смерть. В прошлом году я побывал на мадридском фронте, и, на мой взгляд, соприкосновение с настоящей войной дает больше, чем книги. Думаю, только от солдата можно узнать, что такое война. Но чтобы причаститься вместе с ним к всеобщей истине, надо забыть, что он на чьей-то стороне, и не обсуждать идеологические проблемы. Неумение найти общий язык влечет за собой противоречия, запутанные настолько, что лишают веры в спасение человека. Франко бомбит Барселону потому, что, по его словам, в Барселоне зверски истребили монахов. Следовательно, Франко защищает христианские ценности. Но христианин, во имя христианских ценностей, стоит в разбомбленной Барселоне у костра, в котором горят женщины и дети. И он отказывается понимать. Вы возразите мне, что это – печальная необходимость войны… Что война абсурдна, но приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я думаю, что абсурден, прежде всего, язык, заставляющий людей противоречить самим себе. Очевидность ваших истин – тоже не довод. Вы правы. Вы все правы. Прав даже тот, кто вину за все земные беды возлагает на горбунов. Если объявить войну горбунам, если заронить в умы представление о расе горбунов, мы быстро сумеем себя распалить. Мы предъявим горбунам счет за все их мерзости, за все преступления, все грехи. И будем считать, что это справедливо. А когда мы утопим несчастного, ни в чем не повинного горбуна в его собственной крови, то пожмем плечами с сожалением: «Таковы ужасы войны… Он расплачивается за других… Он расплачивается за преступления горбунов…». Ведь горбуны, разумеется, тоже совершают преступления. Забудем же эти различия: если их принять, вслед за ними появится целый свод непререкаемых истин, со всем вытекающим из них фанатизмом. Можно поделить людей на правых и левых, на горбунов и негорбунов, на фашистов и демократов, и такие разграничения неуязвимы. Но истина, как мы помним, – это то, что делает мир проще, а не то, что создает хаос. А если задать солдату – любому солдату – вопрос иначе? Если искать смысл его сокровенных устремлений по-другому – не вслушиваясь, какие оправдания он приводит на своем невнятном языке, а всматриваясь, как он живет?Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов
В глубине подземного укрытия несколько человек – лейтенант, сержант, трое солдат – снаряжаются, чтобы пойти в дозор. Один из них, тот, что напяливает шерстяной свитер – холод стоит жестокий, – маячит передо мной в темноте. Он еще не просунул голову в ворот, руки путаются в рукавах, движения медленные и неуклюжие по-медвежьи. Глухие проклятья, ночная щетина, разрывы поодаль… Все это составляет странную смесь из сна, пробуждения и смерти. Долгие сборы бродяг перед тем, как снова взять тяжелый посох и отправиться в путь. Загнанные в землю, вымазанные землей, с руками в земле, как у садовников, эти люди не созданы для наслаждения. Женщины отвернулись бы от них. Но вот они потихоньку выкарабкиваются из грязи к звездам. Под землей, под этими глыбами промерзшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час другие люди так же снаряжаются и натягивают на себя такие же шерстяные свитера; они выпачканы той же землей и вылезают из той же глины, из которой и сотворены. Там, напротив, та же земля пробуждается к мысли через людей. Так по ту сторону, лейтенант, твой собственный образ медленно поднимается навстречу гибели от твоей руки. Он от всего отказался, чтобы, как и ты, защищать свою веру. Его вера – это и твоя вера тоже. Кто согласился бы умирать иначе, как за истину, справедливость, любовь к людям? Мне скажут: «Кого-то обманули – либо их, либо тех, что напротив». Но мне сейчас плевать на политиков, спекулянтов, мыслителей-надомников из обоих лагерей. Они дергают за веревочки, сыплют громкими словами и полагают, что руководят людьми. Они полагают, что люди настолько наивны. Но если громкие слова и пускают корни, как семена, развеянные по ветру, – это значит только, что ветру на пути встретились тучные земли, пригодные нести груз урожая. И пусть кто-то цинично воображает, что разбрасывал песок вместо зерен: распознавать хлеб – дело земли. Дозорные готовы, и мы двигаемся через поле. Стерня похрустывает у нас под ногами, и мы то и дело спотыкаемся в темноте о камни. Я провожаю до границы этого мира тех, кто получил приказ зайти в глубь узкой долины, отделяющей нас от противника. Ширина ее – восемьсот метров. Она оказалась под навесным артиллерийским огнем обеих сторон, и крестьяне ее покинули. Долина безлюдна, затоплена водами войны, посреди ее спит затонувшая деревушка. В ней живут теперь только призраки, тут остались одни собаки; днем они, должно быть, рыскают в поисках жалкого пропитания, а по ночам их, изголодавшихся, охватывает ужас. И к четырем часам утра вся деревня в смертельной тоске воет на белую, как кость, луну высоко в небе. «Вы должны разузнать, не прячется ли там противник», – приказал командир. Надо думать, противник задает себе тот же вопрос, и такой же дозор отправляется в путь с той стороны. С нами идет комиссар. Я забыл, как его звали, но лица его я никогда не забуду. Он мне сказал: «Ты их услышишь… Когда будем на передовой, попробуем окликнуть неприятеля на том склоне… Иногда они отвечают…». Я его ясно вижу, этого человека: он опирается на суковатую палку (наверно, легкий ревматизм), у него лицо пожилого сознательного рабочего. Вот он-то, могу поклясться, возвысился над политикой и борьбой партий. Он возвысился над враждующими исповеданиями веры. «Жаль, что в нынешних обстоятельствах мы не можем изложить противнику нашу точку зрения…». Он идет с ношей своих убеждений, как евангелист. А на той стороне – я знаю, и вы это знаете – другой евангелист, какой-нибудь верующий, также озаренный светом своих убеждений, вытаскивает тяжелые сапоги из той же грязи и тоже идет на неведомое свидание. И вот мы шагаем к земляному гребню, поднявшемуся над долиной, к самому вытянутому его отрогу, к крайнему уступу, к тому вопрошающему крику, что мы бросим врагу, – так вопрошают самих себя. Ночь, высящаяся, словно собор, – и какая тишина? Ни одного ружейного выстрела. Передышка? Нет, не то. Но нечто похожее на ощущение присутствия. Оба противника слушают один и тот же голос. Братание? Нет, конечно, если подразумевать под этим словом ту усталость, что в один прекрасный день ломает людей, заставляя их обмениваться сигаретами и делить чувство одинакового унижения. Попробуйте же сделать шаг навстречу врагу… Братание, быть может, но на такой высоте, где дух действует неизъяснимым до поры образом, – а здесь, внизу, не спасает нас от бойни. Ибо у нас нет пока языка, способного высказать то, что нас объединяет. Мне кажется, я хорошо его понимаю – комиссара, который идет с нами. Откуда он, с такими глазами, глядящими прямо перед собой, словно он когда-то подолгу ходил за плугом по борозде? Он родом из крестьян и с ними вместе постигал, как живет земля. Потом он ушел на завод и постигал, как живут люди. «Я металлист… Двадцать лет был металлистом…» Я ни от кого не слышал исповеди более возвышенной, чем от этого человека. «Я человек неотесанный… Мне пришлось крепко над собой потрудиться… Понимаешь, всякие инструменты – с ними я умел обращаться и говорить об этом умел, тут у меня чутье было… Но когда я пробовал изложить что-то такое – идеи, мысли о жизни – для себя или для других… Вы-то привыкли к отвлеченным вещам… Вас ведь с детства приучают разбираться в разных словесных хитростях, и вы не можете вообразить, как это трудно – говорить об отвлеченных вещах! Но я работал, работал… Я чувствовал, как понемногу суставы у меня становятся гибче… Ты не думай, что я не могу посмотреть на себя со стороны… Я еще мужлан, не умею вести себя прилично, а ведь человека, знаешь, судят по тому, как он себя ведет…» Слушая его, я вспоминаю прифронтовую школу, устроенную прямо в камнях, как первобытное поселение. Капрал преподавал там ботанику. Ощипывая лепестки мака, он приобщал своих бородатых учеников к нежным тайнам природы. Но видно было, что солдаты испытывают простодушную тревогу: они так старались понять, – а ведь они уже не слишком молоды и огрубели от прожитой жизни. Им сказали: «Вы дикари, едва из пещеры вылезли, надо догонять человечество…» И они торопливо поспевали за человечеством своими широкими тяжелыми шагами. Я присутствовал здесь при восхождении мысли, подобном движению соков по стволу; рожденная в доисторической тьме из глины, она поднялась понемногу до высочайших вершин – до Декарта, Баха, Паскаля. Как переворачивал душу рассказ комиссара об усилиях пробиться к отвлеченным вещам! Эта потребность расти – так дерево тянется вверх. Вот тут и кроется тайна жизни. Только жизнь извлекает свою сырую породу из почвы и наперекор силе тяжести поднимает ее ввысь. Какие воспоминания! Эта соборная ночь… Зрелище человеческой души с ее шпилями и стрельчатыми сводами… Враг, которого мы готовимся окликнуть. И мы сами, словно вереница паломников, бредем по черной, хрустящей земле, усыпанной звездами. Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей. Из-за них пролито слишком много людской крови. Мы шествуем к грозовому Синаю[144]. Вот мы и на месте. Натыкаемся на закоченевшего часового – он дремал, привалившись к низенькой каменной стене. «Да, тут они иногда отвечают… Другой раз сами зовут… А иногда и не отвечают. Это уж смотря с какой ноги встанут…» …Так ведут себя и боги. В ста метрах позади нас петляют окопы передовой. Их низкие стены укрывают человека по грудь. Они используются только для ночных постов, днем тут никого нет. Они нависают прямо над бездной, поэтому нам кажется, что мы словно облокачиваемся о парапет или барьер над пустотой и неизвестностью. Я зажигаю сигарету, и могучие руки сразу же валят меня на землю. Рядом со мной все тоже падают. В эту самую минуту я слышу свист пяти-шести пуль. Впрочем, они пролетают слишком высоко, и больше залпов нет. Это просто призыв к порядку: под носом у противника сигарет не зажигают. К нам подходят трое или четверо людей, закутанных в одеяла. Они стояли на часах поблизости, в таких же укрытиях. – Видно, проснулись те, напротив… – А говорить они будут? Хорошо бы их послушать… – Там есть один… Антонио… Он иногда разговаривает. – Ну попробуй – пусть поговорит… Солдат выпрямляется, набирает полную грудь воздуху, складывает ладони рупором и кричит раскатисто и протяжно: «ан – то – ни – о…о!» Крик растет, стелется, эхом отражается по равнине… «Нагнись, – говорит мне сосед, – иногда они стреляют в ответ, когда их зовут…». Мы прижимаемся к камню для безопасности и вслушиваемся. Выстрелов нет. Что же до отклика… Мы не могли бы поклясться, что ничего не слышим: в ночи все гудит, как в раковине. «Эй! Антонио…о! Ты что…». И славный здоровенный парень, надсадив грудь, переводит дыхание. «Ты что… спишь?..». Ты спишь… – повторяет эхо на другом берегу… Ты спишь… – повторяет долина… Ты спишь… – повторяет ночь. Все вокруг наполнено этим звуком. А мы стоим, охваченные доверчивой надеждой: они не стреляют! Я представляю себе, как они там прислушиваются, и ждут, и ловят человеческий голос. И этот голос не будит в них ненависти – ведь они не нажимают на спусковой крючок. Правда, они молчат, но какое напряженное внимание выдает эта тишина, если единственная зажженная спичка вызывает выстрел! Не знаю, какие невидимые семена, летящие с нашим голосом, падают в черную землю. Они жаждут нашей речи, как мы жаждем речи ответной. Но мы ничего не знаем о нашей жажде, кроме того, что она ясно чувствуется в самом этом внимании. А они все же не снимают пальцев со спусковых крючков, и я вспоминаю диких зверьков в пустыне, которых мы пытались приручить. Они смотрели на нас, прислушивались к нам. Они ждали от нас пищи. И все-таки, при малейшем неосторожном движении они вцепились бы нам в горло. Мы надежно укрываемся за стену и, приподняв над ней руки, чиркаем спичкой. Три пули летят на быстро гаснущую звездочку. О спичка-магнит… Это значит: «Мы воюем, не забывайте! Но мы вас слушаем. Такая суровость не мешает любви…». Кто-то отталкивает здоровенного парня: «Тебе его не разговорить, дай-ка я попробую…» Коренастый крестьянин прислоняет ружье к стене, набирает воздуху в легкие и кричит: «Это я, Леон… Антонио-о!» И громовой звук удаляется. Я никогда не слышал, чтобы голос разносился так далеко. Будто корабль отплыл в пропасть, которая нас разделяет. Восемьсот метров отсюда до того берега и столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они откликнутся, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пройдет пять секунд тишины, на которых подвешена целая жизнь. Каждый раз это как посольство в пути. И потому, даже если они нам ответят, мы не испытаем чувства единения друг с другом. Между нами встанет инерция невидимого мира, который надо столкнуть с места. Голос отчалил, он плывет, пристает к тому берегу… Секунда… две… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые бросили бутылку в море… Три секунды… Четыре… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые не знают, откликнутся ли спасители… Пять секунд… «О-о!» Голос доносится издалека и замирает на нашем берегу. Фраза растаяла по дороге, от нее осталась только невразумительная весть. Но меня она потрясает. Мы затеряны в темноте, непроницаемой изначала, и вот она внезапно озаряется возгласом гребцов. Нас бьет бессмысленная лихорадка. Мы нашли очевидное доказательство. Напротив – люди! Как это объяснить? Мне кажется, будто внезапно образовалась невидимая расщелина. Представьте себе дом ночью, все двери заперты. И вдруг в темноте вас касается дуновение морозного воздуха. Одно-единственное. Кто-то рядом! Вы когда-нибудь склонялись над пропастью? Я вспоминаю трещину в Шезри[145], черную щель в чаще леса, шириной в метр или два, длиной метров в тридцать, пустяк. Ложишься ничком на еловые иголки и подталкиваешь рукой камешек в эту гладкую расщелину. Отзвука нет. Проходит секунда, две, три – целая вечность, и вот, наконец, слышится слабый гул, волнующий тем больше, чем дольше он шел, чем он слабее там, под тобой. Какая бездна! Так и в эту ночь запоздалое эхо созидает новый мир. Враг, мы сами, жизнь, смерть, война – несколько секунд тишины выражают все это. Снова послан сигнал, корабль тронулся в путь, караван отправился через пустыню, и мы снова ждем. Конечно, на той стороне, так же как и здесь, ловят этот голос, разящий в сердце, словно пуля. Но вот эхо возвращается: «…Пора… пора спать!» Фраза доносится до нас изуродованной, разорванной в клочья, как спешное сообщение, перепачканное, размытое, истрепанное морем. Те самые люди, что стреляли по нашим сигаретам, напрягают грудь во всю мочь, чтобы послать нам материнский совет: «Молчите… Ложитесь… Пора спать». Нас охватывает легкая дрожь. Вам, наверно, показалось бы, что это игра. Им, этим простым людям, наверно, тоже кажется, что это игра. Так они в целомудрии своем вам бы и объяснили. Но в игре всегда таится глубокий смысл. Иначе откуда бы взяться тревоге, и наслаждению, и притягательной силе игры? Игра, в которую, казалось, мы играли, слишком хорошо сочеталась с той соборной ночью, с тем шествием к Синаю, она заставляла наши сердца биться слишком сильно, чтобы не отвечать какой-то смутной потребности. Установленная наконец-то связь приводит нас в радостное возбуждение. Так вздрагивает физик, приступая к решающему опыту, готовясь взвесить молекулу. Он определит лишь одну величину из сотен тысяч, добавит как будто только одну песчинку к зданию науки, и все же сердце у него бьется, потому что дело совсем не в этой песчинке. У него в руках ниточка. Ниточка, дернув за которую, приближаешь познание вселенной, ибо все связано между собой. Так вздрагивают спасатели, закидывая трос один раз, другой, двадцатый… и ощутив по едва заметному толчку, что потерпевшие крушение наконец его поймали. Где-то там была горстка людей, затерянных среди рифов в тумане, отрезанных от мира. И вот они связаны волшебной стальной нитью со всеми мужчинами, со всеми женщинами во всех портах. Так и мы перекинули хрупкий мостик через ночь к неизвестности, и вот он связал друг с другом два берега мира. Мы соединяемся с врагом, перед тем как погибнуть от его руки. Но наш мостик такой легкий, такой хрупкий; что можно ему доверить? Слишком тяжелый вопрос или ответ – и он рухнет. У нас так мало времени, что передавать надо только самое важное, истину истин. Я будто снова его слышу – того, кто руководил маневром, кто взял нас под свою команду, как рулевой; того, кто сумел добиться от Антонио ответа и потому стал нашим послом. Я вижу, как он выпрямляется во весь рост над стенкой, опирается широко раскрытыми ладонями о камень и выкрикивает в полный голос главный вопрос: «Антонио! За какой идеал ты сражаешься?» Разумеется, они по целомудрию стали бы оправдываться: «Это мы так, в шутку…» Они и сами в это поверят позднее, если попробуют передать на своем скудном языке те чувства, для передачи которых еще нет языка. Чувства человека, который внутри нас и который вот-вот проснется… Но чтобы он появился на свет, требуется усилие. Этот солдат в свой черед ждет потрясения – и я знаю, я видел его глаза: он открыт ответу всей душой, как открываются колодезной воде в пустыне. Вот она, наконец, эта изуродованная весть, это признание, обглоданное пятью секундами странствия, как надпись на камне обглодана столетиями: «…Испания!» Затем доносится: «…ты». Думаю, это он теперь вопрошает того, кто здесь. Ему отвечают. Я слышу, как отсылают величавый ответ: «…Хлеб для наших братьев!» А вслед за тем удивительное: «…Спокойной ночи, amigo!» На что с той стороны отвечают: «Спокойной ночи, amigo!» И все снова погружается в тишину. Наверно, они там, как и мы, могли расслышать только отдельные слова. Разговор состоялся, и вот он, плод долгой ходьбы, опасностей и усилий… Вот он весь, такой, каким его качало эхо под звездами: «Идеал… Испания… Хлеб для наших братьев…» Но пора, дозор отправляется в путь. Начинается спуск к деревне – месту встречи. Ведь на той стороне такой же дозор, подчиняясь той же необходимости, углубляется в ту же бездну. Разными по видимости словами эти два отряда прокричали одну истину… Но столь возвышенное общение не воспрепятствует им умереть вместе.Надо придать смысл человеческой жизни[146]
Несхожими словами мы выражаем одни и те же стремления. Человеческое достоинство, хлеб для наших братьев. Мы различаемся по способу достижения цели, определяемому логикой наших рассуждений, а не по самой цели. Мы идем на войну друг против друга по направлению к одной и той же земле обетованной. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на нас со стороны. Тогда окажется, что мы воюем против самих себя. А наши споры, распри, обиды – это словно единое тело корчится и раздирается пополам в кровавых родовых муках. В том, что должно появиться на свет, противоречивые представления сольются, но поторопимся ковать новую цельность. Родам надо помочь, иначе исход может оказаться смертельным. Не забудем, что сегодня война питается минами и ипритом. Военная страда теперь уже не препоручается каким-то представителям нации, которые пожинают лавры на границе и более или менее дорогой ценой приумножают (готов признать) духовное достояние народа. Война теперь действует хирургическими приемами насекомого, прокусывающего нервные узлы врага. Как только война будет объявлена, наши вокзалы, мосты, заводы взлетят на воздух. Наши города в судорогах удушья разбросают своих жителей по деревням. И с первого же часа Европа, этот организм из двухсот миллионов человек, лишится своей нервной системы, словно ее сожжет кислотой, своих управляющих центров, регулирующих желез, кровеносных сосудов; она превратится в сплошную раковую опухоль и сразу же начнет гнить. Как прокормить эти двести миллионов человек? Корешков в достаточном количестве им никогда не накопать… Когда противоречия становятся столь остры, нужно спешить их преодолевать. Нет ничего сильнее смутного беспокойства, ищущего для себя выражения. Можно дать на мучащие человека вопросы ответ получше, чем война, но отрицать их бесполезно. Попробуйте прокричать, какие у вас есть основания ненавидеть войну, тому сражавшемуся на юге Марокко офицеру (я его знаю, но имени не назову, чтобы не причинить ему неприятностей). Если вы его не убедите, не считайте его варваром. Послушайте сначала этот рассказ. Во время Рифской войны[147] он командовал небольшой заставой, примостившейся между двух мятежных гор. Однажды вечером он принимал парламентеров, спустившихся с западной гряды. Как положено, пили чай, и тут раздалась ружейная стрельба. На заставу напали племена восточной гряды. Когда офицер попросил парламентеров уйти, чтобы не мешать бою, они ответили: «Сегодня мы твои гости, аллах не велит тебя покидать…». Они присоединились к его солдатам, спасли заставу и вернулись к мятежникам. Но накануне того дня, когда пришел их черед нападать на заставу, они появились снова: – В прошлый раз мы тебе помогли. – Верно. – Мы истратили для тебя триста патронов. – Верно. – По справедливости надо их нам вернуть. И офицер-рыцарь не стал извлекать выгоду из их благородства. Он отдал им эти патроны, один из которых, может быть, его убьет… Истина для человека – это то, что делает его человеком. Кто познал такую высоту отношений, такую честность в игре, такой дар взаимного уважения, оплачиваемого жизнью, – тот, сравнивая взлет души, что выпал ему на долю, с заурядностью демагога, выражающего чувство братства с теми же арабами звонким похлопыванием по плечу, ласкающего, может быть, самолюбие отдельной личности, но унижающего в ней человека, тот испытает к вам, если вы его осудите, только жалость, смешанную с презрением. И будет прав. Не пытайтесь объяснять Мермозу[148], когда он, всем сердцем торжествуя победу, летит над чилийским склоном Анд, будто он ошибается, будто письмо какого-нибудь лавочника не стоит того, чтобы из-за него рисковать жизнью. Мермоз посмеется над вами. Истина – это человек, родившийся в нем, когда он пролетал над Андами… Неужели вы не понимаете, что человеческое благородство основано, прежде всего, на самоотдаче, готовности рисковать, верности до самой смерти? Если вам нужен образец для подражания, вы найдете его в летчике, жертвующем собой ради почты, которую он везет, во враче, погибающем, сражаясь с эпидемией, в арабском воине, который на своем боевом верблюде спешит во главе отряда навстречу лишениям и одиночеству. Кто-то из них погибает каждый год. И даже если их жертвы кажутся бессмысленными, что же, вы думаете, их жизнь пропала даром? Они запечатлели прекрасный образ на первобытной глине, из которой мы сделаны, они посеяли семена даже в сознании малого ребенка, засыпающего под легенды об их подвигах. Ничто не исчезает бесследно, и даже от огороженного стенами монастыря исходит свет. Неужели вы не понимаете, что где-то мы сбились с пути? Человеческий муравейник стал богаче, чем прежде, у нас больше всяких благ и досуга, и все же нам не хватает чего-то существенного, чему трудно подыскать определение. Мы меньше ощущаем себя людьми, мы утратили какие-то таинственные привилегии. Я разводил газелей на мысе Юби[149]. Мы все там разводили газелей. Их держали в загородках на открытом воздухе, потому что газелям нужны потоки свежего ветра; газели – самое хрупкое, что есть на свете. Но если их изловить совсем маленькими, они все же живут в неволе и кормятся из ваших рук. Они дают себя погладить и тычутся влажными мордочками в вашу ладонь. И вы думаете, что приручили их. Вы думаете, что прогнали ту неведомую печаль, от которой газели тихо гаснут и умирают самой ласковой смертью… Но приходит день,когда вы застаете их упершимися рожками в изгородь и глядящими в сторону пустыни. Их влечет магнитом. Они не знают сами, что покидают вас; они пьют молоко, которое вы им приносите, позволяют себя гладить и еще нежнее тычутся мордочками в ваши ладони… Но как только вы отойдете, они, поскакав немного радостным галопом, снова возвращаются к изгороди. Если вы им не помешаете, они так и останутся там, даже не пытаясь сломать ограду, а только упираясь в нее рожками, опустив голову, пока не умрут. Что это – пора любви или просто жажда мчаться вприпрыжку до потери дыхания? Они не знают. Их поймали, когда у них еще глаза не открылись. Они ничего не знают ни о свободе в песках, ни о запахе самца. Но вы много умнее их. Вы знаете, чего они ищут: простора, который даст им возможность осуществиться. Они хотят стать газелями и танцевать свой танец. Они хотят познать бег по прямой со скоростью сто тридцать километров в час, перемежаемый внезапными скачками в сторону, словно из-под песка то тут, то там вырывается пламя. Разве их остановят шакалы, если истина газелей в том, чтобы испытывать страх, который один только может заставить их превзойти самих себя, проделать самые невероятные прыжки? Разве остановит их лев, если истина газелей в том, чтобы их раздирали когти под слепящим солнцем? Вы смотрите на них и думаете: они охвачены ностальгией… Ностальгия – это желание неизъяснимого. Предмет желаний существует, нет только слов, чтобы его назвать. А мы – чего не хватает нам? Что это за пространства, куда мы просим нас выпустить? Мы стараемся вырваться за пределы тюремных стен, растущих вокруг нас. Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить все наши потребности. И понемногу из нас лепили куртелиновского мелкого буржуа[150] провинциального политикана, узкого специалиста, лишенного всякой внутренней жизни. Вы мне возразите: «Нас учат, просвещают, больше чем когда-либо обогащают всеми завоеваниями разума». Но до чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу. Паскаль – это, прежде всего, стиль. Ньютон – это, прежде всего, человек. Он стал зеркалом вселенной – слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее в саду, и звезды июльской ночью. Для него наука была жизнью. И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей, и притом надличной, целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными. Тут нечему удивляться. Тот, кто не подозревал о существовании незнакомца, дремлющего в его душе, но однажды в кабачке анархистов, в Барселоне, почувствовал, как он пробуждается благодаря самопожертвованию, дружеской помощи, суровому понятию справедливости, – тот будет отныне признавать только одну истину: истину анархистов. А кто однажды постоит на часах, охраняя коленопреклоненных испуганных монашенок в испанских монастырях, – тот умрет за испанскую церковь. Мы хотим освобождения. Кто бьет киркой, хочет знать, какой смысл в том, что он бьет киркой. Каторжник бьет киркой совсем не так, как изыскатель, которого удар киркой возвышает. Каторга не там, где бьют киркой. Дело вовсе не в физических трудностях. Каторга там, где бьют киркой бессмысленно, где удар киркой не связывает работающего со всем человечеством. А мы хотим бежать с каторги. В Европе двести миллионов человек, жизнь которых лишена смысла и которые хотели бы родиться на свет. Развитие промышленности оторвало их от наследственного крестьянского языка и заперло в огромных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые составами из черных вагонов. В гуще рабочих предместий эти люди ждут пробуждения. Есть и другие – жертвы всех профессий: им запретны радости Мермоза, радости верующего, ученого; а они тоже хотели бы родиться. Конечно, можно их оживить, нарядив в мундиры. Они станут петь походные песни и делить хлеб по-братски. Они найдут то, чего ищут, – причащение к всеобщему. Но, отведав такого хлеба, они погибнут. Можно откопать деревянных идолов и воскресить старые языки, которые с грехом пополам делали когда-то свое дело; можно воскресить мистику пангерманизма или Римской империи[151]. Можно одурманить немцев хмелем сознания, что они – немцы и соотечественники Бетховена. Таким хмелем можно и кочегару вскружить голову. Это, конечно, гораздо легче, чем пробудить в кочегаре Бетховена. Но демагогические идолы плотоядны. Тот, кто умирает за приумножение познаний или исцеление болезней, даже умирая, служит жизни. Можно умереть и за расширение границ Германии, или Италии, или Японии, но тогда враг – это уже не уравнение, сопротивляющееся решению, не бацилла, сопротивляющаяся сыворотке; враг – это человек рядом. С ним приходится сражаться, но о победе сегодня речи быть не может. Каждый укрывается за бетонными стенами. Каждый, не придумав ничего лучшего, ночь за ночью посылает эскадрильи бомбить самое нутро другого. Победа достается тому, кто сгниет последним, – поглядите на Испанию… Что помогало нам родиться к жизни? Служение. Мы смутно ощущали, что человек может соединяться с человеком, только разделяя одни и те же устремления. Летчики сближаются, если идут на риск ради одной и той же почты. Альпинисты – если карабкаются к одной и той же вершине. Люди соединяются не тогда, когда тесно соприкасаются друг с другом, а когда сливаются в одной вере. В мире, ставшем пустыней, мы испытываем жажду вновь обрести товарищей. Но для того, чтобы почувствовать тепло от плеч спутников, с которыми вместе бежишь к одной цели, война не нужна. Война нас обманывает. Ненависть ничего не прибавляет к экстазу бега. Ибо для того, чтобы освободить нас, достаточно помочь нам осознать единую цель, связующую нас Друг с другом, и искать ее надо в общечеловеческом. Врач во время осмотра не обращает внимания на стоны того, кого выслушивает: помогая этому больному, он надеется исцелить человека. Врач говорит на общем для всех языке. Пилот почтового самолета мускулистой рукой управляется с болтанкой, и это каторжная работа. Но своим трудом он служит связям между людьми. Мощь его руки соединяет тех, кто любит друг друга, кто мечтает о встрече: этот пилот тоже частица всеобщего. И даже простой пастух, стерегущий овец под звездами, осознав свое назначение, обнаруживает, что он больше чем пастух. Он часовой. А каждый часовой в ответе за всю державу. К чему обманывать кочегара, посылая его во имя Бетховена драться с соседом? Какая ложь! Ведь в том же краю Бетховена бросают в концентрационный лагерь, если он думает не так, как кочегар. У кочегара должна быть иная цель возвыситься до того, чтобы однажды заговорить, как Бетховен, на общем для всех языке. Идя к осознанию вселенной, мы вернемся к самой сути человеческой судьбы. Не понимают этого только лавочники, удобно устроившиеся на берегу и не замечающие, как течет река. Но мироздание не стоит на месте. Из кипящей лавы, из звездного вещества рождается жизнь. Постепенно мы восходим к тому, чтобы сочинять кантаты и взвешивать галактики. И сержант под снарядами знает, что генезис еще не завершен, что он должен продолжать восхождение. Жизнь движется к сознанию. Звездное вещество неторопливо вскармливает и растит самый благородный свой цветок. Но велик даже тот пастух, что осознал себя часовым. Мы лишь тогда будем счастливы, когда начнем двигаться в нужном направлении – в том, по какому шли с самого начала, только пробудившись из глины. Тогда мы сможем жить в мире, ибо то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти. Как легка она под сенью провансальского кладбища, когда старый крестьянин в конце своего царствования вручает семейное достояние – коз и маслины – на хранение сыновьям, чтобы те в свой черед передали его сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого в свой срок лопается, как стручок, и выпускает на волю зерна. Я как-то сидел бок о бок с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было горько. Второй раз перерезалась пуповина. Второй раз развязывался узел, соединяющий одно поколение с другим. Трое сыновей понимали, что остались одни, что им надо всему учиться заново, что они лишились семейного стола, за которым собирались по праздникам, той точки, в которой они все сходились. Но я понимал также, что с этим разрывом второй раз дарилась жизнь. Сыновья в свой черед становились предводителями, полюсами притяжения, патриархами – до той поры, пока в свой черед не передадут престол выводку малышей, играющих во дворе. Я смотрел на мать, старую крестьянку, с лицом спокойным и строгим, со сжатыми губами; лицо ее обратилось в каменную маску. И я узнавал в нем лица сыновей. В этой маске они были отлиты. В этом теле были отлиты их тела, прекрасные образцы человеческой породы; они держались прямо, как деревья. Теперь маска лежала разбитая – но так трескается крепкая скорлупа, из которой вылущили плод. Сыновья и дочери в свой черед будут отливать из своей плоти человеческий молодняк. На ферме не умирают. Мать умерла, да здравствует мать! Горькая, да, но такая простая картина: этот род, оставляя на пути одного за другим своих прекрасных седоволосых покойников, шествует через все метаморфозы к неведомой истине.Письма, телеграммы, записные книжки (Антуан де Сент-Экзюпери)
Письмо г-же Н. (Письмо Х.) [Орконт, конец декабря 1939 г.]Полночь. В Витри был праздник. Мне пришлось пойти во «фронтовой театр»[152]. И вновь острей, чем когда бы то ни было, встал вопрос: почему мы воюем? Куда делись французы? Куда делся г-н Паскаль? До чего ничтожно это паясничанье! Эти стереотипные, как с конвейера, песенки! Еще куда ни шло, когда они идиотские, вроде «Ольги», тогда их еще можно вынести:
Письмо Х. [Тулуза, 26 октября 1939 г.]
Отчаянно умоляю тебя: воздействуй на Шансора[160], чтобы меня направили в истребительную авиацию. Я все сильней ощущаю удушье. В атмосфере этой страны невозможно дышать. Боже милостивый, чего мы ждем[161]! К Дора[162] насчет перевода в истребители не обращайся, пока не будут исчерпаны другие возможности. Я нравственно заболею, если не буду драться. Я могу многое сказать о нынешних событиях. Но сказать только как солдат, а не как турист. Для меня это единственная возможность высказаться, я делаю по четыре вылета в день, я в хорошей, даже в слишком хорошей форме, что все и усугубляет: здесь из меня хотят сделать инструктора по обучению не только штурманов, но и пилотов тяжелых бомбардировщиков. А в результате я задыхаюсь, несчастен и способен лишь молчать (…) Сделай так, чтобы губы меня направили в эскадрилью истребителей (…) Я не люблю войну, но не могу оставаться в тылу и не взять на себя свою долю риска (…) Надо драться. Но я не имею права говорить об этом, пока в полной безопасности прогуливаюсь в небе над Тулузой. Это было бы непристойно. Верни мне мое право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, кто представляет собой какую-то ценность, надо держать в безопасности! Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. И ежели представляющие собой ценность являются солью земли, они должны смешаться с землей. Нельзя говорить «мы», когда стоишь в стороне. А если говоришь, тогда ты просто сволочь.
Письмо Х. [Тулуза, «Гран отель Тиволье», начало ноября 1939 г.]
Я только что провел двое суток на дежурстве. Спал на полу среди телефонов и шифровок. Просыпался в беленой комнатушке, ел в промерзшем буфете, словно мальчишка в школьной столовке. И находил в этом невыразимую радость. Ощущение домашних шорохов, будничности, кладовок. Мне хотелось бы раствориться в этом. Потому что я не вижу смысла в обломках ничтожного буржуазного существования, в этом отвратительном Лафайете[163], в этом хождении по взлетным полосам, в шатании вокруг ангаров. Я не гожусь для этого. Мне хочется стать пищей для корней дерева. Тогда бы я чувствовал птиц, что находят на нем приют. Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии или летчика-истребителя, или монастырского затворника, в том и состоит, что потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе естественного переваривания превращаешься в нечто иное. Просить для меня не тягостно. Я не прошу ни чинов, ни пособия. Я прошу, чтобы меня послали на фронт, в истребительную авиацию. Для меня это жизненная необходимость. И пусть это трудно, пусть даже безумно сложно, я все равно не испытываю угрызений совести оттого, что прошу: это первая моя к тебе просьба о столь большой услуге. Не ходи сразу к Дора. Дора меня не выручит. Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, – под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кто не сволочь, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне. Как можно скорей добейся моего перевода в истребители. Здесь я изнываю от мрачного сознания своей бесполезности. Я не питаю никаких иллюзий насчет трудностей, ожидающих меня в истребительной эскадрилье, но в любом случае вновь с огромной радостью обрету почву под ногами, как в ту пору, когда я был пилотом почтовой линии. Среди ее летчиков я был как бы частицей земли, которая питает дерево, и не испытывал потребности в понимании. Ведь дерево – это смысл земли. Этим все объясняется.
Письмо Х. [Орконт, середина декабря 1939 г.][164]
Грязь. Дождь. На ферме мучает ревматизм. Пустые вечера. Неясная тоска. На высоте 10000 метров испытываю тревогу. И страх тоже. Естественно: все, что положено людям. Все, чтобы быть человеком среди людей. Чтобы слиться с такими же, как я, потому что, отъединись я от них… грош мне была бы цена. Презираю сторонних наблюдателей. Всех этих Ж., о которых тебе говорил Декарт[165] и которые ничего не вкладывают в свою деятельность. Я обрел то, что должен был обрести. Я – как все. Мерзну, как пес. Боюсь, как все. Страдаю от ревматизма, как все. И возможность выбора у меня не больше, чем у остальных. У них есть жандарм. У меня же нечто, обладающее куда большей властью, чем жандарм. Разумеется, я развлекаюсь, распевая, с ними застольные песни. Но и они – тоже. Это, правда, не мешает им, уходя в увольнение, ободрять меня, утешать, поднимать мой дух и дружески похлопывать по плечу. Я бы предпочел быть никому не известным солдатом.
Письмо Х. [Орконт, 22 или 23 декабря 1939 г.]
Печальный день. И наша и соседняя группа, стоящая в Сен-Дизье, потеряли по экипажу: их сбили в один и тот же лень. Сюда приезжал на сутки Кессель[166], один из ближайших моих приятелей, и я покатал его на военном самолете. Кессель ничуть не изменился (…) Я с любовью вспоминаю свою аварию в Ливии[167], наше отчаянное положение, вынуждавшее меня куда-то идти, и пустыню, которая потихоньку пожирала меня. Я преображался в нечто иное, оказавшееся не таким уж скверным. (…) Ночь, тонущая в песках, и долгий полет среди звезд. Разве не в этом мой долг? Хочу в это верить, если долгом называется наилучшее выполнение своих обязанностей., хотя на языке умозрительных истин это уже не так. И умозрительность доминирует над милосердием. Она уже более высокий уровень. (…) От всего этого такой привкус, что меня тошнит. В небе можно попытаться сделать что-то стоящее. Там от меня никто ничего не требует, и задание поручают мне не для того, чтобы выжать из меня соки, а потому что мою кандидатуру предпочли ста другим. Ты видела эту толпу порученцев, алчущих продвижения? Я другой породы. Нет там могучего дерева, что силой отнимает у земли ее сокровища и дивно истощает ее.
Письма Леону Верту[168] [1939 г.?]
Дорогой Верт! Проездом обнимаю вас (в Париже я всего на несколько минут). Сегодня днем прогулялся по исключительно скверно мощеным закоулкам и любовался там устроенным специально для меня – красивейшим в мире фейерверком. Набил несколько шишек в самолете – и все. Обнимите Сюзанну[169]. Тонио
[1939 г.]
Дорогой Верт! Я здесь проездом: через десять минут отправляюсь на двое суток в Тулузу на испытания. Надеюсь повидаться с вами., когда поеду через Париж обратно. Полеты прошли хорошо. Будьте добры, скажите Консуэло[170], что я пытался связаться с ней во время моего краткого пребывания тут и надеюсь, что она окажется в пределах досягаемости, когда я поеду обратно; я ее предупрежу (позвоню из Тулузы). Передайте ей прилагаемую бумагу, которая нужна ей для квартиры; я ее подписал, а она должна сама отнести ее, чтобы тоже подписать. Бесконечно благодарен. Обнимаю вас обоих.
[конец ноября 1939 г.]
Дорогой Леон Верт, Я отправляюсь на фронт (авиагруппа 2/33, полевая почта 897) в дальнюю авиаразведку. Поскольку я не очень кровожаден, мне это больше по душе, нежели бомбардировочная авиация. Как жаль, что вас не будет со мной в ночь перед посвящением в воины… Завтра у вас званый обед. Всякий раз, открывая «Марианну»[171], я чувствую толчок в сердце, и всякий раз я доволен. Дорогой Леон Верт, дорогая Сюзанна, от всего сердца обнимаю вас.
[1939 г.]
Дорогой Леон Верт, Ваше письмо было первым – я получил его, когда еще ни от кого не ждал писем, и оно доставило мне огромную радость. Я написал вам длиннющее письмо, но сразу же его потерял! Однако мне хочется подать вам весточку, что я жив, и потому я нацарапал эти несколько строчек; скоро напишу еще. Я все сильней люблю вас. Тонио
Письмо матери [Орконт, декабрь 1939 г.]
Мамочка! (…) Живу я на очень милой ферме. Здесь трое детишек, два деда, тетушки и дядюшки. В очаге все время пылает огонь, и я отогреваюсь возле него после полетов. Мы ведь летаем на высоте десять тысяч метров при… пятидесяти градусах мороза! Но на нас столько надето (одежда весит 30 кг), что мы не очень мерзнем. Странная война на малых оборотах. Мы еще хоть что-то делаем, а вот пехота! Пьер[172] непременно должен заниматься своими виноградниками и коровами. Это куда важней, чем быть при шлагбауме на железной дороге или капралом в учебной роте. У меня впечатление, что демобилизуют еще многих: промышленность должна продолжать работать. Умирать от удушья бессмысленно. Скажите Диди[173], чтобы она время от времени писала мне. Надеюсь, недели через две всех вас повидать. Какое это будет счастье! Ваш Антуан
Письмо Х. [Орконт, декабрь 1939 г.]
(…) Мне советуют прямо сейчас взять отпуск, так как следующие две недели и еще долго потом дел у нас почти не будет. Не думай о том моем письме. Все это очень противоречиво и трудно объяснимо. Я вовсе не грущу, оттого что сделал выбор, я просто плохо понимаю жизнь, да и сам для себя чересчур сложен. Не знаю, где применить себя. Трудные моменты – это охота за призраками, – одним, другим, третьим. Поначалу мне не нравилось подниматься на десять тысяч метров. Не нравилось воевать. Нет во мне воинственного хмеля, и я очень неясно вижу, куда идет наше поколение. Все это из-за радио, «Пари-суар»., Ж., некоторых разговоров. Дело вовсе не в трудности полетов на десяти тысячах метров, не в грязи, не в том, что рискуешь жизнью. Остается одна лишь горечь, потому что здесь нет радости созидания, победы или охоты. Для меня невыносимо стоять в стороне от событий. Когда начинаешь последовательно сдирать оболочку со всего, что тебя окружает, она отпадает, и тебе становится худо. Но в то же время понимаешь, что это всего-навсего видимость, и поэтому, одолев призрак, плюешь на него с высоты десять тысяч метров. Только находясь в самом центре, в дерьме, обретаешь ясность. А оболочку необходимо отшелушивать. (…)
Письмо Леону Верту [Орконт, конец января 1940 г.]
Дорогой Леон Верт, Статья Поллеса[174] вызвала у меня отвращение и горечь. Мне бы очень хотелось, чтобы вы удостоверили, что я вовсе не такая сволочь, каким представлен в его опусе! Прилагаю записку для Корню[175]. Передайте, пожалуйста, если только не считаете ее чересчур глупой. Мы перебазируемся! Здесь нас задерживает только снегопад, из-за него мы не можем улететь. Так что когда вы снова навестите меня, то уже не увидите ни нашей столовой, ни моей великолепной архиепископской кельи. Другая фермерша будет топить мне печку, и во дворе я буду встречать других уток. Это грустно: здешние стали приручаться, и потом, я так привык к своей печурке, перине, полу в красную клетку… Короче, вся эскадрилья сидит в ожидании. А все это из-за наступления (?) на Бельгию[176]. И нам надо будет колонизовать новых туземцев, приручать новых уток, облетывать новый сектор (адрес, очевидно, останется прежний: полевая почта 897). Все это, Леон Верт, достаточно странно и немножко грустно. И вообще вся эта война немножко странная и грустная. До свидания, Леон Верт, вы мне очень дороги. Тонио
Письмо Х. [27 января 1940 г.]
«Отель де Лан»[177]. Мне так опротивела моя новая жизнь! И центральное отопление, и зеркальный шкаф, и вся эта полуроскошь, и это буржуазное существование. Постепенно и только сейчас я начинаю понимать, как мне нравился Орконт. Насколько жизнь на ферме, моя промерзшая комната, грязь и снег помогали мне примириться с самим собой. А десять тысяч метров – обрести вес. И вот опять все пошло прахом. Я не способен собрать себя. Там я исполнял свои обеты. Начинал потихоньку… потихоньку оттаивать. Но что я могу сделать с этой машиной, которая ни черта не стоит? Я не хотел жить со всеми ними. Хотел, скорей уж, слиться с ними в их молчании. Хотел приходить извне – со своей фермы или с десяти тысяч метров. И Ольвек[178] очень ошибается, если считает, что я взят в плен застольными песнями в столовой. На равной ноге, да, но без тени снисходительности. И в равенстве я находил такую же радость, как они в пении. Эта ласковая земля – для моих корней. Но для ветвей – все небо, и ветры, прилетающие издалека, и молчание, и свобода одиночества. Я умею быть один в толпе. Пусть я стиснут ею, но у меня остается своя голова и своя берлога. А теперь я лишился берлоги, лишился неба, и мне некуда тянуться ветвями. Теперь я сжался и не верю в себя. Когда они слишком близко, у меня начинается удушье. И все же я любил их и люблю без всякой задней мысли. Но у меня потребность – несомненная – выразить их. Я понимаю их лучше, нежели они сами, – и крепость их корней, и великолепную их субстанцию. Но то, что они говорят, не способно заинтересовать меня, если не считать смысла, который, вопреки им, есть в их словах. Точно так же в моей книге: «Простодушная, она плакала из-за потерянной драгоценности. Она плакала, сама того не зная, из-за смерти, которая разлучит со всеми драгоценностями»[179]. (…) Все в точности похоже. Все их побуждения проникают мне в сердце, и я гораздо ближе к ним, чем они сами к себе. Но мне сейчас недостает пространства. А они надоедают мне историями про драгоценности. Но суть-то не в драгоценностях. Я познаю только при условии, что сам творю свои ветви. Я не способен выразить их, когда меня душит их присутствие. А то, как они сами выражают себя, мне неинтересно. Я уйду к Витролю[180]. Предпочитаю опасность смерти иссыханию, которое угрожает мне здесь. Тут я обрел вторую Тулузу. Но без одиночества. Умираю от жажды одиночества. Я – дрянная машина, и мне нужно неведомое горючее. Я чуть ли не кричу караул. Мне просто необходим свет. Дайте мне света. Как сделать, чтобы не погибнуть и принести плоды? Где я? Я опьянел от благих побуждений. Исловно апельсиновое дерево, отправляюсь на поиски пригодной земли. Но апельсиновое дерево не слишком-то способно передвигаться. Менять почву трудно. У меня нет ничего, кроме инстинкта искателя подземных ключей. Стоит мне оказаться там, где есть ключ, как я точно угадываю его. Но я никогда не знаю, куда идти. Я страшно неудачливое дерево.
Письмо Леону Верту [Лан, февраль 1940 г.]
…Леон Верт, наступают холода, и я не очень понимаю жизнь, не знаю, куда податься, чтобы быть в мире с самим собой. Теперь для нас не существует даже войны. Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет, и, стало быть, как бы на отдыхе. Остальные после потери шестнадцати экипажей вполне заслужили отдых, но я-то еще ничего не сделал, и уж если вы считаете безрассудным мое участие в войне, то еще более абсурдным сочтете мой отдых, так как я не обрету в нем ничего, что придало бы мне бодрости. Мы живем в настоящем доме с настоящей столовой, настоящим центральным отоплением, и песни тут уже звучат фальшиво, и у меня нет моей дровяной печки, чтобы сотворить ночь, а я так любил все это; там я мерз, но чувствовал себя великим архитектором огня и любил свою выстуженную (по утрам) комнатку. Ледяная постель – это чудесно, потому что, пока не двигаешься, тебя омывает теплая река, но стоит шевельнуть ногой, и попадаешь в полярное течение; постель с ее Gulf Stream[181] и Ice bergh[182] (правильно написано?) была полна таинственности. В сущности, я не люблю комфорта, который все сглаживает. В умеренном климате мне скучно. Здешние ночи в компании с радиатором центрального отопления и зеркальным шкафом уже не имеют привкуса охоты на медведя, и, проснувшись, мне уже не нужно преодолевать степь в красную клетку, простирающуюся между кроватью и печкой, степь, которую я не решался пересечь, так как стучал зубами от холода. И потом ближние полеты разочаровывают меня: вы же знаете, что это не та война, на которую я рвался. Но между взлетами и посадками, при этой великой скудости и кругозоре пастуха мне просто необходимо нечто, что вынудило бы меня разбить свою скорлупу. А тут я чувствую себя, как в инкубаторе. Я ничего не понимаю в этой полуроскошной жизни. Пытаюсь добиться перевода из группы 2/33 в группу 1/52: она продолжает заниматься своим делом. Ко всему прочему, у нас тут полный развал. Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился[183]. Песни и розыгрыши утратили всякий смысл. Леон Верт, вы придете в отчаяние, увидев нас такими… Мне хотелось бы, чтобы вы знали то, что, впрочем, и так прекрасно знаете: вы мне бесконечно необходимы, потому что, во-первых, я люблю вас сильней – в этом я убежден, – чем остальных моих друзей, а кроме того, потому что мы близки по духу. Мне кажется, я воспринимаю все примерно так же, как вы, и вы неоднократно мне это демонстрировали. У меня часто бывают с вами долгие споры, но, не будучи пристрастным, я почти всегда признаю вашу правоту. А еще, Леон Верт, я люблю пить с вами перно на берегу Соны[184], закусывая его колбасой и деревенским хлебом. Не могу вам сказать, почему от тех минут у меня осталось ощущение дивной полноты жизни, да мне и нет нужды говорить, поскольку вы знаете это лучше меня, но я был тогда очень счастлив и хотел бы повторить это снова. Мир вовсе не является чем-то абстрактным. Мир – это не конец опасностям и холоду. К ним я равнодушен, ни опасностей, ни холода не боюсь, и в Орконте страшно гордился собой, когда, проснувшись, героически растапливал печурку. В каком-то смысле мир – это возможность закусывать деревенской колбасой и хлебом на берегу Соны в компании Леона Верта. И меня очень огорчает, что колбаса стала невкусной. Приезжайте повидаться со мной, но отправимся мы не к нам в авиагруппу, которая стала даже не грустной, а прискорбной. Мы проведем день в Реймсе и попробуем отыскать хорошее бистро. А потом можно было бы назначить свидание Деланжу[185], а он привез бы Кам[186] и Сюзанну. Приглашаю вас всех на грандиозный пир; приезжайте поскорей и порадуйте меня, но не затягивайте, потому что если я эмигрирую в группу 1/52, то окажусь очень далеко от Парижа. До свидания, Верт, от всего сердца обнимаю вас. Тонио
[P.S.] Я встречусь с вами в Лане, в гостинице Англетер, она неподалеку от вокзала – поездом сюда можно добраться за 2 час. 20 мин., это совсем рядом. Есть еще поезд, который приходит в 9 час. 6 мин. вечера. Переночуете у меня. На следующий день осмотрим Реймс (я не видел собор[187]). Деланж присоединится к нам, мы вместе пообедаем или поужинаем, а потом он отвезет вас в Париж. Как вам мой план?
Запись в книге почета эскадрильи[188] [1940 г.]
Я был до глубины души взволнован, вновь обретя в третьей эскадрилье группы 2/33 молодость сердца, взаимное доверие и чувство товарищества, составлявшие когда-то для нескольких человек главную ценность старой южноамериканской авиалинии[189]. Здесь все похоже, и я всем сердцем ценю командиров эскадрильи, умеющих быть молодыми, старых профессионалов, умеющих быть простыми, товарищей, умеющих быть верными., и то ощущение дружбы, которое позволяет нам, несмотря на опасности войны, грязь и неудобства, с огромной радостью собираться в простом деревянном бараке вокруг чуть-чуть меланхоличного патефона… Рад., что вхожу в состав третьей эскадрильи. Антуан де Сент-Экзюпери 11 февраля 1940 г.
Письмо Леону Верту[190] [апрель 1940 г.]
Дорогой Леон Верт, Я был бы счастлив обнять, вас, но Консуэло сейчас зайдет за мной, а я обещал позавтракать с нею. Попытаюсь увидеться с вами перед отъездом. N. В.: фронт у Суасона[191] и т. д. держится хорошо. На Сене сумятицы больше, но не безнадежно. Тонио
Письма матери [Орконт, апрель 1940 г.[192]]
Мамочка! Я писал вам и очень огорчен пропажей моих писем. Я прихворнул (довольно сильная, хотя и непонятно откуда взявшаяся простуда), но все уже прошло, и я вновь присоединяюсь к авиагруппе. Не сердитесь на меня за молчание, тем более что его нельзя назвать молчанием, так как я вам писал и был очень несчастен, оттого что заболел. Дорогая мама, если бы вы знали, как нежно я вас люблю, как берегу ваш образ в сердце, как беспокоюсь за вас! Больше всего на свете мне хочется, чтобы война не коснулась моих близких. Мамочка, чем дольше тянется война и чем больше от нее угрозы и опасностей для будущего, тем сильней во мне тревога. за тех, о ком я обязан заботиться. Бедняжка Консуэло (…) так одинока, и мне ее бесконечно жаль. Если она вдруг решит укрыться на юге[193], примите ее, мама, из любви ко мне, как дочь. Мамочка, ваше письмо доставило мне бездну огорчений: оно полно упреков, а мне бы хотелось получать от вас только ласковые письма. Нет ли у вас в чем-нибудь нужды? Мне хотелось бы сделать для вас все, что только в моих силах. Целую вас, мама, и безмерно люблю. Ваш Антуан Авиагруппа 2/33 Полевая почта 897
[Орконт, 1940 г.]
Дорогая мама! Пишу вам, держа листок на коленях: мы ожидаем бомбежки, которая все никак не начнется. Постоянно думаю о вас (…) И, разумеется, дрожу от страха за вас. Не получил от вас ни одного письма: куда они подевались? Это меня немножко огорчает. Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы[194], потому что она угрожает и вам. Мне так нужна ваша нежность, милая мамочка. Кому понадобилось, чтобы все, что я люблю на земле, оказалось в опасности? И все же больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разделенные семьи. Смерть мне безразлична, но я не желаю, чтобы она затронула духовную общность. Как мне хочется, чтобы мы собрались все вместе вокруг накрытого белой скатертью стола! О своей жизни не пишу, да и писать о ней нечего: опасные полеты, еда, сон. Я чудовищно мало удовлетворен. Сердцу нужна иная деятельность. Я чудовищно недоволен тем, чем занята наша эпоха. Чтобы снять с совести бремя, мало примириться с опасностью и подвергаться ей. Единственный освежающий родник – кое-какие воспоминания детства: запах свечей в новогоднюю ночь. Сейчас в душе пустыня, где умираешь от жажды. Я мог бы писать, у меня есть время, но писать я еще не способен: книга пока не отстоялась во мне[195]. Книга, которая стала бы для меня глотком воды. До свидания, мамочка. Изо всех сил обнимаю. Ваш Антуан
Запись в книге почета авиагруппы 1/3[196], сделанная 23 мая 1940 г.
Приношу самую сердечную благодарность авиагруппе 1/3 и ее командиру Тибоде, поскольку, не прикрой меня товарищи из этой группы, я сейчас играл бы уже в раю в покер с Еленой Прекрасной[197], Верцингеторигом[198] и т. д., а я предпочитаю пожить еще на этой планете, несмотря на все ее неудобства… Антуан де Сент-Экзюпери
Письмо к матери [Бордо, июнь 1940 г.]
Дорогая мамочка! Мы вылетаем в Алжир[199]. Обнимаю вас так же сильно, как люблю. Писем не ждите, так как переправлять их не будет возможности, но помните о моей любви к вам. Антуан
Письмо Х. [Алжир, начало июля 1940 г.]
Секунду назад узнал, что во Францию летит самолет – первый, единственный. Отсюда туда ничего не пропускают – ни писем, ни телеграмм. Мне безмерно грустно. Многое, слишком многое вызывает у меня отвращение. У меня плохой характер, а в здешнем болоте это мучительно. Я делал что мог, выбирал наименьшее зло. И я совершенно отчаялся. Когда-нибудь мы, несомненно, вернемся (…).
Письмо Х. [ «Палас», Эшторил, Португалия[200], 1 декабря 1940 г.]
(…) Гийоме погиб[201], и сегодня вечером мне кажется, будто у меня больше не осталось друзей. Я не оплакиваю его. Я никогда не умел оплакивать мертвых, но мне придется долго приучаться к тому, что его нет, и мне уже тяжело от этого чудовищного труда. Это будет длиться долгие месяцы: мне очень часто будет недоставать его. Как быстро приходит старость! Я остался один из всех, кто летал на линии Касабланка – Дакар[202]. Из давних дней, из великой эпохи «Бреге-XIV»[203] все: Колле, Рен, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьен, Симон, Лекривен, Виль, Верней, Ригель, Пишоду и Гийоме – все, кто прошел через нее, умерли, и на свете у меня не осталось никого, с кем бы я мог разделить воспоминания. И вот я превратился в одинокого беззубого старика, который сам с собой пережевывает их. И из друзей по Южной Америке[204] не осталось ни одного, ни одного… В целом мире у меня нет никого, кому можно было бы сказать: «А помнишь?» Совершенная пустыня. Из товарищей восьми самых бурных лет моей жизни остался только Люка, но он был всего лишь административным агентом и пришел на линию позже, да Дюбурдье, с которым я никогда не жил вместе, потому что он никогда не покидал Тулузы. Я-то думал, что похоронить на протяжении жизненного пути всех, абсолютно всех друзей – удел глубоких стариков. Жизнь нужно начинать сначала. Умоляю вас, помогите увидеть, что вокруг меня. Перевалив через хребет, я растерялся. Скажите, что мне делать. Если надо возвратиться, я возвращусь (…)
Письмо Х. [Лос-Анджелес, 8 сентября 1941 г.]
Я изменился с начала войны. Теперь я презираю все, что интересно мне, именно мне самому… Я болен странной, неотвязной болезнью – всеобъемлющим безразличием. Хочу закончить свою книгу[205]. Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят: – Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей? Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг. Единственной помощью будет избавить меня от споров. Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать, не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры можно меня втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее – все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное. Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я обольщаюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно, ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне. Пакостная газетная война[206] впервые почти меня не задела. В иные времена я потратил бы на это месяц. Но теперь что бы обо мне ни говорили – я только посмеиваюсь. Я очень спешу. Спешу изо всех сил. Мне недосуг прислушиваться ко всему этому. Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, – я готов умереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется мне еще лучше. И все, с этим покончено. Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме, я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, уставший от жизни. Нет. Я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита…
Письмо Льюису Галантьеру[207] [ноябрь 1941 г.]
Дорогой Льюис! Я уезжаю в воскресенье. Дела, наконец, пошли на лад. У меня даже появилась надежда избавиться от этих приступов, которые повторялись все чаще и чаще, отравляя мне существование, и, к сожалению, вовсе не были связаны с нервами! Разве бывает такая депрессия, от которой просыпаются в три часа ночи, стуча зубами и дрожа всем телом в сильнейшей лихорадке с температурой 104–105[208]! Ни от какой депрессии нельзя спастись сульфамидом, специальным антисептиком, а я, приняв сульфамид при жесточайшем приступе, к вечеру того же дня вполне приходил в себя и мог пожаловаться лишь на небольшое повышение температуры и легкую тошноту… Но это лекарство, каждый раз приносившее мне облегчение, – опасная штука. С другой стороны, что со мной станется, не окажись его в нужную минуту под рукой? Всю войну я таскал его с собой в кармане на случай, если угожу в плен! Все мыслимые анализы подтверждали, что приступы у меня – воспалительного характера. Лейкоциты и т. д. (да еще характерный озноб в придачу). Но у меня не было болей, которые точно указывали бы на очаг инфекции, и потому все лекари сходились на том, что надо удалить желчный пузырь – единственный орган, мало-мальски меня беспокоивший. Самому-то мне это недомогание казалось пустячным по сравнению жестокими приступами лихорадки, и я упорно отказывался от операции. Мне хотелось доказательств поубедительней. И вот, чем дальше, тем больше я верю здешнему диагнозу. В Калифорнии я поначалу перенес за неделю три приступа, а после операции, несмотря на то, что она была мучительной, несмотря на то, что нервы у меня расшатаны, несмотря на тысячу дел, от которых чудовищно страдает моя книга, несмотря на временные осложнения, у меня не было ни единого приступа. Конечно, бывало и раньше, что приступы месяцами не повторялись, так что в полное исцеление я поверю еще не скоро. Но, во всяком случае, последнее время лихорадка трепала меня очень уж часто, и этот спокойный месяц кажется мне добрым знаком. Пишу обо всем этом потому, что вы, по-моему, подозревали будто я, как юная неврастеничка, лечусь от мнимых недомоганий, а дело-то было в очевидных, сильных и частых приступах, которые, не будь на свете сульфамида, укладывали бы меня всякий раз на две недели в постель и, возможно, свели бы в могилу. Да и что это была за жизнь! Если бы у меня в группе кто-нибудь проведал об этой хвори, меня бы мигом отправили к моим дорогим бумажкам, и никто не доверил бы мне самолет со всем экипажем; я не смел жаловаться, потому что боялся, как бы меня насильно не спровадили в тыл, так что приходилось вылетать на задания и подниматься на большую высоту с немыслимой температурой. А однажды, как раз когда меня лихорадило, к нам явилась с проверкой медицинская комиссия и пришлось наврать врачам с три короба о приступе малярии, хотя за все время, что я провел в колониях, эта дрянь ко мне не пристала. Вы не знали о моей болезни только потому, что сульфамид с грехом пополам помогал мне держаться. Но если бы вы видели, как за несколько часов до приема лекарства я стучу зубами от температуры 105, вы бы сами послали меня к хирургу. И я наверняка лишился бы почти здорового желчного пузыря только потому, что его, за неимением иного объяснения, облюбовали господа врачи. Замечу в скобках, что рубец убрали не для того, чтобы заменить его новым, а для уничтожения очага нагноения. [Рисунок: схема трех стадий состояния рубца.] (На самом деле выступающий рубец заменили плоским.) Думаю, любой лекарь согласится, что такой выступающий рубец (…) становится постоянным источником сильной инфекции, сказывающейся (…) на почках. Любой, кто бы ни обнаружил такой неиссякаемый источник заразы, послал бы меня на операционный стол. Простите, что так разболтался о своих болезнях. Это вовсе не в моих правилах, и, по-моему, я всегда говорил обо всем этом. куда меньше, чем мог бы, с моими-то хворями. Но мне, как-никак, пришлось три невыносимых года молча терпеть эти хвори и не лечить их – так не сердитесь же, что мне захотелось выговориться! (Помните обед на 21-м этаже[209] с вашей племянницей? Я тогда ушел работать. Это была неправда. Я ушел потому, что чувствовал, как поднимается температура, и у меня буквально подкашивались ноги). Дорогой Льюис, я вас очень люблю. Клянусь никогда больше не мучить вас подобной стариковской болтовней. Сам понимаю, как это противно, но я сейчас только об этом и думаю. Вот выговорился – и кончено. Буду думать о книге[210]. Заглавие. Война. Европа. И дружба, дорогой мой Лыюис. Сент-Экс
Письмо одному из противников [без даты; 1942 г.?]
Мой дорогой друг, Письмо мое будет несколько сухим. Дело в том, что я люблю ясность. Не вижу смысла тратить силы на сочинение фраз, которые тем цветистее, чем больше в них яду. Мне скучно играть намеками; впрочем, не меньшую скуку навевает и другая крайность – многословный поток проклятий. Не хочу ни ослаблять, ни проклинать, ни намекать. (…) Ах, мой бедный друг, я лучше уйду в монастырь траппистов[211], чем выдержу хотя бы сутки в том обществе последователей Корана, которое вы пытаетесь нам навязать[212], в обществе, где человека ценят не за суть, а за послужной список, где вместо сердец – манифесты, где соседи по лестнице возводится в ранг доносчиков и судей, где нет уважения к внутреннему миру, где вы похваляетесь, что очищаете и оздоровляете личность, а сами постоянно убиваете ее всеми доступными вам средствами, чтобы потом разложить ее потроха на солнышке на всемирной барахолке.
Письмо Льюису Галантьеру (Написано жирным карандашом) [январь 1942 г.]
Дорогой Льюис! Не сердитесь на меня за дурное настроение, которое наверняка просквозит в моем письме. Мое недовольство относится совсем не к вам. Вас я нежно люблю. Но меня трясет от злости. Необходимо дать ей выход. Что это там за история с датой[213]? Что за судьба меня – вечно утыкаться в дату, якобы совершенно достоверную., а в сущности, вздорную, потому что, случись мне начать свою книгу на полтора месяца позже – и эта столь убедительная дата перенеслась бы на те же полтора месяца. При этом ее можно было бы украсить теми же оправданиями с точки зрения чисто логики. Почему вы хотите, чтобы я презирал сам себя и, что одно и то же, пренебрегал своей работой? Я думаю, что плотник должен строгать доску так, словно именно от нее зависит вращение Земли. Для человека пишущего это тем более справедливо. Почему вы хотите, чтобы из-за глупейшей истории с датой я а priori[214] махнул на себя рукой и решил: «Будь я господин Паскаль, мое произведение имело бы право быть написанным, а сам я – право на самовыражение. Но поскольку я – всего лишь я, то не все ли равно, удастся мне себя выразить или нет?» Пожалуй, то, что пишет какой-нибудь зануда в «Нью-Йорк таймс», достойно куда большего интереса: Сочинение мое – дрянь, и я только из тщеславия приписываю ему некоторые достоинства! Раз уж я пишу, меня должно заботить то, что будут думать о моем сочинении и что станет с ним через десять лет, а не то, что подумает о нем 22 февраля некая темная личность с неразвитым вкусом, на которую мне, право же, наплевать. Если я сам доволен своим стихотворением, какое мне дело до того, что его услышат или прочтут через сорок лет после моей смерти, а не раньше? Лубочный образ непонятого поэта, которого людская несправедливость обрекла на нищету, чтобы через сто лет воздать ему должное, всегда представлялся мне глупым и сентиментальным. Да ведь поэт – счастливчик! Не придет же мне в голову сокрушаться об участи угрей, которые мечут икру в Саргассовом море и никогда не увидят своего потомства! Одно из двух: или моя писанина хороша и когда-нибудь ее прочтут – мне ровным счетом наплевать, когда именно; или она никуда не годится и привлечь к ней внимание современников может только шумиха – и тогда мне точно так же наплевать, будут ее читать или не будут. Деньги – разумеется. Мне нужны деньги et cetera[215]. Мне они просто необходимы, и я радуюсь, когда их получаю, но смешивать две разные точки зрения для меня совершенно немыслимо. Во мне уживаются два вида эгоизма, из которых один решительно преобладает. Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать то, что хотел. Если я жертвую самовыражением во имя денег, я сам себя облапошиваю. По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которую я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подействуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление количества – очередной современный миф. Наибольшим влиянием пользуются именно самые труднодоступные журналы; если бы «Рассуждение о методе»[216] прочли в XVII веке всего двадцать пять человек, все равно оно преобразило бы мир. «Пари-суар», хоть и потребляет ежегодно прорву бумаги и расходится двухмиллионным тиражом, еще ничего никогда не преобразила. Вам, конечно, покажется глупым, что я наговорил все это по поводу явно анекдотического рассказа, притом нисколько не заблуждаясь насчет его всемирной ценности, но это противоречие ничуть меня не смущает: пиши я хоть статейки по садоводству, мое мнение было бы таким же. Мы существуем в наших книгах. Речь о том, чтобы существовать достойно. Вот и все. И не уверяйте меня, что я, мол, не прав, что произведение мне удалось и править его почти не придется. Моя правка почти не затронет элементов чистого вымысла. Это уж точно. Но я в корне изменю силу их воздействия. Это не коснется ни материала, ни внешней формы изложения. Такие перемены только тогда и начинают жить, когда непонятно, в чем они состоят. И я прекрасно знаю, что нужно изменить. Я буду править то, что с трудом поддается определению: жизненность сказанного мною. «Wind, Sand and Stars» покупают до сих пор именно потому, что я все разрушил, когда приехал. Это я хорошо понимаю. Недаром же я столько написал. Мнимой значительностью никого не проведешь. Если в недолговечной газетной шумихе мне случается с опозданием на три года услышать отголоски какой-нибудь моей статьи, это непременно оказывается та самая статья, которую я перемарывал раз тридцать. Если я натыкаюсь где-нибудь на цитату из своей книги, непременно оказывается, что цитируют именно ту фразу, которую я переписывал сто двадцать пять раз. Трудно углядеть явную, ощутимую разницу между первой и последней редакциями. Бывает, что последняя даже беднее красотами стиля – зато она успела вызреть. Она – зерно. А первая была игрушкой на день. Насчет этого. я никогда, никогда не обманывался. Я согласен с вами, что вряд ли через десять лет буду мыслить яснее, чем сейчас, и ждать еще десять лет не имеет смысла. Это бесспорно. Самовыражаться надо в настоящем, но я как раз в настоящем себя и не выразил. Я, сегодняшний, стою больше, чем мои сочинения. А не вложить себя в свой труд – это для меня недопустимое малодушие. Во имя какого мифа я должен халтурить? Охотно соглашусь, что, когда пишешь небольшую книжку, не следует нарушать общепринятые сроки, но скажите на милость, разве я нарушил эти сроки? Я потратил на эту работу меньше восьми месяцев. Для меня это рекорд скорости. Ваше сегодняшнее чтение нравится вам больше, чем то, что вы читали вчера? То же самое будет и завтра. У моей книжки есть свой предел. Ее предел – это я, каков я есть в 1942 году. Вы вправе думать, что я ее порчу, только в том случае, если две, идущие одна за другой, редакции более или менее равноценны. В нашем случае это не так. Где критерий, который позволил бы вам утверждать, что в этой редакции, наконец, виден я? Разница (sic) заметна только мне. Остается вопрос: а как же Франция? Ну, что до числа читателей, то оно не имеет никакого значения, и мне на это плевать. Мнения не рождаются в толпе. Мнение – это взаимное влияние двоих. Иногда и одного понимающего читателя бывает достаточно. Если вы имеете в виду животрепещущую злобу дня, то я понимаю вас еще меньше. Все это не более чем прекрасное заблуждение, ведь то, что будет злободневно послезавтра, тоже окажется дьявольски срочным. А события, которые произойдут в конце марта 1957 года! Для людей 1957 года они будут бесконечно злободневны! То, что было насущной заботой в 1942 году, окажется вытеснено из сознания людей, несправедливо, быть может, но безжалостно вытеснено событиями 1957 года! С какой стати отдавать предпочтение одному либо другому? Перед смертью, трезво подытоживая и оценивая все, что было, я не отдам предпочтения ни тому времени, ни этому. Между прочим, у меня есть неопровержимое доказательство: ни разу ни по какому поводу не пришлось мне пожалеть, что моя книга не вышла в свет неделей, месяцем, годом, полугодом раньше… Важно то, что есть сегодня. Через неделю будет важно что-нибудь совершенно другое, новое. Ах, Льюис, как вы меня огорчаете! Сент-Экс
Письмо Льюису Галантьеру [январь 1942 г.]
Дорогой Льюис! А) Бронетранспортеры на странице 166[217] неуместны, вдобавок это повторение страницы 72, где желательно дать подробную характеристику действия бронетранспортеров. Я их перенес и заменил отсылкой. Б) Прилагаемые при сем снаряды – совсем не то, чего бы мне хотелось. Я не сумел сказать главное. Чтобы ухватить эту не поддающуюся определению штуковину, надо было бы потратить недели две. Но я хотя бы избавился от некоторой бессвязности и напыщенности. Впрочем, пользы от этого, по-моему, немного. Не лежит душа. В) Несколько мелких поправок: стр. 165, 5-я строчка: вычеркните «спокойно», стр. 167, 22-я строчка: после слов «я нисколько не сомневаюсь» добавьте «в нашем спасении», стр. 173, 8-я строчка: замените «вновь обрету» на «восстановлю», стр. 172, сверху: «семена» (вместо «зерен». Слишком много зерен). Конец приводит меня в отчаяние. Меня заставляют – господи, ну с какой стати! – заменить крик совести дурацким газетным красноречием. Я знаю, что я хочу сказать, что для меня главное. Я знаю, что достигну цели, если сумею убедить читателя стать на такую точку зрения, с которой ему естественно и неизбежно откроется это главное, – а меня под предлогом бог знает каких мифических сроков заставляют либо подменять предмет моего разговора какой-то пошлой дешевкой, либо оглуплять его пояснениями, то есть прибегать к самым что ни на есть неточным и бедным средствам выражения. Действие – единственное, неповторимое, исключительное – вот что позволяет стать на такую точку зрения, благодаря которой все располагается в должном порядке и в которой растворяется автор. Точку зрения нельзя увидеть. Ее можно придерживаться. Истина, не содержащая в себе точки зрения, – это либо дешевка, либо парадокс, который никого ни к чему не привяжет. Вдобавок это омерзительно скучно. От подобных философских рассуждений мухи дохнут. И не зря. Все это никому не нужно. Вы думаете, мне приятно, что в спешке я не дал плоду спокойно вызреть и был вынужден заменить слова, которые собирался сказать об ответственности, на всякую чепуху? Найди я нужные выражения, ничто вас не резануло бы: вы просто столкнулись бы с некой очевидностью и решили бы, что набрели на нее сами, – но тут-то вам и конец. Вы, сами того не зная, стали бы на всю жизнь моим пленником. На всю жизнь усвоили бы мое мнение. Вместо этого вы, естественно, раздражены бессвязностью, непоследовательностью изложения и тем, что я имел наглость со всем этим вас ознакомить. Словно я показываю ребенка, погибшего еще в материнской утробе. А я, испытывая, естественно, угрызения совести, хоть мне никак не взять в толк, какая такая разница между апрелем и маем 42-го года, – я вымарываю то, что должен был сказать, ради того, чтобы добиться более гладкого изложения, какое, в сущности, мог бы представить вам и в возрасте пяти лет. И впрямь, стоило ли так уж лезть из кожи вон, выпутываться из стольких болезней, аварий, испытаний, любовных приключений, историй с налогами и прочих пакостей, чтобы, ни на шаг не продвинувшись вперед, удовольствоваться повторением того, чему научила меня еще нянька! Не вижу ни малейшей необходимости твердить в мае 42-го года то, что было очень хорошо известно еще в 1900-м. С этим можно бы повременить и до 2000 года. Более того, это бы уже позабылось и могло бы сойти за нечто оригинальное. Я совсем выдохся. Написал 200 страниц за шесть дней. При этом не продвинулся вперед ни на шаг. Ничто в мире не заменит времени. Нужно время, чтобы выращивать груши, растить детей и формировать точки зрения. В следующий раз я напишу для Рейхича[218] рассказ. Опишу любовь прелестной блондинки и гусара. Если Ламотт[219] вставит что-нибудь от себя, буду очень рад. Я тоскую, как горючий камень (между прочим, звучит парадоксально). Сейчас семь утра. Ваш друг Сент-Экс
Письмо Х. [февраль 1942 г.]
Ангельское мое Перышко, Мне так надо тебя увидеть. Я устал. Взвалил себе на плечи очень уж тяжкую ношу; избавиться от нее без угрызений совести я не могу, а нести ее трудно до изнеможения: странная штука – совесть! (…) Книжка моя вот-вот выйдет[220]. Как всегда, клевета и зависть уже наготове. Ты легко можешь себе вообразить, как взволновалась вся эта шушера, нью-йоркские поддельные французы[221]. Я по тысячам признаков замечаю, как начинает бурлить это болото… Ах, Ангельское Перышко, до чего мне тоскливо, противно, и до чего я устал! Так-то, мой медвежонок. Я не обольщаюсь насчет своей книжки, ты не думай. Я писал ее в состоянии внутренней несобранности. Мне не удалось сказать то, что я хотел. Умоляю тебя, дай телеграмму, как только получишь ее и прочтешь. Я тебе тут же позвоню. Но ты сразу сообщи мне хоть что-нибудь в телеграмме! Если тебе покажется, что это ужасно, – так и скажи: я ведь, кажется, не тщеславен. Крепко целую тебя, Ангельское Перышко. Антуан
Письмо неизвестному корреспонденту [Нью-Йорк, 8 декабря 1942 г.]
Я знаю, почему я ненавижу нацизм. Прежде всего, потому, что он разрушает надежность человеческих отношений. … Я прожил годы в пустыне, среди лишений, но там я был счастлив: у меня были верные товарищи. (…) В наши дни мир необъяснимым образом отказывается от того, что составляет его величие… Нацисты объявили евреев символом низости, продажности, предательства, наживания на чужом труде и своекорыстия; их возмущали попытки заступиться за евреев. Они обвиняли заступников в том, что они, мол, желают сохранить в мире продажность, предательство и своекорыстие. Это возвращает нас в эпоху дикарских тотемов. А я отвергаю эти стадные чувства, отвергаю эту мнимую простоту в духе Корана, отвергаю поиски козлов отпущения. Я отвергаю высшие цели святейшей инквизиции. Я отвергаю пустые словеса, из-за которых бесполезно проливаются реки людской крови (…). Я недорого ценю физическую смелость; жизнь научила меня, что такое истинное мужество: это способность противостоять осуждению среды. Я знаю, что, когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен[222], от меня требовалось иное мужество, чем то, которое заставило меня вынести два года оскорблений и клеветы[223], но не свернуть с пути, подсказанного совестью. (…)
Письмо жене, Консуэло [середина апреля 1943 г.]
Консуэло, пойми, мне сорок два. Я пережил кучу аварий. Теперь я не в состоянии даже прыгать с парашютом. Два дня из трех у меня болит печень, через день – морская болезнь. После гватемальского перелома у меня днем и ночью шумит в ухе. Чудовищные затруднения с деньгами. Бессонные ночи, истраченные на работу, и беспощадная тревога, из-за которой мне легче, кажется, гору сдвинуть, чем справиться с этой работой. Я так устал, так устал! И все-таки я еду[224], хотя у меня столько причин остаться, хотя у меня наберется добрый десяток статей для увольнения с военной службы, тем более, что я уже побывал на войне, да еще в каких переделках. Я еду. (…) Это мой долг. Еду на войну. Для меня невыносимо оставаться в стороне, когда другие голодают; я знаю только один способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ – не уклоняться от страдания. Искать страданий самому, и чем больше, тем лучше. В этом мне отказа не будет: я ведь физически страдаю от двухкилограммовой ноши, и когда встаю с кровати, и когда поднимаю с пола платок. (…) Я иду на войну не для того, чтобы погибнуть. Я иду за страданием, чтобы через страдание обрести связь с ближними. (…) Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец. Антуан
Письмо Ж. Пелисье[225] [Уджда[226], 8 июня 1943 г.]
Дорогой доктор, Пишу вам это письмо потому, что понятия не имею, когда вернусь. Как радостно было бы получить от вас длинное послание и узнать из него, что нового в мире! Я здесь в абсолютной пустыне. Лагерь. Комната на троих (для меня это стадное житье – тягчайшее из лишений). В столовую гуськом, у каждого в руках котелок, получаешь порцию и ешь стоя. Я как-то выключен из жизни, словно в подземельях вокзала Сен-Лазар. Как вы знаете, я ничего иного и не желаю. Я упрямо делаю то, что считаю своим долгом, что бы ни думала об этом X. По правде сказать, мой старый Друг, чувствую я себя очень скверно, и это печально, потому что из-за недомоганий любое дело дается мне труднее, чем восхождение на Гималаи, а такая дополнительная жертва – это уже несправедливо. Любая мелочь оборачивается лишней пыткой. Хожу, брожу на солнышке по огромному лагерю и уже так устал, что временами хочется уткнуться в какое-нибудь дерево и заплакать от злости. И все же насколько это лучше, чем губительная атмосфера споров и склок! Хочу только одного – покоя, пусть даже вечного. (…) Я не должен ввязываться в бесконечные дискуссии о собственной персоне. У меня уже сил нет все объяснять, я ни перед кем не обязан отчитываться: кто меня не знает, тот мне чужой. Мне уже не перемениться: слишком я устал, слишком измучен. У меня нет недостатка во врагах, которые меня поучают; мне нужны друзья, которые стали бы для меня садами отдохновения. У меня нет больше сил, старина. Это печально, хотелось бы хоть немного любить жизнь, а я ее совсем разлюбил. Когда на днях я подумал, что меня вот-вот ощиплют на лету, я ни о чем не пожалел. Напишите мне о коллизии Жиро – де Голль[227]: судьба нашей страны меня ужасает. Пишите мне что угодно и о чем угодно (вымарано цензурой). И, знаете, я бесконечно благодарен вам за вашу дружбу, за то, как вы меня принимали, и за тепло, которым я был окружен в вашем доме. Передайте Северине[228] и ее приятельнице: я сгораю от стыда, что забыл их подарок… Я торопился, поскольку мне еще нужно было завернуть в Летний дворец[229], но я больше не буду таким забывчивым. Обнимаю вас. Сент-Экс
Неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу[230]?) [Уджда, июнь 1943 г.]
Дорогой генерал! Не так давно я совершил несколько полетов на П-38[231]. Машина замечательная. В двадцать лет я был бы счастлив получить ее в подарок на день рождения. С болью в сердце вынужден сознаться, что теперь, когда мне уже сорок три и я, как-никак, налетал шесть с половиной тысяч часов на всех широтах, эти игры уже не приносят мне особой радости. Самолет – всего лишь средство передвижения, в нашем случае – военное, и когда я в возрасте более чем почтенном для этой профессии ставлю себя в зависимость от скорости и высоты, к этому меня побуждает скорее желание не упустить ни одной из неприятностей, отпущенных на долю нашего поколения, чем надежда вновь обрести утехи былых лет. Наверное, это все хандра, но, может быть, она здесь и ни при чем. В двадцать лет – вот когда я ошибался. В октябре 1940 года, когда я вернулся из Северной Африки, куда перебазировалась группа 2/33, мой истерзанный самолет задвинули в какой-то мыльный сарай, и я открыл для себя двуколку, запряженную лошадью. А заодно – и траву, что растет по обочинам, и овец, и оливковые деревья. Эти деревья нужны были совсем не для того, чтобы проноситься мимо окон со скоростью сто тридцать километров в час. Я видел их в их истинном ритме, в неторопливом ритме вызревания оливок. И овцы не преследовали больше одну-единственную цель – снизить мне среднюю скорость. Они снова становились живыми. Они оставляли за собой настоящий помет и отращивали настоящую шерсть. И трава тоже имела смысл, потому что они ее щипали. И я почувствовал, что оживаю в этом единственном на земле уголке, где пыль – и та ароматна (нет, я несправедлив: в Греции пыль такая же, как в Провансе). И мне показалось, что всю прошлую жизнь я был дурак-дураком. (…) Рассказываю все это, так как хочу объяснить вам, что в этом стадном существовании на американской базе, в обедах, которые мы поедаем стоя, за десять минут, в хождении взад и вперед между одноместными самолетами с моторами по две тысячи шестьсот лошадиных сил, в неопределенного вида здании, где нас рассовали по трое в каждую комнату, короче, во всей этой страшной человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы мне сердце. Это что-то вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись[232]; это как болезнь, которой приходится переболеть. Я болен, и срок выздоровления неизвестен. Но я считаю себя не вправе быть избавленным от этой болезни. Вот и все. Между тем я погрузился в страшное уныние, и погрузился довольно глубоко. Мне больно за мое поколение, из которого вылущена вся человеческая суть. Которое не знало иных форм духовной жизни, кроме баров, математики и машин «Бугатти»[233], а теперь вдруг оказывается втянутым в чисто стадную затею. Которое стало уже совершенно бесцветным. Все разучились различать цвета. Возьмите такое явление, как война сто лет назад. Посмотрите, сколько прилагалось усилий, чтобы утолить в людях жажду духовности, поэзии, да и просто человечности. Сегодня нам, высушенным, как кирпичи, смешны подобные глупости. Мундиры, флаги, песни, музыка, победы (в наши дни побед уже не бывает и не происходит ничего, что по поэтической насыщенности сравнилось бы с Аустерлицем[234]. Есть только пищеварение – быстрое или медленное). Всякая лирика смешна. Люди не хотят, чтобы их пробудили к какой бы то ни– было духовной жизни. Они и на войне похожи на добросовестных рабочих у конвейера. Как говорит американская молодежь, мы добросовестно делаем эту грязную работу. А пропаганда во всем мире безнадежно разводит руками. Ее недуг вовсе не в том, что нет больше ярких дарований, а в том, что во избежание банальности ей воспрещено обращаться к великим мифам, несущим обновление. Человечество клонится к упадку: от греческой трагедии оно скатилось к пьесам господина Луи Вернейля[235] (ниже падать уженекуда). Век рекламы, системы Бедо[236], тоталитарных режимов, век армий, отказавшихся от знамен, труб, отпевания мертвых. Я всеми силами ненавижу свою эпоху. В наши дни человек умирает от жажды. Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть их слух чем-нибудь вроде григорианского псалма[237]. Если бы я был верующим, то, пережив эпоху грязной, но необходимой работы, непременно ушел бы в Солем[238], не в силах вынести ничего другого. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни XV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось, – это голос, которым вещает робот пропаганды (простите на слове!). Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота, ничего не понимают, кроме робота. И сами превращаются в роботов. Все потрясения трех последних десятилетий происходят по двум причинам. Тупик, в который зашла экономическая система XIX века. И духовное отчаяние. Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником[239]? Люди попробовали проверить картезианские ценности[240], и ни в чем, кроме естественных наук, эти ценности себя не оправдали. Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в. том числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку удовлетворение. Это шире, чем проблема религиозной жизни, являющейся лишь одной из форм жизни духовной (хотя, быть может, религиозная жизнь непременно вытекает из духовной). А жизнь духа начинается там, где видимое бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов. Любовь к дому – любовь, неведомая в Соединенных Штатах, – это тоже духовная жизнь. И крестьянский праздник. И культ умерших. (Я упоминаю об этом, потому что после моего приезда здесь разбилось двое или трое парашютистов. Их быстренько упрятали в землю: ведь служить они больше не могут. И Америка тут ни при чем, это веяние времени: смысл теряет человек как таковой.) Поэтому совершенно необходимо говорить с людьми… Нужно говорить с людьми, потому что они готовы примкнуть к кому угодно. Я жалею, что на днях так неудачно выразил свои мысли в разговоре с генералом Жиро[241]. Кажется, мое вмешательство пришлось ему не по душе и было истолковано как отсутствие у меня вкуса, или такта, или дисциплинированности. Я, конечно, сам во всем виноват: легко ли подступиться к столь сложной проблеме, когда перескакиваешь с пятого на десятое? Меня сгубила спешка. И все же генерал поступил несправедливо, столь бесповоротно осудив меня: я ведь преследовал только одну цель – расширение того движения и тех идей, которые представляет он сам. Но военная иерархия автоматически лишала мои аргументы убедительности. Будь я половчее, генерал выслушал бы меня более доброжелательно. Но как бы то ни было, я говорил то, что чувствовал нутром, и преследовал при этом только одну цель: быть полезным ему, а тем самым родине. Потому что мне представляется спорным, вправе ли командир воинского соединения подменять подробный отчет очевидца своим толкованием событий. Не заглянув в официальный отчет, он неспособен подбодрить подчиненного, который утратил веру в себя, потому что некая политическая акция, предпринятая лишь для достижения точности и простоты в отчетах, уязвила его порядочность, патриотизм и честь. А генерал Ж[иро] – хранитель чести своих солдат. Не знаю, кстати, не из тех ли сомнений, которыми я с ним поделился, почерпнул генерал Жиро отдельные темы своей нашумевшей речи, которую мы позавчера прочли в газетах? Абзац, где говорится о незримом сопротивлении и о спасении Северной Африки, – именно то, чего все жаждали. Это подтверждается теми замечаниями, которые я слышал от людей. Если мое вмешательство сыграло тут какую-то роль – пусть генерал сердится на меня, я все равно счастлив, что принес пользу. Дело совсем не во мне. Так или иначе, эта речь была необходима: она оказалась необыкновенно удачной. Признаться, милый генерал, если не считать этих последних строчек, касающихся моего визита, от которого у меня остался неприятный осадок, я вообще не знаю, зачем утомляю вас этим письмом, таким длинным, неразборчивым (я повредил кисть правой руки[242], и писать разборчивей мне больно) и бесполезным. Но на душе у меня мрачно, и мне нужен Друг. Ах, милый генерал, какой нынче странный вечер! Какой странный климат! Из моей комнаты видно, как освещаются окна этих безликих строений. Я слышу, как множество радиоприемников начинают изрыгать дурацкую музыку на радость толпе праздных людей, приехавших сюда из-за моря и незнакомых даже с ностальгией. Их готовность смиренно принять все, что угодно, легко спутать с жертвенностью и нравственным величием. Но это было бы ошибкой. Узы любви, связывающие человека с другими существами и предметами, не отличаются в наши дни ни задушевностью, ни прочностью, поэтому человек уже не воспринимает разлуку так, как прежде. Это напоминает мне одно нагоняющее тоску словцо из еврейской побасенки: – Так ты уезжаешь? Как же ты будешь далеко! – Далеко откуда? Это покинутое ими «откуда» было, в сущности, не более чем бесформенной кучей привычек. В нашу эпоху, эпоху разводов, мы так же легко разводимся и с вещами. Холодильники взаимозаменяемы. Дома тоже: они ведь теперь сборные. Можно сменить жену. Или религию. Или партию. Даже измена становится невозможной: кому изменять? Если далеко, то откуда, а если измена, то кому? Пустыня человеческая. И какое же оно послушное, мирное, это человеческое стадо! Мне вспоминаются бретонские моряки былых времен, сошедшие на берег Магелланова пролива, иностранный легион,[243] обрушивающийся на город, все это сложное переплетение чудовищных аппетитов и невыносимой ностальгии, неизменно возникающее там, где мужчины оказываются в более или менее суровой изоляции от мира. Чтобы их обуздать, всегда были необходимы либо могучие жандармы, либо могучие принципы, либо могучая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении крестьянке, пасущей гусей. Человека, в зависимости от того, к какой среде он принадлежит, в наши дни можно обуздать игрой в белот или бридж. Мы все на удивление надежно выхолощены. Благодаря этому мы, наконец, оказываемся на свободе. Нам отрезали руки-ноги, а потом разрешили разгуливать где угодно. Я ненавижу нашу эпоху, когда человек под гнетом всеобщего тоталитаризма превращается в ласковое, послушное и кроткое животное. Нас уверяют, что это и есть моральный прогресс!.. Я ненавижу нацизм за то, что он по самой своей природе тоталитарен. Рурских рабочих проводят мимо полотен Ван Гога, Сезанна и лубочных картинок. Рабочие, разумеется, голосуют за лубочные картинки. Вот она, народная правда! Кандидатов в Сезанны и Ван Гоги, словом, всех нонконформистов, надежно упрятывают в концентрационный лагерь, а покорную скотинку кормят лубочными картинками. Но куда в нашу эпоху всеобщей бюрократизации идут Соединенные Штаты, куда идем мы? Человек-робот, человек-термит: сначала работа у конвейера по системе Бедо, потом игра в белот. Человек, из которого выхолощена всякая способность к творчеству, который в своей деревенской глуши не в силах создать ни единой песни, ни единого танца. Человек, которого под видом культуры пичкают стандартной продукцией серийного производства, словно вола сеном. Вот это и есть нынешний человек. А я думаю, что каких-нибудь триста лет назад люди писали Принцессу Клевскую[244], на всю жизнь уходили в монастырь от несчастной любви – так они умели любить. Разумеется, в наше время иные кончают самоубийством, но их страдание сродни невыносимой зубной боли, от которой лезут на стену. С любовью оно ничего общего не имеет. Конечно, сейчас мы еще на первом этапе. Для меня нестерпима мысль, что целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха[245]. Угроза нависла над самим существованием. Но когда оно будет спасено, перед нами встанет основной вопрос нашего времени. Вопрос о назначении человека. Никаким готовым ответом мы не располагаем, и мне кажется, что мы движемся навстречу самым беспросветным временам истории. Мне безразлично, убьют меня на войне или нет. Что уцелеет из того, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и невосстановимые оттенки, и некий духовный свет. И завтрак под оливами на провансальской ферме, и Генделя. Мне наплевать на вещи, которые уцелеют. Для меня важен только определенный порядок их расположения. Цивилизация – это невидимая связь между вещами, потому что она распространяется не столько на сами вещи, сколько на невидимые отношения, существующие между ними. Такие, а не другие. В результате массового производства мы можем получить сколько угодно превосходных музыкальных инструментов, но где взять музыкантов? Плевать мне, если меня убьют на войне или на меня обрушится ярость этих летучих торпед, не имеющих уже никакого отношения к настоящему полету, этих махин, чьи кнопки да циферблаты превращают летчика в какого-то бухгалтера. (А ведь полет – это тоже своего рода связи.) Но если я вернусь живым с грязной, но необходимой работы, передо мной встанет только один вопрос: что можно и что должно сказать людям? Я все меньше и меньше понимаю, зачем рассказываю вам все это. Разумеется, только затем, чтобы с кем-нибудь поделиться, ведь вообще говоря, об этом я не вправе говорить. Нужно беречь покой окружающих, а не наводить тень на ясный день. Быть бухгалтерами за штурвалами наших боевых самолетов – вот лучшее, на что мы сегодня способны. Пока я писал, оба моих товарища по комнате уже уснули. Надо и мне ложиться: боюсь, свет им мешает (как мне не хватает своего собственного угла!). Эти мои товарищи – в своем роде прекрасные люди. Прямые, благородные, чистые, верные. И я сам не понимаю, почему, глядя на них, спящих, испытываю какую-то бессильную жалость. Они не ведают о снедающем их беспокойстве, а я-то его хорошо чувствую. Да, прямые, благородные, чистые, верные. Но и невообразимо обездоленные. Им так нужен какой-нибудь бог. Милый генерал, простите меня, если скверная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала также и вашему сну. И верьте в мою дружбу. Сент-Экзюпери
Письмо генералу Шамбу [Алжир, 3 июля 1943 г.]
Дорогой генерал! Я получил Военного летчика; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр[246]. Не знаю, в результате каких размышлений возникло у вас желание прочесть эту книгу, не знаю, изменил ли свое мнение о ней тот офицер, что так энергично нападал на меня во время завтрака и так мне понравился. Я был поражен не столько его враждебностью, сколько тем, что он говорил искренне, и мне очень хотелось., чтобы он прочел эту книжку. Поскольку вы не передаете мне его мнения, я заключаю, что он меня не понял. Мне кажется очень странным, что атмосфера полемики может исказить столь простой текст даже в глазах столь прямодушного человека. Мне совершенно безразлично., что там лепечут алжирские тыловики, разоблачая мои тайные умыслы. То, что они мне приписывают, так же похоже на меня, как я на Грету Гарбо[247]. Мне в высшей степени наплевать на их, даже если оно приведет к запрету на мою книгу в Северной Африке. Я не книготорговец. А вот то, как извращает мои мысли ваш Друг, для меня, как ни странно, нестерпимо. Потому, наверное, что я его уважаю. Я ведь обращался к нему и к таким, как он, а не к политикам. Почему же мои несколько страничек предстали перед ним в ложном свете, почему он принял их за политическую программу? Вообразите, что я Монтень и опубликовал в одной из алжирских газет свои Опыты, а все точно сговорились трактовать их с точки зрения перемирия. Какие только макиавеллиевские уловки не обнаружатся в моем произведении! Да, я говорил об ответственности. Но, черт побери, у меня же все ясно сказано! Я ни одной строчки не написал в защиту чудовищного тезиса о том, что ответственность за поражение ложится на Францию. Я недвусмысленно сказал американцам: Ответственность за поражение лежит на вас. Нас было сорок миллионов крестьян против восьмидесяти миллионов обитателей промышленной страны. Один человек против двух, один станок против пяти. Даже если какому-нибудь Даладье удалось бы обратить весь французский народ в рабство, он все равно не в силах был бы вытянуть из каждого по сто часов работы в день. В сутках только двадцать четыре часа. Как бы ни управляли Францией, гонка вооружений все равно должна была бы развиваться из расчета один человек против двух и одна пушка против пяти. Мы согласились воевать из расчета один к двум, мы готовы были идти на смерть. Но чтобы умереть с пользой, нам нужно было получить от вас недостающие четыре танка, четыре пушки, четыре самолета. Вы хотели, чтобы мы спасли вас от нацистской угрозы, а сами производили исключительно «Паккарды»[248] да холодильники для своих уик-эндов. Вот единственная причина нашего поражения. И все-таки наше поражение спасет мир. Разгром, на который мы сознательно шли, станет отправной точкой сопротивления нацизму. Я говорил им (они тогда еще не вступили в войну): «Настанет день, когда из нашей жертвы, как из семени, вырастет дерево Сопротивления!» Возьмем этот первый кусок книги: в чем, черт бы меня побрал, мнения вашего друга расходятся с моими? Чудо, что американцы прочли эту книгу, и что она стала у них бестселлером. Чудо, что за ней последовали сотни статей, в которых сами американцы говорили: Сент-Экс прав, не нам винить Францию. На нас лежит часть ответственности за ее поражение. Если бы французы, живущие в Соединенных Штатах, больше ко мне прислушивались, а не спешили бы объяснять все гнилостью Франции, наши отношения с Соединенными Штатами были бы сейчас совсем другими. И в этом меня никто никогда не разубедит. Но есть в моей книжице второй, главный кусок, и там я действительно говорю: мы ответственны. Но речь идет вовсе не о поражении. Речь идет о самом явлении фашизма или нацизма. Я говорю (что тут может быть непонятного? Я так старался выражаться яснее!), итак, я говорю: западная христианская цивилизация ответственна за нависшую над ней угрозу. Что она сделала за последние восемьдесят лет, чтобы оживить в человеческом сердце свои ценности? В качестве новой этики было предложено: «Обогащайтесь!» Гизо[249] да американский комфорт. Чем было восхищаться молодому человеку после 1918 года? Мое поколение играло на бирже, спорило в барах о достоинствах автомобильных моторов и кузовов или занималось пакостной спекуляцией остатками военных запасов. Вместо опыта монашеского самоотречения, вроде того, к которому я приобщался на авиалиниях, где человек вырастал, потому что к нему предъявлялись огромные требования, сколько людей увязало в трясине перно и игры в белот или – смотря по тому, к какому слою общества они относились, – коктейлей и бриджа! В двадцать лет меня тошнило от пьес г-на Бернстейна[250] (этого великого патриота) и от пошлости г-на Луи Вернейля. Но больше всего – от всяческого изоляционизма. Каждый за себя! Планету людей я писал самозабвенно, я хотел сказать своему поколению: вы все обитатели одной и той же планеты, пассажиры одного и того же корабля! Но эти жирные прелаты, которые, между прочим, превратились сейчас в коллаборационистов, эти чиновники Государственного совета – разве они годились в хранители христианской цивилизации с ее культом вселенского? Вы томились жаждой жажды, и ничто на континенте не утоляло ее. Как, по-вашему, не потому ли я проникся к вам такой пылкой дружбой, что признал в вас человека той же породы, что и я? Я умирал от жажды. И – вот оно, чудо! – утолить эту жажду можно было только в пустыне. Или превозмогая ночь в нелегкие часы на авиалинии. Мне, как и вам, невыносимо было читать «Канар аншене» и «Пари-суар». Я терпеть не мог Луи Вернейля. Почему ваша книжка[251] показалась мне такой близкой? Мне нужен был именно этот звук. Я люблю тех, кто дает мне утолить жажду. Меня тошнит от того, во что превратили человека Луи Филипп[252], и г-н Гизо, и г-н Гувер[253]. Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров[254], кто в этом виноват в первую очередь? Вечная история оседлых и кочевых племен. Спасение цивилизации – дело постоянное. В хорошо вам знакомом Парагвае девственные леса проглядывают в каждой щелочке между булыжниками, которыми вымощена столица. Они, эти леса, притворяются простыми травинками, но дай им волю – и они пожрут город. Нужно постоянно загонять девственные леса обратно под землю. Что же в предвоенной этике могло заслужить одобрение вашего друга, которого, как мне кажется, я немного знаю? А если он, как мы, чувствовал, что умирает от жажды, тогда какого дьявола он негодует, что я упрекаю эту эпоху в духовном убожестве? Почему он вкладывает в мою книгу превратный смысл, которого я вовсе не имел в виду? Когда я пишу, что каждый отвечает за все, то продолжаю тем самым великую традицию блаженного Августина[255]. Равно как и ваш Друг, когда он воюет. Через него в войне участвует и бретонская крестьянка, и сельский почтальон из Монтобана[256]. Если страна – живое существо, то он кулак этого существа. Его руками сражается и сельский почтальон. А он руками этого почтальона служит обществу по-другому. Нельзя делить живое существо. Какое отношение имеет тема, которую я исследовал, к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма[257]? Какая строчка в моей книге дает вашему Другу право думать, что слова «я ответствен» имеют малейшее отношение к униженному mea culpa[258]? Слова эти – девиз каждого гордого человека. Это вера в действии. Более того, это доказательство собственного существования. Пускай себе конторские мокрицы ищут в моей книге политическую подоплеку, я над этим разве что снисходительно усмехнусь: хоть мне уже сорок четыре, я каждую неделю, как-никак, вылетал на задания во Францию, один на борту «Лайтнинга» П-38, в составе группы 2/33, а неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей![259] Плевать мне на них. Но вашему другу, такому благородному, я решительно отказываю в праве на подобную интерпретацию. Я пишу для него. Я пишу о нем. И если сегодня совсем невозможно быть правильно понятым даже чистыми душами, пусть меня перечитают через десять лет.
Письмо Х. (неотправленное)
Письмо Х. [Алжир, конец 1943 г., середина ноября?]
I
(…) Я в постели, в неподвижности…[278] Лестница, ведущая в прихожую. Шесть мраморных ступенек, полное затемнение. Так вот. Я весьма бодро иду на обед, во время которого должен увидеться со Шнейдером[279] и друзьями. Забываю про дыру. Проваливаюсь, лечу в пустоте. Недолго. И со всей высоты собственного роста (и лестницы) грохаюсь прямо на спину. Копчиком о край одной ступеньки, пятым поясничным позвонком – о край другой. Чтобы погасить инерцию моего тела, двух точек, да еще таких угловатых, явно недостаточно. Копчик-то выдержал. А вот позвонок – нет. По позвоночнику удар, само собой, передался черепу, и пять минут я провалялся на лестнице почти без сознания. Затем принялся ставить сам себе диагноз. Я сказал себе: такого удара ни один позвоночник не выдержит. Он сломан. Тут я проверил собственные ноги: они двигались. Значит, решил я, сломан позвонок, который не содержит спинного мозга, следовательно, несъедобный. Так оно и оказалось. Я, все же, не дурак. В пятом поясничном спинного мозга нет. Затем я стал подниматься. Мне удалось встать на ноги. Крошечными шажками я добрался до трамвая и явился к обеду. Мне было очень больно, и это подтверждало мои догадки. Я сказал: «Прошу прощения, что опоздал, но я только что сломал себе позвонок». Все расхохотались. Я тоже. О моем позвонке так никто и не спросил. Вернувшись домой, я подсунул под дверь Пелисье записку: «Я сломал себе позвонок у вас на лестнице, когда шел обедать. Будьте добры, осмотрите меня завтра утром».Ночь я провел мерзко, от удара у меня голова шла кругом. Заснул около восьми. А он прочел мою записку и ушел себе в госпиталь. Ему было некогда. Так сказала Северина. Я оказался в тупике. Я был приглашен на один более или менее официальный завтрак и оправдаться мог только серьезным диагнозом. И все-таки я пошел на этот завтрак, очень, очень медленно. На обратном пути, часа в четыре, мне стало совсем уж худо. Тогда я через Северину воззвал к Пелисье с просьбой о консультации (он был у себя в кабинете). Он пощупал мой позвонок и сказал что-то вроде: – Вы же видите, он не смещается. Я ответил: – И все-таки он сломан! – Он рассмеялся. Я понимал, что из-за всей этой истории с позвонком попал в дурацкое положение. И смиренно спросил: – Но что же делать, ведь мне больно? Он очень, очень понятно разъяснил мне причину моих болей и посоветовал заняться гимнастикой. Чтобы окончательно рассеять мои сомнения, он прибавил, что перевидал уйму людей, которые попадали в катастрофы, даже под колеса поезда, и не ломали себе при этом ни единого позвонка. Господи, боже мой, поезд – он такой большой. И тяжелый. И едет быстро. Рядом с ним мои шесть ступенек детские игрушки. Тогда я отправился на другой обед. Еще медленней. Я превозмогал боль. Я уговаривал себя, что ходьба – прекрасная гимнастика, но в глубине души не очень-то в это верил. На другой день Советы давали большой прием[280]. Мне очень хотелось посмотреть, как все будет. Я был приглашен. И я пошел. Праздник был устроен на покрытой цветами лужайке перед каким-то дворцом. В высшей степени элегантно. Но ничего, кроме оранжада. По лужайке бродили все министры, все генералы и все христиане Алжира. Ждали львов. Все спрашивали: «Где же они?» Львы были тут же, но внешне походили на банкиров. И потчевали всех оранжадом. Это подействовало на христиан весьма успокоительно. Но со мной на этой лужайке, где не было ни единого стула, приключилось несчастье: я стоял и не мог сделать ни единого шага. Когда мимо проходил кто-нибудь знакомый, я обращался к нему: «Вы на машине? Нет? Тогда хотя бы побудьте со мной пять минут! А то я торчу тут один и выгляжу дурак дураком». Между прочим, так оно и было. Но я был начеку и каждый раз, когда мне удавалось обмануть боль, делал шажок по направлению к выходу. Путь грозил затянуться, но тут, наконец, появился адмирал Обуано[281] и помог мне репатриироваться. Потом, когда я принялся докучать Пелисье рассказами о своем несчастье, он сказал: – Да, ушибы бывают очень болезненные! Ну, ладно. Раз уж вам необходимо, чтобы вас успокоили, сходите к такому-то рентгенологу, он прекрасный специалист. Мне и впрямь надо было, чтобы меня успокоили. Рентгенолог взглянул на снимок и сказал: – Да вы с ума сошли! Почему вы не в постели? У вас поперечный перелом пятого поясничного позвонка: легкое вертикальное смещение и трещина в кости. К тому же весь позвонок на несколько миллиметров смещен влево! – Вот как! – Перелом позвонка – дело серьезное! Три месяца постельного режима, иначе останетесь калекой на всю жизнь. – Вот как! – Черт побери, вы что, сами не чувствуете, что у вас сломан позвонок? – Еще как чувствую! С этим я вернулся к Пелисье. По дороге я сам себе представлялся чем-то вроде треснувшей вазы. Я ступал с немыслимыми предосторожностями. Я объявил доктору Пелисье: – У меня перелом, завтра будут снимки. – Перелом? Откуда вы знаете? – Врач сказал. – Болван ваш врач. Вечно эти рентгенологи вмешиваются в диагностирование! Пускай занимаются рентгеном, остальное – не их забота. – Кушать подано! – Это пришла Северина. – Где… я буду… завтракать? Я уже свыкся с представлениями о треснувшей вазе, и мне хотелось прилечь, чтобы не разлететься на куски. Кроме того, мне было больно. Но я тут же понял, что Северина старенькая, а рентгенолог болван. И взгромоздился на стул. Наутро были готовыснимки. В течение пяти минут Пелисье видел, что это перелом, а потом опомнился. – Это у вас врожденное. – Но почему? – Потому. – Вот как. Я чувствовал, что со всеми своими предосторожностями выгляжу посмешищем. А между тем мне делалось все больнее и больнее. – И все-таки… Я так сильно ударился… Это его возмутило. Он ведь объяснял мне насчет поезда, а я ничего не понял. – Да я видел людей, которые падали с шестого этажа – и ни единой царапины! Ну что ж. Я попросил одного знакомого зайти к рентгенологу. Рентгенолог считает, что случай ясный. У меня боли – это тоже ясно. В конце концов, в этом позвонке нет спинного мозга. Ну да ладно, как-нибудь все утрясется. Или растрясется.
II
Продолжаю письмо. Акт второй. Поскольку я не мог передвигаться, пришлось подключить военных врачей[282]. Они пришли. Посмотрели снимки. Сказали, что это перелом. Из чистой вежливости я попросил Пелисье зайти с ними поздороваться. Он им сказал: – Этот рентгенолог – зазнайка и невежда, сделайте больному рентген еще раз у себя в госпитале. Он любезно отвез меня в госпиталь и сказал военному рентгенологу, конкуренту предыдущего, штатского: – Доктор Б. большой чудак. Перелом выглядел бы так-то и так-то. Новый рентгенолог сделал снимки. Они вышли неудачно. Он сделал повторные. Получилось уже лучше. Точь-в-точь утренние туманы на японском пейзаже. Очень было красиво. Сквозь утренние туманы виднелось нечто похожее не то на холм, не то на позвонок. Рентгенолог-конкурент вздохнул. Потом изрек: – Я не согласен с мнением доктора Б. Потом он стал придумывать, в чем именно он не согласен. И придумал. Ткнув на заострение, которое вчера было объявлено врожденным, он сказал: – Это просто-напросто проекция крестцовой кости. – Не правда ли? – откликнулся Пелисье. Поскольку переломом это быть не могло, необходимо было как-нибудь это обозвать. Пусть будет врожденная проекция. Дома Пелисье сказал: – Вы же слышали, я его за язык не тянул. – Разумеется. Итак, военные врачи тоже не пожелали признать у меня перелом. Тогда я стал ходить на прогулки, чтобы поскорей выздороветь. Однако до сих пор еще не выздоровел.III
Сегодня уже прошла неделя. Мне не лучше и не хуже. Но Пелисье уверяет, что ушибы не проходят по три месяца, так что боль – в порядке вещей. Как бы то ни было, я изрядно устал. Поскольку Пелисье думает, что я до сих пор сомневаюсь, он притащил мне сегодня рентгеновский снимок настоящего перелома. Бесспорного перелома. – Вот как выглядит перелом. Правда, я мог бы и сам поставить диагноз. Вместо позвонка какая-то блямба, а вокруг ореол осколков, каждый размером с зуб. Я сказал: – Да, явный перелом. И при этом подумал: поезд тут ни при чем, шестиэтажный дом тоже, следовательно, виновата торпеда. Судя по причиненным повреждениям, все это натворила именно торпеда. Потом я робко осведомился: – Это все, что осталось от того господина? – Что это? – Этот позвонок? Тогда он отнял у меня снимок. Теперь я в сомнениях. Мой рогатый позвонок, по всей видимости, не ядовит. Но на душе у меня скверно, потому что он, как это ни странно, продолжает болеть. Я предпочел бы знать, в чем тут дело, и пусть бы уж это оказался простой костный перелом. Мне как-то неловко, что я продолжаю ходить. Но раз у меня ничего не находят, то оставаться в постели было бы еще более неловко. Что же дальше? Да… Что же дальше-то? Хотелось бы, наконец, обрести хоть какую-то судьбу. А то я словно в поезде, который застрял перед семафором. Не воюю и не делаю свою собственную работу, не здоров и не болен, не понят и не расстрелян, не блаженствую и не страдаю. И вконец утратил всякую надежду. Странная штука безнадежность. Чувствую, что мне нужно родиться заново. Я понял, что радовался бы, если бы меня заставили годами лежать врастяжку привязанным к доске. Это была бы судьба духа. Точно так же я радовался бы, если бы меня опять пустили за штурвал Лайтнинга и позволили воевать дальше: это была бы судьба солдата. Или влюбиться бы мне безнадежно: был бы рад и этому. Лишь бы навсегда. Это была бы судьба сердца. Безнадежно влюбиться – не значит потерять надежду. Это значит, что соединишься с любимой лишь в бесконечности. А по пути – негаснущая звезда. И можно отдавать, отдавать, отдавать. Как странно, что я не могу обрести веру. Можно безнадежно любить бога: это как раз по мне. Солем и григорианский псалом. Церковное пение – совсем не то, что мирское. В нем есть что-то морское. Я часто об этом думал. В сороковом году, перед отъездом из Лиона, я как-то в воскресенье пошел в Фурвьер, поднялся на холм. Шла (вечерня?). Было холодно. В церкви безлюдно, один только хор. И я, в самом деле, почувствовал, что я внутри корабля. Хор – это был экипаж, а я – пассажир. Да, прячущийся ото всех пассажир-заяц. Мне казалось, что я прокрался туда незаконно, обманом. И право же, я был восхищен. Восхищен чем-то несомненным, чего мне никогда не удается удержать. Мне бесконечно жаль людей: пока они спят, они все пропускают. Я только не знаю что. (…) Почему мне так нехорошо? Вы не представляете себе, до чего мне страшно. О, я вовсе не позвонок имею в виду. Он мне, в сущности, даже полезен. (…) Встряска была великолепная (для головы тоже) и… у меня немного прояснились мысли. Занятно. Нервы тоже пришли в порядок. Я был как-то весь напряжен, так напряжен – физически не мог написать больше двух страниц. У меня руку сводило. Меня в буквальном смысле невозможно было читать. (…) А мои письма двух последних месяцев! На второй же странице почерк совершенно менялся. (…) И вот встряска все это сняла. То, что было во мне разлажено, снова встало на место. Странно. (…) Вот еще записка для мамы. Боже, как все это печально! Найти себя… это, наверно, невозможно. Где то, в чем можно себя найти, – где дом, обычаи, верования? Вот почему в наше время так невыносимо трудно и горько жить. Пытаюсь работать, но работа идет с трудом. Эта безжалостная Северная Африка разъедает душу: я уже больше не могу. Это могила. Как легко было вылетать на Лайтнинге на боевые задания! Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон.[283] Д. ничем не может мне помочь – да и чем тут поможешь? Я, признаться, боюсь за свою работу – боюсь даже в чисто материальном плане. Я готов ко всему. (…) Во всем, что касается лично меня, я утратил малейшую надежду. Немного грущу о себе самом. Грущу обо всех. Когда я слышу, какие надо мной изрекают приговоры, мне делаются ненавистны все приговоры вообще. Главное, люди теряют надежду, им не хватает солнца. А что, если я люблю в других именно то, в чем могу помочь им сделаться лучше? Люблю тех, кому могу дать больше, чем получить? В сущности, я так одинок. Что, если я люблю помогать тем, кто тонет, держать голову над водой? Заставлять человеческий голос звучать по-особенному, вызывать на человеческом лице особенную улыбку. Что, если меня волнуют только пленные души? Когда мне чудом удается хоть на три секунды приручить того, кто считался погибшим, когда в нем хоть на три секунды пробуждается доверие ко мне – видели бы вы, какое лицо он ко мне обращает! Быть может, я по призванию – искатель подземных ключей. Искатель того, что таится глубоко под землей. Я так мало нужен тем, кто совершенен. Мне говорят: утопленница погрузилась глубже, чем ты думаешь… Но я бегу. И это вовсе не безумие. Только я один знаю, что вытаскиваю на свет божий. Странно, что мне понадобилось время, чтобы это понять. Но я действительно не чувствую в себе призвания ни составить чье-то счастье, ни получить его от кого-либо. Если я составляю чье-то счастье – мне делается страшно, словно я указал путнику неверную дорогу. Что до того, чтобы получать самому – мне-то ведь так немного нужно. Вполне можно подумать, что я жесток: я не утешаю в горестях, не выполняю желаний. Пусть я жесток с плотью, с сердцем, но только не с душой. Поэтому на самом деле я никогда не был жесток. Я, пожалуй, принадлежу тем, кто выбирает меня, как дорогу. Мне совершенно безразлично, откуда они идут. Чтобы выразить то, что я хочу сказать, мне, повторяю, не найти иных слов, кроме тех, которые относятся к религии. Я понял это, перечитывая своего Каида. Смысл этого трудно облечь в слова, но не случайно возникают эти повозка, дорога и обоз для вожатого вожатых. И ничего, ничего другого я не понимаю. Не понимаю, как это кто-то может быть достоин меня. Я ведь не награда. Или как это я могу быть кого-то достоин. Я ничего не достоин. И я не умею думать по-другому. Кстати, я уже устал сам от себя. От своих запутанных мыслей по всякому поводу. Я словно сам у себя в тюрьме. И в других отношениях я тоже заключен в символическую тюрьму. Что можно противопоставить обвалу в горах? Я совершенно пал духом. Хочу писать в полную силу, но здесь для меня чудовищно неблагоприятный климат. Из меня жизнь уходит. Никогда еще я не испытывал подобного бесплодного изнурения. Это ужасно. Эх, всего два месяца назад так здорово был вылетать на Лайтнинге на задания! Эти болваны американцы сами не знают, что они со мной делают, лишая меня полетов. (…)Письмо жене, Консуэло [Алжир, без даты]
Нью-Йорк, раздоры, споры, клевета, выходки А. Б.[284] окончательно мне осточертели. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Но я от них устал. Все это как-то не по-человечески. Напускают туману… И в них во всех это есть. Это не моя родина. Мне надо быть выше этого, чтобы защищать покой в Аге[285], и обеды с Лазаревым[286], и твоих уток (которых ты жаришь, между прочим, неправильно, потому что корочка почти не хрустит), чтобы защищать все лучшее. Лучшее в тех вещах, что мне дороги. Верность. Простоту. Партии в шахматы с Ружмоном[287] (вот уж славный парень), преданность, труд, согретый любовью, но только не игру с правдой, которую затевают лжецы в изгнании, вдалеке от всех человеческих понятий…
Письмо Х. [декабрь, получено 18 февраля 1944 г.]
Сейчас три часа ночи. (…) Больше не могу. Почему, ну почему такая тоска? Начну с новостей, не слишком интересных. Позвонок все-таки оказался сломан. Пелисье признал это через месяц скрепя сердце, когда увидел совершенно уже бесспорный снимок. А я весь этот месяц оставался на ногах, не имея морального права ложиться в постель. (П. принял бы это за оскорбление.) Для меня это была сущая китайская пытка. Надо сказать, что ходьба при переломах подобного типа, к счастью, не представляет большой опасности (так что я из многих зол выбрал меньшее). Сейчас мне по-прежнему больно, вечерами я просто инвалид, но, в общем, все налаживается. Все непременно пойдет на лад. А вот настроение… Тут все неладно. Для меня нестерпима эта эпоха. Я больше не могу. (…) Все как-то обострилось. В голове мрак, на сердце холод. Кругом посредственность. Кругом уродство. У меня к этим людям один существенный упрек[288]. Они не пробуждают ни в ком бодрости. Они никого не вдохновляют на жертвы. Они ничего не могут извлечь из человека. Унылые надзиратели в дурном коллеже. Вот их амплуа. Они мешают мне, как болезнь. (…) Вот ведь странно. Я еще никогда, никогда не был так одинок на земле. Меня словно гнетет безутешное горе. Не знаю, найду ли в себе силы излечиться от этого. И некому мне помочь. А люди в этой стране – ну и убожество! Отбросы всех континентов. Запасной путь, на котором приходят в негодность все составы. Замшелая провинциальная жандармерия. Смехотворная напыщенность классных наставников, чувствующих себя хозяевами положения. Видели бы вы их ассамблею[289] – вот уж убогое зрелище! А как они из кожи лезут, чтобы уберечь от осмеяния то, что и в самом деле смешно! Смешно настолько, что страх берет. А канцелярщина, которую они разводят в ожидании, пока им позволят открыть стрельбу! Клянусь тебе, у них нет никакого чувства юмора. И столько вопиющих несправедливостей! И все это медленно нарастает по мере того, как набирает силу глупость. Глупо настолько, что страх берет. Безобразно настолько, что страх берет. Я сыт по горло. Эта разобщенность с эпохой задевает меня больше всего на свете. Мне уж так хочется расстаться со всеми этими олухами! Что мне делать здесь, на этой планете? Со мной не хотят иметь дела? Какое удачное совпадение: я с ними тоже не хочу иметь ничего общего! Я с удовольствием попросил бы уволить меня с должности их современника. Среди них нет ни одного, кто мог бы сказать мне хоть что-нибудь интересное. Они меня ненавидят? Это утомляет меня больше всего, я хотел бы отдохнуть. Быть бы мне садовником, окруженным плодами. Или умереть. Боже мой, я ведь все-таки несколько раз в жизни был счастлив – правда, всегда ненадолго. Так почему у меня нет больше права на одно-единственное безоблачное утро? Грустно, грустно, что надеяться больше не на что. О нет, грусть моя – не от хвори. Я-то прекрасно знаю, что для меня нестерпима социальная неприкаянность. Я весь наполнен гулом, как раковина. Не умею быть счастливым в одиночку Как бодро, весело было, когда я работал в Аэропосталь! Какое это было великое дело! Не могу я больше в этом убожестве. Не могу. Жизнь в одиночном заключении, без веры. Эта дурацкая комната[290]. И никакого завтрашнего дня. Не могу больше в этом гробу. Да, вот еще: так, мелочь. Встречаю сегодня утром генерала Р. (бывший начальник разведотдела). – А, здравствуйте, Сент-Экс. Между прочим, будьте начеку… – А что такое? – Дорогой мой, берегитесь того, берегитесь сего… – Что вы имеете в виду? – Предостеречь друга – наш долг. Будьте же осторожны. – Ладно. Так я больше ничего из него и не вытянул. Здесь, в Межсоюзническом комитете, натыкаюсь на Ложье[291]. Ничтожество, ректор Академии. Восседает среди верховных жрецов режима. Изволил меня заметить. – Здравствуйте! – Здравствуйте. И тут он, окруженный верховными жрецами, на меня обрушивается: – Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена! – Я? – А кто же? Да, хорош ваш Петен! Тут вмешивается один из жрецов, состоящих в свите этого хама: – Как! Неужели вы член Национального совета? И Ложье ему в ответ: – Конечно, кто же этого не знает! Вы помните это злополучное назначение, которым я обязан какому-то мерзавцу. Вы помните, в какой я был ярости, помните, что я сразу заявил протест. Но к чему пытаться что-либо объяснять? В атмосфере страстей, вскипающих вокруг выборов, слишком сложно развеять клевету. Я отрезал: – Вы прекрасно знаете, что ведете себя сейчас как последний мерзавец. И все. А что мне оставалось сказать? Говорю вам, стена становится все толще. Говорю вам, ненависть вокруг сгущается. Еще говорю вам, что я не вынесу утраты солнца. Приехав сюда, я попал в ловушку. Мне не выдержать ни клеветы, ни оскорблений, ни этого неописуемого бездействия.[292] Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал только побуждаемый любовью. Я люблю свою страну куда больше, чем все они, вместе взятые. Они любят только самих себя. До чего странная у меня судьба! Она неумолима, как лавина в горах, а я совершенно бессилен. За всю жизнь не могу упрекнуть себя ни в одном шаге, продиктованном ненавистью или местью, ни в одном корыстном поступке, ни в одной строчке, написанной ради денег. А чувствую себя все-таки, как заживо погребенный. Все это странно, странно, странно. Может быть, уехать? Но я уже по колено увяз в этих зыбучих песках. Вытащить из них ноги было бы невероятным чудом. Завтра я завязну до пояса. Все идет к тому, что я окажусь в тюрьме. Но там-то и проявится их слабость: ведь если мне больше нравится спать, кто может мне в этом помешать? Я подумываю, не сжечь ли мою книгу[293]? Если у меня украдут рукописи – не хочу, чтобы они валялись на их грязных кухнях. Горе мое выше моих сил. (…) Вы видите: я не понимаю жизни. Ночами на меня наваливается тоска. По родным. По родине. По всему, что я люблю. Не могу забыть, какой чудесный покой нисшел на меня в последнюю ночь в Ливии. Говорите со мной, заставляйте меня любить жизнь. Когда я показываю карточные фокусы[294], я выгляжу веселым, но не могу же я показывать фокусы себе самому, и на сердце у меня смертельный холод. Тут затевается новый журнал Арш, который намерен перепечатать «Письмо заложнику».[295] Я к этому не стремился. У меня нет ни малейшей охоты снова привлекать к себе внимание, слушать, что говорят обо мне, или говорить самому. Один тип из окружения Ложье сказал мне: «Я отказался сотрудничать в Арш, потому что, по слухам, там будут печатать вас!» Вот она, нескрываемая ненависть! Нескрываемое негодование! Если этот тип меня расстреляет, ему, несомненно, будет казаться, что он спас мир. От чего? Я ненавижу – и куда сильнее, чем он, – все виды предательства. Я люблю – и намного сильнее, чем он, – все, что связано с Францией. Что до немцев, то я не раз дрался и еще буду драться с ними, рискуя головой. В отличие от него. Так в чем же дело? Нет, с меня довольно. Скандал с Ложье… Это, по-моему, и впрямь бесподобно. Я чувствую, что окружен ненавистью. Я все чувствую. Но я гадал: что они могут мне сделать? Я рассуждал так: я сражался за мою страну, несмотря на возраст, я выступал против захватчика – и устно, и письменно. Я всегда ненавидел политику, и никто ни в чем не может меня упрекнуть… Я чувствую, что паровоз набирает ход, но куда он держит путь? И вот, наконец, этот подонок разрешает мое недоумение. Господи, как я был глуп! Я начисто забыл о том случае! О дурацком назначении, о котором я не был даже официально извещен. Следовательно, не был обязан официально его отклонить. Тем не менее, я тут же по всей форме отказался от него через американскую прессу и радиовещание, после чего уже никто со мной об этом не заговаривал, и я был уверен, что с этой нелепостью покончено. – Ага! Ага! Так вы до сих пор являетесь членом совета… – Послушайте, это же чепуха! Я отказался… – И тут этот подонок перебивает: – Несколько слов для прессы, чтобы угодить прессе, это не считается. А где ваше заявление об отставке? ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ! И все это с видом жандарма, ловко припершего мошенника к стенке! Остальные качают головами и думают про себя невесть что! А я, чтобы все разом уладить, попросту поворачиваюсь ним спиной. Вот куда идет паровоз! Случаю со мной дается законный ход. Он уже подлежит ведению закона. И этот подонок скажет мне: Бог свидетель, я вас люблю и уважаю! Но разве мы вправе делать для вас исключение? Ваш случай достаточно распространенный… Взять хотя бы Пейрутона! Тоже, надо думать, приличный человек, патриот (…). Все это тошнотворно и в то же время восхитительно. Все идет по пути, предначертанному провидением. И надвигается на меня. Медленно так надвигается. У меня адские боли в позвонке. Пелисье несколько озадачен моим переломом. Это как будто не такой перелом, который лишает человека способности передвигаться: сломан поперечный отросток пятого поясничного позвонка. Но мне кажется, что у меня что-то другое. Пелисье предлагает ультрафиолетовое облучение, но я и слушать не хочу. Он говорит: это снимет боли, но мне наплевать на боли. Они мне нужны как симптомы. И вообще, боль – это нечто дружественное. Она неплохой компаньон. И такой преданный… Я боюсь только тоски. Тревоги за тех, с кем нельзя больше быть рядом. Я тревожусь за них. Старая история, вечно я рвусь в спасатели! Если мне не дадут к ним присоединиться – все их несчастья камнем лягут мне на сердце. Боюсь бессонных ночей, боюсь (…) Возня вокруг моей книги меня раздражает. Но что же, по-вашему, позволить им все чернить? Или выискивать у меня то, что достойно их похвал? Найти можно все, что хочешь. Доказательством тому служит генерал Ложье, но меня от этого мутит. Иногда мне выпадает удача испытать страдание, в котором нет ничего низкого. Это боль в позвоночнике. Но боль эта не настолько велика, чтобы по-настоящему меня утешить. Нынче вечером мне хотелось бы вволю наплакаться. Мешает сознание того, что все это смешно. Весь этот цирк, и этот Ложье, и это жульничество! У меня есть какое-то социальное чутье. Я никогда не ошибался. Вот уже год, как я все понимаю. Я… мне, конечно, плевать на себя, но я – это пятьсот тысяч. И я твердо знаю, что мои помыслы чисты. Три дня спустя. Холодно. Спина ноет. У Пелисье не топят (нет камина). Зуб на зуб не попадает. Ложусь в двух пижамах, кальсонах и в халате. Ночь мне удается превратить в нечто. сносное. Но дни омерзительны. Это, конечно, я в тюрьме. Может быть, мне нужно очутиться в тюрьме. Не кончая самоубийством. Я обязан выплатить какой-то чудовищный долг. В истории с Ложье меня бесит бесчестье. Не люблю бесчестья. Мерзко подумать, что меня посадят в тюрьму как пособника палачей. Это полностью противоречит истинным моим убеждениям. Сесть в тюрьму за приверженность к СВОЕЙ религии, пожалуй, и не обидно. Но поплатиться тюрьмой за чужую – это уж из ряда вон. Ну, разумеется, почему бы и не тюрьма? Мне до безумия хочется покончить с собой. (Но тут уж дело в тоске, а над ней я не властен.) Вопрос в одном – сколько я выдержу. Может быть больше, чем мне кажется. (Но я ведь уже столько вытерпел!) Быть может, это вернет меня на путь истинный… Один бог знает. (Да здравствует бог, как вы говорили.) Рисунки у меня не получаются. На три тысячи – один удачный. Вот и этот не вышел. Если я кое-как научился писать, то лишь потому, что ясно вижу свои недостатки. Ни одна неудачная фраза от меня не ускользает. Не так уж глупо я когда-то сказал: «Я не умею писать, я умею только править». Вкратце, что такое голлизм? Группа частных лиц (это все были частные лица) сражается вне Франции, которая побеждена и должна спасать сама свое существование. И это очень хорошо. Франции следует участвовать в борьбе. Генерал такого иностранного легиона[296] мог бы в своей борьбе рассчитывать на меня. Но эта группа частных лиц выдает себя за самое Францию (а Франция это Трефуэль, это Диди). Эта группа хочет извлечь для себя выгоду из приносимой ею жертвы, хотя эта жертва меньше, чем жертва Франции (не говоря о том, что из истинного самопожертвования выгод не извлекают). Из того, что она участвует в борьбе за пределами Франции, представляя собой самый обычный иностранный легион, эта группа намерена извлечь такую выгоду, как управление завтрашней Францией! Это бессмыслица, потому что самопожертвование по сути своей не дает никаких прав. Вот главное. Это бессмыслица, потому что завтрашняя Франция должна возродиться (если ей вообще суждено возродиться) из собственной плоти. Из той плоти, которая дала узников, заложников, детей, умерших с голоду. Это тоже главное. Их ассамблея? Недурно разыграно. Но это спектакль, и этот спектакль смешон. Они думают, что они – Франция, а должны бы понимать, что они – из Франции, а это совершенно разные вещи! Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола[297]: – Вы заблуждаетесь, Соединенные Штаты нельзя сбрасывать со счетов… Там искренне любят Францию. Рузвельт – больше француз, чем все республиканцы, вместе взятые. В интересах страны следует его поддерживать, а не шельмовать. Необходимо взять курс на дружбу с Соединенными Штатами… Необходимо в интересах Франции… – После того как они так со мной обошлись? Он утомителен. Личности, которые разгуливают с собственным пьедесталом под мышкой, очень утомляют зрителей. Вы мне писали? Если писали, то о чем? Я не получил никакого ответа на свое письмо. Остерегайтесь передавать письма с оказией, даже если доверяете гонцам. Беда в том, что люди ленивы. Приехав сюда, они, не имея в своем распоряжении автомобиля, сдают письмо на почту. А это все равно, что пропечатать его в газетах… – Очень, очень милый человек, но придется его расстрелять… – За что? – Он причина того, что в Соединенных Штатах не признают генерала де Голля… В самом деле? Как лестно! Как я горд собой! О люди… Этот толстый дурень С. – В Бразилии вас хотели расстрелять! – Вот как? Дурнем он был всегда, а вот растолстел недавно. Опух в опале – недурно звучит! Он только забыл прибавить, этот толстый дурень, что сам способствовал этому! Я еще тогда, в Соединенных Штатах, был вне себя от ярости: он в своих выступлениях цитировал Военного летчика в перевранном виде! Он извлекал из моей книги аргументы в пользу своей рыхлой и тупой политики! Эта улитка С. ничуть не благороднее какого-нибудь там Анри Э…[298] Что бы вы ни имели в виду, всякие мерзавцы начинают за вас цепляться и размахивать вами. Все дезертиры, все банкроты, отсиживающиеся в Южной Америке, объявили себя голлистами. Это придавало им весу. Улитки-коллаборационисты ссылались на Военного летчика, безбожно перевирая его… А что поделаешь! Люди! Теперь, когда он оказался без работы, от его елейных разглагольствований об иностранных делах скулы сводит. Когда он говорит мне: Вы были нашей совестью! – меня мутит от омерзения. Какая совесть у сиропа! Ненависть. Все делается под знаком ненависти. Несчастная страна! Жиро пугало огородное и, как таковое, шума не боится. Это сущность его военной отваги. Но, будучи пугалом, он боится ветра. И тот, другой, для которого сам Господь Бог – голлист. И вся эта банда крабов, которые умеют только одно – ненавидеть. Ах, страна моя… А мой министр, Летроке[299], которого извлекли из нафталина, эксгумировали из недр музея Гревен[300], – до чего же ему хочется, чтобы его принимали всерьез!.. Один генерал спросил: Летроке – кто это? Тридцать суток заключения в крепости. В Дакаре, в кабаке, некий командир соединения изрек, глядя на портрет Великого Могола: – Приколите его как следует, а то вон кнопки выпали! А лучше вставьте в рамку, под стекло, по крайней мере красивее будет… По крайней мере… Пятнадцать суток строгого ареста за «по крайней мере»!.. Один полковник в дакарском кабаке заметил: – В тунисской армии[301] было больше раненых, чем в армии де Голля солдат. (Кстати, это верно.) Полковника стерли в порошок – поделом ему. Снова преследуются виновные в оскорблении величества, снова имеет силу закон о святотатстве. И это в разгар борьбы с нацизмом! Ну как, скажите, мне все это выдержать? Мне так горько, что сил больше нет… Я сказал себе эти слова потихоньку, словно они бог знает как поэтичны: хотелось немного поплакаться. То, что я писал тогда о Ливии, – правда. Когда в последний день на рассвете парашюты оказались сухими[302] и я решил, что мне конец, я минут десять лежал, не двигаясь, и утешался одной-единственной фразой, которая очень трогала меня: сердце высохло… высохло… из него не выжать ни слезинки! Такого же утешения я искал и сейчас; свернулся на кровати и твердил, баюкая себя: мне так горько, что сил больше нет… Но эти слова – словно китайские рыбки. Вынутые из воды, они уже ни на что не похожи. Вот так и слова, выхваченные из сна… И все-таки это правда. Мне так горько, что сил больше нет (…)
24—12-43 Рождественская ночь. В поместье Ла-Моль у дяди Эмманюэля[303] помню изумительный вертеп: ясли с овцами, лошадьми, быком; а еще там были пастухи, и ослик, и трое царей-волхвов, каждый вдесятеро выше лошади, а главное – запах воска: он для меня неотделим от всякого праздника… Мне было пять лет. Благодарность, возносимая миром за рождение крошечного ребенка, – как это поразительно! Две тысячи лет спустя! Род человеческий сознавал, что должен взрастить чудо, как дерево растит свои плоды; и вот он весь стеснился вокруг чуда – какая в этом поэзия! Цари-волхвы… Легенда или история? А до чего красиво! Как странно! Я думал о тюрьме. Лежал в постели и представлял себе. Представлял какой-нибудь неожиданный поворот событий, который позволит мне выкрутиться. Такой ход, потом еще такой – и партия выиграна! Между тем на сей раз, если гроза грянет, мне уже не отвертеться. По крайней мере, мне сейчас кажется, что я сам не захочу уклониться. Выпью эту чашу до дна. Уклонившийся утрачивает свою судьбу и словно проваливается в никуда. Это несерьезно. Корнильон-Молинье предлагает мне в январе-феврале поехать с ним в Россию. Я согласился[304]. Надо же мне куда-то деваться, а там хотя бы мой возраст не будет мне помехой на войне. Но что же тогда станет с этой алжирской помойкой? Боли в спине все сильнее. Я по-прежнему отказываюсь от ультрафиолетовых лучей, которые навязывает мне мой гостеприимный хозяин. Облучать сломанную кость – эта глупость просто бесит меня. Конечно, в пехоту я больше не гожусь. Но я никогда особенно не любил ходить пешком: всегда был тяжел на ногу. В двадцать пять – ревматизм, проболел четыре года. Потом Гватемала. И так далее. Вероятно, самолет был для меня своеобразной компенсацией (…) Да, работать. Но где? И как? И зачем, если все равно придется сжечь плоды своего труда? Может быть, ничего и не случится – но это еще не значит, что я ошибаюсь. С тех пор как вы живете там, вы должны были до некоторой степени понять, что такое эта ненависть, над которой вы, слушая мои рассказы, подчас посмеивались. Они насядут на меня, если из-за меня их начнут – или не начнут – ругать в Америке. Вот и все. Если бы не это… Когда ненависть исходит от какого-нибудь Ложье – это вполне естественно. Он ненавидит меня точно так же, как я его презираю. Меня тошнит от его рассуждений, от этих махинаций с человеческими жизнями, от суемудрия, которое ни во что не вникает, но надо всем вершит суд, от готовности приспособиться к любой низости и тупости. Неужели он когда-то был ребенком? Быть не может. Такие, наверно, рождаются прямо в пенсне. Но когда та же ненависть исходит от человека пусть взбалмошного, но чистого, она меня деморализует. Как неудача в любви. Невозможность найти общий язык с людьми всегда была для меня нестерпима. У меня сразу же пропадает всякая вера в то, что я не могу облечь в слова. Мне казалось, что язык – это как любовь у черепах. Нечто не вполне завершенное. Результаты будут видны через тридцать миллионов лет. Благодать будет дарована. Люди будут понимать друг друга с полуслова. Чтобы найти свое место, им необходимы два лагеря. С. тянется ко мне, потому что я не голлист. Жаль. Меня-то к С. вовсе не тянет. В свое время я не до конца раскусил этого изнеженного пастыря. Эту тепленькую улитку. Меня тошнит от такой теплоты. В Бразилии он вел себя не слишком-то благородно. Лужа липучего сиропа. Там он записал меня в компанию своих – очень жаль! Но сопротивляться этому невозможно. Паразиты все равно заведутся. Беспокойство за других настигает меня всякий раз как гром среди ясного неба. Ни с того ни с сего сваливается на меня какая-нибудь особа, которой грозят невероятные опасности, а у нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира[305]. То одна, то другая. Но не могу же я бросаться вплавь на все зовы о помощи одновременно! Тем более что я и плавать-то не умею. Но тюрьма – это, вероятно, нечто вроде монастыря. Мне, пожалуй, только тогда и бывает спокойно, когда мне приходится хуже всех. Вот почему, как ни странно, боль в позвоночнике несколько меня успокаивает. И я твердо знаю, что, если бы мне было очень больно, я совсем бы успокоился. И я твердо знаю, что, если бы я умирал, мне казалось бы, что меня окружают заботой. Это идет из детства. Поцелуют, уложат, убаюкают. Но сейчас все не так. Являются, откуда ни возьмись, одна за другой, один за другим, и все одно и то же. Как для обитателя Солема – что те люди, что эти, что грех, что добродетель, что рождение, что смерть. В мою последнюю ливийскую ночь все, что я любил, представлялось мне совершенно осязаемо. Очень странно. Говорят, что меня ищут, чтобы передать письмо от вас. Попытаюсь найти этого гонца. Я кое-что обдумал. Удивительно все же (если наблюдать откуда-нибудь с Сириуса), как может измениться душевное состояние от обычного письма. Это похоже на воздействие музыки. Вас погружают в стихию Иоганна Себастьяна Баха, и все ваши ощущения меняются. Даже смерть, если она настигнет вас в это время, приобретает совершенно иной смысл. И любой ваш поступок. И любое горе. Признание всегда несет в себе ни с чем не сравнимый смысл. Это удивительно. В сущности, если Бах говорит мне что-то, значит, он меня признал. А на днях мне пришло письмо, которое меня взволновало. Тот, кто писал, признал меня. Этому письму и тюрьма была бы нипочем. Оно просочилось бы в любую тюрьму. А ведь его автор не так уж мне дорог, но сейчас он приобрел в моих глазах какую-то всемирную важность. Богу угрожать, разумеется, бессмысленно. И бессмысленно то, что пишет мне мой корреспондент о Бахе: ведь он – просто бог, просто присносущий. Потому что Бах сумел то, что сумело это письмо. Не такие уж это разные вещи. И естественно, мне кажется, что я не могу жить без той, что написала мне это письмо. Но напиши мне не она, а другая – я и без той не мог бы жить. Я сразу же сказал себе: вот то, чего я жажду, потому что здесь для меня был готов водопой, но встреться мне Бах или какая-нибудь старинная песня XV века, я тоже сказал бы: вот то, чего я жажду… И, в конце концов, жажда моя минует их всех, минует Баха и устремится к какой-то общей мере всех вещей, которая мне никак не дается. Сюда привозят все выходящие в Америке книги. Кроме моих. МОИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Я представляю собой недурной документ, потому что жестоко страдаю. Недоразумение или тревога поражают меня с ходу, как бандитский нож. А некоторые слова с ходу меня исцеляют. Я, конечно, воображаю всякий раз, что имею дело с личностями. Мне мерещится любовь (а может примерещиться и ненависть: я всякий раз проникаюсь ненавистью к тем, кто, как Л., крутит скверную музыку), но всякий раз мне мерещится, что я проникаюсь любовью или ненавистью к какой-нибудь определенной личности. И чем дольше я живу, тем полней убеждаюсь: мерещится мне не столько любовь, сколько предмет этой любви. На самом деле существуют только пути. И всякий раз подворачивается именно такое существо, которое вступает на один из этих путей. С личностью мне сразу же становится скучно. Каждый человек – церковь, в которой можно молиться, но не целый же день напролет! Бог бывает в церкви не всегда. Человек – это час молитвы. (Но далеко не всякий человек.) Не считая этих озарений, я на удивление одинок. То единственное, что занимает меня в мире, дается мне молниеносными озарениями, и я не умею это схватывать. 0жог – от музыки, от картины или от любви. Вот почему я так часто думаю о празднике, в котором как бы концентрируется смысл года. И я твердо знаю, что год должен казаться пустым. Он осмысляется только во время праздника. А об отдельных его составных частях судить не могу. Вот почему они раздражают меня, когда вникают в булыжники на дороге. Как шагнул, да как поступил, да какое слово сказал. Все шаги, все поступки, все слова кажутся мне безобразными. Меня упрекают, почему я не осуждаю то-то и то-то – ну, разумеется, я это осуждаю. Но и другую крайность тоже. А заодно и их самих! И разумеется, Дарлана! Ложье – дело другое! И я категорически отказываюсь превозносить этого, чтобы угодить тому. Раз они жрут из одного корыта, значит, в обоих есть низость. Сами того не зная, они, такие, какие они есть, служат орудием определенной судьбы. Разве я виноват, что на любом божестве заводятся паразиты? Что собор возводится из таких же камней, что и бордель? Мне плевать на причины, по которым какой-нибудь там Ложье ненавидит своих врагов. И точно так же мне плевать на причины, по которым Пейрутон ненавидит Ложье. Что они могут сквозь собственные неприятности разглядеть в происходящем? Плевать я хотел на все их распри. Меня волнует только незримое пришествие. Это, конечно, не значит, что у меня есть способности к родовспоможению. Это значит лишь, что от их уровня меня мутит. Здесь объявился Ж. и произвел на меня изрядное впечатление, хоть я терпеть не могу эту шушеру, да и жену его тоже. Всех этих королей наркотиков, преступного мира, черного рынка. Но зримый успех клеветы, поверхностных суждений и оговора всегда очень впечатляет. Ну как, скажите, как мне хотя бы набраться решимости объяснить ему, что я ненавижу вишистский режим, который у него с языка не сходит, куда сильнее, чем он? Куда глубже. И упорней. (…) Я понимаю, что всякий, кто прислушивается к голосу рассудка, покончил бы с собой во время разбирательства, не дожидаясь, пока его поджарят, обезглавят и распнут. Но рассудок всегда вызывает негодование у страсти: друг друга им не понять. Я смотрю на камни, а вижу собор; но как я покажу его другим, пока он не построен? В сущности, мне даже убивать их не хочется. Я пожимаю плечами; мне очень горько.
Письмо матери[306] [5 января 1944 г.]
Дорогая мамочка, Диди, Пьер, все вы, кого я так люблю, что вы поделываете, как себя чувствуете, как живете, какие у вас планы? До чего же печальна эта долгая зима! Старенькая моя ласковая мамочка, я так надеюсь, что через несколько месяцев вы обнимете меня, и я буду сидеть в вашей комнате у огня, и буду рассказывать вам о своих замыслах, буду спорить с вами, но не очень… и вы будете слушать меня, вы, которая во всех случаях жизни всегда права… Я люблю вас, мамочка. Антуан
Письмо Х. [Алжир, 10 января 1944 г.]
Разговор с женщиной, доставившей письмо. Любопытно. Но я предпочел бы ограничиться знакомством с ее почерком. Я, я, я – это чересчур утомительно. И, изо всех видов, «я» особенно отвратительное – я ему заявила. Она заявила президенту, королю, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Она храбра. Такие вот заносчивые люди, как правило, храбры. Храбры из вызова. Она бросает вызов королю, президенту, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Алжир она находит невыносимым, и тут она права. Но она считает невыносимыми американцев, японцев, монакцев, беррийцев, негров, индейцев, индусов, русских, немцев, марсиан, канаков. И притом всех их она ставила на место, всех сажала в лужу. Господи, как она бывает утомительна! Вне всякого сомнения, она оказала Сопротивлению серьезные услуги. Люди подобного типа могут вызывающе пронести коротковолновый передатчик под носом у гестапо. А женщины вроде нее наделены чисто мужской смелостью. То, что она делает, возможно, и весьма полезно, но в ее рассказах нет ничего интересного. С горечью она распространяется об обиде, которую ей нанесли, не приняв во внимание ее информацию. Она сообщала в Англию о результатах бомбежки мостов. И вот они там прислушивались не к ней. Они, дескать, доверяют лишь тем, кто, выслуживаясь, преувеличивает и сообщает, что все разрушено, даже если все целехонько. У нее есть этому доказательства… сотни идиотских доказательств. Но существует такая штука, которая называется аэрофотосъемка. Каждая бомбардировка сопровождается аэрофотосъемкой, и на этих фотографиях можно буквально сосчитать, сколько болтов недосчитывает мост. Четкость неимоверная! Это куда верней, чем отправлять пешим ходом разведчика, да к тому же и быстрее. Так что они там не слушают ни ее, ни ее соперниц, а спокойненько делают стереоскопические монтажи из аэрофотоснимков. Славная девушка? В чем-то – несомненно. Но, безусловно, утомительная. Ноль. Нынешний вечер – сплошная черная ярость. Но завтра он превратится в уныние. А сегодняшняя ярость оттого, что все мои труды последнего месяца, как я и предполагал, кончились ничем. Генерал д’Астье де ла Вижери[307] сделался моим ходатаем, Буска[308] (который отнюдь не герой) согласился поставить еще раз, но уже под новым углом вопрос о моей поездке в Англию Дело таинственным образом затянулось. И тем не менее! Все казалось таким простым, ясным, нужным. И вот сегодня вечером мне позвонил начальник отдела заграничных миссий полковник Эскарра: – Понимаете… в следующий раз, под другим углом… во можно… – Что, не прошло? – Шеф… – Понятно. Вето? Глухая стена. (…) Вина моя все та же: я утверждал в Соединенных Штатах, что можно быть хорошим французом, настроенным антигермански, антинацистски, и не считать голлистскую партию будущим правительством Франции. Да, в сущности, проблема эта нелепа. Решать будет Франция. За границей можно служить Франции, но не управлять ею. Голлизм должен стать оружием в борьбе, должен поставить себя на службу Франции. Но они негодуют, когда им говоришь это. Три года я здесь от них только и слышу о будущем правительстве Франции. Но я никогда не предам свою сущность. Франция – не Виши, но Франция – и не Алжир. Франция – в подполье. И если ей так хочется, пусть отдает себя алжирцам. Но они не имеют на это никакого права! Я абсолютно уверен, что она выберет их. Из ненависти к вишистской мерзости. И по незнанию их сути. Вот бедствия времени, когда отсутствует всякая информация. Террора не избежать. И расстреливать при этом терроре будут во имя неписаного Корана. Худшего из всех. Но я не поставил на службу им огромное влияние (по их мнению), которым пользуюсь. Я больше всех ответствен за их неудачу в Соединенных Штатах! Только из-за меня они до сих пор не в правительстве! Смешно до невозможности! Ничего себе формирование политических пристрастий! Мне это безумно льстит… Но этим и объясняется тяжесть досье, пухнущих у меня над головой. Великолепная находка для них! Тошнит. Сюда прибыла большая партия книг из Соединенных Штатов. Только моих нет в продаже. Я зачумленный… Ну и ладно, плевать мне на это.
Письмо Ж. Пелисье, подсунутое ему ночью под дверь [Алжир, 10 января 1944 г.]
Старина, я ложусь поздно, потому что всегда мог работать только ночью, и,хотя мне требуется в среднем часов семь сна, мне нипочем встать в 4, 5, 6, 7, 8, 9 утра… и вообще проснуться в любое время. Нипочем мне это и по той причине, что, если по телефону ничего срочного не сообщат, я тут же засну опять. При той нелепой жизни, какой вынуждает меня жить г-н Летроке, я, вполне естественно, предпочитаю писать по ночам (днем из-за шума и суеты я это делать не могу), а утром спать, что лучше, чем бездельничать. Тем не менее, я в любое время в распоряжении каждого, кому нужен, и мне будет крайне неудобно, если обо мне пойдут слухи, будто я прошу не беспокоить меня по утрам. Это и случилось сегодня, так как вы из дружеских чувств решили оберечь мой сон. На коленях умоляю вас не обращать внимания на то, что я сплю. (Это примерно то же, что для вас вызов в больницу.) Если вы еще не встали, я пойду звонить в кабинет или гостиную и нисколько вас не потревожу. Поймите, я предпочитаю не спать шесть ночей подряд, чем дать кому-нибудь возможность подумать (особенно имея в виду мою профессию), будто я не разрешаю тревожить себя до десяти утра. Я из-за этого выгляжу этакой смешной барынькой. Будите меня без каких бы то ни было угрызений совести, даже если я только что лег. Моя работа по ночам не касается моих корреспондентов. Заранее благодарю.
Письмо Ивонне де Летранж[309] [февраль 1944 г.]
Ивонна, дорогая, как мне тебя не хватает! Мне так много нужно тебе сказать, так много! И очень хотелось бы знать, что ты делаешь, как поживаешь, о чем думаешь в эту эпоху вавилонского столпотворения, когда все языки утратили смысл. Может быть, там, где ты, все на удивление здраво – и направленность мыслей, и направленность чувств, но тут, где пребываю я, – стоячая лужа. И лягушки распевают оперу. Если у нас повсюду так, можно отчаяться в жизни. У меня потребность восстановить человеческое доверие. Я ненавижу политику. Ненавижу сухие и ложные идеи. Мне так необходимо все пересмотреть заново, исходя единственно из сущности. Жить дружбой, домом, садом… Я пытаюсь делать, как лучше. Ты это знаешь. Обнимаю тебя изо всех сил. Антуан
Письмо Льюису Галантьеру [май 1944 г.]
Дорогой, дорогой Льюис, После нескольких полетов над Францией ваши соотечественники сочли меня чересчур старым, чтобы летать на большой высоте. И я сидел без дела. Однако благодаря любезности американского генерала Эйкера, согласившегося сделать для меня исключение, я вновь восстановлен в качестве пилота Лайтнинга П-38. Скорость этого самолета превышает как-никак восемьсот километров в час. А я вне всяких сомнений – старейший среди союзнических и неприятельских летчиков! В сорок четыре года я все еще, как юноша, летаю со скоростью восемьсот километров в час на высоте тридцать пять тысяч футов! Джон Филипс, репортер Лайф, только что сделал репортаж о нашей эскадрилье. Он представил его как продолжение Flight to Arras. Не согласитесь ли вы, так много сделавший для успеха этой книжечки, оказать мне огромную любезность и перевести не то пять, не то шесть страниц ответов на вопросы? Это доставило бы мне огромную радость. Дорогой Льюис, в такой дали от всех вас я превращаюсь в старика. Но я тысячу раз предпочитаю свое нынешнее положение алжирской помойке. Гнуснее этого мне уже ничего не увидеть. Зато французская армия (не политика) совершенно великолепна. Дорогой Льюис, обнимаю вас и всех, кто вокруг вас. Ваш Сент-Экс
Письмо г-же Франсуа де Роз[310] [о. Сардиния, май 1944 г.]
Благодарю вас, дорогая Ивонна, за многое-многое. Не могу даже сказать за что (то, что идет в счет, незримо…), и, тем не менее, раз мне хочется вас поблагодарить, значит, у меня есть для этого основания. Впрочем, это все неважно. Саду не говорят спасибо. А я всегда делил человечество на две части. Есть люди-сады и люди-дома. Эти всюду таскают с собой свой дом, и ты задыхаешься в их четырех стенах. Приходится с ними болтать, чтобы разрушить молчание. Молчание в домах тягостно. А вот в садах гуляют. Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь непринужденно. И счастливые находки сами возникают перед тобой. Не надо ничего искать. Вот бабочка, вот жук, вот светлячок. О цивилизации светлячков ничего не известно. Об этом можно поразмышлять. У жука такой вид, словно он знает, куда направляется. Он очень спешит. Это поразительно, и об этом тоже можно поразмышлять. Бабочка. Когда она садится на большой цветок, говоришь себе: для нее это – словно она на качающейся террасе висячих садов Вавилона… А потом замечаешь первые звезды и – замолкаешь. Нет, я вовсе не благодарю вас. Вы такая, какая есть. Просто мне захотелось еще раз у вас прогуляться. И еще я подумал вот о чем. Существуют люди-шоссе и люди-тропинки. Люди-шоссе наводят на меня скуку. Мне скучны щебенка и километровые столбы. У людей-шоссе четко определенная цель. Барыш, амбиции. А вдоль тропинки вместо километровых столбов орешник. Бредешь по ней и щелкаешь орехи. Ты на ней для того, чтобы просто-напросто быть на ней. И шагаешь для того, чтобы идти по ней, а не куда-то, куда тебе необходимо. А от километрового столба ждать совершенно нечего… Ивонна, дорогая Ивонна, люди нашей эпохи попали в ловушку. Телефонная цивилизация невыносима. Подлинное присутствие сменилось карикатурой на присутствие. С человека на человека теперь переключаются так же, как в одну секунду поворотом ручки приемника переключаются с Иоганна Себастьяна Баха на «Пойдем-ка, цыпочка». Нынче ни на чем не сосредоточишься, человек сейчас во всем и ни в чем. Ненавижу это растворимое человечество. Если я где-то нахожусь, то я там как бы навечно. Садясь на скамейку, я желаю сидеть на ней вечность. Я имею право на своей скамейке на пять минут вечности. Вы, разумеется, встречаетесь со слишком многими людьми. И это раздражает. Они вас обкрадывают. И вечером вы, конечно, в состоянии величайшего уныния. Во всяком случае, у вас было бы такое чувство, не мешай вам об этом думать телефон, не будь он постоянно под рукой. И, тем не менее, очень интересно побыть некоторое время рядом с вами. Даже секунду, если это некоторое время секунда. Вы присутствуете в пожатии руки, в приветствии, даже в прощании. Вы спешите только в вещном, зримом мире. А втайне от себя самой неспешным шагом проходите по саду. И эта ваша истинная походка безмерно мне дорога. Это, безусловно, означает, что вы нерастворимы. Но будьте все-таки настороже. Крутить слишком много ручек у приемников – изнурительно, даже если человек нерастворим. Даже если он умеет превратить одну секунду Баха в вечность. Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность – это дорога. А сто дорог разом – уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние. Я становлюсь седым стариком, который сидит и покачивает головой. Словно сожалею о молодости, что прошла во времена повозок, запряженных волами. Мне бы надо быть меровингским королем.[311] Однако я всю жизнь разъезжал. Даже немножко устал от разъездов. Только сейчас я по-настоящему понимаю знаменитую китайскую пословицу: Три вещи не дают возвыситься духом. Во-первых, путешествие… И то, что мне раз двадцать говорил Дерен[312]: «Я знал лишь трех поистине великих людей. Все трое были неграмотны. Савойский пастух, рыбак и нищий. Они ни разу не уезжали из родных мест. За всю мою жизнь они единственные, кто снискал мое уважение…» И еще очаровательные слова бедняги Жоз Лаваля[313] по возвращении из Соединенных Штатов: «Ужасно рад, что вернулся. Я не дорос до небоскребов, я на уровне осла…» У меня изжога от километровых столбов. Они никуда не ведут. Надо было родиться в другое время… Ожидая, когда же у меня появится призвание уйти в Солем (григорианские песнопения так прекрасны), или в тибетский монастырь, или стать садовником, я вновь выжимаю рычаги газа и со скоростью шестьсот километров в час лечу в никуда… Именно поэтому, Ивонна, дорогая Ивонна, я совершил тихую прогулку в этом письме, в котором нет, в общем, никаких важных известий и которое, несомненно, будет трудно прочесть (я слишком стар, чтобы исправлять свой почерк). Да оно и не имеет никакого значения. Просто-напросто я пять минут вечности посидел в дружеской сени. Сент-Экзюпери [P.S.] Отвечать не надо, так как я убежден, что письма никогда не дойдут до этих богом забытых мест[314], а я скоро буду в Алжире. Я вам позвоню. Самолет улетает: доверяю ему это письмецо.
Телеграмма Кертису Хичкоку [6 июня 1944 г.]
РАЗРЕШАЮ КОНСУЭЛО ВОЗОБНОВИТЬ ДОГОВОР СЪЕМЕ КВАРТИРЫ И НАДЕЮСЬ СКОРО НАПИСАТЬ ВАМ КНИГУ ТЧК СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ ВОЗРАСТ ВНОВЬ ЛЕТАТЬ КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРИЛЬИ ВХОДЯЩЕЙ СОСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ ГРУППЫ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ ТЧК ДУМАЮ ВСЕХ ВАС СЕРДЕЧНО ВАШ АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Письмо Ж. Пелисье. [Тунис, 9—10 июля 1944 г.[315]]
Дорогой друг! Я здесь на два дня. Мой самолет неисправен. Электропровода перепутались, и все перегорело: стартер, радио и пр. (…) Но когда это письмо дойдет до вас, я уже, несомненно, вернусь на свою голубятню. Случайно узнал, что отношения между моей голубятней и Алжиром были почти что прерваны. Так что даже если меня долго не будет, не пересылайте мне мои письма. Они пропадут. И все-таки попробуйте каждый раз дублировать телеграммы. Бесконечно вам благодарен. Возвращаюсь завтра. У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь – завтрак в шесть утра, столовую, палатку или беленную известкой комнату, полеты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире – я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Собраться с мыслями и работать для себя во временном чистилище я не способен. В нем я утрачиваю общественный смысл. Но я выбрал работу на максимальный износ и, поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я истаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее. Само собой, я восхищен моими отважными товарищами по эскадрилье. И, тем не менее, чудовищно страдаю из-за отсутствия человеческого общения. Все-таки, все-таки Дух – это страшно важно. Когда я ем в столовой, меня всякий раз не оставляет горестное ощущение безвозвратно потерянного времени. Я способен раствориться в любой группе, какой бы она ни была (…). Но никому и в голову не приходит, что мне может недоставать чего-то, кроме кино и женщин, как им. И однако свое я по большей части затаиваю в молчании. И мне всего не хватает. (…)
Пари между Сент-Эксом и его другом полковником Максом Желе[316] [15 июля 1944 г.]
Прямоугольный параллелепипед, высота которого равна диагонали основания, состоит из кубиков со стороной в 1 сантиметр. Площадь прямоугольника основания равна произведению 311 850 на некоторое неизвестное число. Требуется определить высоту параллелепипеда. Если полковник Желе, выпускник Политехнической школы, успеет решить мою задачу за три дня и три бессонные ночи, обязуюсь подарить ему авторучку «Паркер 51». Если же он не решит ее за трое суток, то подарит мне шесть пачек сигарет «Филип Моррис».
Письмо матери[317] [Борго, июнь 1944 г.[318]]
Мамочка! Мне так хочется, чтобы вы не волновались обо мне и чтобы получили это письмо. У меня все в порядке. Во всем. Грустно только, что так долго не виделся с вами. И я очень тревожусь за час, милая моя старенькая мамочка. В какое несчастное время мы живем! Для меня было ударом узнать, что Диди потеряла свой лом. Ах, мамочка, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же, наконец, будет возможно сказать тем, кого любишь, о своей любви к ним? Мама, поцелуйте меня от всего сердца, как я вас целую. Антуан
Письмо Пьеру Даллозу[319] [30 или 31 июля 1944 г.] Полевая почта 99027
Дорогой, дорогой Даллоз, я ужасно огорчен вашим коротким письмецом! На этом континенте вы, безусловно, единственный человек, которого я почитаю таковым. Как бы мне хотелось знать, что вы думаете о нынешних временах! Я, например, предаюсь отчаянию. Полагаю, вы считаете, что я был прав со всех точек и под любым углом зрения[320]. Вот что значит добрая слава! Да наставит вас небо опровергнуть меня. Как бы я был счастлив, докажи вы это! Я воюю, что называется, изо всех сил. Я, вне всяких сомнений, – старейшина военных летчиков всего мира. Для одноместных истребителей, на которых я летаю, установлен возрастной предел в тридцать лет. Однажды на высоте десять тысяч метров над озером Анси у меня вышел из строя один мотор, и было это как раз тогда, когда мне исполнилось… сорок четыре года! Я с черепашьей скоростью полз над Альпами, отданный на милость первого встречного немецкого истребителя, и тихонько посмеивался, вспоминая сверхпатриотов, которые запрещают мои книги в Северной Африке. Смешно. После возвращения в эскадрилью (а вернулся я туда чудом) я испытал все, что только возможно. Аварию, обморок из-за неисправности в системе подачи кислорода, погоню истребителей, а однажды в воздухе у меня загорелся мотор. Я не считаю себя скупцом и здоров, как плотник. Это единственное мое утешение! И еще те долгие часы, когда я совсем один лечу над Францией и фотографирую. Все это странно. Здесь я вдали от извержений ненависти, но все-таки, несмотря на благородство товарищей по эскадрилье, что-то в этом есть от нищеты человеческой. Мне совершенно не с кем поговорить. Конечно, это важно – с кем живешь. Но какое духовное одиночество! Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Меня ужасает грядущий муравейник. Ненавижу добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садовником. Обнимаю вас. Сент-Экс
Письмо Х. [30 июля 1944 г.]
(…) Я четырежды едва не погиб. И это мне до одури безразлично. Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением (…)[321] начхать мне на нее. Осточертели они мне. Здесь война, и я подвергаюсь опасности, самой неприкрытой, самой неприкрашенной, какая только может быть. Опасности в чистом виде. Как-то меня заметили истребители. Я все-таки удрал. Я счел это бесконечно благотворным. Не из спортивного или воинственного восторга: их я не испытываю. А потому что не воспринимаю ничего, кроме качества внутренней сущности. Мне омерзела их фразеология. Омерзела их напыщенность. Омерзела их полемика, и я ничегошеньки не понимаю в их добродетели (…) Добродетель – это значит спасать французское духовное наследие, оставаясь хранителем библиотеки где-нибудь в Карпантра[322]. Добродетель – беззащитным лететь на самолете. Обучать детей чтению. Быть простым плотником и пойти на смерть. Они – народ… а я нет. Нет, я тоже принадлежу этой стране. Несчастная страна! (…) Полевая почта 99027
Письмо французам
Немецкая ночь заволокла всю нашу землю. До сих пор нам еще удавалось узнать что-нибудь о тех, кто нам дорог. Нам еще удавалось напомнить им о нашей любви, хоть мы и не могли разделить с ними их горький хлеб. Нам было слышно издалека их дыхание. С этим покончено. Теперь во Франции царит безмолвие. Она затерялась где-то там, в ночи, словно корабль с погашенными огнями. Все, что в ней есть сознательного, духовного, притаилось в самых ее недрах. Мы не знаем ничего, не знаем даже имен заложников, которые завтра будут расстреляны немцами. В подземельях, среди угнетенных, рождаются на свет новые истины. Так давайте не будем бахвалиться. Там – сорок миллионов французов, обращенных в рабство. Нам ли нести духовный огонь тем, кто питает его собственной плотью, словно свеча воском! Они лучше нашего разберутся в том, что нужно Франции. Право на их стороне. Все наши разглагольствования о социологии, политике и даже об искусстве ничего не стоят по сравнению с их мыслью. Они не станут читать наши книги. Они не станут слушать наши речи. От наших идей их, чего доброго, стошнит. Мы должны вести себя бесконечно скромнее. Наши политические дискуссии – это дискуссии призраков, наши притязания просто смешны. Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей. Что бы мы ни делали, у нас нет никакого права на ее благодарность. Открытый бой невозможно сравнить с ночным бандитским налетом. Ремесло солдата невозможно сравнить с ремеслом заложника. Только те, кто там, – истинные святые. Даже если нам вскоре выпадет честь сражаться, все равно мы останемся в долгу. Мы все в долгу, как в шелку. Это первая и незыблемая истина. Давайте же объединимся ради общего служения, французы. Для начала я скажу несколько слов о распрях, разобщивших нас; надо искать против них лекарство. Потому что на Францию напала хворь. Многие из нас, кого мучит больная совесть, нуждаются в исцелении. Пусть же они исцелятся. Благодаря такому чуду, как вступление в войну американцев, самые разные пути сходятся на едином перекрестке. К чему нам вязнуть в старых распрях? Нужно объединять, а не разделять, раскрывать объятия, а не отталкивать. Разве наши распри – причина для ненависти? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что во всем прав? Человек располагает чрезвычайно узким полем зрения. Язык – орудие несовершенное. Жизнь ставит такие проблемы, от которых все формулы трещат по швам. Будем же беспристрастными. Член бюро парижского муниципалитета под давлением острой необходимости был вынужден вступить в переговоры с победителем о том, чтобы Франция получила подачку – немного смазки для наших железнодорожных вагонов (у Франции нет больше ни бензина, ни даже лошадей, а ей нужно кормить свои города!). Позже офицеры из комиссии по перемирию опишут нам этот постоянный свирепый шантаж. Четверть оборота ключа, регулирующего поставки этого продукта, – и за полгода умрет на шесть тысяч детей больше. Когда гибнет расстрелянный заложник – честь ему и слава. Его гибель – цемент, скрепляющий единство Франции. Но когда немцы, просто-напросто задержав поставку смазки, истребляют сто тысяч пятилетних заложников, ничто не искупит этого медленного, безмолвного кровотечения. Кроме того, для нас не секрет, что если бы Франция расторгла соглашение о перемирии, то с юридической точки зрения это было бы равносильно возврату к состоянию войны. А возврат к состоянию войны дает оккупантам право брать в плен всех мужчин, подлежащих мобилизации. Этот шантаж лег на Францию тяжким бременем. Угроза была самая что ни на есть недвусмысленная. С немецким шантажом шутки плохи. Немецкие лагеря – это фабрики, продукция которых – трупы. В сущности, нашей стране грозило полное истребление, под видом законных административных мер, шести миллионов взрослых мужчин. Безоружная Франция не могла голыми руками сопротивляться этой охоте на рабов. И вот, наконец, союзники в семьдесят шесть часов высаживаются в Северной Африке, и это доказывает, что Германия, несмотря на свой свирепый шантаж, за два года террора не сумела полностью блокировать эту самую Северную Африку. Кое-где во Франции крепко давало о себе знать Сопротивление. Победа в Северной Африке была, быть может, одержана отчасти и нашими пятьюстами тысячами погибших детей. Ах, французы, стоит нам свести наши расхождения к их истинным размерам – и этого достаточно, чтобы всем нам заключить между собой мир. Нас никогда ничего и не разделяло, кроме взглядов на значение нацистского шантажа. Одни думали так: «Если немцы вздумают уничтожить французский народ, они его уничтожат, несмотря ни на что. Шантаж надо презирать. Ничто не влияет ни на решения, ни на высказывания правительства Виши». Другие думали так: «Мы имеем дело не с простым шантажистом; мы имеем дело с таким лютым шантажистом, равного которому не бывало в истории человечества. Франция, не идя на уступки в главном, только и может, что хитрить на словах, чтобы отсрочивать со дня на день свое уничтожение». Французы, неужели, по-вашему, эти разные мнения об истинных размерах бывшего правительства – повод для взаимной ненависти? Как бы ни расходились мы во мнении, мы едины в общей ненависти к захватчику. Кроме того, эти расхождения стали менее ощутимы уже тогда, когда дорвавшийся до власти Лаваль[323] выдал нацистам еврейских беженцев. Солидаризируясь со всем французским населением, мы считаем право убежища священным. Итак, теперь существовавшие между нами распри стали беспредметными: режим Виши мертв. Виши унес с собой в могилу свои неразрешимые вопросы, свои противоречия и свою лихость. Давайте заранее уступим роль судей историкам и военным трибуналам, чье время придет после войны. Сейчас важнее служить Франции, а не спорить о ее истории. Тотальная немецкая оккупация разрешила все наши споры и облегчила нам муки совести. Хотите примириться друг с другом, французы? Нет больше ни малейшего повода для раздоров. Давайте откажемся от партийных пристрастий. Во имя чего нам ненавидеть друг друга? Для чего нам завидовать друг другу? Дело ведь не в том, кому какая должность достанется. Дело ведь не в борьбе за должности. Единственные вакантные должности сейчас – солдатские, да еще, может быть, покойные ложа на каком-нибудь скромном кладбище в Северной Африке. По французским законам, человек подлежит призыву в армию до сорока восьми лет. Мы все должны быть призваны, от восемнадцатилетних до сорокавосьмилетних. Речь уже не о том, чтобы нас спрашивали, хотим мы или не хотим принести себя в жертву. Чтобы склонить чашу весов, нужно призвать нас всех вместе усесться на эту чашу, вот и все. И все-таки, даже если признать наши старые распри не более чем распрями историков, нашему единству грозит и другая опасность. Французы, давайте наберемся мужества, чтобы ее превозмочь. Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной. Чтобы восторжествовал именно тот строй, а не этот. Им уже мерещится на горизонте призрак несправедливости. Зачем осложнять себе жизнь? Сейчас не время бояться несправедливости, не время думать о личном. Если каменщик отдает все силы возведению собора, собор не причинит ему зла. От нас требуется только одно: чтобы мы воевали. Я чувствую, что надежно защищен от всякой несправедливости из-за того, что я лелею единственную мечту – вновь обрести в Тунисе товарищей по группе 2/33, с которыми жил вместе девять военных месяцев, а потом было беспощадное наступление немцев, стоившее нам двух третей наших экипажей, а потом бегство в Северную Африку накануне перемирия. Французы, хватит нам спорить о старшинстве, о почестях, о справедливости и о том, кто главнее. Ничего этого нам не предлагают. Нам предлагают винтовки. Их хватит на всех. Я бесконечно спокоен и обязан этим спокойствием тому, что не чувствую ни малейшего призвания играть роль судьи. Общность, к которой я примыкаю, – не партия и не секта: это моя родина. Временное общественное устройство Франции – дело французского правительства. Уж об этом-то позаботятся Англия и Соединенные Штаты. Наша задача – нажимать на гашетку пулемета, а потому не будем беспокоиться о вопросах, которые предстоит решить потом. Истинный наш вождь – Франция, обреченная на молчание. Будь прокляты все партийные, клановые и прочие розни! Мы желаем теперь только одного (и мы вправе высказать это желание, поскольку оно всех нас объединяет) – подчиняться не политическим вождям, а военным, потому что честь, отдаваемая солдатом солдату, возвеличивает не того солдата, кому отдали честь, не партию, а Народ. Мы знаем, что такое власть для генерала де Голля и генерала Жиро: для них это служение. Они первые из тех, кто служит. И этого нам достаточно, потому что все распри, которые еще вчера могли нас остановить, сегодня потеряли значение или вовсе исчезли. Вот, по-моему, итог, к которому мы пришли. Необходимо, чтобы наши друзья в Соединенных Штатах увидели истинное лицо Франции. Сейчас она представляется всему свету каким-то осиным гнездом. Это несправедливо. Слышно одних спорщиков. Молчуны не делают много шума… Я предлагаю всем французам, молчавшим до сих пор, засвидетельствовать г-ну Корделлу Хэллу[324] наше истинное настроение; для этого мы должны один-единственный раз нарушить молчание и отправить ему – каждый от своего имени – такую телеграмму: «Просим оказать нам честь, предоставив любую возможность служить. Желаем военной мобилизации всех французов, находящихся в Соединенных Штатах. Заранее согласны на любую организацию, которая будет признана целесообразной. Поскольку всякий раскол среди французов нам ненавистен, мы хотим, чтобы эта организация оставалась вообще вне политики». Они там, в государственном департаменте, будут поражены тем, как много французов выскажется за единство. Что бы о нас ни думали, большинство из нас в глубине души питают лишь любовь к нашей цивилизации и к нашей родине. Отринем все раздоры, французы. Когда мы на борту бомбардировщика заспорим с пятью или шестью «мессершмитами», наши былые споры покажутся нам смехотворными. Когда в 1940 году я возвращался с задания в изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходное перно в баре нашей эскадрильи. И выигрывал в кости рюмку перно то у товарища-роялиста, то у товарища-социалиста, то у лейтенанта Израэля, еврея, который был отважнее нас всех. И мы пили вместе, чувствуя, как бесконечно дороги друг другу.
Обращение Сент-Экзюпери к американским читателям, выражающее надежду на прочный мир с США
Во время вчерашнего эфира на радиоканале «Columbian Broadcasting System network» французский киноактер и патриот Чарльз Боэр поднял тему франко-американского содружества, зачитав отрывок из эссе своего соотечественника Антуана де Сент-Экзюпери. Эссе было написано накануне разведывательного полета, из которого писатель так и не вернулся. Вот отрывок, прочитанный мистером Боэром: «Мои американские друзья, я призываю вас быть в высшей степени справедливыми. Возможно, настанет день, когда между нами встанут серьезные разногласия. Всем нациям свойственно себялюбие, которое они считают священным. Быть может, однажды между нами возникнут крупные споры, и вам придется использовать собственную силу против нас. Но хоть войну и выигрывают солдаты, все же, иногда мирный договор диктуют бизнесмены. И даже если когда-нибудь мне придется осуждать решения этих мужей, я никогда не забуду благородства ваших целей на этой войне. Я неизменно отдаю должное глубине ваших чувств. Оглянитесь, друзья, мне кажется, что-то новое зарождается на нашей планете. Современная жизнь соединяет всех нас, образуя подобие нервной системы с бесчисленными контактами и мгновенно возникающими связями. Мы, как клетки, являемся частицами одного тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознал себя. Бесполезна рука, не принимающая сигналы от глаз. Ваша молодежь гибнет на войне, и впервые в истории эта война может стать для них своеобразным опытом любви. Не предавайте их! Позвольте им продиктовать мирный договор, когда придет его день! Они сделали эту войну благородной. Дайте же им облагородить и мир!»
Письмо генерала де Голля Мари де Сент-Экзюпери, матери Антуана, с благодарностью за присланную книгу
[27 декабря 1959 г.] Сударыня, От всего сердца благодарю вас. Ваш сын жив, он среди людей! И Франция счастлива этим! Примите, сударыня, уверения в глубочайшем уважении и признательности. Ш. де Голль
Сент-Экзюпери Антуан Мораль необходимости
Антуан де Сент-Экзюпери Мораль необходимости(1) Перевод: С французского Л. М. Цывьян Мораль обстоятельств и мораль необходимости. Различие, которое их не разделяет. Радио-Штутгарт(2) объявило интервью с пленными летчиками. Имелись в виду два наших товарища из соседней авиагруппы, которых сбили недалеко за линией фронта. Мы послушали их, узнали голоса, но снова, в очередной раз, ощутили нечто иное. II с человеческой, и с технической стороны нам - в очередной раз все было очевидно. Так почему же всякий раз не кричат про эту очевидность французским слушателям? Почему позволяют потихоньку отравлять столь грубыми трюками воздух, которым мы дышим?.. Мы прекрасно знали этих наших товарищей - тем знанием, которое позволяет ощутить реакцию, не обмануться в ней и угадать поведение человека. И мы можем дать гарантию, что там была разыграна комедия. Комедия, которая разыгрывается всякий раз. Вот она. Пленного, если он ранен, отправляют в госпиталь. Там его спрашивают: сколько вам лет, как ваша фамилия, живы ли ваши родители и т. д. Вполне естественно и нормально, что на подобные вопросы, являющиеся обычной формальностью, отвечают вежливым тоном. Пленный так и поступает. Потом, очевидно, ему обеспечивается медицинский уход. От него буквально не отходит какая-нибудь пожилая сиделка, возможно даже по-матерински ласковая. Для подобной пропагандистской операции не выберут, разумеется, грубияна санитара. Можно даже представить себе эту седовласую старушку. По-матерински ласковые женщины существуют в любой стране мира. И раненый испытывает признательность за ту заботу, с какой она меняет ему перевязки. Он благодарит. - Вам не очень грустно, мой мальчик, оттого что вы ранены и находитесь так далеко от своих близких? Как видите, везде существуют люди, принимающие близко к сердцу чужие несчастья. Вы можете на что-нибудь тут пожаловаться? - Нет, что вы! За мной прекрасно ухаживают, ко мне очень добры... Благодарю вас. Он произнес это, когда температура у него была под сорок, сразу после операции, после морфия, в том состоянии умиленности, когда от капельки доброты размягчается сердце. - Мой мальчик, я могу написать вашим близким: вы еще слишком плохи, чтобы писать самому. Что вы хотите, чтобы вам прислали? - Книжек... - Вы получаете все, что вам посылают? - Да, получаю все посылки(3). Я очень рад. Действительно, у него, вскрывающего посылку с таким чувством, с каким живущий вдали от родителей ребенок открывает новогодний подарок, есть все основания радоваться. А потом, после долгого одиночества, когда ему становится лучше, в палату к нему кладут товарища. На соседнюю койку. И в этот же день впервые спрашивают: - Что бы вы хотели на завтрак? И начинается выздоровление. В этот день они получат по чашке ароматного кофе с молоком. Человек так уж создан, что даже в бездне наигорших несчастий радуется мелочам. Как он счастлив, видя букетик цветов! Их только что принесла сиделка. - Я подумала, вам это будет приятно... И вот в тайниках души забил родничок оптимизма. Жизнь в это утро кажется прекрасной. Он обрел товарища и с каким-то неожиданным бой. Он загорелся, падал, но вот жив, лежит на белых простынях. Это прекрасно. Про бой он рассказывает без ненависти, потому что в глубине души испытывает к противнику уважение. А потом последний акт. - Не согласились бы вы сделать заявление по радио? - Нет. - Вам были бы здесь за это весьма признательны. - А мне начхать. Категорически отказываюсь. - Хорошо, хорошо. У нас уважают храбрых солдат. Вы повели себя по-солдатски. Мы ничего не станем от вас требовать. II в доказательство нашего уважения мы готовы вам разрешить, раз микрофон все равно уже здесь, сообщить родным, что вы живы. Просто "жив-здоров", и ни единого слова, которым могла бы воспользоваться наша пропаганда. Мы восхищены вашим чувством долга. Пленный растроган. Подумав немного, он произносит в микрофон: - Я счастлив сообщить своей семье, что я жив и уже почти вылечился. Вот и все. Материнская ласковость - притворная или искренняя - седовласой сиделки, чашка с кофе на столике, над которой поднимается пар, воспоминания о товарищах, рвущиеся из сердца. Пленный не знает, что с ними стало, да и что с ними может статься? Дело не в них. Сами по себе они не имеют значения. Теперь слово за техникой. Вам известно, как работает -монтажер. Он склеивает куски ленты, меняя их местами. Следующий этап - пластинка, улучшающая качество смонтированной записи. У монтажера на пленке прекрасный исходный материал - запись допроса при поступлении в госпиталь, когда устанавливалась фамилия пленного. Кроме того, откровенные беседы с сиделкой, когда ему было плохо и сердце его таяло от ее заботливости. И радость от возможности рассказать о товарищах. И воспоминания про тот страшный миг, когда на него, словно молния, обрушилась эскадрилья "мессершмиттов". Загоревшийся самолет и - чудо парашюта... Укрыть микрофон когда и где хочешь не составляет труда. И вообще, раздобыть несколько килограммов документальных свидетельств очень легко, если вам необходимы эти килограммы. А дальше над ними надо поработать. Вырезать голос того, кто на первом допросе задавал обычные в подобных случаях вопросы, переставить - в окончательно смонтированном варианте - реплики из разговоров с сиделкой, с товарищем. Короче, над звукозаписывающей пленкой надо поработать ножницами. - Вы довольны, что находитесь в Германии? - Да, конечно, ко мне очень внимательны, за мной очень хорошо ухаживают, и я очень доволен. - И наверное, здесь делают все, чтобы скрасить ваше нынешнее положение? - Да, я получаю все посылки... Я очень рад. - А что вы можете сказать о ваших "жестоких" палачах? - Они очень добры ко мне. Большое им спасибо. Возможно, ему однажды задали вопрос: "Как к вам относятся наши врачи?" или что-нибудь в том же роде, но столь же обезоруживающе простое. Что же касается "большое им спасибо", то, вполне вероятно, произнесено это было недели через две в ответ, к примеру, на такое: "Ваших сиделок переводят. Не хотите ли вы что-нибудь сказать им?" "Большое им спасибо". - Не согласились бы вы рассказать нашим и вашим слушателям про героический бой, в котором вы были сбиты? - С удовольствием. (Да у кого не бывает сотни поводов произнести "с удовольствием"?) И следует возбужденный, естественный и, разумеется, крайне непосредственный рассказ. И как венец монтажа - преамбула: "Несчастные раненые дали нам знать, что были бы безмерно счастливы поговорить по радио со своими близкими, и Радио-Штутгарт, желая скрасить им пребывание в плену, согласилось доставить в госпиталь аппаратуру для записи их выступления". Разумеется, все это фальшивка, военная хитрость для введения в заблуждение. Не берусь сказать, что гнусней с точки зрения морали: вырвав отдельные фразы из речи военнопленного, состряпать монтаж или эскадрильями бомбардировщиков сровнять с землей польский город. Не берусь определить, что достойно, а что недостойно. Стоит отойти от некоего кодекса, как мораль теряет свою абсолютность. Но я усматриваю тут две допущенные ошибки: первая заключается в том, что мы очень четко, с потрясающей очевидностью поняли, за что мы, я и мои товарищи, деремся, когда услышали, как немецкая пропаганда использует на такой игривый манер тех, в ком мы уверены больше, чем в самих себе. Мы деремся за уважение к человеку. Безразлично, друг он или враг. Человека либо уважают, либо не уважают. И дело тут вовсе не в милосердии, а в чем-то неизмеримо более высоком. Расстрелы заложников? Военная необходимость. Можно быть в большей или меньшей степени жестоким. Можно избегать ненужного кровопролития, пощадить безобидные развалины, хотя вопрос тут ставится совсем на другом уровне. В опасности человек всегда становится в какой-то мере жестоким, грубым, невоспитанным. И в этом смысле люди не отличаются друг от друга сколько-нибудь существенно. Конечно, к врагам они безжалостней, чем к своим. Но при всем при том расстрел заложника может сочетаться с высочайшим уважением к человеку. Существуют палачи, которые обнажают голову перед своей жертвой. Одно дело - расстрелять бесстрашного лазутчика. Другое - презирать его. И я дорожу уважением, возвышающимся над жизнью. Равно как и воинскими почестями, которые положено отдавать пленным. Здесь же речь идет совершенно о другом. Нацисты презирают человека, всех людей, своих и врагов, коль скоро так бессовестно используют сокровенные движения их души, коль скоро ловят проявления сострадания, благодарности, любви, усталости, чтобы дать им такое омерзительно механическое применение. Я вспоминаю такое же [нрзб.] у детей. Вспоминаю своего соученика по коллежу, робкого, несуразного двенадцатилетнего мальчишку, который обменивался наивными письмами с сестрами, письмами, полными мелких домашних сплетен, мелких нелепиц бедной семьи, надежд и простодушных порывов гордости. Но сам он был не[способен?] на гордость. Пачку этих писем выкрал один хулиган. И вот он влез на учительскую кафедру, а несколько других хулиганов держали багрового от стыда мальчика, вынуждая его слушать, как под оглушительные взрывы хохота публично оглашают его тайны. В душе у него было одно только желание. Убить. С нарушением неприкосновенности некоего внутреннего царства либо смиряются, либо нет. Существуют границы, переступать которые противоестественно... Но там, где на свет открыто выволакивают расовые различия, там перейдена внутренняя граница. И тогда ощущаешь на губах вкус убийства. И мы, одиннадцатилетние мальчишки, из которых каждый был сам по себе, в тот раз поняли, что значит чувство стыда. Допустимо все, только не это. Мы смолчали бы, если бы его поколотили, пусть даже несправедливо. Но теперь мы воспринимали его позор самой возвышенной частью своего существа - не той, где таится сострадание, но той, где живет честь, где в человеке живет человек. Человек, который получен нами как таинственное наследие семейного [нрзб.], веры, чего-то, чему я даже не могу найти определения, неуловимого и неоценимого. И мы схватились за оружие. Оружием нашим были линейки, чернильницы и кулаки. Мы отомстили за подвергшегося пытке товарища, который после подобного унижения того гляди утопился бы со стыда. Всего залитого чернилами (результат взрывов наших метательных снарядов), мы торжественно вынесли его на руках. - Да не плачь ты, дурак! Эти твои письма были такие [нрзб.], что никто ничего не понял. И он, вновь обретя достоинство, засмеялся... И это главное. Нами двигала не жалость. Пусть она праведна, благородна, необходима, но существует нечто прекрасней, чем она, и это нечто кроется в глубине наших чувств. Мы защищали этого мальчика и в то же время нечто большее - человека, которого чтили в нем. Наши цели в войне! Они у нас есть, и они все те же. Естественно, поля, леса, деревенские сумерки и полные амбары - все, что связывается с будущим и основывается на будущем. Существует красота в стремлении к победе, но она существует и в устойчивости, неизменности родового наследия, в неторопливой привычности, которая называется верой и постепенно, понемногу все окрашивает в свой цвет. Этот цвет проявляется не сразу, но благодаря ему после стольких веков существования Франции мы, чьи корни уходят в такую глубину, обрели волшебный мир. Чтобы обрести душу, нужно спокойствие, и Нагорная проповедь проходит через века. А динамичность немцев - всего лишь замутненность сознания: в них не теплится внутренний огонь. Но в конце концов и в сущности, дело вовсе не в том, чтобы браться за оружие ради обороны границ, существующих для спокойствия сынов человеческих. Нет, надо защищать ту несуществующую, незримую границу, над которой впервые нависла опасность. Нам прекрасно известно, что тоталитарное государство - это масса, подавляющая индивидуальность, нация, подавляющая человека. Вот уж поистине великое открытие, которым так кичится г-н Гитлер, доказывая свою гениальность! Суть его в том, что множество людей сильнее, чем один человек, и, следовательно, если единица не подчиняется множеству, это противоестественно. Что немецкая масса сильней, чем чешский народ. А то, что чешский народ, будучи слабее, существует и имеет какое-то свое мнение, это уже нестерпимый вызов, равно как и существование художника, который не желает писать в соответствии с идеалом массы. Отношение к Польше? Да то же самое, что и к человеку внутри Германии: неуважение. Презрение к интеллектуалам. Разумеется, они наделали ошибок, вообразив, что мир можно выразить дифференциальными уравнениями, а не созидательной деятельностью. Но нацисты исполнены не столько презрения к интеллектуалам, к этой республике профессоров, сколько презрения к внутреннему содержанию. К личным ценностям, прообразу частной собственности (sic). Частной собственности Человека. В основе всякой цивилизации лежит поразительный парадокс: человек уравновешивает могущество толпы. И тот, кто в одиночку идет в толпе незнакомых людей, может сохранить свою одежду, несмотря на то что он бессилен отстоять ее. Именно в этом и состоит мощь духовного царства, которое одерживает верх над физическим эгоизмом. Когда же отказываются от этой точки зрения, то взамен обретают логику, возможно и глубокую, но уж никак не возвышенную. И обнаруживают слабость противника. Да что там слабость! Тот, кто выходит на улицу без оружия, нелеп, отжил, его необходимо срочно сожрать во имя логики. Я внимательнейшим образом прочитал необыкновенную книгу Раушнинга(4). Я говорю "необыкновенную". потому что, будь я г-ном Гамеленом(5), я купил бы се, чтобы издать во Франции. Желая того или нет, но Раушнинг весьма язвительно насмехается над гитлеровской идеологией. И, читая его, я заметил следующее: когда Гитлер произносит "отжившее" говорит о чем-то отжившем, заявляя, что это отжившее не сможет сопротивляться наступающим войскам, с ним поначалу соглашаешься, так как он указывает на очевидные вещи. Но чтобы все встало на свои места, достаточно всякий раз заменить "отжившее" на "хрупкое и утонченное". Разумеется, правила игры, позволяющие слабой Голландии сосуществовать с многочисленными соседними нациями, были бы всего лишь отжившим парадоксом, с которым все свыклись, не замечая его хрупкости ("в Европе слишком много столиц"), если бы некоевсемирное согласие не предусматривало ее существования. Если бы существование Голландии или Швеции не соответствовало желанию всего мира. Если бы все множество наций не служило в каком-то смысле каждой отдельной нации, как множество индивидуумов служит у нас отдельному индивидууму. В самом деле, парадоксально, что тог, кто думает не так, как все, еще не уничтожен: ведь все куда сильнее каждого в отдельности. Но цивилизация - это и есть рождение того самого внутреннего царства. И чтобы все соглашались защищать каждого в отдельности, надо, чтобы в каждом было нечто от всех. И это нечто есть Человек. Все это трудно выразить словами, но нетрудно почувствовать. И когда мы, двенадцатилетние, кинулись в драку за нашего ровесника, мы защищали в себе Человека. И мы, не одержимые идеей силы и экспансии, чувствуем себя не ущемленными, а, напротив, обогащенными оттого, что существует Голландия или Швейцария. Их слабость не является для нас противоестественным парадоксом. Мы не видим причин для обращения их в рабов во имя более грузного людского месива. Мы любим всех, кто дарит нам свет, будь то голландский живописец или скандинавский музыкант. Мы защищаем то, что дарит нам свет. Швейцария или Перу не возмущают нас: они помогают нам быть, помогают определить самих себя. Они везут к нам свои духи и тюльпаны или свою дикарскую музыку. И это в точности то же самое. Та же точка зрения, определяющая как отношения между нациями, так и отношения между отдельными людьми. Наши цели в войне? Защитить саму нашу сущность. И в большей мере нашу сущность, чем наши законы, камни и басни Лафонтена, которые периодически всплывают в нашей милейшей патриотической пропаганде. Что мы защищаем? Басни Лафонтена! Заявив такое заводскому рабочему, вы его изрядно воодушевите! Нет, мы деремся за то, чтобы никто не имел права публично читать наши письма, за то, чтобы не быть задавленными массой. Чтобы писать, что нам угодно, если мы поэты. Мы деремся, чтобы победить в войне. которая идет как раз на границах внутреннего царства. Родина! Немного высокопарное слово. Хватит уже с нас риторики насчет медлительных струй Луары, трудолюбивых французских крестьян и чуда Лафонтена. Да, мы деремся и за струи Луары, и за Лафонтена. Так постарайтесь хотя бы наполнить слова смыслом. Вечно вы используете древние , пустые урны. Вы требуете от нас, чтобы мы шли на смерть. Мы согласны. Но пусть нам покажут то, что куда важнее нашей жизни. Я готов упасть, как зрелая слива, когда небо содрогается, словно дерево, от зенитных разрывов, когда мечет молнии истребитель. Но не за Лафонтена (между строк: Лафонтен всегда нагонял на меня тоску), не за медлительные струи Луары не за предвыборные махинации, не за священное право нормандских виноградарей подмешивать водку в молоко для грудных детей, чтобы те, опьянев, не плакали. Я безмерно восхищаюсь Жироду и его вариациями по части "дозированности". Франция - это поразительная смесь. И эту смесь привычно но противопоставляют воплям бесноватого о расе. И теперь. когда я буду падать в штопоре, мне в качестве утешения остается кричать "Да здравствует дозированность!", как мой противник кричит "Хайль Гитлер!". Мне нужны - да, мне тоже - понятные боги. Я не способен насытиться хитросплетением слов. Человек готов идти на смерть, когда обретает свое выражение в чем-то ином. Всякий, кто завещает свое достояние потомкам, принимает мысль о смерти. И всякий, кто растворяется в своем [творении?]. Но мне необходим шпиль собора. Я желаю сражаться за жизнь. Сражаются за правду. Все и всегда сражаются за правду, и в этом нет никакой двусмысленности. Легко заявить, что сражаешься за свои убеждения. Сражаются, и это действительно так, за свой родной язык. За идеи. Это значит, что они крепки как сталь. Сражаются против невежества за очевидную истину, которая упрощает мир. Но вполне возможно драться и за противоположную правду, тем более что две антагонистические правды смогут в конце гонцов упростить мир и разрешить противоречия. Итак, Франция являет собой систему. Очень легко сказать: язык, обычаи, медлительные струи Луары. Франция - это определенный образ мышления. Во всяком случае, она должна быть им либо вновь им стать. Франция - отнюдь не "дозированность", иначе мне плевать на коктейль из кровей или диалектов, о котором мне прожужжали все уши. Этим, возможно, объясняется форма единства, которая стала Францией, но не определяет Францию. Что же такое та связь, которая создала Францию, и та французская правда, которая стала столь драгоценна и для нас самих, и для всего мира? Вот что необходимо мне, чтобы воодушевиться и пойти на смерть. Вот что необходимо, чтобы была спасена моя подлинная личность. Вот нравственный кодекс, который придает мне смысл. А вам угодно по-другому объяснить мне возможность добровольного самопожертвования? Что спасает жизнь, как не смысл? И не потому ли бесчестье (там, где бесчестье еще считается позором) толкает человека на самоубийство, что жизнь его в данном обществе утратила смысл? Я иду на смерть, чтобы спасти мой нравственный кодекс. Но что он такое? Наше национальное чувство поразительно страдает из-за несостоявшегося синтеза. Правая и левая. Человек Декарта. Человек Паскаля. Мы начали направлять свои доводы и аргументы, абсолютно верные для нас, против противника. Мы не можем поступать иначе, потому что не обладаем ключом к языку, который дал бы нам спасение. Который вновь сделает нас едиными. Который вернет нам наш кодекс... И тут нам предстоит многое примирить! Примирить все, что теперь так противоречиво и препятствует французской нации вновь осознать и обрести себя... Неумелость. Нам трудно выразить себя. Но ведь она действительно существует, та реальность, которую просто необходимо сделать очевидной. И мы чувствуем, что эта реальность универсальна. Что она является общей мерой для половины человечества и противостоит другой реальности, которая делит мир на избранных, принадлежащих к германской расе, и на проклятых, объясняющихся на прочих варварских языках. Варварские расы. Проклятые, которым несть спасения. Ничтожные вассалы Германии, рабы. Верховенство же Германии будет зиждиться на праве эксплуатации этих колонов. А им останется тщетно жаловаться, взывая к правде и справедливости. Справедливость и правда - это то, что есть. То, что существует уже достаточно долго, чтобы в глубине сформировался определенный образ. Не бывает заблуждений без корней и справедливости без длительности. После полувека германского господства рабство окажется узаконенным, как и во времена римских императоров. Но что же это за реальность, что за изящная правда, которая способна объединить чернорабочего из Бийанкура(6) и преподавателя философии? Сколько раз определенный предвыборный тон разжигал распри и углублял пропасть! И тут передо мной опять возникает образ. О, разумеется, я слышу вас, слышу ваши такие разные голоса. Образ старца-каида(7), образ лекаря, образ всех тех, кто выслушивает излияния людей, чтобы сочувствовать им, но сочувствовать по ту сторону их самих. В свете нынешней опасности все наши разногласия похожи на детские ссоры. [Нрзб.] чего вы ждете, чтобы понять собственные ошибки? Под угрозой гораздо большее, чем вам представляется. Море, которое мы покорили и считали нашим союзником, в действительности творение человека. Мы обманулись недвижностью моря. Мы любили свободу и один за другим разломали шпангоуты корабля. И за это были наказаны: в трюмы хлынула вода. Поймите, нам вновь надо перемениться. Вновь обратить в страсть то, что стало привычкой, пожертвовать тем, чем так удобно обладать. Отжившее - это вовсе не [нрзб. несколько слов] натиск моря, но негодный корпус нашего корабля. Поймите, мы обмануты нашими поверенными. Всеми этими ничтожными паразитическими наростами из пьес Куртелина. Всеми этими буржуазными наростами, укрытыми от ветра, солнца и звезд. Они были пассажирами, не участвовавшими в управлении кораблем. Им даже не известно, что существует корабль. Они ведать не ведают про существование чуда. Они играют в бридж и думают, что на бридже кончается всемирное тяготение. Они даже не изумляются базилике, которая несет их в себе. Чтобы восхититься кораблем, надо быть берегом океана. Итак, вы в Америке не видите надвигающейся катастрофы. Вы не испытываете восторга перед кораблем, построенным людьми. Вы полагаете, что тут просто прискорбный случай, вроде землетрясения или пожара, что девственная земля просто немножко встряхнется, после чего на ней можно будет строить. Не видите, что ставкой в игре является человек, вы сами? Не понимаете, что один из шпангоутов корабля - вы? История Европы? Нет! История человека. Вы не желаете воевать за парадокс - наше существование. Но парадоксом являются и сила, и закон, и общность. И fair play. Разве не парадоксально, что имеющий возможность сжульничать в игре не жульничает, а испытывающий ненависть не убивает? Парадокс - это и верность, и дружба, и молчание под пыткой, и чувство чести. Первый парадокс для человека - бог. А вы не желаете сражаться за бога. Есть и множество других парадоксов, как, например, сообщество свободных земледельцев по соседству с империей кузнецов(8). Корабль без кормчего. Во всяком случае, без кормчего, который видит опасности в море. Все наши творения хрупки, природа сгложет ваши города, сквозь стены ваших домов прорастут деревья, если вы замешкаетесь вырвать их. Знаете ли вы, что вопит этот бесноватый? А вот что: "Совесть - отжившее понятие, ибо природа сильней ее". Действительно, природа сильней, и ученый, брошенный в лесу, станет добычей тления. И заблудившийся зимней ночью Бах замерзнет, окостенеет. Бертло(9) будет обезглавлен хамом. Польский физик или австрийский музыкант не уцелеют при взрыве авиабомбы. И все-таки совесть сильней, чем природа. Совесть стремится властвовать над стихиями. Природа борется с милосердием, с энтропией, с пространством. А совесть правит. Но коль вы хотите править миром, его надо постичь. Если же вы забыли "ради чего", вы обречены. А мы в последнее время несколько позабыли "ради чего". Мы обучили, но не воспитали людей. Ведь, казалось бы, это так естественно - быть человеком! А те лгут им во имя расы. Во имя нации. Но не во имя немецких ценностей. Вы где-нибудь слышали, чтобы они славословили Гете или Баха, Бетховена или Эйнштейна? Где-нибудь слышали, чтобы они чтили знание до такой степени, что готовы сложить за него головы? Как они оправдываются? Они, простые и сильные, как дерево в лесу с могучим сплетением корней. Лес - это ведь покорение города. И мы с нашими отупевшими любителями вкусно поесть вполне заслужили этот взрыв национализма. Заслужили ресторанными анекдотами о рогоносцах и вечной карточной игрой, которые заменили нам жизнь. Но где вы видели, чтобы в городе, возведенном Паскалем, жили Паскали? Нет, в нем обитают не Паскали. В нем обитают Вотели(10). Мы выстроили собор, а потом он был отдан не великому архитектору, но церковным служкам и старушкам, сдающим напрокат стулья. Собор был построен, чтобы в нем давали напрокат стулья. Вселенная Паскаля была создана, чтобы в ней играли в бридж и обсуждали жульнические сделки. Но я наотрез отказываюсь смешивать сдачу стульев напрокат со смыслом собора, людскую свободу с тупостью бриджа, свободную экономику с махинациями. Нужно вновь придумать бога, который был бы равновелик собору. Вспоминаю дискуссии о Куртелине. Одни считали его грубым, другие сильным. Разумеется, я не упрекаю его за темы, которые он выбирал. Все тот же миф о каиде, что в безмолвии опустившейся ночи неспешным шагом обходит стоянку своего племени. Пахнет кожей, потом, прогорклым овечьим сыром. Ночные птицы, планеты и звезды, тихие беседы за чаем и прекрасные, как звезды, слезы одинокого ребенка. Каид останавливается возле него, одним пальцем, чуть касаясь, гладит его лоб, потом поднимает его голову и сосредоточенно, с безмолвным состраданием смотрит в полные слез глаза. Он слушает ребенка. Мальчика наказали за то, что он не выучил стих из Корана. Или за то, что украл цыпленка. Его глаза, обращенные к каиду, огромны, как Млечный Путь. Каид склонился то ли над побледневшим ребенком, то ли над вечностью. Неведомо над чем. Над кротостью. Он слушает ребенка. Вернее, звук его голоса. О господи, ничто не бывает ничтожно. Достаточно забыть о смысле слов, и ничто никогда не покажется ничтожным. Каид возвращает ребенка в извечные его границы одной лишь манерой смотреть. Вот так же врач способен увидеть человека сквозь болезни пациентов, а Куртелин - сквозь косноязычие завсегдатаев кафе. Увидеть в человеке человека. Но чего-то ему не хватает; может быть, того, что называется снисходительностью. Благостью. Той наивности, что приходит сама, когда перестаешь придавать словам смысл- Не хватает умения стать соединительной чертой между косноязычием человека и смыслом человека. Просто умения показать ту огромность, что кроется за человеческим убожеством. То, что человек слышит в человеке. Человек [отвергает?] в человеке тайну - может быть, милосердие христианства. И речь тут вовсе не о почитании под видом заурядной благотворительности качеств, лишенных всякого величия. Император Византии, взяв двадцать тысяч пленных, повелел всем им выколоть глаза(11). А сейчас я, взглянув в лицо врага, распознаю в нем лик своего бога - и у меня опускаются руки. Что же я в нем щажу, если не то, что кроется за видимостью обезволенного, связанного человека? Но постепенно мы спутали это трансцендентальное равенство с равенством вообще. Мы забыли, что философия старушки, сдающей напрокат стулья, не способна спасти собор. Мы перестали воодушевлять человека, перестали вытаскивать его из его оболочки. И он стал, как выражаются американцы, inarticulate. Попытаюсь объяснить, что я хочу сказать. Произошел великий исход безработных на Запад, в Калифорнию(12). Они оказались ненужными. И вот они стали там лагерем. Работы у них не было. Но они лишились не только работы, они оторвались от своих традиций, привычек, окружения и образовали некую, не поддающуюся определению массу. И эта толпа начала просто-напросто разлагаться. Нет, не в физиологическом смысле, поскольку их кормили и кое-как одевали, а в смысле человеческого существования. Даже если ты не ставишь на карту свое состояние, все равно в мечтах карты олицетворяют для тебя замки, бриллианты, золотые слитки, которые ты бросаешь на зеленое сукно. Ну, а если в данный момент карты ничего не могут олицетворять? Тогда игра превращается в язык, лишившийся, как бумажные деньги, обеспечения. В этом случае играть уже невозможно. И вот этой толпе нечего больше сказать себе. Также и нам, чуть только мы согласились определять человека по застывшей на его лице маске, стало нечего сказать себе. [На полях: Спасение человека?] Как-то в старом шкафу я нашел письма моему прадеду. Старик садовник, старик повар писали ему о своих горестях. Господи, какой это был прекрасный язык! Какое великолепное выражение чувств! И поверьте, дело было не в стиле: стиль не тронул бы меня, если бы не соответствовал движениям души. Если бы я не был убежден, что человек, в общем-то, способен чувствовать лишь то, что способен выразить. Можете спорить о частностях. Конечно, овернский крестьянин не может чувствовать любовь, как придворный аббат XVIII века. Однако если оставить парадоксы в покое, то это совершенно иные чувствования. Я не говорю, что они хуже. Просто они совершенно разные. Не научись я любить И. С. Баха, другая музыка не вызывала бы у меня таких же эмоций. Я не испытаю от серенады Тозелли(13) и "Манон"(14) того, что, будучи музыкально более подготовлен, испытал бы от сочинений Баха. Язык обладает универсальным звучанием. И я не могу вдолбить провинциальному политику, в чем состоит блаженство монастырской жизни. Я не сумею ему это объяснить. Чтобы втолковать ему это, следовало бы воззвать к подобному, уже испытанному им чувству, короче говоря, придумать какую-то параллель. Но таких параллелей не существует. У меня просто нет никаких убедительных аргументов, как бы я ни хотел заставить его понять. Мне придется не разъяснять и даже не переубеждать, а обратить его. Да, именно обратить. То есть постепенно подарить ему язык, пользуясь которым человек становится богаче. А обращенный даст убить себя за свою веру, :: логикой его не возьмешь. Логика не способна возобладать над тем, что не подлежит сомнению. Над чувством заново родившегося. Кстати, потому-то я и был несколько обеспокоен недоразумениями, возникшими из-за "Земли людей". Бразийак, например, ставил мне в вину бесцельность самопожертвования моих героев(15). Для Сент-Экзюпери, пишет он, само дело не важно. Важно, чтобы человек был одушевлен делом. Но он забывает, что именно [зачеркнуто: религия] дело порождает мучеников. А кроме того, я не знаю, что такое дело. Я знаю, что такое язык. Дело, о котором говорит Бразийак, - это вовсе не перевозка почты, но некий язык, поднимающийся над почтой, посредством которого я устанавливаю между людьми - а также между людьми и их поступками - определенную систему связей. И я, право, не вижу, что тут смущает Бразийака. В христианстве, например, существуют обязанности, именуемые мирскими. Да, старая крестьянка, подметая комнату и задавая курам корм, посвящает скромные свои труды богу. Христианство, как мне представляется, стремится претворить действие в молитву. Христианство обогащает душу, действие же в свою очередь обогащает старую крестьянку. Меня подмывало сказать, что каторжник и геолог-разведчик, вонзая лопату в землю, делают одно и то же. Но в первом случае это действие отупляет человека. Во втором - воодушевляет. И в языке обоих этих людей оно имеет совершенно разный смысл. Таким образом, дело не есть дело, но язык. Но образ мышления. Система взаимосвязей. Структура. Здесь-то и кроется чудо. Бразийак ставит мне в упрек погоню за героическими доблестями. Я себя так и ощущаю. Но так я ощущал себя и когда писал эту книгу. А если мне приписывают чувства, диаметрально противоположные моим, то это просто означает, что я их плохо выразил. Да, конечно, мученика создает дело. Поступок стоит чего-то лишь потому, что он совершен во имя великой веры. Только при этом единственном условии он обогащает. Но какую религию можно назвать благородной, кроме той, что возвышает человека? Нацизм я не могу назвать благородной религией. Я вижу, что нацизм способен достичь могущества Аттилы, возможно, исключительности Аттилы, но не вижу, как он может подняться до Паскаля. Аттила или Паскаль? Я выбрал. Выбрал - между девственным лесом и базиликой. Выбрал - между спокойствием исполинского дерева с разросшимися корнями и совестью. Как и Бразийак, я выбрал свою религию. Ту, что творит из меня человека, ту, что мне больше по душе, и отныне мой долг - идти на смерть за этот необратимый выбор. Если я пошел в монастырь, а потом вернулся в комитет радикальной партии, то это значит одно: я выбрал. Обратился. [Между строк: но не в радикализм.] Однако решение я принял не во имя логики. А во имя человека, который родился во мне. И тогда поступок, если он животворящ, оказывается знамением, подтверждающим истинность веры. Беспричинных поступков не существует, потому что не существует поступка ради поступка. Каторжник и геолог совершают одни и те же действия. Я не способен думать о своем действии вне цивилизации, направляющей меня. Будучи византийским императором, я могу ослеплять пленников. Но сейчас я не представляю себя выкалывающим глаза. Ибо я склоняюсь над иными глазами и над иным лицом. Так же и лопата, орудие покорения земли, не является одной и той же лопатой... Нет даже признака [мысли?]. Человечество дрыхнет, словно домашний скот на своей подстилке. Ради чего воевать этим людям? Ради хлеба? Он у них есть. Ради свободы? Они беспредельно свободны. Они утонули в этой свободе, которая делает бессердечными кучку миллиардеров. Защищаться от врагов? У них нет врагов. Они живут без врагов, без ненависти, без единения. Распад, бедствия человека. Что надо, чтобы они воскресли? Вы сами прекрасно знаете. Воздвигнуть город в диком лесу. Построить мост. Подняться на войну. Создать внутри своей студенистой массы упругую нервную ткань. Создать вождей. Или хотя бы попросту вновь обрести ощущение праздника. Сегодня начали сеять. Сегодня первый день сбора винограда. Сегодня день первого снопа. Сегодня праздник молодого вина. Или день поминовения, утверждающий непрерывность поколений. День памяти того, кто обосновал наши свободы... того, кто [вдохнул?] в нас свою мораль... того, кто... Но о какой непрерывности можно толковать с этим быдлом? Что тут может быть, кроме чавканья при кормежке? Разумеется, это очень далеко от нас, но в то же время так близко. Мы, снулые как никогда прежде, имеющие кров и пищу, поставлены на откорм. А в нашем соборе около колонн шепчутся о мелких махинациях. Ведь животворят-то собор те, кто дает напрокат стулья. И их медяки. Вы можете сколько угодно бахвалиться своей древней культурой. Но что вы сделали для ее спасения? Вы потешаетесь над тем, кто взошел на башню и увидел открытое море: "Экий безумец! Он пытается бежать от конкретности, от реальности". Конкретность и реальность - это все та же история старушек, сдающих напрокат стулья. Мы находимся внутри собора, и плевать нам на окружающую нас ночь. Ну, а стены собора - чего ради о них думать? Они - обрамление. В таком же смысле, как пространство и время. И тоже вечны. Отделить добрых от злых с помощью полевых сторожей и судей - это имеет смысл. Но спорить о добре и зле экие бредни! Вот потому-то вы и заслужили услышать, как ревет сегодня вокруг вас море. Подумайте! Восемьдесят миллионов человек следуют за ним(16) и производят для него оружие. И читают его газеты. И ради этого идола отвергают своего бога. То, что составляет достоинство мира, может быть спасено лишь при одном условии: помнить про это. А достоинство мира составляют милосердие [зачеркнуто: уважение], любовь к знанию и уважение к внутреннему человеку. Я верю, что кое-где на земле все это еще находит отзвук. "Не делай ближнему(17) ... ибо ближний - это ты сам". И вы тоже настолько проникнуты этим, что чувствуете, как вас охватывает отвращение при виде совершающегося на улице преступления. При виде этих пустых глаз. И как вы заблуждаетесь, если усматриваете в таком отвращении нечто иное, нежели духовное наследие. Ведь если немецкая домохозяйка, увидев, как еврейских младенцев выбрасывают из колыбелек за окно, почувствует, что у нее сжалось сердце, и невольно вскрикнет - а этот крик может стоить ей концлагеря, - то причиной тому являются остатки христианского чувства, которым она руководствуется, но которое не передастся ее детям. Потому что вы сильно ошибаетесь, считая любовь к знанию извечно присущей человеку: она - чудесное наследие. основывается на свободе. Только не надо путать любовь к знанию с техническим складом ума. В храм водворятся варварские боги. Они используют все его возможности. И может быть, лучше, чем мы. С большим порядком. Цезарь, без сомнения, копал каналы и прокладывал дороги. Но возможно ли будет в корсете их корана противоречие, которое одно только и оправдывает прогресс? Ведь Гитлер же сам заявил: "Чересчур много образованных... благодетельность неграмотности... знания для немногих..." Смысл всего этого совершенно ясен... Таинства герметической религии и великие жрецы от науки, которые по восходящей творят коран своих истин-откровений. Кто решится и восстанет против догмы? А что уж там говорить об уважении к внутреннему человеку! И вы полагаете, что это естественно? ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Мораль необходимости Этот текст (название дано публикаторами) был вчерне набросан писателем в конце 1939 или начале 1940 г. и при его жизни остался неопубликованным. (2) Радио-Штутгарт. - В городе Штутгарте находилась немецкая радиостанция, которая вела пропагандистские передачи на Францию. (3) ...получаю все посылки. - Французские военнопленные могли получать посылки от родственников через посредство Международного Красного Креста. (4) ...необыкновенную книгу Раушнинга. - Раушнинг Герман (1887-?) немецкий политический деятель. В первой половине 30-х гг., будучи членом национал-социалистической партии, возглавлял сенат Данцига (по Версальскому договору объявленного "вольным городом"), неоднократно встречался с правителями гитлеровского рейха. В 1936 г. Раушнинг порвал с нацизмом, эмигрировал и в последующие годы выпустил несколько книг, разоблачавших политику Гитлера. Сент-Экзюпери, вероятно, имеет в виду его книгу "Гитлер говорил мне", вышедшую во Франции в декабре 1939 г. (5) Гамелен. Морис Гюстав (1872-1958) - французский генерал, во время второй мировой войны до 20 мая 1940 г. главнокомандующий сухопутными союзными войсками во Франции. (6) Бийанкур - промышленное предместье Парижа. (7) Образ старца-каида... - Каид - племенной вождь у североафриканских народов. Очевидно, имеется в виду замысел книги "Цитадель", первоначально называвшейся "Каид", "Берберский вождь". (8) ...сообщество свободных земледельцев по соседству с империей кузнецов, - Сент-Экзюпери не раз (например, в книге "Военный летчик") сопоставлял Францию и Германию как аграрную и промышленную страны, видя в этом неравенство их стратегических сил и причину поражения Франции в кампании 1940 г. (9) Бертло Пьер Эжен Марселей (1827-1907) - французский химик; Сент-Экзюпери упоминает его как одного из наиболее авторитетных представителей науки XIX столетия. (10) В нем обитают Вотели. - Вотель (наст. имя Клемам Воле, 1876-1954) французский писатель, был известен своей публицистикой, в которой он отстаивал точку зрения "среднего француза", "здравого смысла". (11) Император Византии, взяв двадцать тысяч пленных, повелел всем им выколоть глаза. - Так поступил в 1014 г. византийский император Василий II после победы над болгарами (в исторической литературе фигурирует цифра 15 тысяч пленных). (12) Произошел великий исход безработных на Запад, в Калифорнию. - Эта миграция происходила в начале 30-х гг., в пору экономической депрессии в США. В оригинале у Сент-Экзюпери, очевидно, описка: "на Восток". (13) Серенада Тозелли - пьеса итальянского композитора Э. Тозелли "Серенада" (1900). (14) "Манон" (1884) - опера французского композитора Ж. Массне на сюжет романа А. Ф. Прево "Манон Леско". (15) Бразийак... ставил мне в вину бесцельность самопожертвования моих героев. - Робер Бразийак (1909-1945) - французский писатель крайне правой ориентации; после освобождения Франции от оккупации он был по приговору суда казнен как активный коллаборационист. Здесь имеется в виду его рецензия на книгу Сент-Экзюпери "Планета людей", напечатанная 13 марта 1939 г. в газете "Аксьон франсез". (16) ...следуют за ним... - Имеется в виду Гитлер. (17) "Не делай ближнему..." - "...то, чего не хочешь себе" (перефразированное евангельское изречение). Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Надо придать смысл человеческой жизни
Антуан де Сент-Экзюпери Надо придать смысл человеческой жизни.(1) Перевод: С французского Ю. А. Гинзбург Несхожими словами мы выражаем одни и те же стремления. Человеческое достоинство, хлеб для наших братьев. Мы различаемся по способу достижения цели, определяемому логикой наших рассуждений, а не по самой цели. Мы идем на войну друг против друга по направлению к одной и той же земле обетованной. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на нас со стороны. Тогда окажется, что мы воюем против самих себя. А наши споры, распри, обиды - это словно единое тело корчится и раздирается пополам в кровавых родовых муках. В том, что должно появиться на свет, противоречивые представления сольются, но поторопимся ковать новую цельность. Родам надо помочь, иначе исход может оказаться смертельным. Не забудем, что сегодня война питается минами и ипритом. Военная страда теперь уже не препоручается каким-то представителям нации, которые пожинают лавры на границе и более или менее дорогой ценой приумножают (готов признать) духовное достояние народа. Война теперь действует хирургическими приемами насекомого, прокусывающего нервные узлы врага. Как только война будет объявлена, наши вокзалы, мосты, заводы взлетят на воздух. Наши города в судорогах удушья разбросают своих жителей по деревням. И с первого же часа Европа, этот организм из двухсот миллионов человек, лишится своей нервной системы, словно ее сожжет кислотой, своих управляющих центров, регулирующих желез, кровеносных сосудов; она превратится в сплошную раковую опухоль и сразу же начнет гнить. Как прокормить эти двести миллионов человек? Корешков в достаточном количестве им никогда не накопать... Когда противоречия становятся столь остры, нужно спешить их преодолевать. Нет ничего сильнее смутного беспокойства, ищущего для себя выражения. Можно дать на мучащие человека вопросы ответ получше, чем война, но отрицать их бесполезно. Попробуйте прокричать, какие у вас есть основания ненавидеть войну, тому сражавшемуся на юге Марокко офицеру (я его знаю, но имени не назову, чтобы не причинить ему неприятностей). Если вы его не убедите, не считайте его варваром. Послушайте сначала этот рассказ. Во время Рифской войны(2) он командовал небольшой заставой, примостившейся между двух мятежных гор. Однажды вечером он принимал парламентеров, спустившихся с западной гряды. Как положено, пили чай, и тут раздалась ружейная стрельба. На заставу напали племена восточной гряды. Когда офицер попросил парламентеров уйти, чтобы не мешать бою, они ответили: "Сегодня мы твои гости, аллах не велит тебя покидать..." Они присоединились к его солдатам, спасли заставу и вернулись к мятежникам. Но накануне того дня, когда пришел их черед нападать на заставу, они появились снова: - В прошлый раз мы тебе помогли. - Верно. - Мы истратили для тебя триста патронов. - Верно. - По справедливости надо их нам вернуть. И офицер-рыцарь не стал извлекать выгоду из их благородства. Он отдал им эти патроны, один из которых, может быть, его убьет... Истина для человека - это то, что делает его человеком. Кто познал такую высоту отношений, такую честность в игре, такой дар взаимного уважения, оплачиваемого жизнью, - тот, сравнивая взлет души, что выпал ему на долю, с заурядностью демагога, выражающего чувство братства с теми же арабами звонким похлопыванием по плечу, ласкающего, может быть, самолюбие отдельной личности, но унижающего в ней человека, тот испытает к вам, если вы его осудите, только жалость, смешанную с презрением. И будет прав. Не пытайтесь объяснять Мермозу(3), когда он, всем сердцем торжествуя победу, летит над чилийским склоном Анд, будто он ошибается, будто письмо какого-нибудь лавочника не стоит того, чтобы из-за него рисковать жизнью. Мермоз посмеется над вами. Истина - это человек, родившийся в нем, когда он пролетал над Андами... Неужели вы не понимаете, что человеческое благородство основано прежде всего на самоотдаче, готовности рисковать, верности до самой смерти? Если вам нужен образец для подражания, вы найдете его в летчике, жертвующем собой ради почты, которую он везет, во враче, погибающем, сражаясь с эпидемией, в арабском воине, который на своем боевом верблюде спешит во главе отряда навстречу лишениям и одиночеству. Кто-то из них погибает каждый год. И даже если их жертвы кажутся бессмысленными, что же, вы думаете, их жизнь пропала даром? Они запечатлели прекрасный образ на первобытной глине, из которой мы сделаны, они посеяли семена даже в сознании малого ребенка, засыпающего Под легенды об их подвигах. Ничто не исчезает бесследно, и даже от огороженного стенами монастыря исходит свет. Неужели вы не понимаете, что где-то мы сбились с пути? Человеческий муравейник стал богаче, чем прежде, у нас больше всяких благ и досуга, и все же нам не хватает чего-то существенного, чему трудно подыскать определение. Мы меньше ощущаем себя людьми, мы утратили какие-то таинственные привилегии. Я разводил газелей на мысе Юби(4). Мы все там разводили газелей. Их держали в загородках на открытом воздухе, потому что газелям нужны потоки свежего ветра; газели - самое хрупкое, что есть на свете. Но если их изловить совсем маленькими, они все же живут в неволе и кормятся из ваших рук. Они дают себя погладить и тычутся влажными мордочками в вашу ладонь. И вы думаете, что приручили их. Вы думаете, что прогнали ту неведомую печаль, от которой газели тихо гаснут и умирают самой ласковой смертью... Но приходит день, когда вы застаете их упершимися рожками в изгородь и глядящими в сторону пустыни. Их влечет магнитом. Они не знают сами, что покидают вас; они пьют молоко, которое вы им приносите, позволяют себя гладить и еще нежнее тычутся мордочками в ваши ладони... Но как только вы отойдете, они, поскакав немного радостным галопом, снова возвращаются к изгороди. Если вы им не помешаете, они так и останутся там, даже не пытаясь сломать ограду, а только упираясь в нее рожками, опустив голову, пока не умрут. Что это - пора любви или просто жажда мчаться вприпрыжку до потери дыхания? Они не знают. Их поймали, когда у них еще глаза не открылись. Они ничего не знают ни о свободе в песках, ни о запахе самца. Но вы много умнее их. Вы знаете, чего они ищут: простора, который даст им возможность осуществиться. Они хотят стать газелями и танцевать свой танец. Они хотят познать бег по прямой со скоростью сто тридцать километров в час, перемежаемый внезапными скачками в сторону, словно из-под песка то тут, то там вырывается пламя. Разве их остановят шакалы, если истина газелей в том, чтобы испытывать страх, который один только может заставить их превзойти самих себя, проделать самые невероятные прыжки? Разве остановит их лев, если истина газелей в том, чтобы их раздирали когти под слепящим солнцем? Вы смотрите на них и думаете: они охвачены ностальгией... Ностальгия - это желание неизъяснимого. Предмет желаний существует, нет только слов, чтобы его назвать. А мы - чего не хватает нам? Что это за пространства, куда мы просим нас выпустить? Мы стараемся вырваться за пределы тюремных стен, растущих вокруг нас. Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить все наши потребности. И понемногу из нас лепили куртелиновского мелкого буржуа(5), провинциального политикана, узкого специалиста, лишенного всякой внутренней жизни. Вы мне возразите: "Нас учат, просвещают, больше чем когда-либо обогащают всеми завоеваниями разума". Но до чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу. Паскаль - это прежде всего стиль. Ньютон - это прежде всего человек. Он стал зеркалом вселенной - слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее в саду, и звезды июльской ночью. Для него наука была жизнью. И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей, и притом надличной, целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными. Тут нечему удивляться. Тот, кто не подозревал о существовании незнакомца, дремлющего в его душе, но однажды в кабачке анархистов, в Барселоне, почувствовал, как он пробуждается благодаря самопожертвованию, дружеской помощи, суровому понятию справедливости, - тот будет отныне признавать только одну истину: истину анархистов. А кто однажды постоит на часах, охраняя коленопреклоненных испуганных монашенок в испанских монастырях, - тот умрет за испанскую церковь. Мы хотим освобождения. Кто бьет киркой, хочет знать, какой смысл в том, что он бьет киркой. Каторжник бьет киркой совсем не так, как изыскатель, которого удар киркой возвышает. Каторга не там, где бьют киркой. Дело вовсе не в физических трудностях. Каторга там, где бьют киркой бессмысленно, где удар киркой не связывает работающего со всем человечеством. А мы хотим бежать с каторги. В Европе двести миллионов человек, жизнь которых лишена смысла и которые хотели бы родиться на свет. Развитие промышленности оторвало их от наследственного крестьянского языка и заперло в огромных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые составами из черных вагонов. В гуще рабочих предместий эти люди ждут пробуждения. Есть и другие - жертвы всех профессий: им запретны радости Мермоза, радости верующего, ученого; а они тоже хотели бы родиться. Конечно, можно их оживить, нарядив в мундиры. Они станут петь походные песни и делить хлеб по-братски. Они найдут то, чего ищут, - причащение к всеобщему. Но, отведав такого хлеба, они погибнут. Можно откопать деревянных идолов и воскресить старые языки, которые с грехом пополам делали когда-то свое дело; можно воскресить мистику пангерманизма или Римской империи(6). Можно одурманить немцев хмелем сознания, что они - немцы и соотечественники Бетховена. Таким хмелем можно и кочегару вскружить голову. Это, конечно, гораздо легче, чем пробудить в кочегаре Бетховена. Но демагогические идолы плотоядны. Тот, кто умирает за приумножение познаний или исцеление болезней, даже умирая, служит жизни. Можно умереть и за расширение границ Германии, или Италии, или Японии, но тогда враг - это уже не уравнение, сопротивляющееся решению, не бацилла, сопротивляющаяся сыворотке; враг - это человек рядом. С ним приходится сражаться, но о победе сегодня речи быть не может. Каждый укрывается за бетонными стенами. Каждый, не придумав ничего лучшего, ночь за ночью посылает эскадрильи бомбить самое нутро другого. Победа достается тому, кто сгниет последним, - поглядите на Испанию... Что помогало нам родиться к жизни? Служение. Мы смутно ощущали, что человек может соединяться с человеком, только разделяя одни и те же устремления. Летчики сближаются, если идут на риск ради одной и той же почты. Альпинисты - если карабкаются к одной и той же вершине. Люди соединяются не тогда, когда тесно соприкасаются Друг с другом, а когда сливаются в одной вере. В мире, ставшем пустыней, мы испытываем жажду вновь обрести товарищей. Но для того, чтобы почувствовать тепло от плеч спутников, с которыми вместе бежишь к одной цели, война не нужна. Война нас обманывает. Ненависть ничего не прибавляет к экстазу бега. Ибо для того, чтобы освободить нас, достаточно помочь нам осознать единую цель, связующую нас Друг с другом, и искать ее надо в общечеловеческом. Врач во время осмотра не обращает внимания на стоны того, кого выслушивает: помогая этому больному, он надеется исцелить человека. Врач говорит на общем для всех языке. Пилот почтового самолета мускулистой рукой управляется с болтанкой, и это каторжная работа. Но своим трудом он служит связям между людьми. Мощь его руки соединяет тех, кто любит Друг друга, кто мечтает о встрече: этот пилот тоже частица всеобщего. И даже простой пастух, стерегущий овец под звездами, осознав свое назначение, обнаруживает, что он больше чем пастух. Он часовой. А каждый часовой в ответе за всю державу. К чему обманывать кочегара, посылая его во имя Бетховена драться с соседом? Какая ложь! Ведь в том же краю Бетховена бросают в концентрационный лагерь, если он думает не так, как кочегар. У кочегара должна быть иная цель возвыситься до того, чтобы однажды заговорить, как Бетховен, на общем для всех языке. Идя к осознанию вселенной, мы вернемся к самой сути человеческой судьбы. Не понимают этого только лавочники, удобно устроившиеся на берегу и не замечающие, как течет река. Но мироздание не стоит на месте. Из кипящей лавы, из звездного вещества рождается жизнь. Постепенно мы восходим к тому, чтобы сочинять кантаты и взвешивать галактики. И сержант под снарядами знает, что генезис еще не завершен, что он должен продолжать восхождение. Жизнь движется к сознанию. Звездное вещество неторопливо вскармливает и растит самый благородный свой цветок. Но велик даже тот пастух, что осознал себя часовым. Мы лишь тогда будем счастливы, когда начнем двигаться в нужном направлении - в том, по какому шли с самого начала, I только пробудившись из глины. Тогда мы сможем жить в мире, ибо то, что придает смысл жизни, придает смысл и смерти. Как легка она под сенью провансальского кладбища, когда старый крестьянин в конце своего царствования вручает семейное достояние - коз и маслины - на хранение сыновьям, чтобы те в свой черед передали его сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого в свой срок лопается, как стручок, и выпускает на волю зерна. Я как-то сидел бок о бок с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было горько. Второй раз перерезалась пуповина. Второй раз развязывался узел, соединяющий одно поколение с другим. Трое сыновей понимали, что остались одни, что им надо всему учиться заново, что они лишились семейного стола, за которым собирались по праздникам, той точки, в которой они все сходились. Но я понимал также, что с этим разрывом второй раз дарилась жизнь. Сыновья в свой черед становились предводителями, полюсами притяжения, патриархами - до той поры, пока в свой черед не передадут престол выводку малышей, играющих во дворе. Я смотрел на мать, старую крестьянку, с лицом спокойным и строгим, со сжатыми губами; лицо ее обратилось в каменную маску. И я узнавал в нем лица сыновей. В этой маске они были отлиты. В этом теле были отлиты их тела, прекрасные образцы человеческой породы; они держались прямо, как деревья. Теперь маска лежала разбитая - но так трескается крепкая скорлупа, из которой вылущили плод. Сыновья и дочери в свой черед будут отливать из своей плоти человеческий молодняк. На ферме не умирают. Мать умерла, да здравствует мать! Горькая, да, но такая простая картина: этот род, оставляя на пути одного за другим своих прекрасных седоволосых покойников, шествует через все метаморфозы к неведомой истине. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Надо придать смысл человеческой жизни Статья напечатана в "Пари-суар" 4 октября 1938 г. Ее текст позднее был в значительной части использован в книге "Планета людей". (2) Рифская война - колониальная война Франции и Испании в Марокко в 1921-1926гг. против независимой республики, созданной племенами горной области Риф; закончилась разгромом Рифской республики. (3) Мермоз Жан (1901-1936) - знаменитый французский летчик. Работая в авиакомпании "Аэропосталь", первым проложилпочтовые авиалинии над Андами и через Атлантический океан между Францией и Южной Америкой. Пропал без вести во время одного из полетов. (4) Юби (Джуби) - мыс на западном побережье Африки, на юге Марокко. В 1927-1929гг. Сент-Экзюпери работал начальником расположенного там промежуточного аэродрома на почтовой авиалинии. (5) ...куртелиновского мелкого буржуа... - Имеются в виду персонажи сатирических произведений французского писателя Жоржа Куртелина (1858-1929). (6) ..мистику пангерманизма или Римской империи. - Имеются в виду шовинистические лозунги "великой Германии" и "возрождения Римской империи", провозглашавшиеся официальной фашистской пропагандой в Германии и Италии. Сергей ЗенкинАнтуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет»
Посвящается Дидье Дора
I
Холмы под крылом самолета уже врезали свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начинали гореть ровным, неиссякаемым светом; в этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют снежную белизну. И пилот Фабьен, который с крайнего юга, из Патагонии, вел почтовый самолет на Буэнос-Айрес, узнавал о приближении вечера по тем же приметам, по каким узнают об этом воды в гавани: по спокойствию, по легким складкам, что едва вырисовываются на тихих облаках. Фабьен словно выходил на бескрайний, безмятежный рейд. Порой в этой тишине ему начинало казаться, что он совершает неторопливую прогулку, что он – пастух. Пастухи Патагонии бредут не спеша от стада к стаду; Фабьен шел от города к городу – он пас эти маленькие городишки. Он встречал их каждые два часа; города приходили на водопой к берегам рек или щипали траву на равнинах. Иногда, после сотен километров степей, более безлюдных, чем море, он пролетал над уединенной фермой; казалось, она плывет ему навстречу по волнам прерии и несет на себе груз человеческих жизней. И, покачивая крыльями, Фабьен приветствовал этот корабль. «Показался Сан-Хулиан; через десять минут пойдем на посадку.» Бортрадист передал это сообщение по всей линии. На две с половиной тысячи километров, от Магелланова пролива до Буэнос-Айреса, растянулись цепью посадочные площадки; все они похожи друг на друга, но за этим аэродромом начиналась ночь; так в Африке, за последним покорным селением, проходит граница неведомого. Радист передал пилоту записку: «Вокруг бушуют грозы, у меня в наушниках сплошные разряды. Может, заночуем в Сан-Хулиане?» Фабьен улыбнулся; небо спокойно, как вода в аквариуме, и все аэропорты впереди по пути следования сообщают: «Небо чистое, полное безветрие». Он ответил: – Полетим дальше. А радист думал о том, что где-то, как черви внутри плода, притаились грозы; ночь казалась прекрасной, но кое-где начинала подгнивать, и ему было противно погружаться в этот мрак, скрывающий в себе гниль и разложение. Сбавляя над Сан-Хулианом газ, Фабьен ощутил усталость. Все, что делает жизнь людей приятной: дома, небольшие кафе, аллеи, – все это росло, надвигаясь на него. Он был подобен завоевателю, который вечером, после победы, вглядывается в земли завоеванного края и обнаруживает скромное счастье людей. Фабьену хотелось сбросить с себя доспехи, ощутить тяжесть усталого тела – ведь и в тяготах есть своя отрада – и оказаться простым человеком, созерцающим в окно своего дома низменный, застывший пейзаж. Фабьен остановил бы свой выбор на этом случайном крохотном городке, а выбрав – полюбил бы его, полюбил бы размеренность его существования. Жизнь в таком городке – словно любовь – умеряет порывы. Хорошо бы поселиться здесь надолго, получить здесь свою долю вечности. Фабьену казалось, что городки, где он останавливался на час, и сады, обнесенные старыми стенами, существуют вечно, безразличные к его, Фабьена, жизни. И городок поднимался навстречу экипажу, принимая его в свои объятия. И Фабьен думал о дружбе, о ласковых девушках, об уюте и тепле белой скатерти – обо всем, с чем человек сживается постепенно и навсегда. Городок бежал уже под самыми крыльями, выставляя напоказ тайны своих садов: ограды не служили им больше защитой. Но, приземлившись, Фабьен понял, что ровно ничего не увидел, кроме ленивых движений нескольких человек среди принадлежавших им камней. Городок самой неподвижностью оберегал от постороннего глаза секреты своих привязанностей, он отказывал Фабьену в ласке: для того чтобы завоевать этот городок, надо было отречься от действия. Десять минут – и снова в путь. Фабьен обернулся и посмотрел на Сан-Хулиан; теперь это была лишь горстка огней; потом она превратилась в пригоршню звезд и, поманив его еще раз, рассеялась пылью. «Уже не видно приборов, надо включить свет.» Он прикоснулся к контактам; но свет красных лампочек кабины расплывался в голубоватом сиянии сумерек и не освещал циферблатов. Фабьен поднес руку к лампочке – пальцы почти не окрасились. «Слишком рано.» А ночь поднималась темными клубами дыма и заполняла лощины. Впадины долин уже сливались с равнинными просторами. В деревнях загорались огни; их созвездия перекликались во мраке, и Фабьен, мигая бортовыми огнями, отвечал огонькам деревень. Всю землю обволокла сеть манящих огней; каждый дом, обратясь лицом к бескрайней ночи, зажигал свою звезду; так маяк посылает свой луч во тьму моря. Искры мерцали всюду, где жил человек. Самолет входил сегодня в ворота ночи, как суда входят на рейд, – легко и плавно. И Фабьен был счастлив. Он нагнулся к приборной доске. Стрелки уже начинали фосфоресцировать. Проверил показания приборов – и остался доволен. Итак, он сидит в небе прочно. Тронув пальцем стальной лонжерон, он ощутил в металле пульсацию жизни; металл не дрожал – он жил. Пятьсот лошадиных сил, впряженных в мотор, породили в недрах вещества легчайшие токи – холод металла преобразился в бархатистую плоть. Пилот снова ощутил теперь в полете не головокружение, не хмельную радость, но лишь таинственную работу живого организма. Теперь, создав свой собственный мир, он мог устроиться в нем поудобнее. Фабьен постучал по распределительному щиту, проверил один за другим все контакты, немного поерзал на месте и уселся покрепче, пытаясь отыскать наиболее удобное положение, чтобы чувствовать малейшее колебание пяти тонн металла, которые взвалила себе на плечи зыбкая ночь. Потом ощупал запасную лампу, поставил ее на место, отпустил и снова взял, убедился, что она не скользит, опять отпустил и опять нашел ее, проверил на ощупь каждую рукоятку, каждый рычаг, убеждаясь, что может схватить их сразу и наверняка, приучая свои пальцы действовать в мире слепоты. Потом, когда пальцы усвоили это, он разрешил себе включить свет – и кабина сразу же украсилась точными приборами; теперь он мог следить за погружением самолета в ночь по одним только циферблатам. И поскольку ничто не дрожало, не колебалось и не вибрировало, поскольку и гироскоп, и высотомер, и режим мотора – все оставалось стабильным, он потянулся, прислонился к кожаной спинке кресла и погрузился в полет, в глубокое раздумье, таящее необъяснимую сладость надежды. И теперь, неся в самом сердце ночи свою сторожевую вахту, он обнаружил, что в ночи раскрывается перед ним человек: его призывы, огни, тревоги. Та простая звездочка во мраке – это дом, и в нем – одиночество. А та, что погасла, – это дом, приютивший любовь… Или тоску. Дом, который не шлет больше сигналов всему остальному миру. Облокотясь о стол, сидят у лампы крестьяне и лелеют в душе смутные, им самим неведомые надежды; этим людям и невдомек, что помыслы их летят так далеко во мраке сомкнувшейся над ними ночи. Но Фабьен слышит их, когда, пролетев тысячу километров, он чувствует, как волны, взнесенные из бездонных глубин, поднимают и опускают его самолет, в котором пульсирует жизнь; он пробился – как сквозь десять войн – сквозь десять гроз, прошел по лужайкам лунного света, что пролегли между грозами, и вот, победитель, достиг наконец этих огней. Людям кажется, что лампа освещает только их скромный стол; но свет ее, пролетев восемьсот километров, уже достиг кого-то – как призыв, как крик отчаяния с пустынного, затерянного в море островка.II
Итак, три почтовых самолета – из Патагонии, из Чили и из Парагвая – возвращались в Буэнос-Айрес с юга, запада и севера. В Буэнос-Айресе почту должны были погрузить в самолет, который около полуночи отправлялся в Европу. Трое пилотов летели, затерянные в ночи, размышляли о полете и, держа курс на огромный город, медленно спускались со своих грозных или мирных небес, как спускаются с гор крестьяне. Ривьер, директор сети воздушных сообщений, шагал взад и вперед по посадочной площадке буэнос-айресского аэропорта. Он был молчалив: ни один из трех самолетов еще не приземлился – и день продолжал таить в себе опасность. Но приходили телеграмма за телеграммой, и Ривьер ощущал, как с каждой минутой сокращается область неведомого и он, вырывая что-то из лап судьбы, вытягивает экипажи самолетов из ночи на берег. Подошел служащий и передал Ривьеру радиограмму: – Почтовый из Чили сообщает, что видит огни Буэнос-Айреса. – Хорошо. Скоро Ривьер услышит гул мотора; ночь уже отдает ему один самолет; так приливы и отливы моря, полного тайн, выбрасывают на берег сокровище, которое долго качалось в волнах. А вскоре ночь вернет ему и два других самолета. Тогда этот день завершится. Тогда усталые команды отправятся спать и свежие команды придут им на смену. Но Ривьер не сможет отдохнуть: настанет черед тревоги за европейский почтовый. И так будет всегда. Всегда. Впервые этот старый боец с удивлением почувствовал, что устал. Прибытие самолетов никогда не явится для него той победой, которая завершает войну и открывает эру благословенного мира. Это будет всегда лишь еще одним шагом, за которым последует тысяча подобных шагов. Ривьеру казалось, что он держит на вытянутой руке огромную тяжесть, держит долго, без отдыха, без надежды на отдых. «Старею…» Должно быть, он стареет, если душа его требует какой-то иной пищи, кроме действия. Странно, такие мысли никогда еще его не тревожили. Задумчиво журча, к нему подступали волны доброты и нежности, которые он обычно гнал от себя, – волны безвозвратно утраченного океана. «Значит, все это так близко?..» Да, незаметно и постепенно пришел он к старости, к мыслям: «А вот настанет время», к мыслям, которые так скрашивают человеческую жизнь. Будто и на самом деле в один прекрасный день может «настать время» и где-то в конце жизни достигнешь блаженного покоя – того, что рисуется в грезах!.. Но покоя нет. Возможно, нет и победы. Не могут раз навсегда прибыть все почтовые самолеты… Ривьер остановился около старого механика Леру, возившегося у самолета. Как и Ривьер, Леру работал уже сорок лет. Он отдавал работе все свои силы. Когда в десять вечера или в полночь Леру приходил домой, перед ним не открывался какой-то другой мир; возвращение домой не было для него бегством. Ривьер улыбнулся этому человеку с грубым лицом; механик кивнул на отливающую синевой ось: «Она была слишком туго закреплена, я исправил». Ривьер наклонился к оси. Он снова вернулся к служебным заботам. «Нужно будет сказать в мастерских, чтобы подгоняли эти штуки посвободнее.» Потрогав пальцем царапины на металле, Ривьер опять внимательно посмотрел на Леру, на его суровое морщинистое лицо. С языка сорвался странный вопрос, и сам Ривьер улыбнулся, задавая его: – Скажите, Леру, в своей жизни вы много времени потратили на любовь? – О, любовь, господин директор… знаете ли… – Вам, как и мне, всегда не хватало времени… – Да, не очень-то хватало… Ривьер вслушивался в его голос, пытаясь понять, звучит ли в ответе горечь; но горечи не было. Оглядываясь на прожитую жизнь, этот человек испытывал спокойное удовлетворение столяра, отполировавшего великолепную доску: «Вот и все! Готово!» «Вот и все! – подумал Ривьер. – Моя жизнь тоже готова!» Он отогнал грустные мысли, навеянные усталостью, и направился к ангару: чилийский самолет уже гудел в воздухе.III
Отдаленный гул мотора наливался, густел. Зажглись посадочные огни. Красные фонари ночного освещения вычертили контуры ангара, радиомачт, квадратной площадки. Все приняло праздничный вид. – Вот он! Самолет уже катился по земле в лучах прожекторов. Он так сверкал, – что казался совсем новым. Вот он остановился наконец перед ангаром; механики и подсобные рабочие устремились к нему, чтобы выгрузить почту, но пилот Пельрен не шевелился. – Эй! Чего вы ждете? Выходите! Занятый каким-то таинственным делом, пилот не отвечал. Вероятно, он прислушивался к еще не угасшему в нем шуму полета. Он медленно покачал головой, нагнулся и стал что-то ощупывать внизу. Наконец выпрямился, обернулся к начальству, к товарищам и обвел их серьезным взглядом, словно осматривая свое достояние. Казалось, он пересчитывает, измеряет, взвешивает. Он честно заслужил все это: и дружескую встречу, и праздничное убранство ангара, и прочность цемента, и там, вдали, город с его движением, с его женщинами, с его теплом. Теперь он крепко держал людей в широких ладонях, держал своих подданных: он мог их осязать, слышать, мог обругать их. Да, сначала он даже решил обругать их за то, что они так спокойны, уверены в своей безопасности – стоят и любуются луной. Но он сменил гнев на милость: – За выпивку платите вы… И вылез из кабины. Ему захотелось рассказать о том, что он пережил в полете. – Если б вы только знали!.. Считая, видимо, что этим все сказано, он принялся стаскивать с себя кожаную куртку. Когда автомобиль уносил Пельрена вместе с хмурым инспектором и молчаливым Ривьером к Буэнос-Айресу, пилоту взгрустнулось. Конечно, что может быть приятнее – выпутаться из беды и, обретя под ногами твердую землю, отпускать без зазрения совести сочные ругательства. Куда как весело!.. И все же, как вспомнишь, становится не по себе. Сражение с циклоном – это, по крайней мере, нечто реальное, откровенное. Иное дело – облик вещей, когда им кажется, что они одни. «Будто в дни восстания, – подумал Пельрен, – лица людей только чуть бледнеют – но как все кругом меняется!» Усилием воли он заставил себя вспомнить о пережитом. Мирно летел он над Андийскими Кордильерами. Здесь царила великая тишина снегов. В это нагромождение вершин снег внес покой – как вносят его века в мертвые старинные замки. На две сотни километров – ни души, ни малейшего признака жизни, ни одного живого движения. Только отвесные кручи, что вздымаются до шести тысяч метров, только каменные одежды, спадающие вниз прямыми складками, только грозное спокойствие вокруг. Это произошло вблизи пика Тупунгато… Пельрен задумался. Да-да, именно там стал он свидетелем чуда. Сначала он ничего не увидел, только ощутил смутное беспокойство. Как человек, который думал, что он один и вдруг чувствует: нет, он уже не один, кто-то на него смотрит. Так и Пельрен – слишком поздно и не понимая еще что к чему – ощутил, что вокруг него смыкается кольцо гнева. Вот и все. Откуда вырывался этот гнев? И как угадал пилот, что гнев источают и камни и снега? Ведь, казалось, ровно ничего не произошло; не было и тени наплывающей бури. Но у него на глазах рождался иной мир, чем-то неуловимо отличавшийся от привычного. С необъяснимой тоской смотрел человек на вершины, выглядевшие так простодушно, на снежные гребни, почти такие же белые, как обычно. Все это медленно оживало – как народ. Пельрен еще не вступил в борьбу; он крепко стиснул штурвал. Готовилось нечто, чего он не мог понять. Точно зверь перед прыжком, напрягал он мускулы, – но все, что он видел перед собой, было спокойно. Да, спокойно, – но в этом спокойствии таилась странная мощь. Потом все вдруг заострилось. Гребни и пики стали внезапно острыми; пилот почувствовал, что они, как форштевни, рассекают упругую грудь ветра. Потом ему стало казаться, что они кружатся вокруг него и разворачиваются, готовясь к бою, будто огромные корабли. Затем в воздух поднялась пыль; она летела над снегами и легко, словно парус, колыхалась на ветру. Тогда, пытаясь нащупать путь, на случай если придется отступить, Пельрен посмотрел назад – и содрогнулся: Кордильеры пришли в волнение. – Теперь мне крышка. Впереди остроконечная вершина, словно вулкан в миг извержения, выбросила столб снежной лавы. Потом фонтан снега взвился над другим пиком, немного правее. И вот стали вспыхивать все пики; казалось, их зажигает один за другим невидимый факельщик. Закружился первыми водоворотами воздух. И горы вокруг пилота закачались… Неистовая схватка почти не оставляет следов; Пельрен искал и больше не находил в себе воспоминаний о мощных вихрях, которые завертели его. Он помнил только, как яростно барахтался в языках серого пламени. Он задумался. «Циклон – это ничего. Тут уж спасаешь свою шкуру. Но пока он еще не начался! Эта первая встреча!..» Ему казалось, что теперь среди тысячи лиц он сможет узнать это яростное лицо; и, однако, он уже забыл его.IV
Ривьер смотрел на Пельрена. Через двадцать минут тот выйдет из машины и, утомленный, отяжелевший, смешается с толпой. Может быть, он подумает: «Ну, и устал же я… Гнусная работенка!» И скажет жене: «А ведь здесь, пожалуй, лучше, чем над Андами» – или что-нибудь в этом роде… И, однако, Пельрен почти отрешился от всего, за что так цепко держатся люди; он только что узнал, как все это мелко. Он прожил несколько часов по ту сторону декораций, прожил, не зная, будет ли ему дано вновь обрести этот город с его огнями, увидит ли он еще раз пусть скучноватых, но таких дорогих спутников детства – свои маленькие человеческие слабости. «В любой толпе, – думал Ривьер, – есть люди, которые ничем из нее не выделяются. Но они вестники Чудесного и сами того не знают. Разве что…» Ривьер боялся иных поклонников авиации. Они не понимали сокровенного смысла трудной жизни летчиков; их восторги извращали самое существо приключения и принижали людей. Но в Пельрене было благородное величие человека, который просто лучше других знает, чего стоит наш мир, если взглянуть на него под определенным углом зрения, – величие человека, который грубовато пренебрегает пошлыми знаками одобрения… Ривьер поздравил его по-своему: – Как вам удалось?.. Ему нравилось, что Пельрен говорил о своем ремесле просто, говорил о полетах, как кузнец о своей наковальне. Пельрен, чуть ли не извиняясь, начал объяснять: «Путь к отступлению оказался отрезан; у меня не было выбора». К тому же он ничего не видел: снег слепил глаза. Его спасли бешеные токи воздуха – они подбросили самолет на высоту семи тысяч метров. «Все время, пока я переваливал через горы, мне приходилось лететь вровень с вершинами.» Он сказал также, что следовало бы переместить воздухозаборник гироскопа, а то его забивает снегом: «Понимаете, образуется ледяная корка…» Потом новые воздушные потоки завертели Пельрена, отбросили его вниз, до трех тысяч метров. И как он только не наткнулся на скалы! Вдруг оказалось, что он летит уже над равниной. «Смотрю, а вокруг самолета – чистое небо!» Пельрену показалось в тот миг, что он вышел из темной пещеры… – В Мендосе – тоже буря? – Нет. Когда я сел, небо было совсем чистое; никакого ветра. Но буря шла за мной по пятам. Он описал ее, эту бурю, потому что, сказал он, «как-никак все это было довольно странно». Вершина бури терялась где-то в вышине, среди снежных туч, а основание катилось по равнине, как черный поток лавы. Он поглощал город за городом. «Отродясь не видал ничего подобного…» И Пельрен замолчал, настигнутый каким-то воспоминанием. Ривьер обернулся к инспектору: – Это циклон с Тихого океана; нас предупредили слишком поздно. Впрочем, такие циклоны никогда не переваливают через Анды. Кто мог предвидеть, что на этот раз циклон продолжит свой путь на восток… Инспектор, ничего не понимавший в этих вещах, согласился с Ривьером. Будто собираясь что-то сказать, инспектор обернулся к Пельрену; под кожей у инспектора заходил кадык. Но он промолчал и, словно передумав, опять стал смотреть прямо перед собой с меланхолическим достоинством. Свою меланхолию инспектор возил с собой, как багаж. Он приехал в Аргентину накануне, вызванный Ривьером для выполнения довольно неопределенных обязанностей, и не знал, куда девать свои большие руки и свое инспекторское достоинство. Он не имел права ни на выражение восторга, ни на фантазию, ни на остроумие; по своей должности он должен был восхищаться лишь одним качеством: пунктуальностью. Он не имел права выпить стаканчик-другой в компании приятелей, не имел права быть с товарищами на «ты», не мог отважиться на каламбур – разве только свершится невозможное и судьба пошлет ему в каком-нибудь аэропорту встречу с другим инспектором. «Трудно быть судьей», – думал он. Говоря откровенно, суда он не вершил – он лишь качал головой. Встретившись с чем-то, чего он не понимал (а он не понимал ничего), он медленно качал головой. Это приводило в смятение тех, у кого совесть была нечиста, и способствовало исправному уходу за оборудованием. Его никто не любил: инспектор создан не для любовных утех, а для составления рапортов. Он отказался от мысли предлагать в рапортах какие-либо новые методы или технические усовершенствования – отказался, с тех пор как Ривьер написал: «Инспектора Робино просят представлять не поэмы, а рапорты. Инспектору Робино надлежит употреблять свои знания для того, чтобы стимулировать служебное рвение персонала». И с той поры человеческие слабости стали его хлебом насущным. Он охотился за любившим выпить механиком, и за начальником аэродрома, явившимся на работу после разгульной ночи, и за пилотом, неумело посадившим самолет. Ривьер говорил о нем: «Он не очень умен, поэтому приносит большую пользу». Правила, установленные Ривьером, были для самого Ривьера результатом изучения людей; для Робино существовало лишь изучение правил. – Робино, – сказал ему как-то Ривьер, – во всех случаях, когда самолет вылетает с опозданием, вы должны лишать виновных премии за точность. – Даже тогда, когда задержка от них не зависит? Даже в случае тумана? – Даже в случае тумана. И Робино испытал своего рода гордость: значит, человек, под чьим началом он служит, так силен, что не боится быть несправедливым. Значит, на Робино тоже падает отблеск величия этой власти, не боящейся обижать людей. – Вы дали отправление в шесть пятнадцать, – повторял он потом начальникам аэропортов. – Мы не можем выплатить вам премию. – Но, господин Робино, ведь в пять тридцать за десять шагов не было видно ни зги! – Правила есть правила. – Господин Робино, не можем же мы разогнать туман! Но Робино напускал на себя таинственность и молчал. Он представлял дирекцию. Из всех этих пешек он один понимал, что, наказывая людей, можно улучшать погоду. «Он вообще не думает, – говорил о нем Ривьер, – это лишает его возможности думать неверно». Пилот, калечивший машину, лишался премии за безаварийные полеты. – А если пилот терпит аварию над лесом? – Безразлично, хотя бы и над лесом. И Робино неукоснительно следовал этому указанию. – Я очень сожалею, – говорил он пилотам, упиваясь собственными словами, – я бесконечно сожалею, но старайтесь терпеть аварии не над лесом. – Но, господин Робино! Ведь это от нас не зависит! – Правила есть правила. «Правила, – думал Ривьер, – похожи на религиозные обряды: они кажутся нелепыми, но они формируют людей». Ривьеру было безразлично, справедлив он в глазах людей или несправедлив. Быть может, слова «справедливость» и «несправедливость» вообще были лишены для него всякого смысла. В маленьких городках обыватели кружатся вечерами вокруг беседки, в которой играет музыка; Ривьер думал: «Какой смысл говорить о справедливости или несправедливости по отношению к ним: они пока еще не существуют». Человек был для него девственным воском, из которого предстояло что-то вылепить. В эту материю надо вдохнуть душу, наделить ее волей. Своей суровостью он хотел не поработить людей, а помочь им превзойти самих себя. Наказывая их за каждое опоздание, он совершал несправедливость, – но тем самым он устремлял волю людей, их помыслы на одно: на то, чтобы в каждом аэропорту самолеты вылетали без опозданий; он создавал эту волю. Не позволяя людям радоваться нелетной погоде как приглашению отдохнуть, он заставлял их напряженно ждать минуты, когда небо прояснится; и каждый – вплоть до последнего подсобного рабочего – в душе воспринимал это ожидание как что-то унизительное. И они стремились использовать первую же трещину в небесной броне. «На севере – окно! В путь!» Благодаря Ривьеру на всей линии в пятнадцать тысяч километров господствовал культ своевременной доставки почты. Ривьер говорил иногда: – Эти люди счастливы: они любят свое дело, и любят его потому, что я строг. Может быть, он и причинял людям боль, но он же давал им огромную радость. «Нужно заставить их жить в постоянном напряжении, – размышлял Ривьер, – жизнью, которая приносит им и страдания и радости; это и есть настоящая жизнь». Когда машина въехала на улицы города, Ривьер приказал отвезти его в контору компании. Оставшись наедине с Пельреном, Робино посмотрел на летчика и заговорил.V
В тот вечер Робино охватила тоска. Перед лицом Пельрена-победителя он только что обнаружил, насколько серой была его собственная жизнь. Обнаружил, что он, Робино, несмотря на свое звание инспектора, на свою власть, стоил меньше, чем этот разбитый усталостью, закрывший глаза человек с черными от масла руками, забившийся в угол машины. Впервые Робино испытывал восхищение и потребность выразить это чувство. А больше всего – потребность в дружбе. Он устал от поездки, от каждодневных неудач; он даже чувствовал себя немного смешным. В этот вечер, проверяя склад горючего, он совершенно запутался в цифрах, и тот самый кладовщик, которого он хотел поймать на злоупотреблениях, сжалился над ним и закончил за него подсчеты. Больше того, заявив, что масляный насос типа «Б-6» установлен неправильно, он спутал его с масляным насосом типа «Б-4», и коварные механики позволили ему добрых двадцать минут клеймить позором «невежество, которому нет оправдания», – его собственное невежество. К тому же он боялся своей комнаты в гостинице. Везде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, он шел после работы в свой неизменный номер. Обремененный переполнявшими его тайнами, он запирался на ключ, вынимал из чемодана стопу бумаги, медленно выводил слово «Рапорт» и, написав несколько строчек, рвал бумагу в клочки. Он страстно мечтал спасти компанию от великой опасности. Но компании никакая опасность не угрожала. До сих пор ему удалось спасти одну лишь втулку винта, тронутую ржавчиной. Неторопливо водя пальцем по этой ржавчине, он мрачно смотрел на стоявшего перед ним начальника аэродрома; тот ответил: «Обратитесь в посадочный пункт, откуда этот самолет только что прибыл…» Робино начинал сомневаться в значительности своей роли. Желая сблизиться с Пельреном, он отважился предложить: – Не пообедаете ли со мной? Мне хочется немного поболтать… Мои обязанности не так уж легки… – Но, боясь упасть в глазах пилота, тут же поправился: – На мне лежит такая ответственность! Подчиненные не любили допускать Робино в свою частную жизнь. Каждый думал: «Пока он еще ничего не нашел для своего рапорта, но как только он проголодается, он меня съест». Однако в тот вечер Робино думал лишь о своих бедах: его подлинную тайну составляла тягостная экзема, постоянно мучившая его, и ему захотелось сегодня рассказать об этом, захотелось, чтобы его пожалели: не находя больше утешения в гордости, он искал его теперь в смирении. Во Франции у него была любовница; возвращаясь, он рассказывал ей по ночам о своей инспекционной деятельности, – это был его способ обольщения, – но он знал, что она не любит его и сегодня ему было просто необходимо поговорить о ней. – Так вы пообедаете со мной? Пельрен великодушно согласился.VI
Служащие дремали за столами буэнос-айресской конторы, когда вошел Ривьер. В своем неизменном пальто, в шляпе он, как всегда, был похож на вечного путешественника и почти не привлекал к себе внимания – так мало места он занимал, невысокий, сухощавый, так подходили к любой обстановке его седые волосы, его безликая одежда. Но люди ощутили внезапный прилив рвения. Зашевелились секретари, начал перелистывать последние документы заведующий бюро, застучали пишущие машинки. Телефонист подключил аппарат и принялся что-то вписывать в толстую книгу регистрации телеграмм. Ривьер сел и стал читать. Самолет, который прибыл из Чили, выдержал испытание: перед Ривьером проходили события удачного дня, когда все как-то устраивается само собой, когда донесения, которые, облегченно вздыхая, посылают один за другим аэропорты, становятся скупыми сводками одержанных побед. Почтовый из Патагонии тоже шел быстро вперед; он даже опережал расписание: ветры гнали с юга на север огромную попутную волну. – Дайте метеосводки. Каждый аэропорт хвастался ясной погодой, прозрачным небом, славным ветерком. Америку окутывал золотистый вечер. Ривьер радовался этому усердию природы. Где – то в ночи вел битву самолет из Патагонии, но у него были все шансы на победу. Ривьер отодвинул тетрадь. – Хорошо! И вышел из кабинета, чтобы взглянуть, как работают люди, – ночной страж, бодрствующий над доброй половиной мира. Он остановился перед открытым окном – и постиг ночь, эту ночь, принявшую Буэнос-Айрес, всю Америку под свои просторные своды. Он не удивился этому ощущению величия. Небо Сантьяго – небо чужой страны; но самолет идет в Сантьяго, люди по всей линии, из конца в конец, живут под одним бездонным куполом. Вот летит сейчас другой почтовый самолет, тот, чей голос так жадно ловят наушники радистов; еще недавно рыбаки Патагонии видели сверкание его бортовых огней. Чувство тревоги за находящийся в полете самолет ложится грузом не только на плечи Ривьера: услышав рокот мотора, столичные города и провинциальные городишки чувствуют ту же тревогу. Радуясь, что ночь так чиста, он вспомнил другие ночи, когда казалось, будто самолет погружается в хаос и спасти его невообразимо трудно… В такие ночи радиостанция Буэнос-Айреса слышит, как к жалобе самолета примешивается хруст гроз; за глухой оболочкой пустой породы теряется золотая жила музыкальной радиоволны. И какая скорбь звучит в минорной песне самолета, который, как слепая стрела, устремляется навстречу опасностям ночи! «В ночь дежурства место инспектора – в конторе», – подумал Ривьер. – Разыщите Робино! Тем временем Робино старался завоевать дружбу пилота. В гостинице он распаковал перед Пельреном свой чемодан; из недр чемодана явились на свет те малозначительные предметы, которые сближают инспекторов с остальной частью человечества: несколько безвкусных сорочек, несессер с туалетными принадлежностями, фотография тощей женщины (инспектор приколол ее к стене). Так он смиренно исповедовался перед Пельреном в своих нуждах, в своих нежных чувствах, в своих печалях. Раскладывая перед летчиком эти жалкие сокровища, он выставлял напоказ свою нищету. Свою нравственную экзему. Он показывал свою тюрьму. Но у Робино, как у всех людей, был в жизни маленький луч света. С бесконечной нежностью он извлек с самого дна чемодана небольшой, тщательно завязанный мешочек. Он долго поглаживал его ладонью, не произнося ни слова. Потом разжал наконец руки: – Я привез это из Сахары… Инспектор даже покраснел от столь смелого признания. Его мучили неприятности; он был несчастлив в браке; жизнь его была безотрадной, и он находил утешение в маленьких черных камешках: они приоткрывали перед ним дверь в мир тайны. – Точно такие же попадаются иногда и в Бразилии, – сказал он и покраснел еще больше. Пельрен потрепал по плечу этого инспектора, склонившегося над легендарной Атлантидой… Что-то похожее на стыдливость заставило Пельрена спросить: – Вы интересуетесь геологией? – Это моя страсть. Во всем мире только камни были к нему мягки. Робино вызвали в контору; он стал грустен, но обрел при этом свое обычное достоинство. – Я вынужден вас покинуть: господин Ривьер требует меня по весьма важному делу. Когда Робино вошел в контору, Ривьер успел о нем забыть. Он размышлял, глядя на стенную карту, где красной краской была нанесена сеть авиалиний компании. Инспектор ждал его приказаний. После долгих минут молчания Ривьер, не поворачивая головы, спросил: – Что вы думаете об этой карте, Робино? Возвращаясь из мира грез, Ривьер предлагал иногда своим подчиненным подобные ребусы. – Эта карта, господин директор… Честно говоря, инспектор ничего о ней не думал; с суровым видом он созерцал карту и чувствовал, что инспектирует сразу Европу и Америку. А Ривьер между тем продолжал свои раздумья: «Лицо этой сети прекрасно, но грозно. Красота, стоившая нам многих людей, – молодых людей. На этом лице гордое достоинство отлично сработанной вещи, но сколько еще проблем ставит оно перед нами!..» Однако важнее всего для Ривьера всегда была цель. Робино по-прежнему стоял рядом, уставившись на карту; он понемногу приходил в себя. От директора он не ждал сочувствия. Однажды он попытался было разжалобить Ривьера, рассказав о своем нелепом, портившем ему жизнь недуге, но тот ответил насмешкой: – Экзема мешает вам спать – значит, она побуждает к действию. В этой шутке Ривьера была большая доля правды. Он утверждал: – Если бессонница рождает у музыканта прекрасные произведения – это прекрасная бессонница! Как-то он сказал, указывая на Леру: – Подумайте, как прекрасно уродство: оно гонит прочь любовь… Может быть, всем тем высоким, что жило в Леру, он был обязан обидчице судьбе, которая свела его жизнь к одной лишь работе… – Вы очень близки с Пельреном? – Гм… – Я не упрекаю вас. Ривьер повернулся и, нагнув голову, стал ходить по комнате мелкими шагами, увлекая за собой Робино. На устах директора заиграла печальная улыбка, значения которой Робино не понял. – Только… Только помните, что вы – начальник. – Да, – сказал Робино. А Ривьер подумал, что вот так каждую ночь завязывается в небе узелок новой драмы. Ослабнет воля людей – жди поражения; а предстоит, быть может, тяжелая борьба. – Вы не должны выходить из роли начальника, – Ривьер будто взвешивал каждое слово. – Возможно, ближайшей ночью вы отправите этого летчика в опасный рейс; он должен вам повиноваться. – Да… – В ваших руках, можно сказать, жизнь людей, и эти люди – лучше, ценнее вас… – Он запнулся. – Да, это важно. Ривьер по-прежнему ходил мелкими шагами; несколько секунд он помолчал. – Если они повинуются вам из дружбы – значит, вы их обманываете. Ведь вы, вы лично, не имеете права требовать от людей никаких жертв. – Да, конечно… – Если же они надеются, что ваша дружба может избавить их от трудной работы, тогда вы опять-таки их обманываете: они обязаны повиноваться в любом случае. Сядьте-ка. Ривьер мягко подтолкнул Робино к своему столу. – Я хочу напомнить вам о ваших обязанностях, Робино. Если вы устали, не у этих людей вам искать поддержки. Вы – начальник. Ваша слабость – смешна. Пишите. – Я… – Пишите: «Инспектор Робино налагает на пилота Пельрена такое-то взыскание за такой-то проступок». Проступок найдете сами. – Господин директор! – Исполняйте, Робино. Действуйте так, как если бы вы поняли. Любите подчиненных. Но не говорите им об этом. Отныне Робино будет с новым рвением требовать, чтобы на втулках не было ржавчины. Один из аэродромов линии сообщил по радио: «Показался самолет. Летчик дает сигнал: „Неисправность в моторе. Иду на посадку“. Значит, будут потеряны полчаса. Ривьер обозлился; так бывает при внезапной остановке курьерского поезда в пути, когда минуты начинают бежать вхолостую, уже не отдавая своей доли покоренных просторов. Большая стрелка часов на стене отсчитывала теперь мертвое пространство… А сколько событий могло бы вместиться в этот раствор циркуля! Чтобы обмануть тягостное ожидание, Ривьер вышел из комнаты, и ночь показалась ему пустой, как театр без актеров. «И такая ночь пропадает зря!» Со злобой смотрел он на чистое небо, украшенное звездами, на эти божественные сигнальные огни, на луну, – смотрел, как попусту растрачивается золото такой ночи. Но как только самолет поднялся в воздух, ночь снова стала для Ривьера волнующе прекрасной. Она несла в своем лоне жизнь. Об этой жизни и заботился Ривьер. – Запросите экипаж, какая у них погода. Промелькнули десять секунд. – Превосходная. Последовали названия городов, над которыми пролетал самолет, и для Ривьера это были крепости, взятые с бою.VII
Часом позже бортрадист патагонского почтового ощутил легкий толчок, точно кто-то приподнял его за плечи. Он посмотрел вокруг – тяжелые тучи притушили свет звезд. Он наклонился к земле, надеясь отыскать огни деревень, похожие на прячущихся в траве светлячков, но в этой черной траве ничто не сверкало. Он с тоскою подумал, что предстоит трудная ночь: наступление, отступление, захваченные территории, которые приходится возвращать врагу. Он не понимал тактики пилота; ему казалось, что они скоро врежутся в толщу ночи, как в стену. Теперь он заметил впереди, на горизонте, какие-то едва уловимые отблески, словно зарево над кузницей. Радист тронул Фабьена за плечо, но пилот не пошевельнулся. Первые волны дальней грозы докатились до самолета. Металл слегка всколыхнулся всей своей массой, навис тяжестью над телом радиста, потом будто растворился, растаял, и несколько секунд радист плыл один в ночной тьме. Тогда он вцепился обеими руками в стальные лонжероны. Во всей вселенной радист видел только красную лампочку, освещавшую кабину, и содрогнулся, представив, как он спускается в самое сердце ночи, под защитой одной только крохотной шахтерской лампы. Он не посмел тревожить пилота вопросами. Сжав руками сталь, подавшись вперед к Фабьену, смотрел он в его угрюмый затылок. В слабом свете вырисовывалась голова, неподвижные плечи. Большое темное тело чуть склонилось влево; обращенное к буре лицо омывалось, должно быть, отблесками грозы. Но этого радист не видел. Все чувства, торопливо сменявшие друг друга на устремленном к буре лице – гримаса досады, воля, гнев, – все сигналы, которыми бледное лицо пилота обменивалось с короткими вспышками грозовых огней, все это оставалось для радиста непостижимым. Но он угадывал мощь, затаившуюся в самой неподвижности этой темной фигуры. Он восхищался мощью; .которая неудержимо влекла его навстречу грозе, но и защищала его. Он знал, что руки, сомкнувшиеся на штурвале, уже пригнули бурю, как загривок зверя, а сильные, пока еще неподвижно застывшие плечи хранят огромный запас энергии. Радист подумал, что в конце концов вся ответственность ложится на пилота. И, словно усевшись на круп коня, летящего галопом в объятья пожара, радист с наслаждением ощутил материальную, весомую, прочную силу, которая струилась из этой неподвижно застывшей впереди черной фигуры. Слева, как маяк с мигающим огнем, слабо вспыхнул новый очаг. Радист хотел было дотронуться до плеча Фабьена, предупредить его, но летчик сам уже медленно поворачивал голову и несколько секунд смотрел в лицо новому врагу; потом, так же медленно, он принял прежнее положение: все те же неподвижные плечи, тот же прижатый к кожаной спинке затылок.VIII
Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись, хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной, его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов, – подчас тоже таит в себе тяжкие драмы: болезнь, любовь, смерть и, может быть… Собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна», – думал он. Позже, часам к одиннадцати вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно, к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей и, отступая перед огнями реклам, таяли в небе. «Сегодня в полете – два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда подает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя каким-то чужим, одиноким.» Вспомнилась музыкальная фраза – несколько нот из сонаты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки. – Такое искусство наводит скуку. И на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться. – Возможно, – ответил он. Как и теперь, он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть – ему одному среди всех этих недалеких людей. Задушевно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному. На тротуарах Ривьера толкали. Он думал: «Стоит ли раздражаться? Я – как человек, у которого болен ребенок; медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома». Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков. Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под чехлами. За сомкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок. Десять лет опыта и труда! Ему представилось: он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечтоболее ценное, чем золото, – живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых. В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека – дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде, от Тулузы до Буэнос-Айреса, не обрывалась цепь. » И человек этот даже не догадывается о собственном величии.» Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, словно болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу и для которых не существует – во всем мире не существует ничего, кроме зыбких невидимых стихий. Силой собственных рук, вслепую, должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание: «Чтоб разглядеть свои руки, мне пришлось их осветить…» В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это все, что остается от вселенной, и это необходимо спасти. Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Стрекотанье пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок; дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала; в затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу; выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находятся в полете, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несет в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящую вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу легкая волна – такая спокойная, не похожая на крик о помощи… И каждый раз в приглушенном телефонном звонке Ривьеру слышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движение дежурного, делало его похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны. – Сидите. Я подойду. Ривьер снял трубку и услышал гуденье ночного мира. – Говорит Ривьер. Слабый шум, потом голос: – Соединяю вас с радиостанцией. Снова шум, треск переключаемых контактов; потом другой голос: – Говорит радиостанция. Передаем телеграммы. Ривьер записывал, кивая головой: – Так… так… Ничего существенного. Обычные служебные сводки. Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений, Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные домашние звуки. – А самолеты? – Гроза. Самолетов не слышим. – Понятно. «Здесь ясная, звездная ночь, – думал Ривьер, – а радисты уже уловили в ней дыханье далеких гроз». – До свидания. Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь. – Бумаги на подпись, господин директор… – Хорошо. Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой, – думал Ривьер. – А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение».IX
Войдя с пачкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя. «Плохо дело.» На секунду прислонился к стене. «Экая нелепость!» Добрался до кресла. И снова – в который раз – он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его. «Столько трудов – и прийти к такому итогу! Мне за пятьдесят. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий, – и вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость!» Он отер пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу. Медленно перелистывал он бумаги. «В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено… Наложить на виновного строгое взыскание.» Он подписал. «На посадочной площадке Флорианополиса вопреки инструкциям…» Он подписал. «В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который…» Он подписал. Боль в боку затаилась, но не уходила; она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл, и заставляла Ривьера думать о себе самом – думать с горечью: «Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю – и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью». Ривьера вдруг охватила усталость; большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал: «А как хорошо было бы пожалеть людей…» Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги. «…что до Робле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала.» Ривьер вспомнил старика Робле, вспомнил вчерашний разговор: – Урок. Это будет хороший урок для остальных. – Но, мсье!.. Взгляните, мсье!.. Потрепанный бумажник, в нем – старый газетный лист: молодой Робле сфотографирован рядом с самолетом. Ривьер видит, как дрожит в старческих руках наивное свидетельство былой славы… – Это было в девятьсот десятом, мсье… Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет! Я в авиации – с девятьсот десятого года… Двадцать лет, мсье! И как вы только можете говорить… А молодые!.. Они будут смеяться надо мной в цеху… Ох, как они будут смеяться! – Это не относится к делу. – А мои дети, мсье! У меня дети!.. – Я вам уже сказал: вы получите место подсобного рабочего. – Но мое достоинство, мсье, мое достоинство! Подумайте, мсье, двадцать лет в авиации, старый рабочий – и вдруг… – Место подсобного рабочего. – Я отказываюсь, мсье, отказываюсь! Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки. – Место подсобного рабочего. – Нет, мсье, нет… Я хочу вам сказать… – Можете идти. «Я прогнал с такой жестокостью не его, – думает Ривьер. – Я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять – и они повинуются, и ты созидаешь. Да и людей созидаешь. Или устраняешь, если они – орудие зла». «Я хочу вам сказать…» Что хотел сказать ему несчастный старик? Что у него на старости лет отнимают единственную радость? Что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета? Что его жизнь лишается великой поэзии? И потом… что нужно как-то жить? «Я очень устал, – думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал: – Я так любил лицо этого старого товарища…» И снова увидел руки старика, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать: «Ну ладно, ладно, оставайтесь», – и по старым рукам пробежала бы волна радости, грезил Ривьер, и эта радость, о которой сказало бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки, – эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. «Разорвать бумагу?..» Семья старика, его возвращение вечером домой – и скромная гордость: – Так, значит, тебя оставляют? – Еще бы! Еще бы! Ведь это я собрал первый в Аргентине самолет! И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением… «Разорвать?» Позвонил телефон. Ривьер взял трубку. Долгое молчание. Потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось: – Говорит аэродром. Кто у аппарата? – Ривьер. – Господин директор, шестьсот пятидесятому дано отправление. – Хорошо. – Наконец все в исправности. Но пришлось в последний момент чинить проводку: оказались поврежденными контакты. – Хорошо. Кто монтировал цепь? – Мы проверим. Если разрешите, применим строгие меры: неисправность освещения на борту – вещь очень опасная! – Разумеется. Ривьер думал: «Если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Знать орудия зла и не бороться со злом – преступление. Нет, Робле должен уйти». Секретарь ничего не видел, он по-прежнему стучал на машинке. – Что вы печатаете? – Двухнедельный отчет. – Почему он до сих пор не готов? – Я… – Придется проверить. «Странно видеть, как берут верх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная темная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело.» Ривьеру подумалось – под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы. «Большое дело…» Ривьер пытался убедить самого себя: «Эти люди… Я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них…» Его сердце билось коротко, часто, больно. «Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точно цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека1 Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласке…» Он грезил наяву: «Жизнь полна противоречий… Каждый выпутывается из них, как может… Но завоевать право на вечность, но творить – в обмен на свою бренную плоть…» После краткого раздумья Ривьер позвонил. – Передайте пилоту европейского почтового: пусть зайдет ко мне перед вылетом. И подумал: «Нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью».Х
Жена пилота, разбуженная телефонным звонком, посмотрела на мужа, подумала: «Пусть еще немного поспит». Она любовалась его могучей обнаженной грудью; он был словно красавец корабль. Он спал в своей мирной постели, как в гавани, и, чтобы ничто не тревожило его сон, она расправляла пальцем складки, словно прогоняя тени, словно разглаживая легкую зыбь и успокаивая постель; так прикосновение божества смиряет море. Она встала, распахнула окно, подставила лицо ветру. Из окна открывался весь Буэнос-Айрес. В соседнем доме танцевали; ветер доносил обрывки мелодий – был час развлечений и отдыха. Город запрятал людей в свои сто тысяч крепостей; кругом все дышало спокойствием и уверенностью; но женщине казалось, что вот-вот раздастся призыв: «К оружию!» – и на этот клич отзовется один-единственный человек, ее муж. Он еще спал, но то был тревожный сон военных резервов, которые скоро будут брошены в бой. Дремлющий город не защищал его; жалкими покажутся летчику городские огни, когда он, молодой бог, взлетит над их пылью. Жена посмотрела на сильные ладони, которым через час будет вручена судьба европейского почтового, ответственность за что-то большое, подобное судьбе целого города. И в сердце закралась тревога. Этот человек – один среди миллионов – был предназначен для необычного жертвоприношения. Ей стало тоскливо. Он уйдет, ускользнет от ее нежности. Она лелеяла, ласкала, охраняла его не для себя, а для сегодняшней ночи, и эта ночь сейчас возьмет его – для битв, для тревог, для побед, о которых она никогда не узнает. Ей удалось на краткий срок приручить эти ласковые руки, но она лишь смутно представляла себе их истинное назначение. Она знала улыбку этого человека, знала чуткость влюбленного; но она не знала, как божественно гневен бывает он, оказавшись в сердце грозы. Она обвивала его нежными путами любви, музыки, цветов; но в час отлета он неизменно сбрасывал эти путы и, видимо, ничуть об этом не сожалел. Он открыл глаза: – Который час? – Полночь. – Какая погода? – Не знаю… Он поднялся. Потягиваясь, медленно подошел к окну. – Сегодня я, пожалуй, не замерзну. А какое направление ветра? – Ты так спрашиваешь, словно я в этом что-нибудь смыслю… Он выглянул в окно. – Южный. Прекрасно! Такой ветер удержится по меньшей мере до Бразилии. Он увидел луну и почувствовал себя совсем богатым. Потом перевел взгляд вниз, на город. Город не был сейчас для него ни желанным, ни светлым, ни теплым. Он уже видел, как развеивается по ветру бесполезная пыль огней большого города. – О чем ты думаешь? Он думал о том, что возле Порто-Аллегре возможен туман. – У меня своя тактика. Я знаю, как его обойти. Он все еще смотрел, наклонившись, в окно и глубоко дышал, словно обнаженный пловец перед прыжком в море. – Ты как будто не очень грустишь… На сколько дней ты улетаешь? – Дней на восемь, на десять. Он точно не знает. И отчего ему грустить?.. Равнины, горы, города – он отправляется их покорять. Он – вольная птица. Не пройдет и часа – он будет держать в руках весь Буэнос-Айрес, а потом отбросит его назад. Он улыбнулся. – Этот город… Скоро я буду далеко! Хорошо улетать ночью! Повернешь к югу, дашь газ, и через десять секунд весь ландшафт уже опрокинут, и ты летишь на север. И город под тобой – как морское дно. Она подумала: «От многого должен отказаться завоеватель…» – Ты не любишь свой дом? – Люблю… Но жена знала: он уже далеко от нее. Его широкие плечи уже раздвигают небосвод. Она показала ему на небо. – Смотри, что за погода! Твоя дорога вымощена звездами. Он рассмеялся. – Да. Положив руку ему на плечо, она с волнением почувствовала прохладу его кожи. И этому телу угрожает опасность!.. – Я знаю, ты сильный. Но будь благоразумен… – Ну конечно, я благоразумен… И опять рассмеялся. Он начал одеваться. Отправляясь на свой праздник, он наряжался в самые грубые ткани, в самую тяжелую кожу; он одевался, как крестьянин. И чем тяжелее он становился, тем больше она любовалась им. Помогла застегнуть пряжку пояса, натянуть сапоги. – Эти сапоги жмут. – Вот другие. – Отыщи-ка шнур, чтобы привязать запасной фонарик. Она оглядела мужа, в последний раз проверила его доспехи. Все пригнано как следует. – Какой ты красивый! Он тщательно причесывался. – Это для звезд? – Это – чтоб не чувствовать себя стариком. – Я ревную… Он снова рассмеялся, обнял ее, прижал к своей тяжелой одежде. Потом взял ее, как маленькую. – на руки и – все с тем же смехом – положил на кровать: – Спи! Закрыв за собой дверь, он вышел на улицу и среди преображенной мраком толпы сделал свой первый шаг к завоеванию ночи. Она осталась одна. Печально смотрела она на цветы, на книги – на все то нежное, мягкое, что для него было лишь дном морским.XI
Его принимает Ривьер. – В последнем рейсе вы выкинули номер. Пошли в обход. А метеосводки были прекрасные, вы свободно могли пройти напрямик. Испугались? Захваченный врасплох, пилот молчит, медленно трет ладони. Потом поднимает голову и смотрит Ривьеру прямо в глаза: – Да. В глубине души Ривьеру жаль этого смелого парня, который вдруг ощутил страх. Пилот оправдывается: – Я больше ничего не видел. Конечно, радио сообщало, это верно… Может быть, дальше… Но бортовой огонь почти исчез, я даже не видел собственных рук. Хотел включить головную фару, чтобы хоть крыло разглядеть, – все такая же тьма. Показалось, что я на дне огромной ямы и из нее не выбраться. А тут еще мотор стал барахлить… – Нет. – Нет? – Нет. Мы его потом осмотрели. Мотор в полном порядке. Но стоит испугаться – и сразу кажется, что мотор барахлит. – Да как тут было не испугаться! На меня давили горы. Хотел набрать высоту – попал в завихрение. Вы сами знаете: когда ничего не видишь – и еще завихрения… Вместо того чтобы подняться, я потерял сто метров. И уже не видел ни гироскопа, ни приборов. И стало казаться, что мотор не тянет, и что он перегрелся, что давление масла… И все это – в темноте. Как болезнь… Ну и обрадовался я, когда увидел освещенный город! – У вас слишком богатая фантазия. Идите. И пилот выходит. Ривьер поглубже усаживается в кресло, проводит рукой по седым волосам. «Это самый отважный из моих людей. Он вел себя в тот вечер превосходно. Но я спасаю его от страха. .» И снова, как минутная слабость, возник соблазн. «Чтобы тебя любили, достаточно пожалеть людей. Я никого не жалею – или скрываю свою жалость. А хорошо бы окружить себя дружбой, теплотой! Врачу это доступно. А я направляю ход событий. Я должен выковывать людей, чтобы и они направляли ход событий. Вечером, в кабинете, перед пачкой путевых листов особенно остро ощущаешь этот неписаный закон. Стоит только ослабить внимание, позволить твердо упорядоченным событиям снова поплыть по течению – и тотчас, как по волшебству, начинаются аварии. Словно моя воля – только она одна – не дает самолету разбиться, не дает ураганам задержать его в пути. Порою сам поражаешься своей власти». Он продолжает размышлять. «И тут нет, пожалуй, ничего странного. Так садовник изо дня в день ведет борьбу на своем газоне… Извечно вынашивает в себе земля дикий, первозданный лес; но тяжесть простой человеческой руки ввергает его обратно в землю». Он думает о пилоте: «Я спасаю его от страха. Я нападаю не на него, а на то темное, цепкое, что парализует людей, столкнувшихся с неведомым. Начни я его слушать, жалеть, принимать всерьез его страхи – и он поверит, что и впрямь побывал в некоей загадочной стране; а ведь именно тайны – только ее – он и боится; нужно, чтобы не осталось никакой тайны. Нужно, чтобы люди опускались в этот мрачный колодец, потом выбирались из него и говорили, что не встретили там ничего загадочного. Нужно, чтобы вот этот человек проник в самое сердце, в самую таинственную глубь ночи, в ее толщу, не имея даже своей шахтерской лампочки, которая освещает только руки или крыло, – и чтобы он своими широкими плечами отодвинул прочь Неведомое». Но даже в этой борьбе Ривьера и его пилотов связывало молчаливое братство. Они были людьми одной закалки, ими владела та же жажда победы Но Ривьер помнил и о других битвах, которые приходилось ему вести за покорение ночи. В официальных кругах на мрачные владения ночи смотрели с опаской, как на неизведанные лесные дебри. Заставить экипаж устремиться со скоростью двухсот километров в час навстречу бурям, туманам и всем тем угрозам, что таит в себе ночь, казалось рискованной авантюрой, допустимой лишь в военной авиации: вылетаешь с аэродрома в безоблачную ночь, проводишь бомбежку – и той же ночью возвращаешься на тот же аэродром. Но регулярные ночные рейсы обречены на неудачу. «Ночные полеты – это для нас вопрос жизни и смерти, – отвечал Ривьер. – Каждую ночь мы теряем полученный за день выигрыш во времени – теряем наше преимущество перед железной дорогой и пароходом». С досадой и скукой слушал Ривьер все эти разговоры: финансовая сторона дела, безопасность, общественное мнение… «Общественным мнением нужно управлять», – возражал он. Он думал: «Сколько времени пропадает напрасно! И все же есть в жизни нечто такое, что всегда побеждает! Живое должно жить, и для того чтобы жить, оно сметает с пути все помехи. Для того чтобы жить, оно создает свои собственные законы. Оно неодолимо». Ривьер не знал, когда гражданская авиация овладеет ночными полетами, не знал, какими путями она это совершит, но он знал, что это неизбежно и что готовиться к этому нужно уже сейчас. Ему вспоминаются зеленые скатерти, за которыми он сидел, подперев кулаком подбородок и слушая со странным сознанием собственной силы бесконечные возражения. Эти возражения казались ему бесцельными, осужденными на гибель самой жизнью. И он чувствовал, как растет, наливаясь тяжестью, его сила. «Мои доводы неопровержимы; победа останется за мной, – думал Ривьер. – К этому ведет естественный ход событий». Когда от него требовали каких-то гарантий, каких-то решений, устраняющих всякий риск, он отвечал: – Законы выводятся на основании опыта; познание законов никогда не предшествует опыту. После долгого года борьбы Ривьер добился своего. «Добился благодаря своей убежденности», – говорили одни. «Благодаря своему упорству, медвежьей силе, которая крушит все на пути», – заявляли другие. «Просто потому, что я избрал верное направление», – думал сам Ривьер. Но сколько предосторожностей пришлось принимать вначале! Самолеты вылетали с аэродрома лишь за час до рассвета и приземлялись не позже чем через час после захода солнца. И, только накопив некоторый опыт, Ривьер решился послать почтовые самолеты в ночные глубины. Почти лишенный последователей, осуждаемый чуть ли не всеми, он боролся теперь в одиночестве. Ривьер звонит, чтобы узнать, каковы последние сообщения с борта самолетов.XII
Тем временем патагонский почтовый вплотную подошел к буре, и Фабьен отказался от мысли обойти ее стороной. Он понял, что гроза охватила слишком большое пространство: линия молний уходила далеко вглубь, озаряя бастионы туч. И он решил: «Попытаюсь пройти под грозой, нырнуть под нее, ну, а уж если не удастся – лягу на обратный курс». Он посмотрел на высотомер. Тысяча семьсот метров. Дал ручку от себя, чтобы начать снижение. Мотор сразу стал сильно трясти, самолет задрожал. Фабьен на глаз выправил угол планирования, потом проверил по карте высоту холмов: пятьсот метров. Чтобы сохранить разрыв между собой и холмами, он решил идти на высоте семисот. Фабьен жертвовал высотой; так игрок ставит на банк все свое состояние. Самолет попал в завихрение, провалился вниз и задрожал еще сильнее. Фабьен почувствовал, что ему угрожает невидимый обвал. Ему представилось – машина поворачивает назад и возвращается в мир ста тысяч звезд… Но Фабьен не меняет курса ни на один градус. Пилот взвешивает… Возможно, гроза носит лишь местный характер. Ведь Трилью – ближайший аэропорт – сообщил, что небо закрыто на три четверти. Значит, в этой черной, плотной, как бетон, массе ему предстоит прожить всего каких-нибудь двадцать минут. И все же пилот в тревоге. Наклонившись влево, навстречу упругому ветру, он пытается найти те смутные проблески, которые обычно пробивают даже самую непроглядную ночную темь. Но сейчас нет даже проблесков – лишь едва заметно меняется плотность мрака. Быть может; его просто обманывает утомленное зрение. Он развертывает записку радиста: «Где мы?» Дорого дал бы Фабьен за то, чтобы это знать. Он отвечает: «Не знаю. Идем по компасу сквозь грозу». Он опять наклоняется. Его беспокоит пучок выхлопного пламени, повисший на моторе, как огненный букет; пламя так бледно, что появись луна, оно тотчас растворилось бы в лунном свете; но в этом мраке небытия оно вбирает в себя весь зримый мир. Пилот видит, как ветер туго сплетает языки огня, похожие на пылающие факелы. Каждые тридцать секунд Фабьен нагибается к приборам, чтобы проверить гироскоп и компас. Он не рискует больше включать красные лампочки: они надолго ослепляют его; но от приборов со светящимися циферблатами льется бледное звездное сияние. Здесь, среди стрелок и цифр, пилот испытывает обманчивое чувство безопасности; подобное ощущение бывает у человека в каюте корабля, когда волны перекатываются через палубу. С такой же ужасающей неумолимостью на самолет катится ночь и с нею все, что несет она в своем мраке: скалы, обломки, холмы… «Где мы?» – снова спрашивает радист. Фабьен опять наклоняется влево и возобновляет свое угрюмое бдение. Он уже не знает, сколько времени, сколько усилий понадобится ему, чтобы сбросить эти мрачные узы. Быть может, он вообще никогда не освободится от них; он поставил свою жизнь на карту – на эту грязную и скомканную бумажку, которую он разворачивает и читает в тысячный раз, стремясь почерпнуть в ней надежду. «Три-лью: небо закрыто на три четверти, ветер западный, слабый.» Если Трилью закрыт на три четверти, то в разрывах туч можно будет разглядеть его огни. Если только… Эта слабая надежда побуждает Фабьена лететь вперед, но сомнения не оставляют его; он кое-как царапает записку: «Не знаю, смогу ли пробиться. Спросите, по-прежнему ли ясно позади нас». Ответ удручающий: «Комодоро передает: вернуться сюда невозможно. Буря». Фабьен начинает догадываться: невиданная буря, бушующая над Андийскими Кордильерами, переменила фронт и двинулась к морю. Прежде чем Фабьен сможет добраться до городов, на них обрушится циклон. «Узнайте погоду в Сан-Антонио.» «Сан-Антонио отвечает: поднимается западный ветер; на западе – буря. Небо закрыто полностью. В Сан-Антонио плохая слышимость: помехи. Я тоже слышу плохо. Думаю, скоро придется убрать антенну – мешают разряды. Не собираетесь ли повернуть? Каковы ваши планы?» «Оставьте меня в покое. Запросите погоду в Вайя-Бланке.» «Вайя-Бланка отвечает: меньше чем через двадцать минут с запада обрушится на Вайя-Бланку сильная гроза.» «Запросите Трилью о погоде.» «Трилью отвечает: с запада идет ураган скоростью тридцать метров в секунду. Шквалы дождя.» «Передайте в Буэнос-Айрес: заперты со всех сторон; фронт бури развертывается на тысячу километров; полная потеря видимости. Что нам делать?» Для пилота эта ночь была безбрежной. Она не вела ни к порту (все они казались недоступными), ни к рассвету – через час сорок минут должен был кончиться бензин. Рано или поздно, так ничего и не видя, они рухнут в бездну. Только б дождаться рассвета… Утренняя заря представлялась Фабьену золотым песчаным пляжем, к которому их могло прибить после испытаний страшной ночи. Под крылом попавшего в беду самолета возникли бы спасительные берега равнин. Мирная земля несла бы свои спящие фермы, стада, холмы. Все те неведомые предметы, что перекатываются сейчас во мраке, вмиг приобрели бы безобидный вид. О, если б только было можно – как устремился бы он навстречу дню!.. Он подумал: «Кольцо замкнулось». Так или иначе – все должно решиться еще до рассвета, в плотной массе тьмы. Только так… А бывало, первые часы рассвета приносили ему исцеление… Но теперь незачем смотреть на восток, туда, где живет солнце: между самолетом и солнцем пролегли бездонные глубины ночи; из них – не выбраться.XIII
– Асунсьонский почтовый идет хорошо. К двум часам будет здесь. Но ожидается серьезное опоздание почтового патагонского; видимо, ему приходится нелегко. – Так, господин Ривьер. – Весьма возможно, мы отправим европейский самолет, не дожидаясь прибытия патагонского. Вы получите распоряжения, как только прибудет асунсьонский. Будьте наготове. Теперь Ривьер перечитывал телеграммы, принятые от северных аэропортов. Они расстилали перед европейским почтовым лунную дорожку: «Небо чистое, полная луна, ветра нет». Горы Бразилии, четко выделяясь на светящемся небе, окунали в серебристые воды моря свои поросшие черным лесом вершины. На этот лес, не скрашивая его, лились непрестанным дождем лунные лучи. И острова – тоже черные, как обломки кораблекрушения в морских волнах. И эта неистощимая луна на всем пути – брызжущий светом фонтан… Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого, струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и света. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые – стоит им слегка покрепчать – могут в несколько часов забить все небо гнилыми облаками. И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но убежденность Ривьера осталась прежней; возможно, эта драма – следствие какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. «Быть может, следует установить наблюдательные пункты на западе… Нужно будет об этом подумать… Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем; теперь вероятность несчастных случаев уменьшится: одна из причин стала ясна.» Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти не принимается в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин. И обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам. Ривьер позвонил. – От Вайя-Бланки по-прежнему нет радиограмм? – Нет. – Вызовите ее по телефону. Пять минут спустя он спрашивал: – Почему от вас нет сообщений? – Мы не слышим самолета. – Молчит? – Неизвестно. Кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим. – А Трилью его слышит? – Мы сами не слышим Трилью. – Позвоните туда по телефону. – Пытались. Линия повреждена. – Какая у вас погода? – Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно. – Какой ветер? – Пока слабый. Но это не больше чем на десять минут. Молнии быстро приближаются. Молчание. – Байя-Бланка! Вы меня слышите? Хорошо. Позвоните мне через десять минут. И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же: самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу, и на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери и каждый дом на темных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение. Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба; он обратился по телеграфу к полиции трех десятков провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начинали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в две тысячи километров, получила приказ: поймав позывные самолета, немедленно, в течение тридцати секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрес, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться. Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полеты, возможно, будут прекращены и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о циклоне – и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом – этим враждебным выпадом самой природы. Вдруг голоса смолкли: на пороге появился Ривьер – в пальто, в шляпе, неизменно надвинутой на глаза, – вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро: – Уже десять минут второго. Документы европейского почтового оформлены? – Я… я думал… – Вам следует не думать, а исполнять. Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну. Подбежал служащий: – Господин директор, получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии… – Хорошо. Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь. Итак, каждая новая весть несла в себе угрозы самолету. Каждый город, если линии связи еще не были разрушены и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. «Буря идет из глубины материка, с Кордильер. Она движется к морю, сметая все на пути…» Звезды казались Ривьеру чересчур яркими, воздух – слишком влажным. Странная ночь! Она внезапно начинала подгнивать – подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над Буэнос-Айресом еще царили в полном своем составе звезды; но то был лишь оазис, притом, недолговечный. К тому же этот порт был недосягаем .для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко .победить. Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту – беспомощные, охваченные тревогой люди.XIV
Жена Фабьена позвонила по телефону. В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения патагонского почтового. «Сейчас он вылетает из Трилью…» И опять засыпала. Немного позже: «Он приближается теперь к Сан-Антонио; он уже видит огни…» Тогда она вставала, раздвигала шторы и осматривала небо. «Эти облака мешают ему…» Иногда между тучами, как пастух, расхаживала луна. И молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звездами: их тысячи, они, как живые существа, окружают ее мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. «Должно быть, он недалеко… Он уже видит Буэнос-Айрес…» И снова вставала, готовила для него еду, варила кофе: «Там, наверху, холодно…» Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин: «Ты не замерз?» – «Да нет же!» – «Все равно согрейся немного…» К четверти второго у нее все бывало готово. Тогда она звонила. В эту ночь она спросила, как всегда: – Фабьен уже приземлился? Секретарь, взявший трубку, замялся: – Кто говорит? – Симона Фабьен. – Одну минуту… Не осмеливаясь ничего сказать, секретарь передал трубку заведующему бюро. – Кто у телефона? – Симона Фабьен. – А!.. Слушаю вас, сударыня. – Мой муж приземлился? Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем короткий ответ: – Нет. – Он опаздывает? – Да… Снова молчание. – Да… опаздывает. – О!.. Это был вздох раненой плоти. Опоздание – пустяк… пустяк… Но если оно затягивается… – О!.. В котором часу он должен прибыть? – В котором часу он должен прибыть?.. Мы… мы не знаем. Теперь перед ней была стена. Она слышала лишь эхо своих вопросов. – Умоляю, ответьте мне! Где он сейчас?.. – Где он сейчас? Подождите… Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там, за стеной, что-то происходило. Наконец они решились: – Он вылетел из Комодоро в девятнадцать тридцать. – И с тех пор?.. – С тех пор… сильно опаздывает… сильно опаздывает из-за плохой погоды… – О! Из-за плохой погоды… Какая несправедливость! И какое вероломство – в этой луне, праздно повисшей над Буэнос-Айресом!.. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Комодоро до Трилью каких-нибудь два часа полета, не больше. – И целых шесть часов он летит до Трилью?! Но посылает же он вам радиограммы… Что он говорит? – Он говорит? Но в такую погоду… Вы сами понимаете… его радиограммы до нас не доходят. – В такую погоду!.. – Итак, решено, сударыня: мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем. – О, вы ничего не знаете… – До свидания, сударыня. – Нет! Нет! Я хочу говорить с директором! – Господин директор очень занят, сударыня, он на совещании. – Мне это безразлично! Совершенно безразлично! Я хочу с ним говорить! Заведующий бюро вытер капли пота со лба: – Одну минуточку… Он открыл дверь Ривьера. – С вами хочет говорить госпожа Фабьен. «Вот оно, – подумал Ривьер, – вот начинается то, чего я боялся». На первый план драмы выступают чувства… Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть: матерей и жен не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасать людей… Однако он решился: – Соедините ее со мной. Он услышал далекий голос, слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не сможет сказать ей правду. Сойтись сейчас в поединке – разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу? – Прошу вас, успокойтесь, сударыня! В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей. Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного, частного человека – возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне, такой грустной и такой враждебной. Ибо ни действие, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания. Она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав; но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто не поддающееся выражению, бесчеловечное… – Сударыня… Она больше не слушала. Ему казалось – она рухнула у самых его ног, истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной. Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста: «Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо?» Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы, ради сокращения пути, так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся… Инженер тогда же добавил: «Общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз; и ни на чем другом основана быть не может». – «И все же, – ответил ему позже Ривьер, – хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь… Но что?..» И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабьена, у него сжималось сердце. Всякая деятельность – даже строительство мостов! – разбивает чье-то счастье, и Ривьер не мог не спросить себя: «Во имя чего?» «Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо», – думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. «Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта?» Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно – все равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть разрушают их еще безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении? Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер? Иначе его деятельность лишена смысла. «Любить, только любить – какой тупик!» Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова: «Задача в том, чтобы дать им бессмертие…» Где он их прочел? «Внутри самого себя бессмертия не найдешь.» Перед ним возник образ: храм в честь бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы… Не будь их – что осталось бы от могучей цивилизации, которая, словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека? «Во имя какой суровой необходимости – или странной любви – вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе?» И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок… «Этот вид счастья – что конская сбруя», – подумал он. Перед лицом человеческих страданий вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости; но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти… Не смерти отдельных людей – он жалел весь род человеческий, чья участь – исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна.XV
Может быть, в этой сложенной вчетверо записке – спасение… Стиснув зубы, Фабьен разворачивает ее. «Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом – искры бьют в пальцы.» Разозленный Фабьен хочет написать ответ; но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело: воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать. Его руки снова сходятся на загривке волн и усмиряют их. Фабьен тяжело дышит. Если бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду – дайте только приземлиться!.. Необходимо во что бы то ни стало, любой ценой связаться с Буэнос-Айресом! Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на полторы тысячи километров, им могут бросить спасательную веревку сюда, в эту бездну… Увидеть хотя бы огонек, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоялого двора! Даже это, в сущности бесполезное, мерцание могло бы сейчас послужить маяком; оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины: он хочет передать этим жестом тому, другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но радист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, не понимает его. Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошел до него! Он думает: «Если бы мне сказали: лети по кругу, я полетел бы по кругу… И если бы мне сказали: иди прямо на юг…» А где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные лунные тени. И над этими землями уверенно летят его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними; летят, склонившись, как ученые, над картами, летят, всемогущие, под защитой ламп, прекрасных, как цветы… А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которая со скоростью горного обвала гонит навстречу самолету свой бешеный черный поток? Немогут же люди оставить их здесь одних – среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. «Курс двести сорок…» Он ляжет на курс двести сорок… Но он – один. Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, как машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти, что всю громаду самолета пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину; он больше не смотрит в ночь; он сидит теперь, глядя на гироскоп; все равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Все теряется, все сливается в первозданном мраке. А стрелки приборов дрожат все сильнее. И все труднее следить за ними. Обманутый их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется; он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме. Прибор показывает высоту пятьсот метров. Это высота холмов. Пилоту чудится, что холмы бегут навстречу самолету головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самая маленькая из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались со своих креплений, отвинтились и начинают, как пьяные, кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо. И пилот принимает решение. Он посадит самолет где придется, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь единственную осветительную ракету. Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом – море. Молнией мелькает мысль: «Погиб. Даже при поправке в сорок градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля?» Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает: «Уж теперь-то, без ракеты, я разобьюсь». Рано или поздно это должно было случиться. А его товарищ там, позади… «Он снял антенну – наверняка.» Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки, и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца – товарища и свое… И вдруг он пугается собственных рук. Воздушные вихри бьют по самолету, точно таран. Чтобы ослабить тряску штурвала, которая может оборвать тросы управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестает ощущать свои руки – они будто заснули, утомленные страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами, а чем-то чужим. Какими-то вялыми и бесчувственными отростками. «Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы…» Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясения штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плечах. «Штурвал ускользнет от меня. Руки разожмутся» Но он пугается этой мысли; ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте – и предают его. Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы еще и еще раз попытать счастья; ведь рок – как внешняя сила – не существует. Но существует некий внутренний рок: наступает минута, когда человек вдруг чувствует себя уязвимым, – и тогда ошибки затягивают его, как головокружение… И вдруг, как раз в одно из таких мгновений, грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве, прямо над его головой, засверкала, словно приманка в глубине таящих гибель силков, кучка звезд. Он понял, что это ловушка: видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним и потом уже не можешь спуститься – и грызи теперь свои звезды… Но пилот так изголодался по свету, что устремился вверх к звездам.XVI
Он поднялся. Теперь, благодаря звездным ориентирам, стало немного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом! Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая, до самой смерти, вокруг этого желанного знамения… И вот он возносится к светлым полям. Поднимается медленно, по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И по мере того как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становятся все чище, все белее. И вот Фабьен вырывается из облаков. Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки, – полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны. Одним прыжком вынырнув из туч, самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. Сюда не доходила ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолет зашел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря, в укромной бухте зачарованных островов. Внизу, под самолетом, бушует ураган; там совсем другой мир, толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, водяными смерчами, молниями; но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега. Фабьену мнится, что он достиг преддверия рая: все вдруг засверкало – руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд; он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс. Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск, полученный ими от луны. Они блестят, лучатся и слева и справа, высокие, как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается бортрадист. – Дело пошло на лад! – кричит радист. Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошел с ума, – думает Фабьен. – Я улыбаюсь… А мы погибли.» Но все-таки тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов. «Чересчур красиво», – думает Фабьен. Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада; он блуждает в мире, где, кроме него, Фабьена, и его товарища, нет ни единого живого существа. Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней – бесконечно богатые, но обреченные.XVII
Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодоро-Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, и сразу все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом. Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности, она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался. – Грозы? Он кивнул. Треск разрядов мешал ему. Вот радист начертил несколько неразборчивых значков. Потом слова. И уже можно разобрать текст: «Блокированы над ураганом, высота три тысячи восемьсот. Идем прямо на запад, в глубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря». Чтобы передать эту радиограмму в Буэнос-Айрес, пришлось, из-за грозы, пересылать ее по цепочке, от станции к станции. Послание продвигалось в ночи, как сторожевой огонь, зажигаемый от вышки к вышке. Буэнос-Айрес распорядился ответить: – Буря над всем материком. Сколько у вас осталось бензина? – На полчаса. И эта фраза – от дежурного к дежурному – достигла Буэнос-Айреса. Экипаж был обречен: меньше чем через тридцать минут он погрузится в циклон, который понесет его к земле.XVIII
А Ривьер размышляет. Больше не остается ни малейшей надежды – экипаж погибнет где-то в ночи. Ривьер вспоминает потрясшую его в детстве картину. Из пруда спускали воду, чтобы найти тело утопленника… И экипаж тоже не будет найдет до тех пор, пока не схлынет с земли этот океан тьмы, пока снова не проступят в дневном свете пески, равнины, хлеба. Быть может, простые крестьяне найдут двух детей, которые словно спят, прикрыв лицо руками, среди трав и золота мирного дня. Но они мертвы – ночь уже потопила их. Ривьер думает о сокровищах, погребенных в глубинах ночи, как в сказочных морях… Ночные яблони жадно ждут зари, ждут всеми своими цветами, которым еще не довелось раскрыться. Ночь богата, полна запахов, спящих ягнят, полна цветов, еще лишенных красок. Тучные нивы, влажные рощи, прохладные луга медленно встанут навстречу заре. Но среди холмов, теперь совсем безобидных, среди пастбищ и ягнят, среди всей этой кротости земли останутся лежать, словно погрузившись в сон, двое детей. И какая-то частица зримого мира легкой струйкой перельется в иной мир. Ривьер знает жену Фабьена, беспокойную и нежную: ей дали лишь прикоснуться к любви – так ненадолго дают игрушку бедному ребенку. Ривьер думает о руке Фабьена, которая пока – ей остались считанные минуты – держит штурвал, держит свою судьбу. О руке, которая умела ласкать. О руке, которая прикасалась к груди и рождала в ней волнение, словно рука Бога. О руке, что прикасалась к лицу, и лицо преображалось. О чудотворной руке. Фабьен летит сейчас над ночным великолепием облачных морей, но под этими морями – вечность. Он заблудился среди созвездий. Он единственный житель звезд. Он пока еще держит мир в своих руках, укачивает его, прижав к груди. Фабьен сжимает штурвал, в котором заключен для него груз человеческих богатств, и несет в отчаянии от звезды к звезде бесполезное сокровище, которое ему скоро придется выпустить из рук… Ривьер думает о том, что радиостанция еще слышит Фабьена. Лишь одна музыкальная волна, полная минорных переливов, еще связывает Фабьена с миром. Не жалоба. Не крик. Нет, самый чистый из звуков, когда-либо порожденных отчаянием.XIX
Робино нарушил одиночество Ривьера: – Господин директор, я подумал… может быть, все же попробовать… У Робино не было никаких предложений; он просто хотел засвидетельствовать свою добрую волю. Он был бы счастлив найти какое-нибудь решение, он искал его как разгадку ребуса. Но обычно выходило так, что Ривьер и слушать не хотел об инспекторских решениях. «Видите ли, Робино, – говорил Ривьер, – в жизни нет готовых решений. В жизни есть силы, которые движутся. Нужно их создавать. Тогда придут и решения». Итак, Робино должен был ограничиться ролью творца движущейся силы среди сословия механиков; силы довольно жалкой, которая предохраняла от ржавчины втулки винтов. А перед лицом событий нынешней ночи Робино оказался безоружным. Его инспекторское звание не давало ему, оказывается, никакой власти над грозами и над призрачным экипажем, который, право же, боролся сейчас уже отнюдь не ради получения премии за точность. Экипаж сейчас стремился уйти от того единственного взыскания, которое снимало все взыскания, налагаемые инспектором Робино, – уйти от смерти. И никому не нужный Робино бесцельно слонялся из комнаты в комнату. Жена Фабьена попросила доложить о себе. Мучимая тревогой, она сидела в комнате секретарей и ждала, когда Ривьер ее примет. Секретари украдкой поглядывали на нее. Это ее смущало; она боязливо осматривалась. Все здесь казалось ей враждебным: и эти люди, которые, словно перешагнув через труп, продолжали заниматься своими делами, и эти папки, где от человеческой жизни, от человеческого страдания осталась только строчка черствых цифр. Она пыталась отыскать что-нибудь говорившее о Фабьене… Дома все кричало о его отсутствии: приготовленная постель, поданный на стол кофе, букет цветов… А здесь она не находила ни одной приметы. Здесь все было чуждо и жалости, и дружбе, и воспоминаниям. Она услышала одну только фразу (при ней старались говорить тихо) – услышала, как выругался служащий, настойчиво требовавший какую-то опись: «…опись динамо-машин, черт побери, которые мы послали в Сантос!» Симона посмотрела на этого человека с безграничным удивлением. Потом перевела взгляд на стену, где висела карта. Ее губы слегка дрожали. Ей было неловко; она догадывалась, что олицетворяет здесь правду, враждебную этому миру. Симона уже почти жалела, что пришла сюда, ей хотелось спрятаться, и, из боязни оказаться слишком заметной, она старалась не кашлянуть, не заплакать. Она сознавала свою чужеродность, неуместность, словно была голой. Но ее правда была так сильна, что беглые взгляды секретарей вновь и вновь возвращались украдкой к ее лицу и читали на нем эту правду. Эта женщина была прекрасна. Она напоминала людям, что существует заветный мир счастья. Напоминала, сколь высок тот мир, на который невольно посягает всякий, кто посвятил себя действию. Чувствуя на себе столько взглядов, Симона закрыла глаза. Она напоминала людям, какой великий покой, сами того не ведая, могут они нарушить. Ривьер принял ее. Она пришла, чтобы робко защищать свои цветы, свой поданный на стол кофе, свое юное тело. В этом кабинете, еще более холодном, чем другие комнаты, ее губы опять задрожали. Симона поняла, что не сможет выразить свою правду в этом чуждом мире. Все, что восставало в ней: ее горячая, как у дикарки, любовь, ее преданность, – все это здесь могло показаться чем-то докучливым и эгоистичным. Ей захотелось отсюда бежать. – Я вам помешала?.. – Вы мне не мешаете, сударыня, – ответил Ривьер. – Но, к сожалению, нам с вами остается только одно: ждать. Она еле заметно пожала плечами, и Ривьер понял смысл этого движения: «Зачем мне тогда лампа, и накрытый к обеду стол, и цветы – все, что ждет меня дома…» Одна молодая мать однажды призналась Ривьеру: «До сих пор до меня не доходит, что ребенок мой умер… Об этом жестоко напоминают разные мелочи: вдруг попадается на глаза что-нибудь из его одежды… Просыпаешься ночью, и к сердцу подступает такая нежность – нежность, никому не нужная, как мое молоко…» Вот и эта женщина начнет завтра с таким трудом свыкаться со смертью Фабьена, обнаруживая ее в каждом своем – отныне бесплодном – движении, в каждой привычной вещи. Фабьен будет медленно покидать их дом. Ривьер скрывал глубокую жалость. – Сударыня… Молодая женщина уходила, улыбаясь чуть ли не униженной улыбкой, уходила, не догадываясь о своей собственной силе. Ривьер тяжело опустился в кресло. «А она. помогает мне открыть то, чего я искал…» Рассеянно похлопывал он по стопке телеграмм, сообщавших о погоде над северными аэродромами, и думал: «Мы не требуем бессмертия; но нам невыносимо видеть, как поступки и вещи внезапно теряют свой смысл. Тогда обнаруживается окружающая нас пустота…» Его взгляд упал на телеграммы. «Вот такими путями и проникает к нам смерть: через эти послания, которые утратили теперь всякий смысл…» Он посмотрел на Робино. Этот недалекий и бесполезный сейчас малый тоже утратил всякий смысл. Ривьер бросил ему почти грубо: – Что же, прикажете, чтобы я сам нашел вам дело? Ривьер толкнул дверь, которая вела в комнату секретарей, и исчезновение Фабьена стало для него очевидным, поразило его: он увидел те признаки, которые не сумела увидеть госпожа Фабьен. На стенной диаграмме, в графе оборудования, подлежащего списанию, уже значилась карточка РБ-903 – самолет Фабьена. Служащие, готовившие документы для европейского почтового, работали с прохладцей, зная, что вылет задерживается. Звонили с посадочной площадки – требовали инструкций для команд, чье дежурство стало бесцельным. Все жизненные функции были точно заморожены. «Вот она, смерть!» – подумал Ривьер. Дело его жизни легло в дрейф, словно парусник, застигнутый штилем в открытом море. Он услышал голос Робино: – Господин директор… они женаты всего полтора месяца… – Идите работать. Ривьер все еще смотрел на секретарей и видел за ними подсобных рабочих, механиков, пилотов, видел всех тех, кто своей верой созидателей помогал ему в его труде. Он подумал о маленьких городках давних времен. Услышав об «Островах», их жители построили корабль и нагрузили его своими надеждами. Чтобы все увидели, как их надежды распускают паруса над морем. И люди выросли, вырвались из узкого мирка; корабль принес им освобождение. «Сама по себе цель, возможно, ничего не оправдывает; но действие избавляет нас от смерти. Благодаря своему кораблю эти люди обрели бессмертие.» И если Ривьер вернет телеграммам их подлинный смысл, если он вернет дежурным командам их тревожное нетерпение, а пилотам – их полную драматизма цель, это будет борьбой Ривьера со смертью. Его дело вновь наполнится жизнью, как наполняются свежим ветром паруса кораблей в открытом море.XX
Комодоро-Ривадавия больше ничего не слышит, но спустя двадцать минут Байя-Бланка, расположенная за тысячу километров от Комодоро, ловит второе послание: «Спускаемся. Входим в облака…» Потом – два слова из невнятного текста доходят до радиостанции Трилью: «…ничего разглядеть…» Таковы уж короткие волны. Там их поймаешь, здесь ничего не слышно. Потом вдруг все меняется без всякой причины. И экипаж, летящий неведомо где, возникает перед живыми так, словно он существует вне времени и пространства. И слова, проступающие на белых листках у аппаратов радиостанций, написаны уже рукой привидений. Кончился бензин? Или перед лицом неизбежной аварии пилот решил сделать последнюю ставку: сесть на землю, не разбившись о нее? Голос Буэнос-Айреса приказывает Трилью: «Спросите его об этом». Аппаратная радиостанции похожа на лабораторию: никель, медь, манометры, сеть проводов. Дежурные радисты в белых халатах молчаливо склонились над столами, и кажется, будто они проводят какой-то опыт. Чуткими пальцами прикасаются радисты к приборам; они ведут разведку магнитного неба, словно нащупывая волшебной палочкой золотую жилу. – Не отвечает? – Не отвечает. Может быть, им удастся услышать звук, который явился бы признаком жизни. Если самолет и его бортовые огни снова поднимаются к звездам, быть может, удастся услышать, как поет эта звезда… Секунды текут. Они текут, как кровь. Продолжается ли полет? Каждая секунда уносит с собой какую-то долю надежды. И начинает казаться, что уходящее время – разрушительная сила. Время тратит двадцать веков на то, чтобы проложить себе путь через гранит и обратить храм в кучку праха; теперь эти века разрушения, сжавшись пружиной, нависли над экипажем: пружина каждый миг грозит развернуться. Каждая секунда что-то уносит с собой. Уносит голос Фабьена, смех Фабьена, его улыбку. Все ширится власть молчания. Оно наливается тяжестью, наваливаясь на экипаж, как толща океана. Кто-то говорит: – Час сорок. Бензин весь. Не может быть, чтобы они еще летели. Наступает тишина. На губах какой-то горький, неприятный привкус, как в конце долгого пути. Свершилось что-то неведомое, что-то вызывающее смутное чувство отвращения. Среди всех этих никелированных деталей, среди медных артерий чувствуется печаль – та самая, что царит над разрушенными заводами. Оборудование кажется тяжелым, ненужным, бесполезным – кажется грузом мертвых сучьев. Остается ждать дня. Через несколько часов Аргентина всплывет из глубин навстречу дню, и люди остаются на своих местах, как на песчаном берегу, глядя, как медленно выступает из воды невод. И что в нем – неизвестно… Ривьер в своем кабинете ощущает ту горькую опустошенность, которую познаешь только в часы великих бедствий, когда судьба освобождает человека от необходимости что-то решать. Он поднял на ноги всю полицию. Больше он ничего не может сделать. Только ждать. Но порядок должен царить даже в доме умершего. Ривьер делает знак Робино: – Дайте телеграмму северным аэродромам: предвидится серьезное опоздание патагонского почтового. Чтобы не задерживать почтовый на Европу, патагонскую почту отправим со следующим европейским. Слегка сутулясь, Ривьер склоняется над столом. Потом делает над собой усилие, заставляет себя вспомнить что-то важное… Ах да! И, чтобы снова не забыть, зовет: – Робино! – Да, господин Ривьер. – Набросайте проект приказа. Пилотам запрещается превышать тысячу девятьсот оборотов. Они калечат мне моторы. – Хорошо, господин Ривьер. Ривьер сутулится еще больше. Хорошо бы сейчас побыть одному. – Идите, Робино. Идите, старина. И инспектора Робино ужасает это равенство перед лицом призраков.XXI
Робино меланхолически бродил по конторе. Жизнь компании приостановилась: ночное отправление почтового, обычно вылетающего в два часа, видимо, отменено, и самолет вылетит только с рассветом. Служащие с хмурыми лицами еще дежурили, но их дежурство было бесцельным. С северных аэропортов метеосводки еще поступали с обычной регулярностью; но все эти слова о «ясном небе», о «полной луне» и «совершенном безветрии» вызывали теперь лишь представление о каком-то мертвом царстве. Лунная, каменистая пустыня… Перебирая без всякой цели папку с бумагами, над которыми трудился заведующий бюро, Робино вдруг обнаружил, что тот стоит прямо перед ним с нагло-почтительным видом – в ожидании, когда ему вернут наконец его папку. Казалось, он говорил: «Разумеется, как вам угодно, но все же это мои бумаги…» Такое поведение подчиненного покоробило инспектора; но он не нашелся что сказать и раздраженно протянул ему папку. Заведующий бюро вернулся на свое место с выражением величайшего благородства. «Мне следовало послать его ко всем чертям», – подумал Робино. И, сохраняя достоинство, он сделал несколько шагов по комнате, думая о драме. Эта драма повлечет за собой опалу для Ривьера и всей его политики. Робино страдал и за Фабьена и за Ривьера. Потом перед его глазами возник образ Ривьера, одиноко сидящего в своем кабинете, Ривьера, который сказал ему: «Старина…» Никогда еще человек так не нуждался в поддержке. Робино от души пожалел Ривьера. Он перебирал в уме несколько туманных фраз, предназначенных для сочувствия и утешения. Его охватил порыв, показавшийся ему прекрасным. Робино тихонько постучал в дверь. Ответа не было. Не осмеливаясь нарушать тишину более громким стуком, он отворил дверь. Ривьер был в кабинете. Впервые Робино входил к Ривьеру не на цыпочках, а ступая почти на всю ступню, входил почти как друг; ему представлялось, что он сержант, который под пулями следует за раненым генералом, не отходит от него ни на шаг в часы разгрома и, как брат, идет вместе с ним в изгнание. Казалось, Робино хотел сказать: «Что бы ни случилось, я всегда с вами». Ривьер молчал и, наклонив голову, смотрел на свои руки. И Робино, стоя перед ним, не смел заговорить. Лев, хотя и поверженный, вселял в него робость. Инспектор подыскивал высокие слова, которые должны были выразить его стремление к самопожертвованию; но каждый раз, подымая глаза, он видел перед собой склоненную голову, седые волосы, горько – о, как горько! – сжатые губы. Наконец он решился: – Господин директор… Ривьер поднял голову и посмотрел на него. Он очнулся от задумчивости такой глубокой, вернулся из такой дали, что, вероятно, даже не заметил присутствия Робино. И никому никогда не узнать, какие видения прошли перед глазами Ривьера, что пришлось ему испытать в эти минуты и какая печаль охватила его сердце… Ривьер смотрел на Робино долгим взглядом, словно на живого свидетеля каких-то событий. Робино смутился. И чем дольше смотрел на него Ривьер, тем яснее обозначалась на его губах непостижимая для Робино ирония. Чем дольше смотрел на него Ривьер, тем больше краснел Робино. И Ривьеру все больше казалось, что Робино с его трогательно добрыми и, к сожалению, необдуманными намерениями пришел сюда живым свидетельством человеческой глупости. Робино охватило сомнение. Сержант, генерал, град пуль – все оказалось неуместным. Он не понимал, что происходит. Ривьер все смотрел на него. И Робино невольно даже переменил позу, вытащил руку из левого кармана. Ривьер все смотрел на него. Тогда, с чувством огромной неловкости, сам не зная почему, Робино произнес: – Я пришел за распоряжениями. Ривьер вынул часы и просто сказал: – Два часа. Почтовый из Асунсьона приземлится в два десять.. Прикажите дать отправление европейскому почтовому в два пятнадцать. И Робино разнес по конторе удивительную весть: ночные полеты не отменены. Он обратился к заведующему бюро: – Принесите мне ту папку, я проверю ее. Когда заведующий бюро подошел к нему, Робино сказал: – Ждите. И заведующий бюро ждал.XXII
Почтовый из Асунсьона дал сигнал: «Иду на посадку». Даже в самые горькие часы этой ночи Ривьер не переставал следить по телеграммам за благополучным движением асунсьонского самолета. Это было для Ривьера своего рода реваншем за поражение, доказательством его правоты. Телеграммы об этом счастливом полете были провозвестниками тысяч других столь же счастливых полетов. «Не каждую же ночь свирепствуют циклоны.» Ривьер думал также: «Путь проложен – сворачивать нельзя». Спускаясь из Парагвая по ступенькам аэродромов, словно выходя из чудесного сада, богатого цветами, низенькими домиками и медлительными водами, самолет скользил вне границ циклона, и тучи не закрывали от него ни одной звезды. Девять пассажиров, закутавшись в пледы, прижимались лбами к окошкам, словно к витринам с драгоценностями: маленькие аргентинские города уже перебирали во мраке свои золотые четки, а над ними отливало нежным блеском золото звездных городов. Впереди пилот поддерживал своими руками бесценный груз человеческих жизней; в его больших, широко раскрытых глазах козопаса отражалась луна. Буэнос-Айрес уже заливал горизонт розоватым пламенем, готовый засверкать всеми своими камнями, подобно сказочному сокровищу. Пальцы радиста посылали последние радиограммы – точно финальные звуки большой сонаты, которую он весело отбарабанил в небе и мелодию которой так хорошо понимал Ривьер; потом радист убрал антенну, зевнул, слегка потянувшись, и улыбнулся: прибыли! Посадив машину, летчик увидел пилота европейского почтового; тот стоял, заложив руки в карманы и привалившись спиной к своему самолету. – А! Это ты повезешь почту дальше? – Да. – Патагонец уже здесь? – Его и не ждут. Пропал без вести. Погода хорошая? – Великолепная. Значит, Фабьен пропал? Они не стали много говорить на эту тему. Ощущение великого братства избавляло их от необходимости произносить громкие слова. Мешки с асунсьонской транзитной почтой перегружались в европейский самолет; пилот, по-прежнему не шевелясь, закинул голову и, прислонившись затылком к кабине, смотрел на звезды. Он чувствовал, как рождается в нем огромная сила, как затопляет его могучая радость. – Погрузили? – спросил чей-то голос. – Тогда – контакт! Пилот все не шевелился. Запустили мотор. Плечами, прижатыми к самолету, пилот ощутил, что самолет ожил. Наконец-то, после стольких ложных слухов – летим… не летим… летим… – пилот мог быть спокоен. Его рот приоткрылся; при свете луны сверкнули зубы, словно зубы молодого хищника. – Осторожно… ночью… эй! Он не слышал советов товарища. Засунув руки в карманы, запрокинув голову, обратив лицо к тучам, горам, рекам и морям, он беззвучно смеялся. Смех был неслышным, но он пронизал его, пробежав по всему телу, как ветерок пробегает по листве. Смех был совсем неслышным, но он был гораздо сильнее и туч, и гор, и рек, и морей. – Что это на тебя нашло? – Этот болван Ривьер воображает… что… что мне страшно!XXIII
Через минуту он взлетит над Буэнос-Айресом, и Ривьер, возобновивший битву, хочет его услышать. Услышать, как он возникнет, пророкочет и растает, словно грозная поступь армии, движущейся среди звезд. Скрестив руки, Ривьер проходит мимо секретарей. Он останавливается перед открытым окном, слушает и размышляет. Если бы он отменил один-единственный вылет, дело ночных полетов было бы проиграно. Но, опережая тех слабых, которые завтра от него отрекутся, Ривьер выпустил в ночь еще один экипаж. Победа… поражение… эти высокие слова лишены всякого смысла. Жизнь не парит в таких высотах; она уже рождает новые образы. Победа ослабляет народ; поражение пробуждает в нем новые силы. Ривьер потерпел поражение, но оно может стать уроком, который приблизит подлинную победу. Лишь одно следует принимать в расчет: движение событий. Через пять минут радисты поднимут на ноги аэродромы. Все пятнадцать тысяч километров ощутят биение жизни; в этом – решение всех задач. Уже взлетает к небу мелодия органа: самолет. Медленно проходя мимо секретарей, которые сгибаются под его суровым взглядом, Ривьер возвращается к своей работе. Ривьер Великий, Ривьер Победитель, несущий груз своей трудной победы.Сент-Экзюпери Антуан Обращение к американцам
Антуан де Сент-Экзюпери Обращение к американцам(1). Перевод: С французского Л. М. Цывьян Величие человеческого разума проявляется в постижении мира с помощью эффективной концептуальной системы. Но слабость его - в слишком большой вере в систему. Когда ученый создает теорию, он поначалу не верит в нее. Он прекрасно понимает, что имеет дело всего-навсего с языком, удобным для упорядочения мира, и что лишь порядок чего-то стоит. Достоинство теории - ее ясность. Теория беспомощна, когда построена не столько на ясности, сколько на темнотах. Когда несет не столько благо, сколько вред. И если мы хотим упорядочить обстоятельства человеческой жизни на нашей планете, нельзя хвататься за то, что, вполне возможно, наиболее притягательно для нас, но априорно неведомо или состряпано из уже освоенного нами. Разум должен стремиться к синтезу, который удовлетворяет все наши потребности, а не только потребность в порядке и в техническом обеспечении. Как получилось, что в то время, когда немцы просили о куске хлеба(2), Голландия, Швеция, Бельгия могли жить обособленной жизнью? Что так изменилось в мире? Хорошо, я отвечу вам: никаких особенных изменений не произошло, за исключением того, что мы были захвачены врасплох. За исключением того, что новые понятия - как практически все изменения в языке - повергли мир в такую растерянность, что мы стали реагировать слишком поздно и слишком медленно. Ведь совершенно очевидно, что, создай мы блок, вроде существующего сейчас, тогда, когда немцы милитаризовали Рейнскую зону(3), мы спасли бы мир на земле, равновесие и честь. Совершенно очевидно, что мы спасли бы все это и в час, когда был осуществлен аншлюс(4), и, может быть, даже еще в Праге(5). Хотя в последнем случае, видимо, пришлось бы уже воевать. Совершенно очевидно, неопровержимо и несомненно, что мы спасли бы все это и сегодня, если бы сто миллионов немцев обнаружили, что им противостоят пятьсот миллионов европейцев, во всем похожих, во всем солидарных и одинаково оказавшихся под угрозой уничтожения, причина которого - нестерпимый вызов, каковым является само их существование. Я не стану тут спорить насчет обоснованности этого вызова, насчет искренности или неискренности. Я думаю, что Гитлер искренен. Но именно потому, что он, словно Магомет нового времени, искренен, его необходимо уничтожить. Да, для расистского духа существование свободной Голландии - нестерпимый вызов. А мы готовы умереть за такую цивилизацию, где счастье не является нестерпимым вызовом. Сто миллионов немцев сохраняли добрососедские отношения лишь в той мере, в какой остальной мир нес ответственность за свободу. В большей или меньшей степени подобная солидарность, прерывавшаяся несправедливостями и периодами помрачения, существовала долгие века, с тех пор как христианство омыло землю. Свобода, внутренний мир, уважение к человеку - вот подлинное сокровище, но сокровище, которое может быть только всеобщим. Если низость, страх, скупость помешают миру объединиться для спасения этого всеобщего сокровища, его можно считать утраченным. Мы, умеющие быть богатыми, преисполненные всем, чем обладают другие, гордящиеся непохожестью своих лиц, не испытывающие потребности метить одинаковой печатью лица пятисот миллионов женщин планеты, мы, богатые разнообразием мира и счастьем каждого, мы, защищая свое счастье, защищаем прежде всего счастье других, потому что оно принадлежит и нам, и если другие не в союзе с нами, то только потому, что не сознают этого. Не могут понять. Существование русской души, голландской души, норвежской, шведской очевидность для всех. Почему же такое не может существовать всегда, раз существовало так долго?.. Все они в который раз совершают общую ошибку, и вот в чем се суть: они считают незыблемым, вечным, присущим человеку, биологически унаследованным то, что является всего лишь первичной сущностью, добычей духа, внутренней привычкой. Они не способны представить, как и почему может исчезнуть то, чем они жили так долго. Они при своем крохотном кругозоре счастливых людей не способны поверить, что существовавшее вечно может исчезнуть, что царство духа находится под угрозой. Они не верят в великие исторические катастрофы, которые стирают с лица земли целые поколения и полностью меняют облик континентов. Как все люди, они не верят в возможность того, что им кажется несправедливым. Ошеломленные, они протестуют. Они, ошеломленные, будут протестовать, создавая подпольные культы, взывая к божественному правосудию, как будто подобные ценности могут сохраниться без ущерба, как будто для спасения общечеловеческого наследия не требуется свободной передачи из поколения в поколение добычи, отнятой у зверя, культуры, духа. Мы обязаны - и сознаем это - сражаться прежде всего за Францию, потому что мы французы, но через Францию - за французский образ понимания жизни. За швейцарские кантоны, за тюльпаны Амстердама, за норвежскую мечту. И пусть они этого не знают, не сознают, но мы сражаемся за всех тех, чья судьба, хотят они того или нет, находится в наших руках. За тех, которые не смеют даже сказать об этом вслух из страха, что людоед сожрет их первыми. За тех, не имеющих ни гарантий, ни защиты, боящихся привлечь к себе внимание и погибнуть первыми, желающих нам победы, но в тайне сердца, как желают ее нам австрийцы, чехи и поляки, которые теперь поглощены нацистами... Мы знаем: мы сражаемся за слабых и не ждем, что они подставят себя под первый удар врага. Но вы, выразители чаяний огромной державы, защищенной океанами, безмерно могущественной благодаря флоту, армии, сильному народу, неужто ваша роль - советовать своим соотечественникам умыть, подобно Понткю Пилату, руки в деле, которое как будто и не имеет к вам отношения? По этому поводу многое можно казать, потому что, хоть вашему физическому существованию непосредственно ничто не угрожает, это дело все-таки и ваше - и еще в большей степени из-за ваших собственных нацистов(6); потому что религия, которую мы защищаем, зовется свободой, а это и ваша религия; потому что, живя на другом континенте, вы тем не менее живете на той же планете и, подобно нам, являетесь наследниками цивилизации, в которой люди солидарны; потому что, когда землетрясение разрушает Мессину, Токио или Сан-Франциско(7), вы не делаете различий, вы страдаете вместе с жителями Мессины, Токио и Сан-Франциско, ибо принадлежите к породе тех, кто помогает поднять Мессину из руин, хотя это итальянский город, а не к тем, кто забросает Мессину камнями, если она не нацистская. Вы похожи на нас и на всех, чьи хрупкие судьбы мы держим в своих руках и кто, не имея видов на соседа, может выражать свои желания лишь в беззвучных молитвах и уже много поколений назад забросил в театральный гардероб за кулисы театра обноски римских императоров. Англия куда сильней Голландии, но она не посягает на голландские колонии. Франция куда сильней Швейцарии, но не посягает на ее франкоязычное население. Вы гораздо могущественней Мексики, но вы не посягаете на Мексику(8). После того как техника превратила войну из блистательной прогулки, где эмоции, может быть, стоили немногих жизней, которыми она оплачивалась, в гигантскую бойню, где людская плоть перемалывается шестернями машин, вы вместе со многими другими поняли: войну надо заменить новой концепцией, которая вознесется над миром, подобно чудотворной надежде, - концепцией стабильности государств. Пора покончить с этими играми, которые стали слишком опасными и уничтожают больше, чем сохраняют. Покончить с территориальными притязаниями. Если мы не хотим подохнуть в грязи, надо наконец установить мир... Ведь людям открыто столько прекрасных поприщ для побед! Идеи разделяют мир, а не объясняют его, и ваша концептуальная система, коль скоро она принята, несомненно, тревожит мир, который мы любим. Если ваша мысль ведет мир, то мы, разумеется, оказываемся погребенными под обломками наших личных религий. Но мысль доказывается ее победой, а победа эта связана не с чем-то трансцендентальным, но с точностью мысли. Вашему несколько упрощенному мышлению можно противопоставить иное мышление. Столь же плодотворное, но гораздо более многообещающее. Вашему устройству можно противопоставить иное устройство. И если оно сконцентрирует в себе больше веры, больше динамизма, если оно будет успешнее распространяться, тогда мы победим. Я был в Германии(9) и расспрашивал там физиков. Современную физику невозможно представить без уравнений Эйнштейна. Разрешено ли там изучать Эйнштейна? Конечно, нет. Всякий, кому для постижения мира необходимо ознакомиться с уравнениями Эйнштейна, обязан поносить его: иначе он их не узнает. Да, Германия была нацией великих ученых, но сейчас это всего лишь нация техников. Вам прекрасно известно, как идет прогресс человеческой мысли: из свободного противопоставления рождается пучок взаимоисключающих доказательств, который направляет движение своих противоположностей навстречу движению единственной теории. И когда давление оказывается чересчур сильным, слишком тесные формы лопаются. Появляется человек, который осуществляет синтез и преодолевает противоречия. Только свобода мысли позволяет мысли двигаться вперед. И мы на протяжении двух веков были соучастниками чуда покорения природы человечеством. Но вот пришел человек, который разом стреножил мысль, окостенил ее, втиснул в свой коран, и человечество под его властью мгновенно превращается в муравейник. Мысль не способна идти вперед, так как не может больше вступать с собою в противоречие. И тогда основой всего становится призрак истины. Тот самый незыблемый гранит, на котором в прошлом зиждились гигантские термитники. Возможно, Гитлер лучше, чем кто-либо другой, умеет извлекать выгоды из высокого уровня человеческих знаний и из разносторонней науки своей страны. Он сумел организовать серийное производство армий, которыми вы восхищаетесь, и сумел вонзить когти в свой народ. Но в чем видите вы его величие? Я считаю его мародером, крадущим плоды мысли. Мысли, которую он презирает. Сегодня в Германии слово "интеллектуал" стало синонимом придурковатого мечтателя, опасного теоретика. Нацисты забрались в храм знаний, раскрадывают плоды творчества, которые там предлагаются, уничтожают то, что сами никогда не смогли бы создать. И мы, сражаясь прежде всего за себя, чтобы сохранить жизнь нашей религии, сражаясь за совокупность народов, которые в этом мире думают так же, как мы, сражаемся и за вас, потому что одновременно с нашим защищаем и ваше духовное наследие, и за Германию, ту Германию, которой вы восхищаетесь, против бандитов, превративших ее в военный лагерь. Вы прекрасно знаете, что мы не требуем ничего, кроме права на мирную жизнь. Мы сражаемся за существеннейшее излишество, которое мы считали, к сожалению ошибочно, совершенно естественным, настолько оно нам казалось очевидным, - за излишество, о котором мы даже не подозревали, что его надо защищать. Да и как могли мы поверить, что явившийся по соседству Магомет откроет чудовищную очевидность: человек не имеет права на собственную одежду, поскольку не способен отстоять ее от всех остальных? Мы сражаемся за человека, за то, чтобы он не был раздавлен слепой толпой, за то, чтобы художник мог писать картины, даже если его не понимают. За то, чтобы ученый мог мыслить, даже если поначалу он кажется неортодоксальным. Мы сражаемся за всех отцов и за всех сыновей мира. За то, чтобы за семейным столом царила неизменная любовь. Чтобы друг не Предавал друга. И чтобы слабый, находясь под защитой закона, под защитой нравственного кодекса, под защитой всемирного соглашения, мог сохранить свою одежду несмотря на то, что не способен ее отстоять. Но для этого необходимо всемирное соглашение. Необходимо, чтобы люди, все вместе, защищали это благо. Необходимо, чтобы каждый человек, являясь частицей своего государства, своей нации, своей духовной родины, был в то же время частицей сообщества людей и защищал каждого. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Обращение к американцам Дата написания этого текста (при жизни писателя не публиковавшегося) точно не установлена; он мог быть написан и в 1940 и в 1941 г. - до вступления США во вторую мировую войну. В сборнике "Военные записки" он помещен перед текстами, относящимися к майской кампании 1940 г. В нем содержится характерная для Сент-Экзюпери (ср., например, книгу "Военный летчик") мысль о том, что только помощь со стороны Соединенных Штатов может спасти Францию от неминуемого разгрома в войне с превосходящими силами Германии. Показательно, однако, что 23 мая 1940 г. писатель отклонил предложение тогдашнего премьер-министра П. Рейно срочно отправиться в Америку для мобилизации общественного мнения США в поддержку Франции. Он не хотел оставлять своих боевых товарищей в критический момент гитлеровского вторжения во Францию, а также, видимо, уже не верил в способность правительства Рейно организовать, даже и с иностранной помощью, действенный отпор врагу. (2) ...когда немцы просили о куске хлеба... - Имеется в виду период начала 20-х гг., когда Германия, разоренная первой мировой войной и наложенными на нее репарациями, переживала экономическую разруху и голод. (3) ...когда немцы милитаризовали Рейнскую зону... - В 1936 г. немецкие войска вступили в Рейнскую область Германии, объявленную по Версальскому договору демилитаризованной зоной. Западные державы не воспротивились этой военной демонстрации гитлеровского правительства. (4) Аншлюс-аннексия гитлеровской Германией Австрии в марте 1938 г. (5) ...еще в Праге. - Немецкие войска вступили в Прагу 14 марта 1939 г., через несколько месяцев после заключения Мюнхенского соглашения. (6) ...из-за ваших собственных нацистов... - К началу второй мировой войны в США существовали влиятельные профашистские силы (их представители были в сенате, в правлении крупнейших корпораций), а также активно действовала прямая агентура гитлеровской Германии. (7) ...когда землетрясение разрушает Мессииу, Токио или Сан-Франциско... Сент-Экзюпери упоминает крупнейшие стихийные бедствия, происшедшие соответственно в 1908, 1923 и 1906 гг. и вызвавшие большие жертвы и разрушения. (8) Вы гораздо могущественней Мексики, но вы не посягаете на Мексику. - На самом деле Соединенные Штаты неоднократно развязывали войну против Мексики и вмешивались в ее дела: в 1845-1848 гг. они аннексировали более половины тогдашней мексиканской территории, в годы мексиканской революции (1910-1917) дважды организовывали вооруженную интервенцию. Американские монополии вели в Мексике экономическую экспансию, захватывая ключевые позиции в хозяйственной жизни страны. (9) Я был в Германии... - Сент-Экзюпери бывал в гитлеровской Германии в 1937 и 1939 гг. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Пангерманизм и его пропаганда
Антуан де Сент-Экзюпери Пангерманизм и его пропаганда (Текст выступления, переданного по радио 18 октября 1939 года)(1) Перевод: С французского Л. М. Цывьян Германская пропаганда работает с изобретательностью на манер американских киностудий, где специальные группы придумывают новые трюки. Всякий раз команды немецких публицистов силятся разрешить следующую проблему: Германии, чтобы расшириться, необходимо захватить такую-то территорию. Как изобразить очередное притязание так, чтобы сломить логику и успокоить совесть всего мира? И команда швыряет в мир формулы - они, как всегда, находятся, - которые противоречат друг другу, но это не имеет никакого значения: торговцам рекламой прекрасно известно, что у толпы начисто отсутствует память. Мы долго поддавались на эту уловку. Мы серьезнейшим образом обсуждали любые аргументы в оправдание побудительных мотивов противника, пытались понять его доводы, проверить их искренность, уличить его в противоречиях. Мы пользовались словами там, где слова бесполезны. Все эти формулы были только прикрытием, а речь шла исключительно о том, чтобы прибавить к немецкой земле новые территории. А какая нация населяет их, какова ее плотность и духовные стремления - безразлично. Нас сбили с толку жульнические правила игры, навязанные противником, хотя нас все-таки извиняет то, что мы люди и полагали, будто люди в своих действиях руководствуются философией, религией или доктринами. Раз люди, полагали мы, готовы сражаться и гибнуть за какое-то дело, значит, это дело завладело их умами. Мы забыли, что существуют побуждения, не имеющие ничего общего с разумом, и что один народ может стремиться пожрать другой, как пожирают друг друга простейшие организмы. Мы позабыли об этом, потому что для нас цивилизация означала главенство разума над примитивными инстинктами. Но у них разум сведен к роли прислужника, обязанного оправдывать инстинкты организма. Пангерманские борзописцы ссылаются на Гете и Баха. Иными словами, Гете и Бах, которых в нынешней Германии сгноили бы в концентрационном лагере, или, подобно Эйнштейну, изгнали, используются для оправдания газовой войны и бомбардировки беззащитных городов. Нет, пангерманизм не имеет ничего общего с Гете и Бахом, низведенными таким образом до уровня рабов. Он не имеет ничего общего с понятием международного права, ничего общего с жизненным пространством. Речь тут идет просто о пространстве. Пангерманизм - это стремление к экспансии. Стремление, от природы присущее всем животным. Всякий вид стремится размножиться и вытеснить все другие. Если для пангерманизма и существует какое-то оправдание, то звучит оно так - и это вовсе не шутка, мы найдем его либо зашифрованным, либо ясно сформулированным во всех нацистских писаниях: мы, немцы, заслуживаем того, чтобы расширить нашу территорию, поглотить наших соседей, использовать их достояние для нашего возвеличивания, потому что стремление расшириться признак жизненной силы и только мы одни испытываем подобный позыв. Наше превосходство над противником в том и заключается, что мы хотим завоевывать, а наш выродившийся противник не способен испытывать такое желание. Но сейчас мы уже знаем, что сложить оружие означало бы поощрить аппетиты Германии. А чем она удовлетворит их завтра? Действия ее не объяснить сколько-нибудь разумной концепцией. Германия вовсе не стремится к целям, которые можно строго обосновать. Ее цели - всего лишь последовательные ставки в игре, удобные пропагандистские предлоги. А подлинная цель Германии просто-напросто увеличение своей территории. Вот почему речь для нас идет не только о борьбе против нацизма, за Польшу, Чехословакию, за цивилизацию - речь идет, прежде всего, о борьбе за право на существование. И те, кто ушел в армию с фермы, из лавки, с завода, сражаются за то чтобы не превратиться в удобрение для процветающей германской нации. Они отстаивают свое право на жизнь, на мирную жизнь. Искушение - это соблазн, когда Дух дремлет, смириться перед доводами Рассудка. Какой прок в том, что я сложу голову в этом горном обвале. Не знаю. Мне сотни раз говорили: Давайте мы вас используем на том или этом посту. Ваше место там- Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами..." Довод несокрушимый. Впрочем, все доводы всегда несокрушимы. Рассудком я соглашался, но мой инстинкт брал верх над рассудком. Почему все эти настояния казались мне как бы иллюзорными, хотя я ничего не мог против них возразить? Я думал: Интеллигентов, словно банки с вареньем, берегут на потом на полках ведомства пропаганды, чтобы полакомиться после войны..." Нет, это не ответ ! И сегодня я, как и мои товарищи, поднялся в воздух вопреки всяческим доводам, вопреки любой очевидности, вопреки инстинкту самосохранения. Придет час. когда я постигну, что, поступив наперекор рассудку, я поступил разумно. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Пангерманизм и его пропаганда 4 сентября 1939 г., с началом второй мировой войны, Сент-Экзюпери был мобилизован и назначен инструктором в центр подготовки военных пилотов в Тулузе - 16 сентября он приезжал в Париж по приглашению Жана Жироду (1882-1944) - известного писателя, который незадолго до войны был назначен генеральным комиссаром по информации и предлагал Сент-Экзюпери службу в его ведомстве. В этот день, очевидно, и было записано на пленку данное выступление. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Пилот и стихии
Антуан де Сент-Экзюпери Пилот и стихии(1) Перевод: С французского Р. Грачева Рассказывая о тайфуне, Конрад(2) лишь мимоходом говорит про огромные валы, мрак и ураган. Этот материал его не интересует. Но вот трюм, набитый китайцами-эмигрантами: качка разметала их пожитки, разбила сундучки, перемешала их жалкие сокровища. Золото, которое они всю жизнь собирали по крупице, безделушки, у всех одинаковые, но у каждого свои, - все смешалось в беспорядке, обезличилось, возвратилось к первобытному хаосу. Из всего, что связано с тайфуном, Конрад показывает нам только трагедию людей. Мы все ощущали это бессилие передать увиденное, когда после бури собирались, как у родного очага, в маленьком тулузском ресторанчике под опекой заботливой служанки. Мы даже не пытались говорить про этот ад. Наши рассказы, наши жесты и громкие слова рассмешили бы товарищей, как детская похвальба. И на то есть причины. Циклон, о котором я хочу рассказать, был самым тяжелым, самым жестоким испытанием в моей жизни; и все-таки, переступив некую грань, я могу описать ярость стихий не иначе, как нагромождая превосходные степени, а это не дает ничего, кроме неприятного ощущения преувеличенности. Постепенно я понял истинную причину этой неудачи: рассказчик силится описать трагедию, которой не было. Попытка передать ужас безуспешна потому, что этот ужас придуман потом, пережит в воспоминании. В минуту опасности ужас не возникает. Вот почему, приступая к рассказу о возмущении стихий, я не уверен, что эта трагедия скажет что-либо читателю. С аэродрома Трилью я взял курс на Комодоро-Ривадавию в Патагонии. Земля в тех местах искорежена, как старая кастрюля. Нет другого места, где бы она столь откровенно показывала свою дряхлость. Когда над Тихим океаном повышается давление, оно изгоняет ветры сквозь расщелину в Андийских Кордильерах; ветры сдавливаются и разгоняются в узком стокилометровом коридоре и соскребают все на своем пути. На этой почве, протертой до дыр, ничего не растет: видны только огни нефтяных скважин - словно горящий лес. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветры пощадили лишь осадок крупного щебня, поднимаются форштевни заостренных, зазубренных, до кости ободранных гор. В летние месяцы скорость этих ветров на почве доходит до ста шестидесяти километров в час. Мы их хорошо знали. Стоило только кому-нибудь из нас оставить песчаные равнины Трилью, и мы оказывались на кромке зоны, где они хозяйничали, мы узнавали их по какому-то голубовато-серому оттенку и потуже затягивали лямки и пояса, приготовляясь к сильной болтанке. С этого момента полет становился мучительным, на каждом шагу мы проваливались в невидимые пропасти. Это был уже физический труд. На целый час мы превращались в грузчиков и таскали на плечах внезапно обрушивающиеся тяжести. А потом, час спустя, мы снова обретали покой. Наши машины выдерживали. Мы доверяли креплению крыльев. Видимость, в общем, была хорошая и не вызывала затруднений. Эти рейсы были для нас каторжным трудом, а не трагедией. Но в тот день мне не понравился цвет неба. Небо было голубым. Чисто голубым. Даже чересчур голубым. Беспощадное солнце блистало на истертой земле, вспыхивая порою на гребнях гор, отскобленных до костяка. Ни облачка. Но к этой чистой голубизне примешивался необычайно сильный отсвет наточенного ножа. Сразу же я ощутил смутное отвращение - предвестье физической пытки. Сама эта чистота неба уже смущала меня. Как ни свирепы черные бури, там хоть видишь врага в лицо. Оцениваешь его могущество, готовишься отразить его натиск. Как ни свирепы они, с ними хоть можно схватиться в открытую. Но в ясную погоду и на большой высоте шквалы голубого урагана обрушиваются на пилота лавиной, и он ощущает под собой пустоту. Я заметил еще и другое. Что-то заволокло вершины гор: не туман, не дымка испарений, не песчаная туча, а какой-то длинный пепельный шлейф. Ветер волочил к морю соскобленную землю, и мне это тоже не понравилось. Я затянул потуже кожаные ремни и, удерживая штурвал одной рукой, другой схватился за лонжерон. Нет, я все еще плыл по замечательно спокойному небу. Наконец самолет вздрогнул. Всем нам знакомы эти тайные толчки, предвестники настоящей бури. Еще нет болтанки, ни бортовой, ни килевой. Самолет еще ни разу как следует не тряхнуло. Продолжается прямой горизонтальный полет. Но крылья уже получили первое предупреждение: редкие, едва ощутимые короткие толчки, похожие на взрывы, словно кто-то подмешал к воздуху порох. Затем все вокруг меня взорвалось. О двух последующих минутах ничего не могу сказать. В памяти встают зачатки мыслей, обрывки умозаключений, простые наблюдения. Я не смог бы сейчас открыть в этом трагедию, потому что никакой трагедии не было. Я только могу изложить все более или менее последовательно. Начать с того, что я уже не продвигался. Довернув направо, чтобы устранить внезапный снос, вижу, что ландшафт подо мной постепенно замедляет движение и совсем останавливается. Я не преодолевал пространство. Крылья не вгрызались в земной рельеф. Земля прыгала, вращалась, но на одном месте: самолет буксовал, словно сорвалась зубчатая передача. Тут же возникло нелепое ощущение, будто я вылез из укрытия. Все гребни, все острые углы, все пики гор, рассекающие ветер и стегающие меня своими смерчами и шквалами, показались мне орудиями, которые наводят на меня свои жерла. Во мне медленно созревало решение спуститься и в глубине долины поискать защиты у склона горы. Впрочем, хотел я этого или нет, меня уже придавливало к земле. Тут-то меня и захлестнули первые волны циклона, который, как я определил через двадцать минут, несся над поверхностью земли с фантастической скоростью: двести сорок километров в час; но ничего трагического я не испытывал. Если я закрою глаза, если забуду про машину и про полет, чтобы выразить мое переживание в его простой первооснове, я опять испытываю то же неудобство, что и грузчик, который старается сохранить свою поклажу в равновесии: поклажа скользит, резким движением он подхватывает на лету один тюк, а тут валится другой, и он, совершенно растерявшись, вдруг замечает, что хотел было разжать руки и выпустить ношу. В сознании - никакого образа опасности. Есть что-то вроде закона кратчайшего пути возникновения образа. Человек заключает переживание в конкретный символ: я был официантом, который нес посуду, поскользнулся, и вся гора фарфора рухнула на паркет. И вот я пленник долины. Я-то рассчитывал найти там укрытие, - куда там! стало еще хуже. Шквалы, правда, никого еще не убивали. Мы знаем, что выражение "вдавлен шквалами в землю" изобрели газетчики. Ветру понадобилось бы спуститься ниже уровня земли. Но на этот раз, посреди долины, я едва-едва управлял самолетом. А форштевень скалы там, впереди, качнулся справа налево, стремительно взмыл в небо и целую секунду висел надо мной, прежде чем снова исчезнуть за горизонтом. Горизонт... Горизонта, впрочем, как не бывало. Я словно заблудился за кулисами театра, где навалены декорации. Вертикали, косые, горизонтали - все перепуталось. Сто долин пересекается подо мной, и непонятно, какая из них настоящая. Не успеваю осмотреться, а тут новое нападение отшвыривает меня 1 в сторону, а то и совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться в обломках ландшафта. У меня возникают две мысли. Первая - это открытие: только сейчас я понял причину аварий в горах, которые случались в ясную погоду. Во время этой карусели пилоты на миг принимают косые склоны гор за линию горизонта. Вторая навязчивая идея: нужно выбраться к морю. Море плоское. За море я не зацеплюсь. И я поворачиваю, если только можно назвать поворотом этот едва управляемый галоп по долинам, уходящим к востоку. Но и в этом нет еще ничего потрясающего. Я всего лишь борюсь с беспорядком, выбиваюсь из сил, чтобы восстановить порядок, изнемогаю, пытаясь удержать на месте гигантский карточный домик, который все рушится и рушится. Я только смутно испытываю самый обыкновенный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг вздымается надо мной, как огромная волна. Разве что сердце у меня чуть щемит, когда живые гребни поддают мне пинка, стоит лишь оказаться в их водоворотах; когда взлетают невидимые пороховые погреба. Если и есть среди моих смутных чувств хоть одно ясное, так это чувство уважения. Я уважаю этот пик. Уважаю этот отточенный гребень. Уважаю этот купол. Уважаю эту поперечную долину, что впадает в мою и, столкнувшись с воздушным потоком, который меня увлекает, тряхнет меня увесистым шквалом. Так я открываю, что сражаюсь вовсе не с ветром, а с этим самым гребнем, с этой хребтиной, с этой скалой. С этой скалой, хоть она и далека. Она собственной персоной наскакивает на меня, протягивая свои невидимые руки, напрягая свои скрытые мышцы. Впереди, справа, узнаю правильный конус - пик Сала-манки, - он, я знаю, стоит над морем. Значит, мне удастся выбраться к морю! Да, но прежде нужно пройти под ветром этого пика. Там, где он "колотит" по самолету, как мы говорим. Пик Саламанки - исполин... И я уважаю пик Саламанки. Секунда передышки... две... Что-то начинает клубиться, вспучиваться, сжиматься. Я удивлен, но не более. Таращу глаза. Кажется, вибрирует весь самолет, он расширяется, разбухает. И вдруг в каком-то сумасшедшем порыве его внезапно возносит на пятьсот метров. Сорок минут я тщетно бился, чтобы подняться хотя бы метров на шестьдесят, - и вот противник оказывается подо мной. Самолет сотрясается, как в кипящем котле. Моему взору открывается океан. Туда, к океану, к избавлению ведет моя долина... И тут безо всякой передышки я получаю пинок в брюхо от пика Саламанки, хотя до него не меньше километра. У меня потемнело в глазах. И я кубарем скатываюсь к морю. Держусь на полном газу лицом к берегу. Под прямым углом к берегу. Чего только не стряслось в одну минуту! Ведь это не я выбрался к морю: сама долина отхаркнула меня, словно в чудовищном приступе кашля; она исторгла меня, как жерло гаубицы. И мне показалось, что уже в следующий миг, когда я развернулся, чтобы определить расстояние до берега, я едва мог разглядеть его за туманной дымкой километрах в десяти от меня; он был уже голубой, словно чужая граница. А зубчатые горы, четко проступающие на чистом небе, показались мне крепостью с бойницами. Сильные сбивающие потоки приплюснули меня к самой воде, и я тотчас усвоил, какова скорость вихря, который я попытался преодолеть, слишком поздно осознав свою ошибку. Но даже на полном газу, при двухстах сорока километрах в час (максимальная скорость в те времена), в двадцати метрах от пенистых гребней, я оставался совершенно неподвижен. Когда такой вихрь налетает на тропический лес, он пламенем охватывает ветви, выворачивая их, свивает, выдирает с корнем могучие деревья, как редиску... Здесь, обрушиваясь с гор, он истязал море. Лицом к берегу, напрягая все силы моего мотора, я пытался удержаться в этом вихре, к которому каждый заусенец земли пристегивал длинную змеистую борозду, и мне казалось, что я цепляюсь за кончик гигантской плети, свистящей над морем. На этой параллели Американский материк уже узок, и от Андийских Кордильер рукой подать до берегов Атлантики. Разумеется, я отбивался не только от низвергающихся с берега потоков, но и от всего неба, ринувшегося ко мне с высоты Андийских Кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я опасался за прочность крыльев. К тому же я боялся врезаться в море, не из-за шквалов, швыряющих вниз - они всегда образуют у самой воды горизонтальную подстилку, а из-за тех непроизвольных акробатических позиций, в которых эти шквалы меня заставали. При каждом новом налете я опасался, что до удара не успею выровнять самолет. Но больше всего я боялся просто свалиться в воду, когда иссякнет бензин, а это казалось неизбежным. С минуты на минуту я ждал, что откажут насосы. В самом деле, толчки были так сильны, что отливы бензина в полупустых баках или бензопроводе вызывали частые перебои мотора, который издавал не ровное гудение, а как бы стрекот морзянки - точка-тире-точка... И все же я настолько ушел в физическую борьбу, слившись воедино со штурвалом тяжелой транспортной машины, что испытывал лишь самые примитивные чувства и только безучастно смотрел, как ветер пашет море. Я видел, как со скоростью двести сорок километров в час несутся на меня восьмиметровые белые промоины, возникающие там, где смерчи взрывали воду. Море было одновременно зеленое и белое. Белое, как сахарная пудра, в которой сверкали изумрудно-зеленые пятна. В невообразимой сумятице невозможно было отличить один вал от другого. Над морем низвергались водопады. Вихри рыли в нем огромные проплешины, как свирепые осенние бури в хлебах. Иногда между песчаными отмелями вода неожиданно становилась прозрачной и сквозь нее проступало чистое черное дно. Затем огромное стекло моря разлеталось тысячами белых осколков. Разумеется, я считал, что мне конец. За всю двадцатиминутную схватку я не отвоевал и сотни метров. Кроме того, лететь в десяти километрах от скал было настолько трудно, что я и представить не мог, как выдержу ураганные ветры, если даже сумею пробиться к берегу. Я шел прямо на батареи, которые били по мне. Но уж какой там страх! В голове не осталось ничего, кроме одной мысли, одного представления о простом действии: выровнять самолет! Выровнять! И снова - выровнять! Бывали, однако, и передышки. Правда, эти передышки напоминали самые свирепые штормы, которые мне до тех пор пришлось пережить, но в сравнении с остальным это была разрядка. Все-таки хоть несколько мгновений я мог свободно дышать. Я даже научился предвидеть передышки. Не я пробивался к зонам относительного покоя - эти почти совсем зеленые оазисы, четко обозначенные на поверхности моря, сами текли ко мне. На воде я прочитывал знаки их приближения. И с каждой передышкой ко мне возвращалась способность мыслить и чувствовать. Тогда я думал, что пропал. Тогда подступала тревога. И как только белая вода вновь кидалась в атаку, я ощущал панический страх, пока на грани кипящей пены не упирался в невидимое море. Тут уж я ничего больше не испытывал. Подняться! Мне все же удалось осознать это желание. Случалось, спокойные зоны казались мне почти бесконечными. Тогда появлялась смутная надежда. "Вот наберу высоту... найду попутный ветер... вот сейчас..." Я наспех штурмовал вражескую крепость, пользуясь перемирием. Штурм был тяжел, сбивающие потоки по-прежнему оставались опасным противником. Сто... двести метров... Думаю: "Поднимусь на километр - тогда спасен". Но из-за горизонта выскакивала новая белая свора и мчалась на меня. И я толкал от себя ручку управления, чтоб и меня не сшибло, чтоб не смяло в опасном положении. Опоздал. Первый же пинок меня опрокидывает. И небо оказывается вдруг скользким куполом, где не за что уцепиться. Как повелевают собственными руками? Я только что сделал ужасное открытие. Руки не гнутся. Руки мертвы. Я не чувствую? их. Это, конечно, произошло не сейчас, только я не замечал. Но I то и опасно, что я уже заметил, что подумал об этом... Случилось вот что: ветер с такой силой выкручивал крылья, г что в них затирало тросы управления и штурвал трясло. Сорок минут подряд я изо всех сил удерживал его, чтобы хоть немного смягчить толчки, от которых тросы могли лопнуть. Я перестарался и теперь не чувствую рук. Вот так открытие: у меня чужие руки! Смотрю на них, шевелю пальцем - он слушается. Разглядываю другие. Так и есть: я не владею руками. Не получаю сигналов от пальцев. Как я узнаю, если они сами по себе разожмутся? Кидаю быстрый взгляд: нет, они сжаты по-прежнему, но я уже струхнул. Как же мне теперь, когда мозг и рука не обмениваются сигналами, отличить образ разжимающейся руки от желания ее разжать? Как распознать, где образ и где волевой акт? Нужно изгнать образ разжимающихся рук. Они ведь живут сами по себе. Надо избавить их от этого чудовищного искушения. И я начинаю их заговаривать и продолжаю эти нелепые заклинания вплоть до самой посадки. Единственная мысль. Единственный образ. Единственная фраза. Бормочу: "Сжимаю руки... сжимаю руки... сжимаю руки..." Вкладываю в эту фразу всего себя, и нет больше ни белого моря, ни шквалов, ни зубчатых гор. Есть только одно: я сжимаю руки. Нет ни опасности, ни циклона, ни недосягаемой земли. Есть лишь где-то там резиновые руки, и стоит им отпустить штурвал, они не успеют опомниться, как я окажусь в море. Ничего не соображаю. Ничего не испытываю, кроме опустошения. Уходят силы, иссякает воля к борьбе. Мотор все хрипит морзянкой: точка-тире-точка прерывистый треск разрываемой простыни. У меня сердце останавливается, когда он молчит более секунды. Отказали насосы! Конец... нет: еще качают... На термометре крыла тридцать два градуса ниже нуля. А я обливаюсь потом. Пот струится по лицу. Ну и пляска! Я скоро узнаю, что аккумуляторы сорвали стальные крепления и разбились, проломив фюзеляж. Я узнаю, что обшивка крыльев отодралась от нервюр, а несколько тросов перетерлось до последней жилки. А я все опустошаюсь. Того и гляди, подберется безразличие неодолимой усталости и цепенящая жажда покоя. А что можно об этом рассказать? Да ничего. Болят плечи. Очень болят. Будто я таскал слишком тяжелые мешки. Смотрю вниз. Сквозь прозрачную зелень во всех подробностях вижу близкое дно. Но пинок ветра рассеивает образ. За час двадцать минут битвы мне удалось подняться на триста метров. Южнее на поверхности моря замечаю какие-то длинные борозды, что-то вроде голубой реки. Надо, чтобы меня туда снесло. Хоть я здесь и не продвигаюсь, меня не отбрасывает. Если я достигну этих неведомых мне воздушных потоков, может, мне и удастся улизнуть к берегу. Пусть меня сносит влево. Да и ветер как будто уже не так силен. Я угробил час на эти десять километров. Затем, прячась у отвесных скал, пробрался к югу. Теперь надо подняться, чтобы пролететь над землей к аэродрому. Удается сохранить высоту триста метров. Погода премерзкая, но с тем, что было, уже не сравнить. То все позади... На аэродроме я обнаружил роту солдат. Их прислали мне на помощь по случаю циклона. Приземляюсь около них. После часа манипуляций удается ввести самолет в ангар. Выхожу из кабины. Ни о чем не рассказываю товарищам. Хочу спать. Медленно шевелю пальцами - они так и не отошли. Я уж и не помню, что пережил какой-то страх. Разве мне было страшно? Я видел странные вещи! А что я видел? Не знаю. Голубое небо, очень белое море. Надо бы поделиться с друзьями: я ведь побывал так далеко! Но как начать рассказ о том, что я перенес? "Представьте: море белое... белое-белое... еще белее". Ничего не передашь, нагнетая эпитеты. Это беспомощный лепет. Ничего не рассказываю, потому что нечего рассказать. Мысли сверлили мозг, невыносимо болели плечи, - но ведь настоящая трагедия заключалась не в этом. И купол пика Саламанки тут ни при чем. Он был набит взрывчаткой, как пороховой погреб, но скажи я такое - будут смеяться. А я... я уважал пик Саламанки. Только и всего. Это не трагедия. Захватывают и волнуют только дела человеческие. Может быть, завтра, приукрасив свои переживания, я растрогаюсь над собой, вдруг представив, что я, живой, шагающий по планете людей, затерялся в циклоне. Это самообман, ибо тот, кто руками и ногами отбивался от циклона, не сравнивал себя с тем счастливым человеком, каким он станет завтра. Мои трофеи ничтожны, я сделал крохотное открытие. Вот что я узнал: как отличить акт воли от простого представления, если ощущения не передаются в мозг. Вероятно, мне удалось бы вас потрясти, расскажи я про то, как безвинно наказали ребенка. А я приобщил вас к циклону, но вряд ли это вас потрясло. Разве мы не присутствуем каждую неделю, сидя в кино, при бомбежке Шанхая(3)? Мы можем без содрогания смотреть на клубы сажи и пепла, медленно вырастающие над вулканоподобной землей. А ведь они уносят не только запасы зерна, не только ценности культуры и святыни домашнего очага - плоть сожженных детей напитала эти жирные черные тучи. Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Пилот и стихии. Дополнительная глава для книги "Планета людей" (первое издание вышло в феврале 1939 г.), включенная в английский ее перевод (вышел в США в июне того же года под заглавием "Wind, Sand and Stars" - "Ветер, песок и звезды"). На французском языке впервые была опубликована 16 августа 1939 г. в газете "Марианна". (2) Рассказывая о тайфуне, Конрад... - Имеется в виду роман английского писателя Джозефа Конрада -Тайфун" (1903). (3) ...при бомбежке Шанхая? - Речь идет о японо-китайской войне, которая была развязана Японией в 1937 г. Сергей ЗенкинАнтуан де Сент-Экзюпери
Sept lettres Natalie Paley (text tabli et present par Delphine Lacroix);Письма Натали Палей
Предисловие
Семь найденных писем Антуана де Сент-Экзюпери к Натали Палей датируются 1942 годом[325]. В апреле и мае этого года Сент-Экзюпери находился в Монреале по приглашению своего канадского издателя Бернара Валикетта. Он собирался прочитать лекцию о своем участии в войне, отстаивая и защищая против многочисленных полемических выпадов свою любимую мысль: необходимость для Франции быть единой. Предполагалось, что он пробудет в Канаде два дня, и вдруг неполадки с визой грозят ему задержкой чуть ли не на полгода[326]. Хлопоча о визе, Сент-Экзюпери прожил шесть недель в гостинице Виндзор, куда к нему приехала Консуэло, поначалу решившая остаться в Нью-Йорке. Сент-Экзюпери болезненно воспринял свое новое вынужденное изгнание, возникшее на фоне другого, тоже вынужденного, но еще более продолжительного, продлившегося в общей сложности два года. Несмотря на внимание своих французских и американских друзей, несмотря на творческую активность, благодаря которой возникли такие произведения, как «Военный летчик», «Маленький принц», «Письмо заложнику», «Цитадель», несмотря на попечения, ободрения, улыбки, общие воспоминания, пребывание в Америке воспринималось писателем как трагедия[327]. Сент-Экзюпери в Монреале очень нервничает[328], опасаясь, что его не хотят пускать в Америку, но мало этого — его укладывает в постель приступ холецистита, от которого он лечится белладонной. В этой не слишком благополучной обстановке он пишет влюбленные письма Натали Палей. А еще одно письмо пишет позже, уже из Нью-Йорка. Скорее всего, они с Натали были знакомы до американского периода жизни Сент-Экзюпери. Вполне возможно, встреча произошла во время съемок фильма «Южный почтовый» и познакомил их общий друг Пьер Ришар-Вильм[329]. Сложный человек со сложной судьбой, Натали Палей заслуживает того, чтобы о ней было рассказано более подробно. Родилась она в Париже в 1905 году. Ее отцом был великий князь Павел Александрович Романов (1860–1919), матерью — графиня Ольга Валериановна Хохенфельзен (1865–1929). Натали Палей, княгиня из рода Романовых, приходилась внучкой русскому царю Александру II. Судьба то баловала ее счастьем и утонченной роскошью, то преследовала с неумолимой жестокостью. Брак ее родителей был морганатическим, они жили во Франции в изгнании, и детство их детей в особняке в Булони было необыкновенно счастливым. Отец отличался необыкновенной добротой и проводил с детьми очень много времени. Любимыми друзьями была сестра Ирина, с которой в детстве Натали была очень близка, и брат Владимир, которым она безмерно восхищалась. Брат уехал в Россию продолжать образование в Пажеском корпусе. В 1912 году русский царь Николай II распорядился, чтобы его дядя, великий князь Павел, с семьей приготовился к возвращению в Россию. Семья вернулась на родину за несколько месяцев до начала Первой мировой войны. Великий князь и его сын — сын несколько раньше отца — поступили на военную службу. Между тем в стране назревала революция, Распутин все активнее влиял на политику царя[330], недовольство росло. После того как революция произошла, великий князь Павел был арестован (1918 г.). Наталье было тогда тринадцать лет, ее сестре — одиннадцать. Мать сумела переправить дочерей в Финляндию, и сама через несколько дней присоединилась к ним, за эти несколько дней великий князь Павел был расстрелян. Прошло несколько месяцев, и они узнали о гибели Владимира, он был сброшен живым в угольную шахту вместе с другими членами царской семьи. Княгиня Палей с дочерьми, прожив некоторое время в Швеции, в 1920 году вернулась во Францию. Ужасы и страдания войны и революции переживались Натали с тем большей остротой, что до них жизнь протекала в райских кущах среди утонченных радостей и удовольствий. Подобные контрасты будут сопровождать Натали Палей всю жизнь. «В двенадцать лет я носила хлеб отцу, сидевшему в тюрьме. Могла ли я быть такой же, как мои девочки сверстницы? Я всегда молчала, не любила играть. Зато очень много читала. Смерть подошла ко мне совсем близко: был расстрелян отец, брат, кузен, дяди — кровь всех Романовых темными сгустками запеклась на моем отрочестве… Я полюбила все, что источало печаль, полюбила поэзию — ледяное и огненное преддверие смерти. В скором времени я нашла со сверстницами общий язык. Они стали относиться с уважением к моим странностям»[331]. В августе 1927 года Натали Палей вышла замуж за великого кутюрье Люсьена Лелонга и стала причастна мирку моды и богемы, в котором вращались аристократы, артисты и художники[332]. Этот мирок крайностей, утонченного вкуса и полной раскованности, существовавший между двумя войнами, вошел в историю под названием «Café-Socety». Натали не осталась чужда безумствам тех лет, — она олицетворение дома моды Лелонга, она фирменный знак авангардного кутюрье, она божество, обладающее властью соблазнять и завораживать. Она пленяла самых великих людей того времени — как мужчин, так и женщин одинаково — врожденным пристрастием к роскоши, красотой, оттененной грустью, утонченной элегантностью. Ее светская и неброская экстравагантность, артистичная и одновременно интеллектуальная, украшала вечера самых модных салонов и гостиных Парижа, Венеции, Лондона, Сен-Морица, Зальцбурга и Нью-Йорка. Семейный очаг, общественные условности мало интересовали Натали Палей, она любила игру воображения, беседы и свободу. В ней была какая-то особенная прелесть, она завораживала бесхитростностью и простотой: «До обеда в лыжном костюме, с короной золотых кос на голове, она напоминала юного лучника, хрупкого и торжествующего… два часа спустя в пленительном, черном с белым платье — удлиненную, утонченную вазу, которая вот-вот станет совершенством и застынет навсегда»[333]. Трудно теперь сосчитать, сколько статей посвятил ей «Вог», трудно переоценить их влияние на читательниц, трудно забыть художественное нововведение тех лет — фотографии. Анри Жансон, с которым Сент-Экзюпери познакомится несколько лет спустя, сравнит ее с Гретой Гарбо[334], другие с Марлен Дитрих. В те времена мода и кино были союзниками. Таинственное очарование Натали Палей, ее мягкая грация «египетской кошечки»[335] привлекают к ней толпы поклонников, очаровывая таких талантливых и ярких людей, как Серж Лифарь, Поль Моран, Мари-Лор де Ноай, Жан Пату, Сальвадор Дали, Жан Кокто, Лукино Висконти, Эрих Мария Ремарк и… Антуан де Сент-Экзюпери. Моран, хоть и жалуется, что его «ласкают каленым железом», не может не восхищаться «ее грацией, ее одинокостью»[336]. Любовное приключение с Кокто вознесло их, будто на ковре-самолете, к опиумным облакам, откуда они смотрели на себя будто «с высоты аэроплана», испытывая «возвышенное отравление»[337]. Но связывал Натали и Кокто не опиум, а сродство душ и взаимное восхищение[338]. Натали Палей признавалась: «Жан свел меня с ума своим остроумием и шармом»[339]. «Ты всегда был для меня особенным, необыкновенным, твоя любовь и гений озарили мою жизнь. Остановившись рядом со мной, ты помог мне вырасти и воспитал меня»[340]. Жан Кокто отвечал ей таким же восхищением: «Я переродился целиком и полностью»[341]. «Я тебя обожаю. И это неодолимая сила. Если ты любишь меня — это вторая неодолимая сила. И что тут можно предвидеть? Смешно. Наши звезды позаботятся обо всем, они не хотят, чтобы вмешивались в их работу. Я полон доверия»[342]. Их страстная привязанность породила слух, что Натали ждет от Жана ребенка[343]. Жана Кокто и Антуана де Сент-Экзюпери сближает то, что оба они были страстно влюблены в одних и тех же женщин — Луизу де Вильморен и Натали Палей, светских аристократок, которые стали для них музами-вдохновительницами. Любовь Антуана де Сент-Экзюпери к Натали Палей длилась совсем недолго, но письма к «любимой» полны пронзительного лиризма, свойственного их автору, он колеблется между желанием любить, жаждой обрести утешение и безнадежной надеждой найти в любви убежище, которое сулит мужчине покой. Любовь открывается ему как откровение, и его гимн черпает свою силу в чувстве сродни религиозному. «Ты во мне — благодатный хлеб. […] Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года, не хочу бессмысленного вращения Земли, которое не ведет ни к кому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет». Сент-Экзюпери опять хочет и надеется — и это его постоянное желание, — чтобы женщина вернула ему душевный покой. Он ухаживает, соблазняет, прельщает чаще всего для того, чтобы заполнить в душе лакуну. Всегда одолеваемый чувством вины, он не в силах расстаться с женой, за которую чувствует глубинную ответственность. Но его любовные опыты множатся и множатся, и в Америке, и даже в Северной Африке[344]. Этим опытам сопутствует постоянное стремление к отсутствию столкновений. Сент-Экзюпери все время повторяет, что не хочет никому причинять страданий, хотя в то же время прекрасно понимает, что «встретить весну — значит принять и зиму. Открыться другому — значит потом страдать в одиночестве». Сент-Экзюпери пишет, как трудно ему открыться и выразить свои чувства, вместе с тем, стремится к этой открытости, и для него важнее всего точно передать, что именно он чувствует. Он тщательно отбирает слова по значимости, по весомости, они должны высветить его любовь, его нежность, они должны объяснить, как подлинно его смятение, его противоречия. «Нелепая планета, нелепые проблемы, нелепый язык. Может быть, есть где-нибудь звезда, где живут просто». Лирическая, почти религиозная наполненность чувством любви сменяется трогательной элегией «Умоляю вас, когда мы увидимся, обнимите меня. Убаюкайте. Успокойте. Помогите». И в то же время, может быть впервые, он заполнен чувственными переживаниями[345]: «Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь: расстегнешь ваше платье — и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами. Знаешь… желание, оно не уснуло. […] Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов…» Откровения звучат особенно щемяще, если принять во внимание, в какое именно время, при каких обстоятельствах пишет писатель свое письмо; если знать, насколько сдержанна и стыдлива в своих интимных отношениях Натали Палей, о которой известно, что чаще всего ее отношения с влюбленными поклонниками оставались платоническими, что у нее бывали влюбленные дружбы с людьми, не скрывавшими своих гомосексуальных пристрастий. Сент-Экзюпери всегда помнит о своем детстве, о простыне-океане, который мама выравнивала одним движением, принося успокоение, тишину и сон, «потому что постель выглаживается, как море, одним божественным прикосновением»[346]. В сорок два года именно это благословенное воспоминание всплывает в его памяти, когда он болен, лежит в постели, думает о любимой и отстаивает свое право «ненадолго сбежать от забот взрослой жизни»: «Милая, я лежу, болею и несказанно этому рад. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю». Читая произведения Антуана де Сент-Экзюпери, читая его письма, мы ощущаем, насколько мир его пронизан воспоминаниями, соткан из них. Воспоминания всегда для него очень дороги, в том числе и детские, из них он складывает свою жизнь. Его творчество — отклик на окружающий его мир, слова взаимодействуют, пытаясь сделать планету понятнее и более пригодной для нашей совместной жизни. Встреча и влюбленность — время, которое они проводили вместе, — вполне возможно, плод тоски, которую каждый из них таил в душе. Как Натали Палей, которая «казалась изгнанницей, сосланной на нашу землю»[347], Сент-Экзюпери на протяжении жизни искал и не находил свой дом. От любви этих двух людей, такой всепоглощающей вначале, а потом все более отстраненной, веет глубочайшей нежностью, беззаветностью, человеческой незащищенностью, которая приводит к слабости, неловкости, затруднениям, растерянности и наконец к невозможности чувствовать себя свободно и органично. Только такие исповедальные письма могут открыть всю уязвимость человеческой души. Не знаю, стоит ли читателю этих писем задаваться вопросом, сколько в них было любви, а сколько дружбы, сколько мечты и идеализации, а сколько обыденной реальности. Да и как в самом деле определить, что человек искренне открыл в себе, а что ему почудилось? Как устоять перед властью фантазий? И мне кажется, нам, читателям, лучше быть как можно более доверчивыми. Но как бы там ни было, Сент-Экзюпери всегда и во всем, доходя даже до парадоксов, искал «качества человеческих отношений»,[348] «чудесное окружение», которое придает жизни вкус и цвет. «Мой друг всегда правее окружающего мира. Я наделил его правом быть независимым», просто потому, что он мой друг, потому что он живет на другой планете. Дельфина ЛакруаВ основе публикации письма, написанные рукой Антуана де Сент-Экзюпери. Пунктуация и орфография исправлены в случае необходимости. Мы горячо благодарим господина Жерара Энеля за благосклонное согласие предоставить в наше распоряжение эти письма.
ПИСЬМА
I
Я верю в архангела Гавриила. Но, видишь ли, он явился… в другом обличье. Я точно знаю: меня только что взяли за руку. Впервые за много лет я закрыл глаза. Ощутил покой в сердце. Мне больше не нужно искать дорогу. Я всегда закрываю глаза, когда счастлив. Так закрываются двери житниц. Переполненных житниц. Ты во мне — благодатный хлеб. Да, я сделаю тебе больно. Да, ты сделаешь больно мне. Да, мы будем мучиться. Но таков удел человеческий. Встретить весну — значит принять и зиму. Открыться другому — значит потом страдать в одиночестве. (Как нелепы телефонные звонки, телеграммы, возвращения на скоростных самолетах, люди разучились жить ощущением присутствия.) В XIII веке моряк-бретонец ни на миг не разлучался с невестой,что осталась ждать в далекой Бретани. Она просто была рядом с ним. В час отплытия к мысу Горн он уже торопился к ней. И я, не боясь нажить непоправимое горе, предаюсь радости. Благословенна грядущая зима. Я не прошу избавить меня от боли. Я прошу избавить меня от сна, который сковал во мне любовь. Не хочу больше ровных дней, не ведающих о временах года, не хочу бессмысленного вращения Земли, которое не ведет ни к кому, ни от кого не уводит. Сделай так, чтобы я любил. Станьте мне необходимой, как свет. Я знаю, как много существует для меня ограничений, знаю, как часто погружаюсь в небытие, тоскую. Знаю, сколько у меня обязательств, преград, противоречий. Само несовершенство. Но это лишь материал. Ничего, что сейчас все в разладе. Будьте светом, взрастите дерево. Любимая моя, так давно я не произносил этого слова. Оно сладко мне, как новогодний подарок. Знаешь, вчера вечером я почувствовал себя рабочим из черного от копоти предместья, который вдруг увидел перед собой луг и ручей с белыми камешками. Я тут же зажмурил глаза, чтобы сберечь чудесное виденье. Свежий мой ручеек с белыми камешками, поющая вода, моя любимая… АнтуанII
Вчера я послал тебе письмо и вдруг испугался. Ты не позвонила. Я подумал, тебе не понравилось. Не знаю, право, что тебе почудилось, но поверь, в нем только нежность. Прими от меня подарок: обещаю тебе никогда не лгать. Разумеется, о чем-то я умолчу. Мои воспоминания принадлежат не мне одному. Гнусно, если признания становятся предательством. Но тебе я не солгу, даже при всей многозначительности умолчаний. На душе у меня светло и ясно. Я не омрачу этот свет политикой. Никогда. Сразу скажу тебе правду: у меня было много любовных историй, если только можно назвать их любовными. Но я никогда не предавал значимых слов. Никогда не говорил просто так: «люблю», «любимая», лишь бы увлечь или удержать. Никогда не смешивал любовь и наслаждение. Я даже бывал жесток, отказывая в значимых словах. Они срывались с губ три раза в жизни. Если меня переполняла нежность, я говорил: «я полон нежности», но не говорил «люблю». Я сказал тебе «любимая», потому что это правда. Не сомневаюсь, что больше никогда и никому не скажу этого. Озарения сердца редки. Я встретил любовь, может быть, последнюю. В моей жизни это ничего не меняет. Но это правда. Скажу тебе еще вот что. Я довольно скрытен и не рассказываю о тех давних обязательствах, с которыми невозможно покончить. Если ты впоследствии узнаешь о них, не подумай, будто они возникли после нашей встречи. Я глубоко чту ожившее сердце. Я страшно неловок, я запутался, но любовь я не предаю. Это письмо покажется вам, возможно, еще нелепее предыдущего. Нелепее и бессмысленнее. Но я нащупываю язык, слова которого говорили бы о сути. Я не лукавлю с весной и чудесами. Происходящее для меня необычайно странно. Самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это положить мне на лоб руку доброй самаритянки. Я издерган, несчастен: исцелите меня. Слеп: помогите прозреть. Иссох: сделайте щедрым в любви. Не делай мне слишком больно без особой надобности и спаси меня от возможности причинить боль тебе. Пребывай всегда в мире. АнтуанIII
Милая, я лежу, болею и несказанно этому рад. Я словно бы окунулся в детство и за себя не отвечаю. На животе у меня пузырь со льдом, в животе белладонна, и я наслаждаюсь передышкой от надсады писательства. Нелегко ждать каждую секунду спазма — строчка, еще строчка, еще… Оба процесса необычайно схожи между собой. Сейчас я не работаю. Краду отдых, пока незаслуженный, незаконно обеспеченный мне белладонной. Но мне так не хватает жалоб и утешений. Окажись ты со мной, я бы поплакал — конечно, притворно, ведь я был бы так рад тебе! А ты приняла бы мои слезы всерьез, но не слишком, потрепала бы меня за ухо, положила руку на лоб, улыбнулась. Ты приласкала бы меня с радостью и на меня не досадовала бы. Так ведь? А мне так хочется любить вас. Сейчас я совершенно спокоен, необыкновенно мил и лежу на подушке совершенно ручной — но недавно, мечтая о тебе, страшно злился на заточение. Бессонные ночи долги. А когда ты один, не гаснет и желание. Вот и воображаешь, воображаешь, а что — я тебе никогда не скажу. Я в плену твоего естества, и ты щедра ко мне. Я умираю от жажды. Но опять начались боли, и этим вечером я совершенно безгрешен, я сама нежность. А как хорошо было бы чувствовать твою руку у себя на лбу. Удивительно хорошо, любовь моя. У меня приступ холецистита. И не первый. Желчный пузырь у меня износился от недостатка воды в Ливийской пустыне. Но до сегодняшнего дня мне удавалось уберечь от хирургов эту семейную реликвию. Надеюсь уберечь и на этот раз и встать с постели самое позднее завтра. (И, разумеется, уехать, если дадут визу. Тут уж меня не удержать! Ни за что!) Мне даже кажется — признаюсь тебе на ушко, — что сегодня вечером я не так уж интересен. Хотя, может быть, мне удастся избавиться, например, от пузыря со льдом. Но думаю, будет лучше, если ты меня еще немного пожалеешь, а я еще немного пожалуюсь. Так будет гораздо симпатичнее. Мелкие неприятности мне отраднее, чем большие, которые меня поджидают. Конфликты, хлопоты. Я имею полное право ненадолго сбежать от забот взрослой жизни. Имею право на небезутешное горе и твое утешение. Любовь моя, поверьте, что на самом деле я попрошу у вас совсем не утешения, а сердечного покоя, без которого не могу ни жить, ни творить. И еще света, молочного и медового, которым вся вы светитесь: расстегнешь ваше платье — и сразу рассвет. Рассвет, моя радость, моя любовь, мне необходимо насытиться вами. Знаешь… желание, оно не уснуло. Кроткий малыш на подушке — картинка весьма обманчивая. Мои помыслы не так уж невинны. Стоит тебе положить руку мне на лоб, как я схвачу ее, и ты попалась. Будь настороже — я хитер и коварен. Лежу с закрытыми глазами, чтобы придать тебе смелости, но на самом деле я их только прикрыл и сквозь ресницы наблюдаю за тобой… Если ты подойдешь к постели слишком близко, я обхвачу тебя обеими руками, словно дерево, и не упущу сладких плодов. Мне так нужна ложбинка у твоего плеча, я прижмусь к ней щекой. Нужна твоя грудь, чтобы вить любовь.* * *
Любимая, не могу больше мечтать. Поговорим о другом. Я обещал, что буду говорить тебе все. В прошлый раз я дал тебе понять, что кое-чего опасаюсь, оно и случилось помимо моей воли. Я же говорил, что у меня непростая жизнь. Случилось путешествие длиною в сутки. Разумеется, я не могу сказать с кем, но могу сказать: случилось. С одной стороны, было очень тепло, а с моей — горько и уныло. Грустная комедия. Милая, это случилось не по моей вине. Как уйти, не сделав слишком больно? Я уже многое упорядочил в своей вольной жизни. Хочу быть хранимым и связанным одной тобой. Оставалась последняя неурядица, я считал, что повел себя очень умно, но ко мне прилетели на помощь, приняв молчание за отчаяние. Да творит ваша рука чудеса. Положите ее мне на сердце и умиротворите его. На лоб, и дайте немного мудрости. На тело, и пусть оно принадлежит вам. АнтуанПосылаю вам несколько страничек — письмо, которое писал в тот день между двумя телефонными звонками, первый известил, что все потеряно, второй — что сообщение о катастрофе было ошибкой. Любовь моя, пришла отвратительная телеграмма от секретаря канадского посольства, меня примут только в среду. Готов повеситься. Не могу больше без тебя. Я в отчаянии, полном, безысходном. Любовь моя, моя любимая, я обрел благодаря тебе покой. Обрел в тебе кров. Обрел доверие, а теперь терзаю ожиданием. Причиняю боль, выматываю. Меня нет с тобой день за днем, я нарушаю все свои обещания, хоть и не по своей воле. Я заслуживаю, чтобы ты обо мне забыла. Заслуживаю, чтобы больше не ждала. Заслуживаю одиночества. А я, хоть и не могу пересечь без визы границу, люблю тебя с каждым днем сильнее. С каждым днем становлюсь несчастнее. Разучился даже тебе писать. Жестоко увидеть рай и тут же потерять. Очень устал. Антуан
V
Любовь моя, любимая, моя любовь, я в таком волнении, в таком отчаянии, что перепутал каблограммы. Я похож на пьяного, качаюсь из стороны в сторону, не понимаю зачем, почему. Я все-таки пошлю тебе каблограмму, которую собирался послать. Я люблю тебя слишком сильно, сомнений нет. Страдаю всем существом. Я болен от ожидания. Ты мне нужна. Необходима. Как воздух. Как дневной свет. Умоляю вас, когда мы увидимся, обнимите меня. Убаюкайте. Успокойте. Помогите. Мне и так невыносимо, и стало еще невыносимее с тех пор, как со мной сыграли злую шутку, поманив покоем и счастьем, а потом лишив их. Умоляю, любите меня, когда я вернусь. АнтуанVI
Странно, никак не могу тебе дозвониться. А мне хотелось прочитать тебе все, что я наработал за последние месяцы. И еще я хотел сказать тебе что-то, что сказать очень трудно. Некоторое время мы виделись очень редко. Думай обо мне, что хочешь, но не обвиняй в равнодушии. Это не так. В Канаде мы ждем с минуты на минуту телеграммы-освободительницы, ждем вдвоем, моя жена, с которой внезапно меня свел случай, и я. Вышло так, что в мое отсутствие она распечатала твою телеграмму, подписанную полным именем. Я не сразу узнал об этом. А когда узнал, почувствовал себя виноватым. Не по отношению к ней (мы давно живем врозь). Я виноват перед тобой. Невыносимо, если вдруг из-за меня поползут компрометирующие слухи. Я едва ли уговорю ее молчать, тем более при таких обстоятельствах. Я клялся всем, чем только можно, старался затемнить смысл телеграммы. Настаивал: «мы давным-давно не виделись», ссылался на алиби (сцены ревности я всегда выносил с трудом). Все это отвратительно, мне тяжело писать тебе об этом, дрязги калечат любовь. Глупая, пошлая, дурацкая случайность. Вот я и объяснил тебе причину своей необъяснимой сдержанности. Я ждал передышки. Сто раз собирался сказать тебе об этом. И не решался. Мне было невыносимо стыдно. Неужели я не смогу защитить тебя? Я сказал тебе все. Я хотел все сказать. Мне показалось, что ты замолчала намеренно, и поэтому я никак не могу тебе дозвониться. Хотя вполне возможно, мне просто не везет. Наверное, больше не буду и пытаться. Я никогда не был навязчивым. Уважаю даже то, чего не понимаю. Ну вот, я все написал. Должен был написать. Нелепая планета, нелепые проблемы, нелепый язык. Может быть, есть где-нибудь звезда, где живут просто. Целую тебя с такой тоской. АнтуанVII
Я в дурацком положении. Написал тебе несколько слов, уловив что-то неощутимое, невесомое, как воздух. Вполне возможно, нежданное ощущение обмануло меня. Зато письмо могло внушить тебе мысль, что писать мне домой не стоит. А я, ничего не получив, снова пишу тебе. Я так остро чувствовал твою любовь вопреки всей нескладице жизни, что не могу из-за недоразумения — если оно было — принять твое молчание. Прошлое письмо не отличалось ясностью и в другом отношении. Речь не шла о необходимости опасаться «моего дома». В «моем доме» вот уже четыре года мы живем каждый своей жизнью. Однако случилось так, что короткое путешествие друзей обернулось в силу нелепых обстоятельств свадебным путешествием длиной в сорок дней и накалило атмосферу до крайности. После злосчастного происшествия с телеграммой — а оно не было даже следствием нескромности — я страшно мучился и без конца повторял (не из-за себя, я ни перед кем не отчитываюсь, из-за тебя), что это сущий пустяк, мы сто лет знакомы, я отказался от твоей помощи, когда лежал в больнице, мы редко видимся, отношения у нас чисто дружеские. Я говорил небрежно, ни на чем не настаивал, не требовал молчания, опасаясь дать повод к лишним разговорам. Да и не вправе был чего-то требовать. Делал, что мог. Я не хотел, чтобы нечаянная встреча, сопоставление случайных фактов или еще что-то в этом роде вновь разожгли костер, который, надеюсь, сумел погасить. У меня печальный опыт: на протяжении жизни мои сугубо личные проблемы не раз становились достоянием широкой публики, а теперь я оказался в ужаснейшем положении по отношению к тебе. Я никогда-никогда-никогда никому ничего не рассказывал, ни разу в жизни не обмолвился словом ни о ком, а сейчас могу стать причиной слухов, которые принесли бы большие неприятности человеку не только мне не безразличному (я страдал бы и в этом случае), а той, кого люблю глубоко, всем сердцем. Я решил больше никогда не видеться с тобой, мне показалось, я нашел самое правильное решение, вот только не знаю, как быть с собой и с тобой. Я не хотел ничего говорить. Не хотел, чтобы жалкие уловки подтачивали нежность. «Правильное решение», горькое, мучительное, возникло как компромисс. Разворачивались другие трагические события, усугубилась сложность моей общественной позиции. Настал день, когда я не смог дышать. Я сказал себе: если не хочешь сойти с ума или повеситься, если исчезло преображающее вдохновение, укорени в себе порядок. Пришлось начать с собственного дома. Выбрать насущные обязанности, первостепенный долг. Когда самые простые проблемы будут разрешены, я яснее увижу более сложные. Я долго раздумывал о новом браке. Долго и тяжело. И принял решение. (Правильное: я начал писать. Для меня — это главное.) Теперь о нас с тобой. Если твое молчание — плод моего воображения, я просто дурак. И все-таки я рад, что ничего не утаил от тебя. Я должен был сделать это «признание». Я не открещиваюсь ни от чего, что исходит из «моего дома». Если твое молчание не случайность, объясни его. Я не буду оспаривать твое решение, я чту права другого. Все права. Твои — в особенности. Твой ответ будет знаком уважения ко мне. Я не из тех недочеловеков, что, настаивая на своем, засыпают телеграммами и способны замучить до смерти телефонными звонками. Думаю, ты во мне не сомневаешься. Мы с тобой одной породы. Своих я узнаю издалека. Ты тоже всегда верна себе. Думаю, телефонная молчанка не для нас. Будем самими собой. Я настаиваю на объяснении только потому, что для меня нестерпима мысль: ты обижена из-за недоразумения или ошибки. Мы живем в отвратительное время. Всюду грязь, она пятнает каждого. Не могу перенести, что она коснется моего, глубоко личного. Запачкает. Моя вселенная не от мира сего. Ничто извне не заставит меня изменить мнение о тебе. Если я не могу смириться с тем, что внешний мир искажает твой внутренний, то только потому, что полон глубокой нежности. Потому что в моих глазах до тебя ничто не может дотянуться. Мой друг всегда правее окружающего мира. Я наделил его правом быть независимым. Я дома завтра, в понедельник. Позвони мне между одиннадцатью и тремя. Если ты согласна позавтракать со мной (потом можем не видеться, я не стану докучать тебе), позвони в одиннадцать и разбуди (звони подольше, этой ночью я работаю). Позже я, возможно, буду занят. Мы пойдем в спокойное кафе, любое, какое захочешь. Хочу прочитать тебе, что я написал. Мне это необходимо. Если не позвонишь, я останусь со своим недоумением, но никогда больше не потревожу тебя (не подумай, что «я удаляюсь, преисполненный собственного достоинства», ты можешь увидеться со мной, когда захочешь, просто я больше не буду тебя тревожить). Причина недоумения проста: честное слово, я понимаю, что жить со мной невозможно (я себя знаю), но во всех остальных отношениях я не сделал ни единого движения, не сказал ни единого слова, за которое мог бы краснеть. Держу свои обещания. Не унижаю того, чем дорожу. Прощаюсь. Сказать больше нечего. Антуан

Сент-Экзюпери Антуан Письма, телеграммы, записи
Антуан де Сент-Экзюпери Письма, телеграммы, записи Содержание Письма матери: [1939, декабрь] [1940, апрель] [1940, июнь] [1944, 5 января] [1944, июль] Письма жене, Консуэло: [1943, апрель] [1943?, без даты] Письма Х. (г-же Н): [1939, 26 октября] [1939, начало ноября] [1939, середина декабря] [1939, 22 или 23 декабря] [1939, декабрь] [1939, конец декабря] [1940, январь] [1940, июль] [1940, 1 декабря] [1941, 8 сентября] [1942, февраль] [1943?, неотправленное][текст] [1943, середина ноября?] [1943, декабрь] [1944, 10 января] [1944, 30 июля] Письма Леону Верту [1939?] [1940, январь] [1940, февраль] [1940, апрель] Письма Льюису Галантьеру [1941, ноябрь] [1942?, без даты] [1942, январь] [1944, май] Письма Ж. Пелисье. [1943, 8 июня] [1944, 10 января] [1944, 9-10 июля] Письма генералу Шамбу [1943, июнь: неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу?)] [1943, 3 июля] Письма Ивонне де Летранж [1944, февраль] Письма г-же Франсуа де Роз [1944, май] Письма Пьеру Даллозу [30 или 31 июля] Разное (письма, телеграммы, записи...) [1940] Запись в Книге почета эскадрильи [1940] Запись в Книге почета авиагруппы 1/3 [1942] Письмо одному из противников [1942] Письмо неизвестному корреспонденту [1944, 6 июня] Телеграмма Кертису Хичкоку [1944, 15 июля] Пари между Сент-Эксом и его другом полковником Максом Желе Письмо г-же Н (Письмо Х.) [Орконт, конец декабря 1939 г.] Перевод: С французского Л.Цывьяна Полночь. В Витри был праздник. Мне пришлось пойти во "фронтовой театр". И вновь острей, чем когда бы то ни было, встал вопрос: почему мы воюем? Куда делись французы? Куда делся г-н Паскаль? До чего ничтожно это паясничанье! Эти стереотипные, как с конвейера, песенки! Еще куда ни шло, когда они идиотские, вроде "Ольги", тогда их еще можно вынести: И, не пойдя в официантки, она пошла по офицерам. Но они становятся духовной порнографией, когда пытаются подняться до уровня чувств, когда намереваются растрогать. Это консервы для собак, которые фабриканты подсовывают людям, и люди ими довольны. Мильтону хлопали. До чего угрюма веселость этого шута! Веселость горемыки, страдающего геморроем и способного думать только о нем. И тем не менее он худо-бедно зарабатывает себе на хлеб потоками слов, которые невозможно назвать предложениями, потому что предложения - это структуры, которым присуще внутренне движение. И поэтому, слушая продолжение "Ольги", чувствуешь, как тебя окатывает волна свежести, правды и здоровья: Она была полудевица и получала вполовину. Еще бы! Тут ведь полное соответствие стиля и содержания. Содержание - это удовольствие сказать жеребятину. Отмочить глупость. Вещь совершенно естественная, вроде отрыжки. Содержание крайне непритязательно, но оно такое, какое есть, и стиль под стать ему: ничего не прибавляет и не убавляет. Но как вынести без тошноты этакое: Я люблю-ю-ю тебя безу-у-умно.... Какое внутреннее побуждение направляет этот стиль? Я видел автора. Гнусный барышник. И хотя слова логически связаны друг с другом, все вместе - пьяная икота, утробное урчание мысли. Внутреннего слияния не происходит. Как все это, однако, заношено! И любовь тут - точно королевская багряница, в которую кутается унылый фигляр. На мгновенье я вдруг растрогался: Когда девчонки в лес идут, Кюре, довольный, ждет крестин... И неожиданно подумал о городе и деревне. Попытался осмыслить. Город - это Жироду и нынешние обстоятельства. Но и место, где все утрачивает смысл. Вседствие игры ума. Так же как и этот барышник. Но он-то из-за собственной ничтожности. А деревня - это непрерывность. Преемственность. Течение времени и перемены, которые им движут. В землю бросают семя, и оно всходит. (Если девушки идут в лес, кюре доволен, так как вскоре будут крестины.) Вот так, медленно, рождаются народные песни, танцы и прекрасная мебель. В средневековых деревнях течение времени имело смысл. Человек там был звеном в цепи поколений, и благодаря церкви мертвые присутствовали в его жизни. Мертвые - как звенья непрерывности. А наши мертвые - это пустые клеточки. И наше лето никак не связано с осенью: это просто времена года, следующие друг за другом. О беззащитные современные люди! И Жироду надеется спасти человечество с помощью разума! Но разум, который все разбирает, а потом складывает по кусочкам (когда он не забавляется и развлечения ради не корежит всю конструкцию, чтобы добиться живописности), теряет ощущение сущности. Когда анализируют "обстоятельства", утрачивают человека. Я не старик и не юноша. Я - тот, кто переходит из молодости в старость. Я - нечто в развитии. Я - старение. Роза - не то, что возникает, распускается и увядает. Это описание, пригодное для школьного учебника. Анализ, умерщвляющий розу. Роза - не ряд последовательных состояний. Роза - это чуточку грустный праздник. Мне самому понятно, что я хочу сказать, но чтобы стать яснее, мне надо бы еще поразмыслить. Этот фронтовой театр. Во время войны... Я согласен умереть, чтобы "напитать", но не ради спасения Мильтона. С Мильтоном я не желаю иметь ничего общего. Я грущу из-за нелепой планеты, на которой живу. Из-за всего, что я не способен понять... Я устал. Но это странная усталость. Нет сомнений, что частично я обязан ею Ж. Для меня самое мучительное - это когда друзья обесцениваются в моих глазах. Разумеется, я не узнал о нем ничего такого, чего бы уже не знал. Но он мне надоел. Меня от него тоска берет. Я сказал себе: "Мне на это наплевать. Меня это не интересует." Не интересует, что он думает о жизни. Или о выпивке. Меня вообще не интересует выпивка. Нет, в жаркий вечер кувшинчик с друзьями - пожалуйста. Но не как постоянное занятие. И меня не интересует, во что превращаются вещи в его руках. Он услышал прекрасные истории, и они стали уродливыми... Вот так. Я вернулся с 10 000 метров. Еще один призрак рассеялся. На высоте 10 000 метров находится необитаемая населенная неведомыми существами территория, откуда земля кажется вогнутой и черной и где движения становятся медлительными, как у человека, плавающего в сиропе. И где пониженное давление (1/10 от нормального) может привести к тому, что жизнь улетучится из тебя; и где выдыхаешь лед, так как при 51н мороза пар от дыхания оседает тончайшими ледяными кристалликами на внутренней стороне маски; и где угрожают десятки всевозможных аварий, из которых отказ кислородного прибора прикончит тебя мгновенно, а отказ системы обогрева превратит в лед... Да, все так! И все совсем по-другому. Все это только призраки. Само собой, на приборной панели есть прибор, контролирующий подачу кислорода, и его священная стрелка куда важнее устройства, которое измеряло бы, скажем, пульс; однако здесь все по-другому, и стрелка превращается в абстракцию. Ее не видишь. Просто время от времени чуть сдавливаешь пальцами идущую к маске резиновую трубку, чтобы убедиться, что она упруга, что молоко поступает в соску, и тихонечко посасываешь. В этом нет ничего возвышенного. Что же касается отказа системы обогрева... На высоте я чувствовал себя вполне прилично. Мне было тепло. А главное, меня восхищало, что тепло распределяется по всему телу, что оно восхитительно обволакивает. Я-то боялся, что провода обожгут кожу. Ничего подобного. От соприкосновения с проводами никаких особенных ощущений у меня не возникало. И я подумал: "Вот если бы такое было у эскимосов!" Шедевр техники: теплая, равномерно нагретая ванна, если не считать пальцев: они у меня мерзли. Но, в общем, было вполне терпимо. И я медленно плыл в небе, держа руку на пулеметной гашетке. Потом, после посадки: - Какая температура? - Минус пятьдесят один. - Ты, надо полагать, не вспотел? - Нет, но страшного ничего. Ты говорил, что горячий кислород обжигает нос, а у меня нос был в порядке. Зато уж унты... - Ну, распариться в них ты не рисковал: ты же забыл включить обогрев ног... А я-то до этого крещения воображал себе, как буду тихо бороться с потерей сознания. Воображал противно взмокшую кожу, потный лоб и ладони и ласковое, сладостное ощущение, нечто вроде расслабленности всех чувств. Нет, на 10 000 метров куда легче, чем на 6 000 без кислорода. И сразу развеялось мое преклонение. Преклонение, которое у меня было в Тулузе перед майором Миши, единственным знакомым мне военным летчиком, который не боялся большой высоты. Таких героев с каждым днем становится все больше. Они совершают посадку и почти ничего не рассказывают о том, что испытали. Все герои такие. Суровые, немногословные. Когда начинаешь их распрашивать, они пожимают плечами: "Дружок, тебе этого не понять!" Но теперь я раз и навсегда открыл причину их молчания. Им просто нечего рассказать. Нет тут никакой отваги. Отвага - в выборе. И тем не менее Миши отважен. Заранее ведь известно, что на десяти тысячах метров существует определенный процент несчастных случаев из-за аварий с кислородом, а это смерть. Поэтому необходимо усилие, чтобы безоглядно выбрать эту профессию. А потом, разумеется, надо решиться уже всерез вылететь на охоту за призраками. Чек на смелость приходится оплачивать. И это достойно награды. Только это. Но стоит убить призрак, и все превращается в профессию, ничем не отличающуюся от прочих. Летать на высоте 10 000 метров или чинить соломенные стулья... Потому что призрак уже мертв. Всякий раз я познавал это заново. Когда возил по ночам почту. Когда тонул в море. Когда подыхал от жажды. А Дора... Дора не учил людей храбрости, он заставлял их убивать призраки. Я уже писал об этом в "Ночном полете". Еще позавчера я так радовался, когда узнал, что приказ о моем первом вылете отменен. Какой же я был болван! Но тогда получается, что храбрость - это нечто, отличающееся благородством от буйства подвыпившего унтер-офицера: она становится условием познания самого себя. Разумеется, разумеется, драмы существуют только сциальные. Драма - это когда болеет ребенок. Драмы бывают только у других. Свое, собственное, никогда, ни за что не бывает драматическим. Полет на десяти тысячах метров. Взрыв, и больше ничего нет. Но в другого-то не влезешь. Другой - это территория, у которой не существует границ. И если замерзает маленькая девочка, это куда страшней, чем когда при 50н мороза отказывает обогрев. Я знаю холод, знаю жажду, знаю незащищенность, но и холод, и жажду, и незащищенность - других. И потом, не знаю почему, желание все брать на себя. Я брал на себя их 10 000 метров. В этом "моя война". И это вовсе не дурацкие манипуляции тореадора, намеком на которого меня однажды хотели уязвить. Группы 1/33 и 2/33 потеряли, если не ошибаюсь, 11 экипажей из 20 не то 25. Они единственные, кто работал и рисковал. Поэтому иногда мне становится грустно в своей комнатке. Слишком дорого все это обходится. Я не очень понимаю, за что стоит платить такую цену. Во всяком случае, не могу назвать. Но существует, вне всякого сомнения, и противоположная точка зрения, поскольку я верю в нее. Сегодня я оглох на одно ухо, но не из-за обычного шума в ушах (с этим-то как раз налаживается), а потому, что впервые спустился с такой высоты, и теперь до завтрашнего дня ухо у меня будет заложено. И опять я думаю о непостижимом противоречии. Итак, тело как таковое. Тело, которое любит вечерний отдых у огня, наслаждается им. Которое сворачивается под одеялом, готовясь заснуть. Которое умеет улыбаться. И то же тело, но отличающееся от меня. Служащее всего лишь орудием. Тело, которое гонят на пахоту, словно вола. Которое заставляют примириться со свистом в ушах или согласиться на то, что его сожгут, поджарят. Как позавчера произошло это с его товарищами. Тело, которое всего лишь "послушное орудие". И в нем живут два чувства: уныние перед лицом возможной смерти, как нынче вечером. И грустные размышления о садах, которые затворятся для него. Для этого достаточно молнии с "мессершмитта", от которой ты внезапно вспыхнешь, как дерево. Она сверкнет в чистом, безоблачном небе. А затем безмолвное вертикальное падение. Те трое, один из которых спасся на парашюте, ничего не видели. Разве что как вдребезги разлетелись бортовые приборы. А потом огонь, точно в кишках заурчало. Незримая работа огня. Вступление огня в свои права. И он, этот третий, покинул свой дом. Я, разумеется, тоже не из числа "несгораемых". Возможно, мне придется убить последний призрак. Это наполняет меня грустью, от которой сжимается сердце. Мечтаешь о роскоши, о висячих садах: мне они всегда казались олицетворением роскоши. И еще о плоти. О запахе плоти, от которого мгновенно защемит сердце. Платье расстегнуто, и ударяет теплый аромат, от него кружится голова. Но в то же время и другое чувство, которое я вновь испытаю завтра. Когда буду действовать. Тело - это всего лишь средство, и большого значения оно не имеет. Для тела не существует трагедий. Я прекрасно это знаю: для тела не существует трагедий. Иногда я бываю голый и мерзну. И все-таки мне нужно многое сказать о войне. Не потому, что я тут видел что-то из ряда вон выходящее. Но здесь у меня есть точка зрения, и как вская точка зрения, она плодотворна. Внутренняя точка зрения. Мне пришлось встать на нее, хотя зрелище оттуда открывается унылое. Нет, не целиком, но отчасти. Прежде всего, я радуюсь всему, что немножко мне досаждает, - неудобствам, холоду, сырости, потому что они позволяют сполна ощутить единственно возможную здесь роскошь: круглую печурку, где так славно гудит огонь, или мою постель на ферме (я живу на ферме), перину, ставшую для меня воплощением всех излишеств. Люблю вечером ложиться в заледенелую постель и, свернувшись калачиком, потихоньку согревая ее собственным теплом, отходить ко сну; люблю струйку холода, что скользнет внутрь, стоит лишь пошевелить ногой. Как хорошо в постели, когда снег растаял и когда, разумеется, меня не донимает бронхит! Потом, конечно, полеты. За линию фронта я пока не летал. Но в воздух уже поднимался. А поскольку существует риск встретиться с немецкими истребителями, перед вылетами меня обучали обращению с пулеметами. Склонности к спорту у меня нет. Но тут, видимо, какая-то неувязка: мне нравится все, что заставляет меня вылезать из своей шкуры. Не люблю высоты. Десять тысяч метров - это нежилой мир, и меня все время преследует мысль, что авария кислородной маски придушит меня, как цыпленка. Моя раздвоенность и потеря себя. Мне нельзя обращать внимание на этот утробный страх, которому я, как всякий, могу поддаться. Наружная, видимая жизнь не представляет никакого интереса. Меня в ней нет. Я живу не здесь. Просыпаясь, я должен ощущать, что доволен собой. Да, товарищи - это трудная проблема. Прежде всего, проблема, кто чего стоит. Существует тьма способов оценивать других. И никогда по-настоящему не известно, с какого боку браться за эту проблему. Особенно, если ты всю жизнь предпочитал любителей Баха любителям танго. А потом, сражаешься бок о бок с людьми, которые, стоит случайно раздаться хорошей музыке, выключают репродуктор. И обнаруживаешь в них высочайшие, главнейшие достоинства. Оказывается, те, что воюют лучше всех, воюют по-настоящему, делают это по другим причинам, нежели я. Они дерутся не ради спасения цивилизации. И вообще мне следовало бы вернуться к содержанию понятия цивилизации, пересмотреть его. На сердце у меня чудовищным бременем лежит устрашающая нелепость нынешней эпохи. Нелепость все та же: нынешняя эпоха не является эпохой мысли. Дело в том, что вот уже целое столетие все меняется чересчур быстро, а мысль слишком медленно переваривает эти изменения. Вообразите себе физика, которому вперемешку подбросили сотни две известных феноменов и тысячу новых, - задача окажется ему не по зубам. Пришлось бы ждать века, пока не появится человек, который потихоньку все это переварит, создаст новый язык и упорядочит картину мира. Потому что в математической физике не было бы больше системы. Все это крайне горько. Сейчас существует не так уж много возможных позиций: либо согласиться стать рабом г-на Гитлера, либо решительно отказаться от покорности ему, заранее принимая весь риск подобного непокорства. И сделать это молча. Я не желаю выступать по радио: это неприлично, если у тебя нет некой библии, которую ты можешь предложить людям. Я принимаю весь риск своего отказа покориться. Только мне необходимо перейти грань, чтобы как следует почувствовать, от чего отказываешься, отказваясь от мира. От чего я в принципе должен отказаться. От личной свободы. От тепла женского тела. Возможно, от жизни.И я спрашиваю себя: ради чего? Это столь же горько, как религиозные сомнения. И, безусловно, столь же плодотворно. Это невыносимое противоречие, которое вынуждает искать истину. Я ведь действительно по шею сижу в противоречиях. И либо сдохну, либо ясно пойму себя самого. Но, уж разумеется, духовную умиротворенность принесет мне не "Пари-суар". И не г-н Рамон Фернандес. И не наше гнусное радио. Вчера я в полном осолбенении слушал Пьера Дака. Будь я иностранцем, я, послушав, как Франция изрыгает все эти непристойности, счел бы, что необходимо немедленно очистить мир от подобной скверны. Что же касается "Пари-суар", вчера в ней была напечатана огромнейшая умопомрачительная статья о боге войны Гитлере. Чудовищней всего был рекламный трюк насчет того, что Гитлер всегда умел мечтать. Это якобы доказывает его неоспоримое величие. И цензура пропускает этакое! Право, все они, словно мартышки перед удавом. Наша страна погибнет, если не будут ясно названы причины, по которым она должна воевать... Но, видимо, ее ничто не вразумит. Неудивительно, что она тащится в хвосте за англичанами: мы не спосбны выразить себя. Мы не способны обрести лицо. Англичане сражаются за свои обычаи, за свой цейлонский чай, за свой уик-энд. Мы ощущаем смутную солидарность с ними, но у нас нет столь всеобщих и столь отчетливых обычаев. Итак, Англия стала совестью г-на Даладье. Англия - наша совесть. Мы вышли бы из войны, если бы Англия не пристыдила нас. На Англию злятся, как на чрезмерно щепетильную совесть. И вот тут-то отчетливо проявляется убожество Жироду и его дозированности. Интеллектуальные ухищрения в качестве ответа на идею расы и единства! Никчемная словесная игра! За дозированность, за рецепт коктейля на смерть не идут. Это безумно абстрактно, это интересно, соблазнительно для рассудка. Но сердцу ничего не говорит. Мне, чтобы согласиться сгореть, этого явно недостаточно. (Я обнаружил, что давний перелом плеча не позволит мне воспользоваться парашютом.) Что ж, тем лучше, потому что я иду на большой риск. И это тем более обязывает меня понять. Когда мне в лицо крикнут: "Хайль Гитлер!" - я не воскликну в ответ: "Да здравствует дозированность!" И вновь мне ясна одна вещь. Может быть, на этой непостижимой вершине, где я восседаю в полном одиночестве, она слаще всего. Нежность к тем, кого я люблю, и еще большая - ко всем людям. И так бывает всегда. Когда оказываешься под угрозой, чувствуешь ответственность за всех. И хочется сказать: "Да низойдет мир в ваши сердца". ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ "фронтовой театр" Имеются в виду представления артистов в действующей армии. Мильтон Мильтон Жорж (наст. имя Жорж Дезире Мишо, 1888-?) - французский эстрадный певец. Я не желаю выступать по радио... - В октябре 1939 г. Сент-Экзюпери выступал по просьбе Ж. Жироду по французскому радио (см. Пангерманизм и его пропаганда). По-видимому, подобные приглашения он получал и в последующие месяцы. Рамон Фернандес (1894-1944) - французский писатель, критик и публицист; был членом профашистской "французской народной партии". Пьер Дак французский писатель-юморист и артист-комик. Даладье Эдуард (1884-1970) - французский политический деятель, в 1938-1940 гг. премьер-министр Франции подписал в 1938 г. Мюнхенское соглашение и в дальнейшем прдолжал политику "умиротворения" гитлеровской Германии. ...убожество Жироду и его дозированности. Очевидно, подразумеваются радиовыступления Ж. Жироду в первые месяцы войны, когда он стоял во главе французского пропагандистского ведомства. В них защита гуманистических идеалов и принципов буржуазной демократии сочеталась с неубедительным казенным оптимизмом, а иногда и с прямыми уступками нацистской идеологии. ...идею расы и единства. Имеется в виду идеология нацизма с ее культом "высшей расы". Письмо Х. [Тулуза, 26 октября 1939 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Отчаянно умоляю тебя: воздействуй на Шансора(1), чтобы меня направили в истребительную авиацию. Я псе сильней ощущаю удушье. В атмосфере этой страны невозможно дышать. Боже милостивый, чего мы ждем!(2) К Дора(3) насчет перевода в истребители не обращайся, пока не будут исчерпаны другие возможности. Я нравственно заболею, если не буду драться. Я могу многое сказать о нынешних событиях. Но сказать только как солдат, а не как турист. Для меня это единственная возможность высказаться, Я делаю по четыре вылета в день, я в хорошей, даже в слишком хорошей форме, что все и усугубляет: здесь из меня хотят сделать инструктора по обучению не только штурманов, но и пилотов тяжелых бомбардировщиков. А в результате я задыхаюсь, несчастен и способен лишь молчать (...) Сделай так, чтобы губы меня направили в эскадрилью истребителей (...) Я не люблю войну, но не могу оставаться в тылу и не взять на себя свою долю риска (...) Надо драться. Но я не имею права говорить об этом, пока в полной безопасности прогуливаюсь в небе над Тулузой- Это было бы непристойно. Верни мне мое право подвергаться испытаниям. Великая духовная гнусность утверждать, что тех, кто представляет собой какую-то ценность, надо держать в безопасности! Лишь будучи активным участником событий, можно сыграть действенную роль. И ежели представляющие собой ценность являются солью земли, они должны смешаться с землей. Нельзя говорить "мы", когда стоишь в стороне. А если говоришь, тогда ты просто сволочь. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Шансор Норбер (1893-1955) - французский авиатор, в 1939г. возглавлял управление авиационной промышленности в министерстве авиации. (2) Боже милостивый, чего мы ждем! - Англия и Франция вплоть до мая 1940 г. не вели активных боевых действий против Германии на западном фронте (т. н. "странная война"), по-прежнему надеясь повернуть гитлеровскую агрессию против СССР. (3) Дора Дидье (1891-1969) - французский авиатор, в 20-х гг. был директором по эксплуатации в компании "Аэропосталь", где и познакомился с Сент-Экзюпери; считается прототипом Ривьера в его повести "Ночной полет" (1931). В начале войны он предлагал Сент-Экзюпери назначить его в авиагруппу связи для перевозки высокопоставленных лиц. Сент-Экзюпери это предложение отклонил. Сергей Зенкин Письмо Х. [Тулуза, "Гран отель Тиволье", начало ноября 1939 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Я только что провел двое суток на дежурстве. Спал на полу среди телефонов и шифровок. Просыпался в беленой комнатушке, ел в промерзшем буфете, словно мальчишка в школьной столовке. И находил в этом невыразимую радость. Ощущение домашних шорохов, будничности, кладовок. Мне хотелось бы раствориться в этом. Потому что я не вижу смысла в обломках ничтожного буржуазного существования, в этом отвратительном Лафайете(1), в этом хождении по взлетным полосам, в шатании вокруг ангаров. Я не гожусь для этого. Мне хочется стать пищей для корней дерева. Тогда бы я чувствовал птиц, что находят на нем приют. Чудо безымянности, вроде безымянности пилота авиалинии или летчика-истребителя, или монастырского затворника, в том и состоит, что потихоньку, незаметно чем-то становишься. В процессе естественного переваривания превращаешься в нечто иное. Просить для меня не тягостно. Я не прошу ни чинов, ни пособия. Я прошу, чтобы меня послали на фронт, в истребительную авиацию. Для меня это жизненная необходимость. И пусть это трудно, пусть даже безумно сложно, я все равно не испытываю угрызений совести оттого, что прошу: это первая моя к тебе просьба о столь большой услуге. Не ходи сразу к Дора. Дора меня не выручит. Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, - под угрозой. В Провансе, когда горит лес, все, кто не сволочь, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне. Как можно скорей добейся моего перевода в истребители. Здесь я изнываю от мрачного сознания своей бесполезности. Я не питаю никаких иллюзий насчет трудностей, ожидающих меня в истребительной эскадрилье, но в любом случае вновь с огромной радостью обрету почву под ногами, как в ту пору, когда я был пилотом почтовой линии. Среди ее летчиков я был как бы частицей земли, которая питает дерево, и не испытывал I потребности в понимании. Ведь дерево - это смысл земли. Этим все объясняется. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Лафайет - здесь, очевидно, условное обозначение какого-то лица, известного самому Сент-Экзюпери и адресату письма. Прибегая к такому шифру, писатель, видимо, учитывал возможность вмешательства военной цензуры. Сергей Зенкин Письмо Х. [Орконт, середина декабря 1939 г.](1) Перевод: С французского Л. М. Цывьян Грязь. Дождь. На ферме мучает ревматизм. Пустые вечера. Неясная тоска. На высоте 10 000 метров испытываю тревогу. И страх тоже. Естественно: все, что положено людям. Все, чтобы быть человеком среди людей. Чтобы слиться с такими же, как я, потому что, отъединись я от них... грош мне была бы цена. Презираю сторонних наблюдателей- Всех этих Ж., о которых тебе говорил Декарт(2) и которые ничего не вкладывают в свою деятельность. Я обрел то, что должен был обрести. Я - как все. Мерзну, как пес. Боюсь, как все- Страдаю от ревматизма, как все. И возможность выбора у меня не больше, чем у остальных. У них есть жандарм. У меня же нечто, обладающее куда большей властью, чем жандарм. Разумеется, я развлекаюсь, распевая, ними застольные песни. Но и они - тоже. Это, правда, не. мешает им, уходя в увольнение, ободрять меня, утешать, поднимать мой дух и дружески похлопывать по плечу. Я бы предпочел быть никому не известным солдатом. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Орконт, середина декабря.-3 декабря 1939 г. Сент-Экзюпери наконец добился назначения в боевую авиачасть, но из-за возраста и состояния здоровья - не в истребительную, а в разведывательную - группу 2/33 дальней разведки, базировавшуюся в те дни в городке Орконт (департамент Марна). (2) Декарт - очевидно, опять условное обозначение какого-то лица (см. коммент. к стр. 54). Сергей Зенкин Письмо Х. [Орконт, 22 или 23 декабря 1939 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Печальный день. И наша и соседняя группа, стоящая в Сен-Дизье, потеряли по экипажу: их сбили в один и тот же лень. Сюда приезжал на сутки Кессель(1), один из ближайших моих приятелей, и я покатал его на военном самолете. Кессель ничуть не изменился (...) Я с любовью вспоминаю свою аварию в Ливии(2), наше отчаянное положение, вынуждавшее меня куда-то идти, и пустыню, которая потихоньку пожирала меня. Я преображался в нечто иное, оказавшееся не таким уж скверным(...) Ночь, тонущая в песках, и долгий полет среди звезд. Разве не в этом мой долг? Хочу в это верить, если долгом называется наилучшее выполнение своих обязанностей. хотя на языке умозрительных истин это уже не так. .И умозрительность доминирует надмилосердием. Она уже более высокий уровень (...) От всего этого такой привкус, что меня тошнит. В небе можно попытаться сделать что-то стоящее. Там от меня никто ничего не требует, и задание поручают мне не для того, чтобы выжать из меня соки, а потому что мою кандидатуру предпочли ста другим. Ты видела эту толпу порученцев, алчущих продвижения? Я другой породы. Нет там могучего дерева, что силой отнимает у земли ее сокровища и дивно истощает ее. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Кесселъ Жозеф (1898-1979) - французский писатель и журналист; в первую мировую войну был военным летчиком. В декабре 1939 г. он посетил авиагруппу 2/33 в качестве военного корреспондента. (2) ...вспоминаю свою аварию в Ливии... - Речь идет о неудачной попытке перелета из Парижа в Индокитай в январе 1936 г., описанной в книге "Планета людей". Сергей Зенкин Письма Леону Верту(1) Перевод: С французского Л. М. Цывьян [1939 г.?] Дорогой Верт, Проездом обнимаю вас (в Париже я всего на несколько минут). Сегодня днем прогулялся по исключительно скверно мощеным закоулкам и любовался там устроенным специально для меня - красивейшим в мире фейерверком. Набил несколько шишек в самолете - и все. Обнимите Сюзанну(2). Тонио [1939 г.] Дорогой Верт, Я здесь проездом: через десять минут отправляюсь на двое суток в Тулузу на испытания. Надеюсь повидаться с вами. когда поеду через Париж обратно. Полеты прошли хорошо. Будьте добры, скажите Консуэло(3), что я пытался связаться с ней во время моего краткого пребывания тут и надеюсь, что она окажется в пределах досягаемости, когда я поеду обратно; я ее предупрежу (позвоню из Тулузы). Передайте ей прилагаемую бумагу, которая нужна ей для квартиры; я ее подписал, а она должна сама отнести ее, чтобы тоже подписать. Бесконечно благодарен. Обнимаю вас обоих. [конец ноября 1939 г.] Дорогой Леон Верт, Я отправляюсь на фронт (авиагруппа 2/33, полевая почта 897) в дальнюю авиаразведку. Поскольку я не очень кровожаден, мне это больше по душе, нежели бомбардировочная авиация. Как жаль. что вас не будет со мной в ночь перед посвящением в воины... Завтра у вас званый обед. Всякий раз, открывая Марианну(4), я чувствую толчок в сердце, и всякий раз я доволен. Дорогой Леон Верт, дорогая Сюзанна, от всего сердца обнимаю вас. А. [1939 г.] Дорогой Леон Верт, Ваше письмо было первым - я получил его, когда еще ни от кого не ждал писем, и оно доставило мне огромную радость. Я написал вам длиннющее письмо, но сразу же его потерял! Однако мне хочется подать вам весточку, что я жив, и потому я нацарапал эти несколько строчек; скоро напишу еще. Я все сильней люблю вас. Тонио ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Верт Леон (1879-1955) - французский писатель и художественный критик, друг Сент-Экзюпери; ему посвящен "Маленький принц" (1942). (2) Сюзанна - жена Л. Верта. (3) Консуэло - жена Сент-Экзюпери, по происхождению аргентинка. (4) Всякий раз, открывая "Марианну"... - В газете "Марианна" сотрудничал в это время Л. Верт. Сергей Зенкин Письмо матери [Орконт, декабрь 1939 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Мамочка, (...)Живу я на очень милой ферме. Здесь трое детишек, два деда, тетушки и дядюшки. В очаге все время пылает огонь, и я отогреваюсь возле него после полетов. Мы ведь летаем на высоте десять тысяч метров при... пятидесяти градусах мороза! Но на нас столько надето (одежда весит 30 кг), что мы не очень мерзнем. Странная война на малых оборотах. Мы еще хоть что-то делаем, а вот пехота! Пьер(1) непременно должен заниматься своими виноградниками и коровами. Это куда важней, чем быть при шлагбауме на железной дороге или капралом в учебной роте. У меня впечатление, что демобилизуют еще многих: промышленность должна продолжать работать. Умирать от удушья бессмысленно. Скажите Диди(2), чтобы она время от времени писала мне. Надеюсь недели через две всех вас повидать. Какое это будет счастье! Ваш Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Пьер - Пьер д'Аге, муж сестры А. де Сент-Экзюпери. (2) Диди - сестра писателя Габриель. Сергей Зенкин Письмо Х. [Орконт, декабрь 1939 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян (...)Мне советуют прямо сейчас взять отпуск, так как следующие две недели и еще долго потом дел у нас почти не будет. Не думай о том моем письме. Все это очень противоречиво и трудно объяснимо. Я вовсе не грущу, оттого что сделал выбор, я просто плохо понимаю жизнь, да и сам для себя чересчур сложен. Не знаю, где применить себя. Трудные моменты - это охота за призраками, одним, другим, третьим. Поначалу мне не нравилось подниматься на десять тысяч метров. Не нравилось воевать. Нет во мне воинственного хмеля, и я очень неясно вижу, куда идет наше поколение. Все это из-за радио, Пари-суар. Ж., некоторых разговоров. Дело вовсе не в трудности полетов на десяти тысячах метров, не в грязи, не в том, что рискуешь жизнью. Остается одна лишь горечь, потому что здесь нет радости созидания, победы или охоты. Для меня невыносимо стоять в стороне от событий. Когда начинаешь последовательно сдирать оболочку со всего, что тебя окружает, она отпадает, и тебе становится худо. Но в то же время понимаешь, что это всего-навсего видимость, и поэтому, одолев призрак, плюешь на него с высоты десять тысяч метров. Только находясь в самом центре, в дерьме, обретаешь ясность. А оболочку необходимо отшелушивать.(...) Письмо Леону Верту [Орконт, конец января 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Дорогой Леон Верт, Статья Поллеса(1) вызвала у меня отвращение и горечь. Мне бы очень хотелось, чтобы вы удостоверили, что я вовсе не такая сволочь, каким представлен в его опусе! Прилагаю записку для Корню(2). Передайте, пожалуйста, если только не считаете ее чересчур глупой. Мы перебазируемся! Здесь нас задерживает только снегопад, из-за него мы не можем улететь. Так что когда вы снова навестите меня, то уже не увидите ни нашей столовой, ни моей великолепной архиепископской кельи. Другая фермерша будет топить мне печку, и во дворе я буду встречать других уток. Это грустно: здешние стали приручаться, и потом я так привык к своей печурке, перине, полу в красную клетку... Короче, вся эскадрилья сидит в ожидании. А все это из-за наступления (?) на Бельгию(3). И нам надо будет колонизовать новых туземцев, приручать новых уток, облетывать новый сектор (адрес, очевидно, останется прежний: полевая почта 897). Все это, Леон Верт, достаточно странно и немножко грустно. И вообще вся эта война немножко странная и грустная. До свидания, Леон Верт, вы мне очень дороги. Тонио ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Статья Поллеса... - В этой статье (место публикации не установлено; автор, по-видимому, писатель и публицист Анри Поллес, р. 1909) Сент-Экзюпери был подвергнут оскорбительной критике за то, что он как писатель якобы спекулирует на своей репутации героя-авиатора. 31 января 1940 г. Л. Верт выступил в газете "Марианна" с опровержением этой статьи. (2) Корню Андре (1892-?) - редактор "Марианны". (3) ...из-за наступления (?) на Бельгию. - В действительности военные действия на территории Бельгии начались только несколько месяцев спустя, в мае 1940 г. Сергей Зенкин Письмо Х. [27 января 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян "Отель де Лан (1). Мне так опротивела моя новая жизнь! И центральное отопление, и зеркальный шкаф, и вся эта полуроскошь, и это буржуазное существование. Постепенно и только сейчас я начинаю понимать, как мне нравился Орконт. Насколько жизнь на ферме, моя промерзшая комната, грязь и снег помогали мне примириться с самим собой. А десять тысяч метров - обрести вес. И вот опять все пошло прахом. Я не способен собрать себя. Там я исполнял свои обеты. Начинал потихоньку... потихоньку оттаивать. Но что я могу сделать с этой машиной, которая ни черта не стоит? Я не хотел жить со всеми ними. Хотел, скорей уж, слиться с ними в их молчании. Хотел приходить извне - со своей фермы или с десяти тысяч метров. И Ольвек(2) очень ошибается, если считает, что я взят в плен застольными песнями в столовой. На равной ноге, да, но без тени снисходительности. И в равенстве я находил такую же радость, как они в пении. Эта ласковая земля - для моих корней. Но для ветвей - все небо, и ветры, прилетающие издалека, и молчание, и свобода одиночества. Я умею быть один в толпе. Пусть я стиснут ею, но у меня остается своя голова и своя берлога. А теперь я лишился берлоги, лишился неба, и мне некуда тянуться ветвями. Теперь я сжался и не верю в себя. Когда они слишком близко, у меня начинается удушье. И все же я любил их и люблю без всякой задней мысли. Но у меня потребность - несомненная - выразить их. Я понимаю их лучше, нежели они сами, - и крепость их корней, и великолепную их субстанцию. Но то, что они говорят, не способно заинтересовать меня, если не считать смысла, который, вопреки им, есть в их словах. Точно так же в моей книге: Простодушная, она плакала из-за потерянной драгоценности. Она плакала, сама того не зная, из-за смерти, которая разлучит со всеми драгоценностями(3). (...) Все в точности похоже. Все их побуждения проникают мне в сердце, и я гораздо ближе к ним, чем они сами к себе. Но мне сейчас недостает пространства. А они надоедают мне историями про драгоценности. Но суть-то не в драгоценностях. Я познаю только при условии, что сам творю свои ветви. Я не способен выразить их, когда меня душит их присутствие. А то, как они сами выражают себя, мне неинтересно. Я уйду к Витролю(4). Предпочитаю опасность смерти иссыханию, которое угрожает мне здесь. Тут я обрел вторую Тулузу. Но без одиночества. Умираю от жажды одиночества. Я - дрянная машина, и мне нужно неведомое горючее. Я чуть ли не кричу караул. Мне просто необходим свет. Дайте мне света. Как сделать, чтобы не погибнуть и принести плоды? Где я? Я опьянел от благих побуждений. И словно апельсиновое дерево, отправляюсь на поиски пригодной земли. Но апельсиновое дерево не слишком-то способно передвигаться. Менять почву трудно. У меня нет ничего, кроме инстинкта искателя подземных ключей. Стоит мне оказаться там, где есть ключ, как я точно угадываю его. Но я никогда не знаю, куда идти. Я страшно неудачливое дерево. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Отель де Лан. - Лан - город в департаменте Эна, на севере Франции, куда в январе 1940 г. перебазировалась авиагруппа 2/33. (2) Ольвек Фернан (1890-1941) - французский ученый-физик, знакомый Сент-Экзюпери. 14 января 1940 г. Ольвек побывал в авиачасти, где служил писатель, и беседовал с ним о проблемах работы авиационной техники в условиях больших высот и низких температур. (3) "Простодушная, она плакала... со всеми драгоценностями" - цитата из первой редакции книги "Цитадель". (4) Я уйду к Витролю. - Известный летчик полковник Витроль осенью 1939 г. уже помог Сент-Экзюпери добиться перевода в боевую авиачасть. Вплоть до марта 1940 г. писателю, однако, приходилось совершать лишь тренировочные полеты. Здесь он, очевидно, высказывает намерение добиваться перевода в другую, более активно действующую часть. Сергей Зенкин Письмо Леону Верту [Лан, февраль 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян ...Леон Верт, наступают холода, и я не очень понимаю жизнь, не знаю, куда податься, чтобы быть в мире с самим собой. Теперь для нас не существует даже войны. Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет(1), и, стало быть, как бы на отдыхе. Остальные после потери шестнадцати экипажей вполне заслужили отдых, но я-то еще ничего не сделал, и уж если вы считаете безрассудным мое участие в войне, то еще более абсурдным сочтете мой отдых, так как я не обрету в нем ничего, что придало бы мне бодрости. Мы живем в настоящем доме с настоящей столовой, настоящим центральным отоплением, и песни тут уже звучат фальшиво, и у меня нет моей дровяной печки, чтобы сотворить ночь, а я так любил все это; там я мерз, но чувствовал себя великим архитектором огня и любил свою выстуженную (по утрам) комнатку. Ледяная постель - это чудесно, потому что, пока не двигаешься, тебя омывает теплая река, но стоит шевельнуть ногой, и попадаешь в полярное течение; постель с ее Gulf Stream(2) и Ice bergh(3) (правильно написано?) была полна таинственности. В сущности, я не люблю комфорта, который все сглаживает. В умеренном климате мне скучно. Здешние ночи в компании с радиатором центрального отопления и зеркальным шкафом уже не имеют привкуса охоты на медведя, и, проснувшись, мне уже не нужно преодолевать степь в красную клетку, простирающуюся между кроватью и печкой, степь, которую я не решался пересечь, так как стучал зубами от холода. И потом ближние полеты разочаровывают меня: вы же знаете, что это не та война, на которую я рвался. Но между взлетами и посадками, при этой великой скудости и кругозоре пастуха мне просто необходимо нечто, что вынудило бы меня разбить свою скорлупу. А тут я чувствую себя, как в инкубаторе. Я ничего не понимаю в этой полуроскошной жизни. Пытаюсь добиться перевода из группы 2/33 в группу 1/52: она продолжает заниматься своим делом. Ко всему прочему, у нас тут полный развал. Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился(4). Песни и розыгрыши утратили всякий смысл. Леон Верт, вы придете в отчаяние, увидев нас такими... Мне хотелось бы, чтобы вы знали то, что, впрочем, и так прекрасно знаете: вы мне бесконечно необходимы, потому что, во-первых, я люблю вас сильней - в этом я убежден, - чем остальных моих друзей, а кроме того, потому что мы близки по духу. Мне кажется, я воспринимаю все примерно так же, как вы, и вы неоднократно мне это демонстрировали. У меня часто бывают с вами долгие споры, но, не будучи пристрастным, я почти всегда признаю вашу правоту. А еще, Леон Верт, я люблю пить с вами перно на берегу Соны(5), закусывая его колбасой и деревенским хлебом. Не могу вам сказать, почему от тех минут у меня осталось ощущение дивной полноты жизни, да мне и нет нужды говорить, поскольку вы знаете это лучше меня, но я был тогда очень счастлив и хотел бы повторить это снова. Мир вовсе не является чем-то абстрактным. Мир - это не конец опасностям и холоду. К ним я равнодушен, ни опасностей, ни холода не боюсь, и в Орконте страшно гордился собой, когда, проснувшись, героически растапливал печурку. В каком-то смысле мир - это возможность закусывать деревенской колбасой и хлебом на берегу Соны в компании Леона Верта. И меня очень огорчает, что колбаса стала невкусной. Приезжайте повидаться со мной, но отправимся мы не к нам в авиагруппу, которая стала даже не грустной, а прискорбной. Мы проведем день в Реймсе и попробуем отыскать хорошее бистро. А потом можно было бы назначить свидание Деланжу(6), а он привез бы Кам(7) и Сюзанну. Приглашаю вас всех на грандиозный пир; приезжайте поскорей и порадуйте меня, но не затягивайте, потому что если я эмигрирую в группу 1/52, то окажусь очень далеко от Парижа. До свидания, Верт, от всего сердца обнимаю вас. Тонио Я встречусь с вами в Лане, в гостинице Англетер, она неподалеку от вокзала - поездом сюда можно добраться за 2 час 20 мин, это совсем рядом. Есть еще поезд, который приходит в 9 час 6 мин вечера. Переночуете у меня. На следующий день осмотрим Реймс (я не видел собор(8)). Деланж присоединится к нам, мы вместе пообедаем или поужинаем, а потом он отвезет вас в Париж. Как вам мой план? ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Мы здесь находимся на случай военных действий, которых нет... (2) Gulf Stream - Гольфстрим (англ.) (3) Ice bergh - Iceberg (англ.) - айсберг. (4) Капитана Гийома перевели в другую часть, и командир группы сменился.Это решение было принято из-за конфликта между командиром авиагруппы 2/33 капитаном Шенком и одним из его подчиненных - командиром эскадрильи капитаном Гийомом. Новым командиром группы стал (6 февраля 1940 г.) майор Анри Алиас. (5) ...пить с вами перно на берегу Соны... - об этой встрече с Л. Вертом во Флервиле весной 1939 г. Сент-Экзюпери вспоминает в "Письме заложнику". [перейти к воспоминаниям] (6) Деланж Рене - журналист, редактор газеты "Энтранзижан". (7) Кам (Камилла?) - по-видимому, жена Деланжа. (8) ...я не видел собор. - Имеется в виду знаменитый готический собор в Реймсе (XIII в.). Сергей Зенкин Запись в книге почета эскадрильи(1) [1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Я был до глубины души взволнован, вновь обретя в третьей эскадрилье группы 2/33 молодость сердца, взаимное доверие и чувство товарищества, составлявшие когда-то для нескольких человек главную ценность старой южноамериканской авиалинии(2). Здесь все похоже, и я всем сердцем ценю командиров эскадрильи, умеющих быть молодыми, старых профессионалов, умеющих быть простыми, товарищей, умеющих быть верными. и то ощущение дружбы, которое позволяет нам, несмотря на опасности войны, грязь и неудобства, с огромной радостью собираться в простом деревянном бараке вокруг чуть-чуть меланхоличного патефона... Рад. что вхожу в состав третьей эскадрильи. Антуан де Сент-Экзюпери, 11 февраля 1940 г. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Запись в Книге почета эскадрильи Эта прощальная запись сделана Сент-Экзюпери в связи с намечавшимся его отзывом из действующей армии для участия в научно-технических разработках в тылу. В итоге перевод не состоялся - видимо, по просьбе самого писателя, не желавшего уходить на тыловую службу. 19 марта 1940 г., пройдя трехнедельную переподготовку на новом разведывательном самолете, Сент-Экзюпери вернулся в часть и приступил наконец к боевым полетам. (2) ...старой южноамериканской авиалинии. - Имеется в виду почтовая линия Франция - Южная Америка, созданная компанией "Аэропосталь" в 20-х гг. (см. ранние повести Сент-Экзюпери - "Южный почтовый" и "Ночной полет"). Сергей Зенкин Письмо Леону Верту(1) [апрель 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Дорогой Леон Верт, Я был бы счастлив обнять, вас, но Консуэло сейчас зайдет за мной, а я обещал позавтракать с нею. Попытаюсь увидеться с вами перед отъездом. N. В.: фронт у Суасона(2) и т. д. держится хорошо. На Сене сумятицы больше, но не безнадежно. Тонио ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Письмо Леону Верту На рисунке сопровождающем это письмо (как и в приведенных выше письмах 1939 г.), Сент-Экзюпери в условной форме изобразил свои разведывательные полеты. Надпись на облачке "Bloch 174" означает марку самолета-разведчика, в марте 1940 г. поступившего на вооружение группы 2/33; черт, скрывающийся за другим облаком, - немецкий истребитель. (2) ...фронт у Суасона... - Смысл этих слов неясен: в апреле 1940 г. немцы еще не вторглись в пределы Франции, и город Суасон (в департаменте Эна) находился далеко от линии фронта. Сергей Зенкин Письма матери Перевод: С французского Л. М. Цывьян [Орконт, апрель 1940 г.(1)] Мамочка, Я писал вам и очень огорчен пропажей моих писем. Я прихворнул (довольно сильная, хотя и непонятно откуда взявшаяся простуда), но все уже прошло, и я вновь присоединяюсь к авиагруппе. Не сердитесь на меня за молчание, тем более что его нельзя назвать молчанием, так как я вам писал и был очень несчастен, оттого что заболел. Дорогая мама, если бы вы знали, как нежно я вас люблю, как берегу ваш образ в сердце, как беспокоюсь за вас! Больше всего на свете мне хочется, чтобы война не коснулась моих близких. Мамочка, чем дольше тянется война и чем больше от нее угрозы и опасностей для будущего, тем сильней во мне тревога. за тех, о ком я обязан заботиться. Бедняжка Консуэло (...) так одинока, и мне ее бесконечно жаль. Если она вдруг решит укрыться на юге(2), примите ее, мама, из любви ко мне, как дочь Мамочка, ваше письмо доставило мне бездну огорчений: 01 полно упреков, а мне бы хотелось получать от вас только ласковые письма. Нет ли у вас в чем-нибудь нужды? Мне хотелось бы сделать для вас все, что только в моих силах. Целую вас, мама, и безмерно люблю. Ваш Антуан Авиагруппа 2/33 Полевая почта 897 [Орконт, 1940 г.] Дорогая мама, Пишу вам, держа листок на коленях: мы ожидаем бомбежки, которая все никак не начнется. Постоянно думаю о вас (...) И разумеется, дрожу от страха за вас. Не получил от вас ни одного письма: куда они подевались? Это меня немножко огорчает. Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы(3), потому что она угрожает и вам. Мне так нужна ваша нежность, милая мамочка. Кому понадобилось, чтобы все, что я люблю на земле, оказалось в опасности? И все же больше, чем война, меня пугает завтрашний мир. Разрушенные деревни, разделенные семьи. Смерть мне безразлична, но я не желаю, чтобы она затронула духовную общность. Как мне хочется, чтобы мы собрались все вместе вокруг накрытого белой скатертью стола! О своей жизни не пишу, да и писать о ней нечего: опасные полеты, еда, сон. Я чудовищно мало удовлетворен. Сердцу нужна иная деятельность. Я чудовищно недоволен тем, чем занята наша эпоха. Чтобы снять с совести бремя, мало примириться с опасностью и подвергаться ей. Единственный освежающий родник кое-какие воспоминания детства: запах свечей в новогоднюю ночь. Сейчас в душе пустыня, где умираешь от жажды. Я мог бы писать, у меня есть время, но писать я еще не способен: книга пока не отстоялась во мне(4). Книга, которая стала бы для меня глотком воды. До свидания, мамочка. Изо всех сил обнимаю. Ваш Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Орконт, апрель 1940 г. - В январе-апреле 1940 г. авиагруппу 2/33 несколько раз перебрасывали с аэродрома в Орконте в Лан и обратно. (2) Если она вдруг решит укрыться на юге... - Мать и сестра писателя жили в городе Are (Прованс). (3) Мне не по себе от постоянной итальянской угрозы... - Юго-востоку Франции грозило вторжение союзных Германии итальянских войск; правительство Муссолини, однако, медлило со вступлением в войну против Франции и сделало это только 10 июня 1940 г., когда французская армия уже потерпела поражение от германского вермахта. (4) ...книга пока не отстоялась во мне. - Имеется в виду "Цитадель". Сергей Зенкин Запись в книге почета авиагруппы 1/3(1), сделанная 23 мая 1940 г. Перевод: С французского Л. М. Цывьян Приношу самую сердечную благодарность авиагруппе 1/3 и ее командиру Тибоде, поскольку, не прикрой меня товарищи из этой группы, я сейчас играл бы уже в раю в покер с Еленой Прекрасной(2), Верцингеторигом(3) и т.д., а я предпочитаю пожить еще на этой планете, несмотря на все ее неудобства... Антуан де Сент-Экзюпери ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Запись в Книге почета авиагруппы 1/3 Истребительная авиагруппа 1/3 взаимодействовала с разведчиками из группы 2/33. (2) Елена Прекрасная - персонаж греческих мифов о Троянской войне. (3) Верцингеториг (72-45 или 46 до н. э.) - вождь древних галлов, боровшихся против римских завоевателей. Сергей Зенкин Письмо к матери. [Бордо, июнь 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Дорогая мамочка, Мы вылетаем в Алжир(1). Обнимаю вас так же сильно, как люблю. Писем не ждите, так как переправлять их не будет возможности, но помните о моей любви к вам. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Мы вылетаем в Алжир. - 20 июня 1940 г., за два дня до капитуляции Франции, авиагруппа 2/33 получила приказ эвакуироваться в Алжир. На борту транспортного самолета, который пилотировал Сент-Экзюпери, находилось несколько десятков французских и польских военных летчиков, которые покидали Францию, намереваясь продолжать войну за ее пределами. Сергей Зенкин Письмо Х. [Алжир, начало июля 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян Секунду назад узнал, что во Францию летит самолет - первый, единственный. Отсюда туда ничего не пропускают - ни писем, ни телеграмм. Мне безмерно грустно. Многое, слишком многое вызывает у меня отвращение. У меня плохой характер, а в здешнем болоте это мучительно. Я делал что мог, выбирал наименьшее зло. И я совершенно отчаялся. Когда-нибудь мы, несомненно, вернемся (...). Письмо Х. ["Палас", Эшторил, Португалия(1), 1 декабря 1940 г.] Перевод: С французского Л. М. Цывьян (...) Гийоме погиб(2), и сегодня вечером мне кажется, будто у меня больше не осталось друзей. Я не оплакиваю его. Я никогда не умел оплакивать мертвых, но мне придется долго приучаться к тому, что его нет, и мне уже тяжело от этого чудовищного труда. Это будет длиться долгие месяцы: мне очень часто будет недоставать его. Как быстро приходит старость! Я остался один из всех, кто летал на линии Касабланка - Дакар(3). Из давних дней, из великой эпохи Бреге-XIV(4) все: Колле, Рен, Лассаль, Борегар, Мермоз, Этьен, Симон, Лекривен, Виль, Верней, Ригель, Пишоду и Гийоме - все, кто прошел через нее, умерли, и на свете у меня не осталось никого, с кем бы я мог разделить воспоминания. И вот я превратился в одинокого беззубого старика, который сам с собой пережевывает их. И из друзей по Южной Америке(5) не осталось ни одного, ни одного... В целом мире у меня нет никого, кому можно было бы сказать: А помнишь? Совершенная пустыня. Из товарищей восьми самых бурных лет моей жизни остался только Люка, но он был всего лишь административным агентом и пришел на линию позже, да Дюбурдье, с которым я никогда не жил вместе, потому что он никогда не покидал Тулузы. Я-то думал, что похоронить на протяжении жизненного пути всех, абсолютно всех друзей - удел глубоких стариков. Жизнь нужно начинать сначала. Умоляю вас, помогите увидеть, что вокруг меня. Перевалив через хребет, я растерялся. Скажите, что мне делать. Если надо возвратиться, я возвращусь(...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Эшторил, Португалия. - В начале августа 1940 г., после перемирия с Германией, Сент-Экзюпери был демобилизован из армии, вернулся в южную (неоккупированную) зону Франции, прожил там некоторое время с родными, а в ноябре через Алжир уехал в Португалию. Там, в курортном городе Эшторил близ Лиссабона, он ожидал судно, чтобы отплыть на нем в Соединенные Штаты. (2) ...Гийоме погиб. - Анри Гийоме, старый друг Сент-Экзюпери по почтовым авиалиниям (см. посвященную ему книгу "Планета людей"), 27 ноября 1940 г., пилотируя гражданский самолет, был сбит над Средиземным морем истребителем неизвестной принадлежности (как полагают, итальянским). (3) ...на линии Касабланка-Дакар... - Имеется в виду почтовая линия в Западной Африке, которую Сент-Экзюпери обслуживал как пилот, а затем как начальник аэродрома в 1927-1929 гг. (4) "Бреге-XIV" - марка почтового самолета 20-х гг. (5) И из друзей по Южной Америке... - в 1929-1931 гг. Сент-Экзюпери был техническим директором южноамериканских почтовых линий компании "Аэропосталь". Сергей Зенкин Письмо Х. [Лос-Анджелес, 8 сентября 1941 г.] Перевод: С французского Е. Баевской Я изменился с начала войны. Теперь я презираю все, что интересно мне, именно мне самому... Я болен странной, неотвязной болезнью - всеобъемлющим безразличием. Хочу закончить свою книгу(1). Вот и все. Я меняю себя на нее. Мне кажется, что она вцепилась в меня, как якорь. В вечности меня спросят: Как ты обошелся со своими дарованиями, что сделал для людей? Поскольку я не погиб на войне, меняю себя не на войну, а на нечто другое. Кто поможет мне в этом, тот мой друг. Единственной помощью будет избавить меня от споров. Мне ничего не нужно. Ни денег, ни удовольствий, ни общества друзей. Мне жизненно необходим покой. Я не преследую никакой корыстной цели. Не нуждаюсь в одобрении. Я теперь в добром согласии с самим собой. Книга выйдет в свет, когда я умру, потому что мне никогда не довести ее до конца. У меня семьсот страниц. Если бы я просто разрабатывал эти семь сотен страниц горной породы, как для простой статьи, мне и то понадобилось бы десять лет, чтобы довести дело до завершения. Буду работать не мудря, покуда хватит сил. Ничем другим на свете я заниматься не стану. Сам по себе я не имею больше никакого значения и не представляю себе, в какие еще раздоры можно меня втянуть. Я чувствую, что мне угрожают, что я уязвим, что время мое ограничено; я хочу завершить свое дерево. Гийоме погиб, я хочу поскорей завершить свое дерево. Хочу поскорей стать чем-то иным, не тем, что я сейчас. Я потерял интерес к самому себе. Мои зубы, печень и прочее - все это трухляво и само по себе не представляет никакой ценности. К тому времени, когда придет пора умирать, я хочу превратиться в нечто иное. Быть может, все это банально. Меня не уязвляет, что кому-нибудь это покажется банальным. Быть может, я обольщаюсь насчет своей книги; быть может, это будет всего лишь толстенный посредственный том, мне совершенно все равно ведь это лучшее из того, чем я могу стать. Я должен найти это лучшее. Лучшее, чем умереть на войне. Пакостная газетная война(2) впервые почти меня не задела. В иные времена я потратил бы на это месяц. Но теперь что бы обо мне ни говорили - я только посмеиваюсь. Я очень спешу. Спешу изо всех сил. Мне недосуг прислушиваться ко всему этому. Будь смерть лучшим, на что я теперь способен, - я готов мереть. Но я ощущаю в себе призвание к тому, что кажется не еще лучше. И все, с этим покончено. Теперь я на всех смотрю с точки зрения своего труда и людей делю на тех, кто за меня и против меня. Благодаря войне, а потом и благодаря Гийоме я понял, что рано или поздно умру. Речь идет уже не об абстрактной поэтической смерти, которую мы считаем сентиментальным приключением и призываем в несчастьях. Ничего подобного. Я имею в виду не ту смерть, которую воображает себе шестнадцатилетний юнец, уставший от жизни. Нет. Я говорю о смерти мужчины. О смерти всерьез. О жизни, которая прожита. (...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Хочу закончить свою книгу. - Имеется в виду "Цитадель". (2) Пакостная газетная война... - 30 января 1941 г. в американских газетах появилось сообщение о том, что французское коллаборационистское правительство Виши назначило Сент-Экзюпери членом созданного в Виши "национального совета". Чувствуя себя скомпрометированным, писатель на следующий день заявил в американской печати и по радио, что впервые узнал о назначении из газет и "отклонил бы его, если бы моего согласия спросили". Этот случай дал, однако, недругам Сент-Экзюпери повод обвинять его в сотрудничестве с вишийским правительством (см. с. 152-153 наст. изд.). Сергей Зенкин Письмо Льюису Галантьеру(1). [ноябрь 1941 г.] Перевод: С французского Е. Баевской Дорогой Льюис, Я уезжаю в воскресенье. Дела наконец пошли на лад. У меня даже появилась надежда избавиться от этих приступов, которые повторялись все чаще и чаще, отравляя мне существование, и, к сожалению, вовсе не были связаны с нервами! Разве бывает такая депрессия, от которой просыпаются в три часа ночи, стуча зубами и дрожа всем телом в сильнейшей лихорадке с температурой 104 - 105(2)! Ни от какой депрессии нельзя спастись сульфамидом, специальным антисептиком, а я, приняв сульфамид при жесточайшем приступе, к вечеру того же дня вполне приходил в себя и мог пожаловаться лишь на небольшое повышение температуры и легкую тошноту... Но это лекарство, каждый раз приносившее мне облегчение, - опасная штука. С другой стороны, что со мной станется, не окажись его в нужную минуту под рукой? Всю войну я таскал его с собой в кармане на случай, если угожу в плен! Все мыслимые анализы подтверждали, что приступы у меня - воспалительного характера. Лейкоциты и т. д. (да еще характерный озноб в придачу). Но у меня не было болей, которые точно указывали бы на очаг инфекции, и потому все лекари сходились на том, что надо удалить желчный пузырь - единственный орган, мало-мальски меня беспокоивший. Самому-то мне это недомогание казалось пустячным по сравнению жестокими приступами лихорадки, и я упорно отказывался от операции. Мне хотелось доказательств поубедительней. И вот, чем дальше, тем больше я верю здешнему диагнозу. В Калифорнии я поначалу перенес за неделю три приступа, а после операции, несмотря на то что она была мучительной несмотря на то что нервы у меня расшатаны, несмотря на тысячу дел, от которых чудовищно страдает моя книга, несмотря на временные осложнения, у меня не было ни единого приступа. Конечно, бывало и раньше, что приступы месяцами не повторялись, так что в полное исцеление я поверю еще не скоро. Но, во всяком случае, последнее время лихорадка трепала меня очень уж часто, и этот спокойный месяц кажется мне добрым знаком. Пишу обо всем этом потому, что вы, по-моему, подозревали будто я, как юная неврастеничка, лечусь от мнимых недомоганий, а дело-то было в очевидных, сильных и частых приступах, которые, не будь на свете сульфамида, укладывали бы меня всякий раз на две недели в постель и, возможно, свели бы в могилу. Да и что это была за жизнь! Если бы у меня в группе кто-нибудь проведал об этой хвори, меня бы мигом отправили к моим дорогим бумажкам и никто не доверил бы мне самолет со всем экипажем; я не смел жаловаться, потому что боялся, как бы меня насильно не спровадили в тыл, так что приходилось вылетать на задания и подниматься на большую высоту с немыслимой температурой. А однажды, как раз когда меня лихорадило, к нам явилась с проверкой медицинская комиссия и пришлось наврать врачам с три короба о приступе малярии хотя за все время, что я провел в колониях, эта дрянь ко мне пристала. Вы не знали о моей болезни только потому, что сульфамид с грехом пополам помогал мне держаться. Но если бы вы видели как за несколько часов до приема лекарства я стучу зубами от температуры 105, вы бы сами послали меня к хирургу. И я наверняка лишился бы почти здорового желчного пузыря только потому, что его, за неимением иного объяснения, облюбовали господа врачи. Замечу в скобках, что рубец убрали не для того, чтобы заменить его новым, а для уничтожения очага нагноения. [Рисунок: схема трех стадий состояния рубца.] (На самом деле выступающий рубец заменили плоским.) Думаю, любой лекарь согласится, что такой выступающий рубец (...) становится постоянным источником сильной инфекции, сказывающейся (...) на почках. Любой, кто бы ни обнаружил такой неиссякаемый источник заразы, послал бы меня на операционный стол. Простите, что так разболтался о своих болезнях. Это вовсе не в моих правилах, и, по-моему, я всегда говорил обо всем этом. куда меньше,, чем мог бы, с моими-то хворями. Но мне, как-никак, пришлось три невыносимых года молча терпеть эти хвори и не лечить их - так не сердитесь же, что мне захотелось выговориться! (Помните обед на 21-м этаже(3) с вашей племянницей? Я тогда ушел работать. Это была неправда. Я ушел потому, что чувствовал, как поднимается температура, и у меня буквально подкашивались ноги) Дорогой Льюис, я вас очень люблю. Клянусь никогда больше не мучить вас подобной стариковской болтовней. Сам понимаю, как это противно, но я сейчас только об этом и думаю. Вот выговорился - и кончено. Буду думать о книге(4). Заглавие. Война. Европа. И дружба, дорогой мой Лыюис. Сент-Экс ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Галантъер Льюис (1893 или 1895-1977) американский литератор, переводчик на английский язык книг Сент-Экзюпери. (2) ...с температурой 104-105 - Имеется в виду принятая в США шкала Фаренгейта (по шкале Цельсия - около 40н). (3) ...на 21 этаже... - В Нью-Йорке Сент-Экзюпери жил на 21-м этаже дома в районе Сентрал-парк. (4) Буду думать о книге. - Речь идет, судя по всему, о "Военном летчике". Сергей Зенкин Письмо одному из противников. [без даты; 1942 г.?] Перевод: С французского Е.В. Баевской Мой дорогой друг, Письмо мое будет несколько сухим. Дело в том, что я люблю ясность. Не вижу смысла тратить силы на сочинение фраз, которые тем цветистее, чем больше в них яду. Мне скучно играть намеками; впрочем, не меньшую скуку навевает и другая крайность - многословный поток проклятий. Не хочу ни ослаблять, ни проклинать, ни намекать. (...) Ах, мой бедный друг, я лучше уйду в монастырь траппистов(1), чем выдержу хотя бы сутки в том обществе последователей Корана, которое вы пытаетесь нам навязать(2), в обществе, где человека ценят не за суть, а за послужной список, где вместо сердец - манифесты, где соседи по лестнице возводится в ранг доносчиков и судей, где нет уважения к внутреннему миру, где вы похваляетесь, что очищаете и оздоровляете личность, а сами постоянно убиваете ее всеми доступными вам средствами, чтобы потом разложить ее потроха на солнышке на всемирной барахолке. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Трапписты - католический монашеский орден. (2) ...в том обществе последователей Корана, которое вы питаетесь нам навязать... - "Коран" для Сент-Экзюпери в годы войны - постоянная метафора тоталитаризма, подавляющего свободу личности ради мертвого, антигуманного государства. Отвергая тоталитарную идеологию фашизма, писатель в то же время усматривал сходную тенденцию и у сторонников Ш. де Голля, неприязненные отношения с которыми у него сложились уже в Америке; одно из свидетельств этой взаимной неприязни - данное письмо. Сергей Зенкин Письмо Льюису Галантьеру (Написано жирным карандашом) [январь 1942 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Дорогой Льюис, Не сердитесь на меня за дурное настроение, которое наверняка просквозит в моем письме. Мое недовольство относится совсем не к вам. Вас я нежно люблю. Но меня трясет от злости. Необходимо дать ей выход. Что это там за история с датой?(1) Что за судьба меня - вечно утыкаться в дату, якобы совершенно достоверную. а в сущности, вздорную, потому что, случись мне начать свою книгу на полтора месяца позже - и эта столь убедительная дата перенеслась бы на те же полтора месяца. При этом ее можно было бы украсить теми же оправданиями с точки зрения чисто логики. Почему вы хотите, чтобы я презирал сам себя и, что одно и то же, пренебрегал своей работой? Я думаю, что плотник должен строгать доску так, словно именно от нее зависит вращение Земли. Для человека пишущего это тем более справедливо. Почему вы хотите, чтобы из-за глупейшей истории с датой я а priori(2) махнул на себя рукой и решил: Будь я господин Паскаль, мое произведение имело бы право быть написанным, а сам я - право на самовыражение. Но поскольку я - всего лишь я, то не все ли равно, удастся мне себя выразить или нет? Пожалуй, то, что пишет какой-нибудь зануда в Нью-Йорк таймс, достойно куда большего интереса: Сочинение мое - дрянь, и я только из тщеславия приписываю ему некоторые достоинства! Раз уж я пишу, меня должно заботить то, что будут думать о моем сочинении и что станет с ним через десять лет, а не то, что подумает о нем 22 февраля некая темная личность с неразвитым вкусом, на которую мне, право же, наплевать. Если я сам доволен своим стихотворением, какое мне дело до того, что его услышат или прочтут через сорок лет после моей смерти, а не раньше? Лубочный образ непонятого поэта, которого людская несправедливость обрекла на нищету, чтобы через сто лет воздать ему должное, всегда представлялся мне глупым и сентиментальным. Да ведь поэт - счастливчик! Не придет же мне в голову сокрушаться об участи угрей, которые мечут икру в Саргассовом море и никогда не увидят своего потомства! Одно из двух: или моя писанина хороша и когда-нибудь ее прочтут - мне ровным счетом наплевать, когда именно; или она никуда не годится и привлечь к ней внимание современников может только шумиха - и тогда мне точно так же наплевать, будут ее читать или не будут. Деньги - разумеется. Мне нужны деньги еt саеteга(3). Мне они просто необходимы, и я радуюсь, когда их получаю, но смешивать две разные точки зрения для меня совершенно немыслимо. Во мне уживаются два вида эгоизма, из которых один решительно преобладает. Я ничего не могу купить на деньги такого, что стоило бы дороже, чем удовольствие сказать то, что хотел. Если я жертвую самовыражением во имя денег, я сам себя облапошиваю. По мне, пусть лучше будет продано сто экземпляров книги, за которую я не краснею, чем шесть миллионов экземпляров пачкотни. Это не что иное, как правильно понятый эгоизм, потому что сто экземпляров подействуют сильнее, чем шесть миллионов. Обожествление количества - очередной современный миф. Наибольшим влиянием пользуются именно самые труднодоступные журналы; если бы Рассуждение о методе(4) прочли в XVII веке всего двадцать пять человек, все равно оно преобразило бы мир. Пари-суар, хоть и потребляет ежегодно прорву бумаги и расходится двухмиллионным тиражом, еще ничего никогда не преобразила. Вам, конечно, покажется глупым, что я наговорил все это по поводу явно анекдотического рассказа, притом нисколько не заблуждаясь насчет его всемирной ценности, но это противоречие ничуть меня не смущает: пиши я хоть статейки по садоводству, мое мнение было бы таким же. Мы существуем в наших книгах. Речь о том, чтобы существовать достойно. Вот и все. И не уверяйте меня, что я, мол, не прав, что произведение мне удалось и править его почти не придется. Моя правка почти не затронет элементов чистого вымысла. Это уж точно. Но я в корне изменю силу их воздействия. Это не коснется ни материала, ни внешней формы изложения. Такие перемены только тогда и начинают жить, когда непонятно, в чем они состоят. И я прекрасно знаю, что нужно изменить. Я буду править то, что с трудом поддается определению: жизненность сказанного мною. Wind, Sand and Stars"(5) покупают до сих пор именно потому, что я все разрушил, когда приехал. Это я хорошо понимаю. Недаром же я столько написал. Мнимой значительностью никого не проведешь. Если в недолговечной газетной шумихе мне случается с опозданием на три года услышать отголоски какой-нибудь моей статьи, это непременно оказывается та самая статья, которую я перемарывал раз тридцать. Если я натыкаюсь где-нибудь на цитату из своей книги, непременно оказывается, что цитируют именно ту фразу, которую я переписывал сто двадцать пять раз. Трудно углядеть явную, ощутимую разницу между первой и последней редакциями. Бывает, что последняя даже беднее красотами стиля - зато она успела вызреть. Она - зерно. А первая была игрушкой на день.. Насчет этого. я никогда, никогда не обманывался . Я согласен с вами, что вряд ли через десять лет буду мыслить яснее, чем сейчас, и ждать еще десять лет не имеет смысла. Это бесспорно. Самовыражаться надо в настоящем, но я как раз в настоящем себя и не выразил. Я, сегодняшний, стою больше, чем мои сочинения. А не вложить себя в свой труд - это для меня недопустимое малодушие. Во имя какого мифа я должен халтурить? Охотно соглашусь, что, когда пишешь небольшую книжку, не следует нарушать общепринятые сроки, но скажите на милость, разве я нарушил эти сроки? Я потратил на эту работу меньше восьми месяцев. Для меня это рекорд скорости. Ваше сегодняшнее чтение нравится вам больше, чем то, что вы читали вчера? То же самое будет и завтра. У моей книжки есть свой предел. Ее предел - это я, каков я есть в 1942 году Вы вправе думать, что я ее порчу, только в том случае, если две идущие одна за другой редакции более или менее равноценны. В нашем случае это не так. Где критерий, который позволил бы вам утверждать, что в этой редакции наконец виден я? Разница (sic) заметна только мне. Остается вопрос: а как же Франция? Ну, что до числа читателей, то оно не имеет никакого значения, и мне наэто плевать. Мнения не рождаются в толпе. Мнение - это взаимное влияние двоих. Иногда и одного понимающего читателя бывает достаточно. Если вы имеете в виду животрепещущую злобу дня, то я понимаю вас еще меньше. Все это не более чем прекрасное заблуждение, ведь то, что будет злободневно послезавтра, тоже окажется дьявольски срочным. А события, которые произойдут в конце марта 1957 года! Для людей 1957 года они будут бесконечно злободневны! То, что было насущной заботой в 1942 году, окажется вытеснено из сознания людей, несправедливо, быть может, но безжалостно вытеснено событиями 1957 года! С какой стати отдавать предпочтение одному либо другому? Перед смертью, трезво подытоживая и оценивая все, что было я не отдам предпочтения ни тому времени, ни этому. Между прочим, у меня есть неопровержимое доказательство: ни разу ни по какому поводу не пришлось мне пожалеть, что моя книга не вышла в свет неделей, месяцем, годом, полугодом раньше... Важно то, что есть сегодня. Через неделю будет важно что-нибудь совершенно другое, новое. Ах, Льюис, как вы меня огорчаете! Сент-Экс ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Что это там за история с датой? - Имеется в виду срок представления в издательство новой книги Сент-Экзюпери "Военный летчик". Л. Галантьер от имени издателей торопил писателя с окончанием книги. (2) а priori - заранее (лат.) (3) еt саеteга - и прочее, и так далее (лат.). (4) "Рассуждение о методе" (1637) - трактат Р. Декарта, в популярной форме излагающий основы его философии. (5) "Wind, Sand and Stars". Ветер, песок и звезды (англ.). - См. примечание к тексту "Пилот и стихии" (с. 244). Сергей Зенкин Письмо Льюису Галантьеру [январь 1942 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Дорогой Льюис, А) Бронетранспортеры на странице 166(1) неуместны, вдобавок это повторение страницы 72, где желательно дать подробную характеристику действия бронетранспортеров. Я их перенес и заменил отсылкой. Б) Прилагаемые при сем снаряды - совсем не то, чего бы мне хотелось. Я не сумел сказать главное. Чтобы ухватить эту не поддающуюся определению штуковину, надо было бы потратить недели две. Но я хотя бы избавился от некоторой бессвязности и напыщенности. Впрочем, пользы от этого, по-моему, немного. Не лежит душа. В) Несколько мелких поправок: стр. 165, 5-я строчка: вычеркните спокойно, стр. 167, 22-я строчка: после слов я нисколько не сомневаюсь добавьте в нашем спасении, стр. 173, 8-я строчка: замените вновь обрету на восстановлю, стр. 172, сверху: семена (вместо зерен. Слишком много зерен). Конец привадах меня в отчаяние. Меня заставляют - господи, ну с какой стати! - заменить крик совести дурацким газетным красноречием. Я знаю, что я хочу сказать, что для меня главное. Я знаю, что достигну цели, если сумею убедить читателя стать на такую точку зрения, с которой ему естественно и неизбежно откроется это главное, - а меня под предлогом бог знает каких мифических сроков заставляют либо подменять предмет моего разговора какой-то пошлой дешевкой, либо оглуплять его пояснениями, то есть прибегать к самым что ни на есть неточным и бедным средствам выражения. Действие - единственное, неповторимое, исключительное - вот что позволяет стать на такую точку зрения, благодаря которой все располагается в должном порядке и в которой растворяется автор. Точку зрения нельзя увидеть. Ее можно придерживаться. Истина, не содержащая в себе точки зрения, - это либо дешевка, либо парадокс, который никого ни к чему не привяжет. Вдобавок это омерзительно скучно. От подобных философских рассуждений мухи дохнут. И не зря. Все это никому не нужно. Вы думаете, мне приятно, что в спешке я не дал плоду спокойно вызреть и был вынужден заменить слова, которые собирался сказать об ответственности, на всякую чепуху? Найди я нужные выражения, ничто вас не резануло бы: вы просто столкнулись бы с некой очевидностью и решили бы, что набрели на нее сами, - но тут-то вам и конец. Вы, сами того не зная, стали бы на всю жизнь моим пленником. На всю жизнь усвоили бы мое мнение. Вместо этого вы, естественно, раздражены бессвязностью, непоследовательностью изложения и тем, что я имел наглость со всем этим вас ознакомить. Словно я показываю ребенка, погибшего еще в материнской утробе. А я, испытывая, естественно, угрызения совести хоть мне никак не взять в толк, какая такая разница между апрелем и маем 42-го года, - я вымарываю то, что должен был сказать, ради того, чтобы добиться более гладкого изложения, какое, в сущности, мог бы представить вам и в возрасте пяти лет. И впрямь, стоило ли так уж лезть из кожи вон, выпутываться из стольких болезней, аварий, испытаний, любовных приключений, историй с налогами и прочих пакостей, чтобы, ни на шаг не продвинувшись вперед, удовольствоваться повторением того, чему научила меня еще нянька! Не вижу ни малейшей необходимости твердить в мае 42-го года то, что было очень хорошо известно еще в 1900-м. С этим можно бы повременить и до 2000 года. Более того, это бы уже позабылось и могло бы сойти за нечто оригинальное. Я совсем выдохся. Написал 200 страниц за шесть дней. При этом не продвинулся вперед ни на шаг. Ничто в мире не заменит времени. Нужно время, чтобы выращивать груши, растить детей и формировать точки зрения. В следующий раз я напишу для Рейхича(2) рассказ. Опишу любовь прелестной блондинки и гусара. Если Ламотт(3) вставит что-нибудь от себя, буду очень рад. Я тоскую, как горючий камень (между прочим, звучит парадоксально). Сейчас семь утра. Ваш друг Сент-Экс ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Бронетранспортеры на странице 166... - Речь идет о книге "Военный летчик". Л. Галантьер, работая над ее английским переводом, очевидно, предлагал писателю некоторые поправки. (2) Рейхич - то есть Рейналь и Хичкок, владельцы издательства, выпускавшего книги Сент-Экзюпери в США. (3) Ламотт Бернар - американский художник, иллюстрировавший издания "Планеты людей" и "Военного летчика" на английском языке. Сергей Зенкин Письмо Х. [февраль 1942 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Ангельское мое Перышко, Мне так надо тебя увидеть. Я устал. Взвалил себе на плечи очень уж тяжкую ношу; избавиться от нее без угрызений совести я не могу, а нести ее трудно до изнеможения: странная штука совесть! (...) Книжка моя вот-вот выйдет(1). Как всегда, клевета и зависть уже наготове. Ты легко можешь себе вообразить, как взволновалась вся эта шушера нью-йоркские поддельные французы(2). Я по тысячам признаков замечаю, как начинает бурлить это болото... Ах, Ангельское Перышко, до чего мне тоскливо, противно, и до чего я устал! Так-то, мой медвежонок. Я не обольщаюсь насчет своей книжки, ты не думай. Я писал ее в состоянии внутренней несобранности. Мне не удалось сказать то, что я хотел. Умоляю тебя, дай телеграмму, как только получишь ее и прочтешь. Я тебе тут же позвоню. Но ты сразу сообщи мне хоть что-нибудь в телеграмме! Если тебе покажется, что это ужасно, - так и скажи: я ведь, кажется, не тщеславен. Крепко целую тебя, Ангельское Перышко. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Книжка моя вот-вот выйдет. - "Военный летчик" вышел впервые в английском переводе 20 февраля 1942 г. под названием "Flight to Arras" ("Полет к Аррасу"). (2) ...нью-йоркские поддельные французы. - Имеются в виду французские эмигранты-голлисты, которые действительно резко отрицательно встретили книгу, увидев в ней "пораженчество" и утверждение "общей вины" французов в военной катастрофе 1940 г. Сергей Зенкин Письмо неизвестному корреспонденту. [Нью-Йорк, 8 декабря 1942 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Я знаю, почему я ненавижу нацизм. Прежде всего потому, что он разрушает надежность человеческих отношений. ... Я прожил годы в пустыне, среди лишений, но там я был счастлив: у меня были верные товарищи. (...) В наши дни мир необъяснимым образом отказывается от того, что составляет его величие... Нацисты объявили евреев символом низости, продажности, предательства, наживания на чужом труде и своекорыстия; их возмущали попытки заступиться за евреев. Они обвиняли заступников в том, что они, мол, желают сохранить в мире продажность, предательство и своекорыстие. Это возвращает нас в эпоху дикарских тотемов. А я отвергаю эти стадные чувства, отвергаю эту мнимую простоту в духе Корана, отвергаю поиски козлов отпущения. Я отвергаю высшие цели святейшей инквизиции. Я отвергаю пустые словеса, из-за которых бесполезно проливаются реки людской крови (...). Я недорого ценю физическую смелость; жизнь научила меня, что такое истинное мужество: это способность противостоять осуждению среды. Я знаю, что, когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен(1), от меня требовалось иное мужество, чем то, которое заставило меня вынести два года оскорблений и клеветы(2), но не свернуть с пути, подсказанного совестью. (...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) ...когда я фотографировал с воздуха Майнц или Эссен... - Имеются в виду разведывательные полеты Сент-Экзюпери над Германией весной 1940 г. (2) ...два года оскорблений и клеветы... - Имеются в виду 1941-1942 гг., прожитые писателем в США, где он подвергался нападкам со стороны французских эмигрантов-голлистов. Сергей Зенкин Письмо жене, Консуэло. [середина апреля 1943 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Консуэло, пойми, мне сорок два. Я пережил кучу аварий. Теперь я не в состоянии даже прыгать с парашютом. Два дня из трех у меня болит печень, через день - морская болезнь. После гватемальского перелома у меня днем и ночью шумит в ухе. Чудовищные затруднения с деньгами. Бессонные ночи, истраченные на работу, и беспощадная тревога, из-за которой мне легче, кажется, гору сдвинуть, чем справиться с этой работой. Я так устал, так устал! И все-таки я еду(1), хотя у меня столько причин остаться, хотя у меня наберется добрый десяток статей для увольнения с военной службы, тем более что я уже побывал на войне, да еще в каких переделках. Я еду (...) Это мой долг. Еду на войну. Для меня невыносимо оставаться в стороне, когда другие голодают; я знаю только один -способ быть в ладу с собственной совестью: этот способ - не уклоняться от страдания. Искать страданий самому, и чем больше, тем лучше. В этом мне отказа не будет: я ведь физически страдаю от двухкилограммовой ноши, и когда встаю с кровати, и когда поднимаю с пола платок. (...) Я иду на войну не для того, чтобы погибнуть. Я иду за страданием, чтобы через страдание обрести связь с ближними (...) Я не хочу быть убитым, но с готовностью приму именно такой конец. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) И все-таки я еду... - 20 апреля 1943 г. Сент-Экзюпери с одним из американских военно-транспортных конвоев отплыл в Северную Африку, чтобы присоединиться к французской армии, возобновившей операции против немецких и итальянских войск. Сергей Зенкин Письмо Ж. Пелисье(1). [Уджда(2), 8 июня 1943 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Дорогой доктор, Пишу вам это письмо потому, что понятия не имею, когда вернусь. Как радостно было бы получить от вас длинное послание и узнать из него, что нового в мире! Я здесь в абсолютной пустыне. Лагерь. Комната на троих (для меня это стадное житье - тягчайшее из лишений). В столовую гуськом, у каждого в руках котелок, получаешь порцию и ешь стоя. Я как-то выключен из жизни, словно в подземельях вокзала Сен-Лазар. Как вы знаете, я ничего иного и не желаю. Я упрямо делаю то, что считаю своим долгом, что бы ни думала об этом X. По правде сказать, мой старый Друг, чувствую я себя очень скверно, и это печально, потому что из-за недомоганий любое дело дается мне труднее, чем восхождение на Гималаи, а такая дополнительная жертва - это уже несправедливо. Любая мелочь оборачивается лишней пыткой. Хожу, брожу на солнышке по огромному лагерю и уже так устал, что временами хочется уткнуться в какое-нибудь дерево и заплакать от злости. И все же насколько это лучше, чем губительная атмосфера споров и склок! Хочу только одного - покоя, пусть даже вечного. (...) Я не должен ввязываться в бесконечные дискуссии о собственной персоне. У меня уже сил нет все объяснять, я ни перед кем не обязан отчитываться: кто меня не знает, тот мне чужой. Мне уже не перемениться: слишком я устал, слишком измучен. У меня нет недостатка во врагах, которые меня поучают; мне нужны друзья, которые стали бы для меня садами отдохновения. У меня нет больше сил, старина. Это печально, хотелось бы хоть немного любить жизнь, а я ее совсем разлюбил. Когда на днях я подумал, что меня вот-вот ощиплют на лету, я ни о чем не пожалел. Напишите мне о коллизии Жиро - де Голль(3): судьба нашей страны меня ужасает. Пишите мне что угодно и о чем угодно (вымарано цензурой). И знаете, я бесконечно благодарен вам за вашу дружбу, за то, как вы меня принимали, и за тепло, которым я был окружен в вашем доме. Передайте Северине(4) и ее приятельнице: я сгораю от стыда, что забыл их подарок... Я торопился, поскольку мне еще нужно было завернуть в Летний дворец(5), но я больше не буду таким забывчивым. Обнимаю вас. Сент-Экс ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Пелисъе Жорж - врач, старый друг Сент-Экзюпери; на квартире у Ж. Пелисье он жил во время своего пребывания в Алжире. (2) Уджда - авиабаза в западном Алжире. В июне 1943 г. Сент-Экзюпери, вновь зачисленный в разведывательную авиагруппу 2/33 (она размещалась в Алжире), проходил там летную подготовку на новом американском самолете "Лайтнинг". (3) ...о коллизии Жиро-де Голль... - Соперничество между генералами де Голлем и Жиро (после убийства в декабре 1942 г. адмирала Дарлана) в борьбе за руководство заграничными патриотическими силами Франции привело к компромиссу: 3 июня 1943 г. в Алжире был создан Французский комитет национального освобождения (ФКНО), во главе которого стояли оба генерала. В дальнейшем де Голль постепенно оттеснил Жиро от власти. (4) Северина - экономка доктора Пелисье. (5) Летний дворец - резиденция генерала Жиро в Алжире. Сергей Зенкин Неотправленное письмо генералу Х. (генералу Шамбу(1)?) [Уджда, июнь 1943 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Дорогой генерал, Не так давно я совершил несколько полетов на П-38(2). Машина замечательная. В двадцать лет я был бы счастлив получить ее в подарок на день рождения. С болью в сердце вынужден сознаться, что теперь, когда мне уже сорок три и я, как-никак, налетал шесть с половиной тысяч часов на всех широтах, эти игры уже не приносят мне особой радости. Самолет - всего лишь средство передвижения, в нашем случае - военное, и когда я в возрасте более чем почтенном для этой профессии ставлю себя в зависимость от скорости и высоты, к этому меня побуждает скорее желание не упустить ни одной из неприятностей, отпущенных на долю нашего поколения, чем надежда вновь обрести утехи былых лет. Наверное, это все хандра, но, может быть, она здесь и ни при чем. В двадцать лет - вот когда я ошибался. В октябре 1940 года, когда я вернулся из Северной Африки, куда перебазировалась группа 2/33, мой истерзанный самолет задвинули в какой-то мыльный сарай, и я открыл для себя двуколку, запряженную лошадью. А заодно - и траву, что растет по обочинам, и овец, и оливковые деревья. Эти деревья нужны были совсем не для того, чтобы проноситься мимо окон со скоростью сто тридцать километров в час. Я видел их в их истинном ритме, в неторопливом ритме вызревания оливок. И овцы не преследовали больше одну-единственную цель - снизить мне среднюю скорость. Они снова становились живыми. Они оставляли за собой настоящий помет и отращивали настоящую шерсть. И трава тоже имела смысл, потому что они ее щипали. И я почувствовал, что оживаю в этом единственном на земле уголке, где пыль - и та ароматна (нет, я несправедлив: в Греции пыль такая же, как в Провансе). И мне показалось, что всю прошлую жизнь я был дурак-дураком. (...) Рассказываю все это, так как хочу объяснить вам, что в этом стадном существовании на американской базе, в обедах, которые мы поедаем стоя, за десять минут, в хождении взад и вперед между одноместными самолетами с моторами по две тысячи шестьсот лошадиных сил, в неопределенного вида здании, где нас рассовали по трое в каждую комнату, короче, во всей этой страшной человеческой пустыне нет ничего, что согревало бы мне сердце. Это что-то вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись(3); это как болезнь, которой приходится переболеть. Я болен, и срок выздоровления неизвестен. Но я считаю себя не вправе быть избавленным от этой болезни. Вот и все. Между тем я погрузился в страшное уныние, и погрузился довольно глубоко. Мне больно за мое поколение, из которого вылущена вся человеческая суть. Которое не знало иных форм духовной жизни, кроме баров, математики и машин Бугатти(4), а теперь вдруг оказывается втянутым в чисто стадную затею. Которое стало уже совершенно бесцветным. Все разучились различать цвета. Возьмите такое явление, как война сто лет назад. Посмотрите, сколько прилагалось усилий, чтобы утолить в людях жажду духовности, поэзии, да и просто человечности. Сегодня нам, высушенным, как кирпичи, смешны подобные глупости. Мундиры, флаги, песни, музыка, победы (в наши дни побед уже не бывает и не происходит ничего, что по поэтической насыщенности сравнилось бы с Аустерлицем(5). Есть только пищеварение - быстрое или медленное). Всякая лирика смешна. Люди не хотят, чтобы их пробудили к какой бы то ни- было духовной жизни. Они и на войне похожи на добросовестных рабочих у конвейера. Как говорит американская молодежь, мы добросовестно делаем эту грязную работу. А пропаганда во всем мире безнадежно разводит руками. Ее недуг вовсе не в том, что нет больше ярких дарований, а в том, что во избежание банальности ей воспрещено обращаться к великим мифам, несущим обновление. Человечество клонится к упадку: от греческой трагедии оно скатилось к пьесам господина Луи Вернейля(6) (ниже падать уже некуда). Век рекламы, системы Бедо(7), тоталитарных режимов, век армий, отказавшихся от знамен, труб, отпевания мертвых. Я всеми силами ненавижу свою эпоху. В наши дни человек умирает от жажды. Ах, генерал, весь мир поставлен перед одной проблемой, одной-единственной. Вернуть людям духовную значительность. Духовное беспокойство. Омыть их слух чем-нибудь вроде григорианского псалма(8). Если бы я был верующим, то, пережив эпоху грязной, но необходимой работы, непременно ушел бы в Солем(9), не в силах вынести ничего другого. Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни XV века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что нам осталось, - это голос, которым вещает робот пропаганды (простите на слове!). Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота, ничего не понимают, кроме робота. И сами превращаются в роботов. Все потрясения трех последних десятилетий происходят по двум причинам. Тупик, в который зашла экономическая система XIX века. И духовное отчаяние. Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником(10)? Люди попробовали проверить картезианские ценности(11), и ни в чем, кроме естественных наук, эти ценности себя не оправдали. Есть только одна проблема, одна-единственная, состоящая в том, чтобы вновь открыть жизнь духа, которая выше всего, в. том числе и жизни разума. Открыть единственное, что может принести человеку удовлетворение. Это шире, чем проблема религиозной жизни, являющейся лишь одной из форм жизни духовной (хотя, быть может, религиозная жизнь непременно вытекает из духовной). А жизнь духа начинается там, где видимое бытие рождается из чего-то, что выше составляющих его элементов. Любовь к дому - любовь, неведомая в Соединенных Штатах, - это тоже духовная жизнь. И крестьянский праздник. И культ умерших. (Я упоминаю об этом, потому что после моего приезда здесь разбилось двое или трое парашютистов. Их быстренько упрятали в землю: ведь служить они больше не могут. И Америка тут ни при чем, это веяние времени: смысл теряет человек как таковой.) Поэтому совершенно необходимо говорить с людьми... Нужно говорить с людьми, потому что они готовы примкнуть к кому угодно. Я жалею, что на днях так неудачно выразил свои мысли в разговоре с генералом Жиро(12). Кажется, мое вмешательство пришлось ему не по душе и было истолковано как отсутствие у меня вкуса, или такта, или дисциплинированности. Я, конечно, сам во всем виноват: легко ли подступиться к столь сложной проблеме, когда перескакиваешь с пятого на десятое? Меня сгубила спешка. И все же генерал поступил несправедливо, столь бесповоротно осудив меня: я ведь преследовал только одну цель - расширение того движения и тех идей, которые представляет он сам. Но военная иерархия автоматически лишала мои аргументы убедительности. Будь я половчее, генерал выслушал бы меня более доброжелательно. Но как бы то ни было, я говорил то, что чувствовал нутром, и преследовал при этом только одну цель: быть полезным ему, а тем самым родине. Потому что мне представляется спорным, вправе ли командир воинского соединения подменять подробный отчет очевидца своим толкованием событий. Не заглянув в официальный отчет, он неспособен подбодрить подчиненного, который утратил веру в себя, потому что некая политическая акция, предпринятая лишь для достижения точности и простоты в отчетах, уязвила его порядочность, патриотизм и честь. А генерал Ж[иро] хранитель чести своих солдат. Не знаю, кстати, не из тех ли сомнений, которыми я с ним поделился, почерпнул генерал Жиро отдельные темы своей нашумевшей речи, которую мы позавчера прочли в газетах? Абзац, где говорится о незримом сопротивлении и о спасении Северной Африки, - именно то, чего все жаждали. Это подтверждается теми замечаниями, которые я слышал от людей. Если мое вмешательство сыграло тут какую-то роль - пусть генерал сердится на меня, я все равно счастлив, что принес пользу. Дело совсем не во мне. Так или иначе, эта речь была необходима: она оказалась необыкновенно удачной. Признаться, милый генерал, если не считать этих последних строчек, касающихся моего визита, от которого у меня остался неприятный осадок, я вообще не знаю, зачем утомляю вас этим письмом, таким длинным, неразборчивым (я повредил кисть правой руки(13), и писать разборчивей мне больно) и бесполезным. Но на душе у меня мрачно, и мне нужен Друг. Ах, милый генерал, какой нынче странный вечер! Какой странный климат! Из моей комнаты видно, как освещаются окна этих безликих строений. Я слышу, как множество радиоприемников начинают изрыгать дурацкую музыку на радость толпе праздных людей, приехавших сюда из-за моря и незнакомых даже с ностальгией. Их готовность смиренно принять все, что угодно, легко спутать с жертвенностью и нравственным величием. Но это было бы ошибкой. Узы любви, связывающие человека с другими существами и предметами, не отличаются в наши дни ни задушевностью, ни прочностью, поэтому человек уже не воспринимает разлуку так, как прежде. Это напоминает мне одно нагоняющее тоску словцо из еврейской побасенки: Так ты уезжаешь? Как же ты будешь далеко! - Далеко откуда? Это покинутое ими откуда было, в сущности, не более чем бесформенной кучей привычек. В нашу эпоху, эпоху разводов, мы так же легко разводимся и с вещами. Холодильники взаимозаменяемы. Дома тоже: они ведь теперь сборные. Можно сменить жену. Или религию. Или партию. Даже измена становится невозможной: кому изменять? Если далеко, то откуда, а если измена, то кому? Пустыня человеческая. И какое же оно послушное, мирное, это человеческое стадо! Мне вспоминаются бретонские моряки былых времен, сошедшие на берег Магелланова пролива, иностранный легион(14), обрушивающийся на город, все это сложное переплетение чудовищных аппетитов и невыносимой ностальгии, неизменно возникающее там, где мужчины оказываются в более или менее суровой изоляции от мира. Чтобы их обуздать, всегда были необходимы либо могучие жандармы, либо могучие принципы, либо могучая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении крестьянке, пасущей гусей. Человека, в зависимости от того, к какой среде он принадлежит, в наши дни можно обуздать игрой в белот или бридж. Мы все на удивление надежно выхолощены. Благодаря этому мы наконец оказываемся на свободе. Нам отрезали руки-ноги, а потом разрешили разгуливать где угодно. Я ненавижу нашу эпоху, когда человек под гнетом всеобщего тоталитаризма превращается в ласковое, послушное и кроткое животное. Нас уверяют, что это и есть моральный прогресс!.. Я ненавижу нацизм за то, что он по самой своей природе тоталитарен. Рурских рабочих проводят мимо полотен Ван Гога, Сезанна и лубочных картинок. Рабочие, разумеется, голосуют за лубочные картинки. Вот она, народная правда! Кандидатов в Сезанны и Ван Гоги, словом, всех нонконформистов надежно упрятывают в концентрационный лагерь, а покорную скотинку кормят лубочными картинками. Но куда в нашу эпоху всеобщей бюрократизации идут Соединенные Штаты, куда идем мы? Человек-робот, человек-термит: сначала работа у конвейера по системе Бедо, потом игра в белот. Человек, из которого выхолощена всякая способность к творчеству, который в своей деревенской глуши не в силах создать ни единой песни, ни единого танца. Человек, которого под видом культуры пичкают стандартной продукцией серийного производства, словно вола сеном. Вот это и есть нынешний человек. А я думаю, что каких-нибудь триста лет назад люди писали Принцессу Клевскую(15), на всю жизнь уходили в монастырь от несчастной любви - так они умели любить. Разумеется, в наше время иные кончают самоубийством, но их страдание сродни невыносимой зубной боли, от которой лезут на стену. С любовью оно ничего общего не имеет. Конечно, сейчас мы еще на первом этапе. Для меня нестерпима мысль, что целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха(16). Угроза нависла над самим существованием. Но когда оно будет спасено, перед нами встанет основной вопрос нашего времени. Вопрос о назначении человека. Никаким готовым ответом мы не располагаем, и мне кажется, что мы движемся навстречу самым беспросветным временам истории. Мне безразлично, убьют меня на войне или нет. Что уцелеет из того, что я любил? Я имею в виду не только людей, но и обычаи, и невосстановимые оттенки, и некий духовный свет. И завтрак под оливами на провансальской ферме, и Генделя. Мне наплевать на вещи, которые уцелеют. Для меня важен только определенный порядок их расположения. Цивилизация - это невидимая связь между вещами, потому что она распространяется не столько на сами вещи, сколько на невидимые отношения, существующие между ними. Такие, а не другие. В результате массового производства мы можем получить сколько угодно превосходных музыкальных инструментов, но где взять музыкантов? Плевать мне, если меня убьют на войне или на меня обрушится ярость этих летучих торпед, не имеющих уже никакого отношения к настоящему полету, этих махин, чьи кнопки да циферблаты превращают летчика в какого-то бухгалтера. (А ведь полет - это тоже своего рода связи.) Но если я вернусь живым с грязной, но необходимой работы, передо мной встанет только один вопрос: что можно и что должно сказать людям? Я все меньше и меньше понимаю, зачем рассказываю вам все это. Разумеется, только затем, чтобы с кем-нибудь поделиться, ведь вообще говоря, об этом я не вправе говорить. Нужно беречь покой окружающих, а не наводить тень на ясный день. Быть бухгалтерами за штурвалами наших боевых самолетов - вот лучшее, на что мы сегодня способны. Пока я писал, оба моих товарища по комнате уже уснули. Надо и мне ложиться: боюсь, свет им мешает (как мне не хватает своего собственного угла!). Эти мои товарищи - в своем роде прекрасные люди. Прямые, благородные, чистые, верные. И я сам не понимаю, почему, глядя на них, спящих, испытываю какую-то бессильную жалость. Они не ведают о снедающем их беспокойстве, а я-то его хорошо чувствую. Да, прямые, благородные, чистые, верные. Но и невообразимо обездоленные. Им так нужен какой-нибудь бог. Милый генерал, простите меня, если скверная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала также и вашему сну. И верьте в мою дружбу. Сент-Экзюпери ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Неотправленное письмо генералу X. (генералу Шамбу?) Письмо это публиковалось после смерти писателя под разными названиями: "Письмо генералу X.", "Что нужно говорить людям?". Предполагаемый его адресат - Рене Шамб (1889-?), французский летчик и писатель, автор ряда книг об авиации. В 1943 г., имея чин бригадного генерала, он был в Алжире одним из ближайших сотрудников генерала Жиро и оказывал всевозможную поддержку своему Другу Сент-Экзюпери. (2) "П-З8" - американский самолет "Лайтнинг", поступавший в те месяцы на вооружение французской армии в Алжире. (3) ...вроде тех вылетов в июне 1939 года, когда мы и пользы не видели, и вернуться не надеялись... - Неясно, о чем здесь идет речь; скорее всего, в тексте описка и должно быть "1940 года". (4) "Бугатти" - марка спортивных автомобилей. (5) Аустерлиц - селение в Моравии, место крупной победы Наполеона (2 декабря 1805 г.) над войсками австро-русской коалиции. (6) Вернейль Луи (1893-1952) - французский драматург, автор множества развлекательных комедий. (7) Система Бедо - система учета рабочего времени, разработанная французским инженером Шарлем Бедо (1888-1944). (8) Григорианский псалом - песнопения католической церкви, отбор и канонизация которых начались в VI в., при папе Григории I. (9) Солем - старинный бенедиктинский монастырь во французском департаменте Сарта. (10) Что, как не жажда, увлекло Мермоза вслед за тем его дураком полковником? - Жан Мермоз в последние годы жизни примыкал к крайне правой националистической организации "Огненные кресты", возглавлявшейся полковником Франсуа де Лароком (1885-1946). (11) Картезианские ценности - имеются в виду принципы рационалистической философии Р. Декарта (латинизированное имя Cartesius - Картезий). (12) ...в разговоре с генералом Жиро. - Во время этой беседы, как вспоминал Р. Шамб, Сент-Экзюпери рассказывал генералу о своих столкновениях с нью-йоркскими голлистами и предостерегал его от сотрудничества с де Голлем. Жиро с недоверием отнесся к этим советам. (13) ...я повредил кисть правой руки... - Имеется в виду один из старых переломов, полученных в авиационных авариях. (14) Иностранный легион - наемные колониальные войска Франции. (15) "Принцесса Клевская (1678) - психологический роман г-жи де Лафайет. (16) ...целые поколения французских детей будут брошены в чрево немецкого Молоха. - Молох - в библейской мифологии божество, для умилостивления которого сжигали маленьких детей. Сергей Зенкин Письмо генералу Шамбу [Алжир, 3 июля 1943 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Дорогой генерал, Я получил Военного летчика; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр(1). Не знаю, в результате каких размышлений возникло у вас желание прочесть эту книгу, не знаю, изменил ли свое мнение о ней тот офицер, что так энергично нападал на меня во время завтрака и так мне понравился. Я был поражен не столько его враждебностью, сколько тем, что он говорил искренне, и мне очень хотелось. чтобы он прочел эту книжку. Поскольку вы не передаете мне его мнения, я заключаю, что он меня не понял. Мне кажется очень странным, что атмосфера полемики может исказить столь простой текст даже в глазах столь прямодушного человека. Мне совершенно безразлично. что там лепечут алжирские тыловики, разоблачая мои тайные умыслы. То, что они мне приписывают, так же похоже на меня, я на Грету Гарбо(2). Мне в высшей степени наплевать на их даже если оно приведет к запрету на мою книгу в Северной Африке. Я не книготорговец. А вот то, как извращает мои мысли ваш Друг, для меня, как ни странно, нестерпимо. Потому, наверное, что я его уважаю. Я ведь обращался к нему и к таким, как он, а не к политикам. Почему же мои несколько страничек предстали перед ним в ложном свете, почему он принял их за политическую программу? Вообразите, что я Монтень и опубликовал в одной из алжирских газет свои Опыты, а все точно сговорились трактовать их с точки зрения перемирия. Какие только макиавеллиевские уловки не обнаружатся в моем произведении! Да, я говорил об ответственности. Но, черт побери, у меня же все ясно сказано! Я ни одной строчки не написал в защиту чудовищного тезиса о том, что ответственность за поражение ложится на Францию. Я недвусмысленно сказал американцам: Ответственность за поражение лежит на вас. Нас было сорок миллионов крестьян против восьмидесяти миллионов обитателей промышленной страны. Один человек против двух, один станок против пяти. Даже если какому-нибудь Даладье удалось бы обратить весь французский народ в рабство, он все равно не в силах был бы вытянуть из каждого по сто часов работы в день. В сутках только двадцать четыре часа. Как бы ни управляли Францией, гонка вооружений все равно должна была бы развиваться из расчета один человек против двух и одна пушка против пяти. Мы согласились воевать из расчета один к двум, мы готовы были идти на смерть. Но чтобы умереть с пользой, нам нужно было получить от вас недостающие четыре танка, четыре пушки, четыре самолета. Вы хотели, чтобы мы спасли вас от нацистской угрозы, а сами производили исключительно паккарды(3) да холодильники для своих уик-эндов. Вот единственная причина нашего поражения. И все-таки наше поражение спасет мир. Разгром, на который мы сознательно шли, станет отправной точкой сопротивления нацизму. Я говорил им (они тогда еще не вступили в войну): Настанет день, когда из нашей жертвы, как из семени, вырастет дерево Сопротивления! Возьмем этот первый кусок книги: в чем, черт бы меня побрал, мнения вашего друга расходятся с моими? Чудо, что американцы прочли эту книгу и что она стала у них бестселлером. Чудо, что за ней последовали сотни статей, в которых сами американцы говорили: Сент-Экс прав, не нам винить Францию. На нас лежит часть ответственности за ее поражение. Если бы французы, живущие в Соединенных Штатах, больше ко мне прислушивались, а не спешили бы объяснять все гнилостью Франции, наши отношения с Соединенными Штатами были бы сейчас совсем другими. И в этом меня никто никогда не разубедит. Но есть в моей книжице второй, главный кусок, и там я действительно говорю: Мы ответственны. Но речь идет вовсе не о поражении. Речь идет о самом явлении фашизма или нацизма. Я говорю (что тут может быть непонятного? Я так старался выражаться яснее!), итак, я говорю: западная христианская цивилизация ответственна за нависшую над ней угрозу. Что она сделала за последние восемьдесят лет, чтобы оживить в человеческом сердце свои ценности? В качестве новой этики было предложено: Обогащайтесь! Гизо(4) да американский комфорт. Чем было восхищаться молодому человеку после 1918 года? Мое поколение играло на бирже, спорило в барах о достоинствах автомобильных моторов и кузовов или занималось пакостной спекуляцией остатками военных запасов. Вместо опыта монашеского самоотречения, вроде того, к которому я приобщался на авиалиниях, где человек вырастал, потому что к нему предъявлялись огромные требования, сколько людей увязало в трясине перно и игры в белот или - смотря по тому, к какому слою общества они относились, - коктейлей и бриджа! В двадцать лет меня тошнило от пьес г-на Бернстейна(5) (этого великого патриота) и от пошлости г-на Луи Вернейля. Но больше всего - от всяческого изоляционизма. Каждый за себя! Планету людей я писал самозабвенно, я хотел сказать своему поколению: Вы все обитатели одной и той же планеты, пассажиры одного и того же корабля! Но эти жирные прелаты, которые, между прочим, превратились сейчас в коллаборационистов, эти чиновники Государственного совета - разве они годились в хранители христианской цивилизации с ее культом вселенского? Вы томились жаждой жажды, и ничто на континенте не утоляло ее. Как по-вашему, не потому ли я проникся к вам такой пылкой дружбой, что признал в вас человека той же породы, что и я? Я умирал от жажды. И - вот оно, чудо! - утолить эту жажду можно было только в пустыне. Или превозмогая ночь в нелегкие часы на авиалинии. Мне, как и вам, невыносимо было читать Канар аншене и Пари-суар. Я терпеть не мог Луи Вернейля. Почему ваша книжка(6) показалась мне такой близкой? Мне нужен был именно этот звук. Я люблю тех, кто дает мне утолить жажду. Меня тошнит от того, во что превратили человека Луи Филипп(7), и г-н Гизо, и г-н Гувер(8). Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров(9), кто в этом виноват в первую очередь? Вечная история оседлых и кочевых племен. Спасение цивилизации - дело постоянное. В хорошо вам знакомом Парагвае девственные леса проглядывают в каждой щелочке между булыжниками, которыми вымощена столица. Они, эти леса, притворяются простыми травинками, но дай им волю - и они пожрут город. Нужно постоянно загонять девственные леса обратно под землю. Что же в предвоенной этике могло заслужить одобрение вашего друга, которого, как мне кажется, я немного знаю? А если он, как мы, чувствовал, что умирает от жажды, тогда какого дьявола он негодует, что я упрекаю эту эпоху в духовном убожестве? Почему он вкладывает в мою книгу превратный смысл, которого я вовсе не имел в виду? Когда я пишу, что каждый отвечает за все, то продолжаю тем самым великую традицию блаженного Августина(10). Равно как и ваш Друг, когда он воюет. Через него в войне участвует и бретонская крестьянка, и сельский почтальон из Монтобана(11). Если страна - живое существо, то он кулак этого существа. Его руками сражается и сельский почтальон. А он руками этого почтальона служит обществу по-другому. Нельзя делить живое существо. Какое отношение имеет тема, которую я исследовал, к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма(12)? Какая строчка в моей книге дает вашему Другу право думать, что слова я ответствен имеют малейшее отношение к униженному mea сulра(13)? Слова эти - девиз каждого гордого человека. Это вера в действии. Более того, это доказательство собственного существования. Пускай себе конторские мокрицы ищут в моей книге политическую подоплеку, я над этим разве что снисходительно усмехнусь: хоть мне уже сорок четыре, я каждую неделю, как-никак, вылетал на задания во Францию, один на борту Лайтнинга П-38, в составе группы 2/33, а неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей(14)! Плевать мне на них. Но вашему другу, такому благородному, я решительно отказываю в праве на подобную интерпретацию. Я пишу для него. Я пишу о нем. И если сегодня совсем невозможно быть правильно понятым даже чистыми душами, пусть меня перечитают через десять лет. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Я получил "Военного летчика"; благодарю вас, что выслали мне мой единственный экземпляр. - Характерный факт, свидетельствующий о степени взаимного непонимания и враждебности между Сент-Экзюпери и голлистами: книга "Военный летчик", изданная в США и в оккупированной Франции (запрещенная немецкими властями, она переиздавалась там нелегально), была запрещена также и администрацией де Голля и не распространялась в свободной от фашистов Северной Африке. В распоряжении писателя имелся только один экземпляр, вывезенный им из Америки. (2) Гарбо Грета (р. 1905) - американская киноактриса. (3) "Паккард" - американская марка автомобилей. (4) "Обогащайтесь!" Гизо... - Франсуа Гизо (1787-1874) - один из политических лидеров Июльской монархии во Франции - обратился с таким призывом к французской буржуазии. Изначальный смысл слов Гизо, относившихся к вопросу об имущественном цензе для избирателей ("Обогащайтесь, и вы докажете свою способность управлять государством"), в дальнейшем забылся, и в расхожем употреблении они стали означать призыв к циничной и безудержной погоне за прибылью. (5) Бернстейн Анри (1876-1953) - французский драматург, апологет буржуазного благополучия. (6) ...ваша книжка... - Какая из книг Р. Шамба имеется в виду, определить трудно. (7) Луи Филипп (1773-1850) - французский король в 1830-1848 гг. Его правление - время утверждения во Франции политического и идеологического господства буржуазии. (8) Гувер Герберт Кларк (1874-1964) - президент США в 1929-1933 гг., пришедший к власти на исходе периода экономического "процветания" Соединенных Штатов (20-е гг.). (9) Если женщины, сдающие напрокат стулья в соборе, подверглись нападению варваров... - Ср. в "Письме заложнику", V: "Прислужница в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу". "Собор" для Сент-Экзюпери служил символом Коллектива, человеческой общности, скрепленной узами нравственных отношении и устремленной к высшей цели; наиболее же губительный вариант пренебрежения этими узами писатель видел в фашизме (см. "Военный летчик"). Смысл приведенных слов, таким образом, следующий: французы, предавшись мелким, сиюминутным интересам, забыли о глубинных духовных основах своей цивилизации ("собор") и оказались морально безоружными перед лицом фашистских "варваров". (10) Августин Аврелий (354-430) - церковный деятель, один из основателей христианской теологии. (11) Монтобан - городок в Бретани (департамент Иль и Вилен). (12) ...к идиотским иеремиадам против политики Леона Блюма? - Леон Блюм (1872-1950) - лидер Французской социалистической партии, в 1936-1938 гг. дважды возглавлял правительство Народного фронта. Непоследовательная политика, проводившаяся им перед лицом нараставшей агрессивности со стороны фашистской Германии, навлекла на него острую критику со стороны разных - как левых, так и правых - политических сил; правительство Виши в 1942 г. отдало его под суд, объявив одним из ответственных за поражение Франции в 1940 г. Отмежевываясь от этой пропагандистской акции вишистских властей, Сент-Экзюпери одновременно косвенно спорит со своими противниками-голлистами, отождествлявшими его книгу "Военный летчик" с вишистской пропагандой. (13) mea culpa - моя вина (лат.). (14) ...неделю назад, когда я возвращался, на хвосте у меня повисли вражеские истребители, а четыре дня назад над Анси у меня отказал один из двигателей! - Как видно из перечня боевых вылетов Сент-Экзюпери (см. с. 180-181 наст. изд.), речь здесь идет о заданиях, выполненных им 23 и 29 июня 1944 г., то есть данное письмо написано 3 июля 1944 г. и во французском издании "Военных записок" датировано с ошибкой на год. Сергей Зенкин Письмо Х. (неотправленное) Перевод: С французского Е.В. Баевской Умирают не за идеи Умирают за суть Умирают за Бытие Дорогой X. Ты вновь заставил меня пережить мою старую драму и вверг меня в самое безысходное отчаяние. Ты достаточно меня знаешь ты вообще единственный, кто меня знает, не то, что эта болтающая обо мне стая крабов), чтобы представить себе, что эти два года я прожил не в безмятежном покое, на который тынамекаешь в полемическом запале, а раздираемый такими внутренними противоречиями, какие не дай бог тебе испытать. Я не эксгибиционист и почти никому их не поверял. Мое молчание в самом деле могло обмануть стороннего наблюдателя. Каждый из нас таков, каков он есть. Некоторые обретают полное душевное равновесие, стоит им примкнуть к какому-нибудь делу. Им тут же все становится ясно. Я и сам наслаждался безмятежным счастьем, летая маршрутами компании Аэропосталь, пока твой Друг Серр(1), видя, что его благие намерения терпят крах, не избавил дело от духа жертвенности я был счастлив в тридцать девятом и сороковом, выполняя военные задания, как обычную работу; и совсем еще недавно - на борту Лайтнингов П-38(2). Мне наплевать на собственную шкуру, и в духовном смысле мне лучше всего подходит тот климат, в котором я ею рискую. Вернее было бы сказать, не в духовном смысле, а в эмоциональном. Потому что это именно тот случай, когда духовное во мне спорит с эмоциональным. Иначе я стал бы анархистом. Ту же атмосферу, что царила в экипажах компании Аэропосталь, я встретил у барселонских анархистов во время войны в Испании. То же самопожертвование, ту же готовность к риску, ту же взаимопомощь. Тот же высокий образ человека. Они могли мне сказать: Ты думаешь так же, как мы, но, когда они спрашивали: Почему же тогда ты не с нами? - я не знал, как им ответить, чтобы они поняли. Они ведь жили чувствами, а в плане чувств мне нечего было им возразить. Точно так же мне нечего возразить коммунистам, и Мермозу(3), и любому из тех, кто готов пожертвовать собственной шкурой и предпочитает делить кусок хлеба с товарищами, чем пользоваться всеми благами жизни. Однако при всем том, что я верю в человека, рожденного коммунизмом, все же я не в силах верить, что предтеча его - каталонский анархист. Величие анархиста в том, что он потерпел поражение. Если он восторжествует, из его суповой миски вырвется на волю лишь призрак тщеславия, который мне неинтересен (и я готов объяснить почему). Так неужели ради того, чтобы испробовать одурманивающее действие чувства, как пробуют наркотик, я добровольно разрушу свою духовную цель? Это было бы подло. Духовное начало должно возобладать над доводами чувства. Проще говоря, ты следуешь этой точке зрения, когда наказываешь собственного сына... Тебе эта проблема представляется простой, потому что для тебя она сводится исключительно к сфере чувства. Я люблю, потому что люблю, и ненавижу, потому что ненавижу. Этого достаточно. Для такого, как я, все решается гораздо сложней. Я знаю, что во Франции ты рисковал головой, участвуя в Сопротивлении. Это был твой долг. И я поступил бы так же. Но за границей я почувствовал, как на меня, помимо моего желания, легло чудовищное бремя ответственности. Чудовищное не с точки зрения своей силы - я был всего лишь каплей в море, - а с точки зрения цели. И без всякого риска для меня. (Точнее, без такого риска, о котором стоило бы говорить. Я-то смеюсь над риском. Не признаю добровольного риска, на который идут, чтобы отпустить себе грехи. Моя награда в том, что я знаю: бывает смелость, куда более достойная восхищения,чем смелость перед лицом смерти. Страх смерти легко превозмочь. Особенно сгоряча.) Лично я был против перемирия(4). Я угнал из Бордо самолет(5). Набил в него четыре десятка молодых летчиков, которых навербовал прямо на улице (у меня был четырех моторный Фарман), и увез их в Северную Африку продолжать борьбу. Ладно. Попытка не удалась. В Северной Африке тоже признали перемирие. Поэтому я превратился в безработного. Но с этой минуты у меня появилась возможность действовать словом. Я в меру своих скромных сил отчасти принял на себя ответственность за будущее французского народа. Историю нельзя пересочинить. Ты можешь внести в анналы реальные бедствия прошлого, но не можешь ни доказать, ни опровергнуть реальность тех предполагаемых бедствий и успехов, которые ждали бы нас при вымышленном ходе событий. Однако тот, у кого была возможность в меру своих слабых сил содействовать нарушению или соблюдению условий перемирия (в конце концов все сводилось именно к этому), не мог не предвидеть серьезных последствий своего решения. 1. С 1940 года всех взрослых мужчин на территории Франции, подлежащих призыву в армию, отправляли на верную смерть в немецкие лагеря. В законном порядке. Шесть миллионов пленных вместо двух. 2. Северная Африка была блокирована Германией. Мне хорошо известно, что официальная точка зрения обязывает нас отрицать этот факт. (Утверждают даже, что Германия, истощенная военными действиями во Франции, была неспособна на новый рывок!) Я думаю, что Германия, еще не поколебленная в то время (ведь ее сила не была подорвана ни американским превосходством в оружии, ни грозной мощью русских, ни десятью миллионами убитых немецких солдат), была в состоянии за две недели захватить Северную Африку через Испанию или Сицилию (Франко не стал бы противиться). А здесь были двести тысяч безоружных людей. Даже если предположить, что масса современных танков, самолетов и автоматов, обращенных против простых винтовок, не влияет на соотношение потерь с обеих сторон, то и в этом случае достаточно было бы Германии пожертвовать ста девяноста девятью тысячами девятьюстами девяноста девятью своими солдатами, которых бы убили или взяли в плен, чтобы против нее остался всего один солдат. Скорее всего, это оказался бы даже генерал. Притом безоружный. (А я еще не беру в расчет арабскую проблему(6).) 3. Немецкий шантаж был всеобъемлющ. Жить ли городам - это зависело исключительно от того, будут ли железнодорожные вагоны. А вагоны - от смазки для букс. А смазка - от нефти из Гамбурга или Румынии. Наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали(7). День за днем. 4. Нельзя забывать, что в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры(8). Насколько мне известно, в Майн кампф угроз по адресу французов ничуть не меньше, чем по адресу поляков. 5. В то время как Бельгия уже предоставила Германии два миллиона рабочих, Франция экспортировала еще не более ст.. двадцати тысяч. Эти два миллиона дополнительных узников можно было бы уже тогда добавить к двум миллионам военнопленных. 6. А угроза депортации населения? 7. А проблема евреев? Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил(9). А все-таки он был для тебя мощным заслоном. Двести тысяч евреев из неоккупированной зоны ни за что не уцелели бы при нацистах, с которых тогда еще никто не успел сбить спесь. Что ни говори, а Леон Верт жил, передвигался, писал. 8. А проблема американского присутствия? (Я к ней еще вернусь.) Режим Виши был, разумеется, омерзителен. Но всякому организму необходимо отверстие для выделения экскрементов. Канализационные рабочие, как правило, равнодушны к тонким ароматам. Тюремщики редко бывают столь же отзывчивы, как сестры милосердия. Разумеется, того, кто клянчит у победителя смазку для букс, не должно, образно выражаясь, мутить от навоза. Ведь навоз - это просто отправления организма. (Что до полиции, то она, разумеется, как и все полиции нашего времени, отличается подлостью.) Во Франции я бы, возможно, поставил перед собой задач убить Пюше(10). В Штатах передо мной стояла другая задача. Когда накануне перемирия я покидал Францию, кругом было невесело. Помню езду в машине, ночь, дождь. Темно - хоть глаз выколи. Я включил фары. На дороге был затор, -остановился, и тут внезапно вокруг меня вспыхнул сущий бунт. Солдаты осаждали мою машину, грозя мне расправой. За что? Дело было в фарах. В этом месиве дождя и грязи, под потолком облаков в сто двадцать метров вышиной я, видите ли, навлекал на них небесный гнев гитлеровских бомбардировщиков. Один из этих героев навел на меня свой электрический фонарь, и в течение десяти секунд они кляли на чем свет стоит моя нашивки. Я олицетворял войну торговцев пушками и капиталистов. Меня охватило безграничное отвращение, и я почти желал, чтобы эти сволочи меня растерзали. Ты только представь себе: грубые голоса, похабная ругань, причем от всех та: и разило страхом. Я чувствовал, как страх продирает их до самого нутра. Лица, голоса, позы - все было мерзко. Я испытывал неописуемый стыд. Ну, а гражданские! Во время отступления мы квартировал. поочередно в одиннадцати деревнях. Хорошенький же прием устраивали нам, умиравшим за них! Ни единого слова о сопротивлении! Ни единого свежего веяния! Вьючные животные, одуревшие и забитые! Всеобщий эгоизм. Разрыв всех уз. Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростной, ненавидящей власть, обрекшую ее на позор перемирия... Ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения. Разумеется, было множество всяких исключений из правила. Во-первых, мы! Мы барахтались в этом дерьме, а в промежутках отправлялись на боевые задания и без колебаний шли на смерть. Были, конечно, и Мандель(11), и какие-то крестьяне, и какие-то солдаты, но в конечном счете перемирие было заключено не правительством, а Францией(12). Это бросалось в глаза. И пошла на это перемирие не только Франция капитала и военщины. Не Жан Пруво(13), не Петен. Вся Франция целиком. И они вместе с ней. Я-то был против, но в утешение говорил себе: эта огромная волна страха, эта капитуляция, быть может, тоже объяснима. Моя ошибка в том, что я рассматривал происходящее в упор, во всем его безобразии. Если смотреть в упор, все кажется безобразным: если разглядывать любимую женщину в микроскоп, увидишь сплошные бугорки да пятна. Малые отрезки времени тоже обезображивают. Что нам даст моментальная фотография Пастера, который сморкается или делает еще что-нибудь в том же роде? Это не показательно. Человека и народ следует изучать с некоторого расстояния. В пространстве; во времени. Когда наблюдаешь человека вблизи видишь внутренности. Когда наблюдаешь его несколько мгновений - видишь функции этих внутренностей. Все это не выражает бытия. Но игра была нечестная. Мы воевали без оружия. Наше дело было гиблое. Мы потеряли бы два миллиона человек ради того, чтобы задержать наступление немцев на двадцать часов. Сама человеческая сущность возмущается против такого бессмысленного кровопролития. Два миллиона убитых. Шесть миллионов пленных. Три-четыре миллиона депортированных, и в довершение - призрак депортации всего населения (...). А в результате - женщины, дети и старики, клянчащие у завоевателей смазку для железнодорожных вагонов ради того, чтобы выжить, что, впрочем, почти невероятно... Ты сам рассказывал мне, как это было в России. Вот уже сколько времени ее народ, видя, как поднимается волна немецкого нашествия, призывает все страны солидаризироваться с ним или помочь ему поставить заслон этой волне, и вот уже сколько времени на русских продолжают смотреть как на возмутителей мирового порядка и предоставляют им в одиночку воевать против пикирующих бомбардировщиков и танков. Кому русские этим обязаны? Во имя какого божества, которое даже ни малейшей пользы от этого не получит, нужно толкать лучшую часть народа в бездну, откуда нет возврата? Что до меня лично, у меня одно дело - настаивать на продолжении борьбы. Точно так же в 1918 году Германия спаслась от оккупации благодаря перемирию, которое, конечно, несколько лет разлагало народ, оказавшийся под властью штреземановских педерастов(14), но потом способствовало созданию условий сперва, конечно, незримых - для подъема страны, ее усиления, ее гордыни; но когда Германия подписала перемирие, то, разумеется, делом и даже духовным долгом немецкого Деруледа(15) было возмущаться таким позором. Германия сдалась раньше, чем была окончательно истощена. Германия сдалась перед самой своей гибелью. Но погибла ли при этом глубинная совесть нации, отказавшейся продолжать борьбу с той самой минуты, как над лучшей частью народа нависла угроза неизбежной и бессмысленной гибели? Разве у нас не писали об этом преждевременном перемирии, которое спасло Германию? Разумеется, внешне это выразилось в отказе от борьбы, в жажде благ, зачастую презренных (перемирие было для немцев большим праздником, чем для нас!), и в анархии. И в эгоизме. И в угодничанье перед победителем (большем, чем у нас!). Разумеется, в нашем перемирии много безобразного, и оно вызывает к жизни немало безобразий. (...) Тот, кто погибает, храбрее того, кто капитулирует. Победа или смерть - великие слова. Но (...) здесь мы впадаем в антропоморфизм. Ведь то, что годится для отдельной личности, теряет смысл на уровне народа. Точно так же, что справедливо для одной клетки, не годится для целого организма. Когда человек ищет смерти на баррикадах, это прекрасно. Тут речь идет о самопожертвовании. Но самоубийство народа - !где тут величие? Ты сам не желал бы этого. Ты осудишь человека, который из страха смерти пойдет так или иначе служить врагу. Но не будешь же ты упрекать все рабочее население Бийанкура(16) за то, что сотни тысяч людей не покончили с собой все разом, лишь бы не работать на оккупантов. Ты даже признаешь этих людей самоотверженными, потому что они потребуют, чтобы британские самолеты бомбили заводы Рено. И при этом они будут продолжать работу на оккупантов. Здесь нет никакого противоречия. Пускай единицы гибнут во имя общего блага. Это их долг. Но всеобщее самоубийство бессмыслица. Если ты избран Францией, ты погибнешь во имя спасения Франции. Ты умрешь, чтобы спасти то, что больше, чем ты сам. Но ты не убьешь то, что больше, чем ты сам, и что ты обожествил, чтобы спасти. Если бы рабочее население Бийанкура все разом сделало себе харакири, оно бы не знало, во имя чего идет на эту жертву. И оно от этой жертвы отказалось. Оно работает на заводах и при этом желает, чтобы их разбомбили, пусть даже людей ждет гибель. Потому что в этом случае те, что погибнут, погибнут ради других. Это настолько очевидно, что нью-йоркским спорщикам(17) пришлось поломать себе голову, во имя чего следует принести Францию в жертву. Причем речь шла не о согласии Франции пойти на частичные жертвы, а о полном и безусловном уничтожении Франции. Ею следовало пожертвовать во имя еще большей общности, во имя союзников. Фогель(18) заявил: Лучше гибель всех французских детей, чем разгром Англии. Одна бездетная дура сказала мне: Если бы мои дети были во Франции и я знала, что они умирают с голоду, я гордилась бы этим. Но если гибнут дети, значит, гибнет и Франция. Во имя чего? Во имя других. Но это отчужденный взгляд эмигранта. Эти слова так же легко срываются с языка, как передайте мне горчицу или сегодня жарко. На самом-то деле союзники - понятие временное. В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан(19). (...) Народ думает медленнее, основательнее. Новое божество не было для него чем-то осязаемым, что могло бы подвигнуть на жертву. Спасать надо было Францию, уже разрушенную, которой из-за ваших раздоров грозило полное уничтожение. Даже это нелегко было постигнуть. А уж еще более широкое понятие союзники вообще не укладывалось в голове. Моя главная мысль, которая для меня важнее всех состязаний в красноречии, заключается в том, что народ - это не французская палата депутатов, не американский сенат, не фашистский совет; народ ценен тем, что в нем лучшего. Народ - это Трефуэль(20), это Паскаль, это Давид Вейль(21), это безмолвная мать у постели больного ребенка, это взаимовыручка и самопожертвование бастующих рабочих, это доброта, которая не поддается доводам рассудка, подчиняет себе доводы рассудка и переживает любые политические перетасовки, как мощный дуб переживает смену времен года. Наследство передается не по формуляру политика. Политика не требует жертв. Жертвы требуются только самому бытию народа и лучшему, что есть в народе, либо тому, что связано с этим лучшим. Я пожертвую собой ради свободы моих братьев. Я пожертвую собой ради отдельного человека, ради свободы Греции или Италии. Но я не пожертвую ради этого своим народом. Потому что все мы - борцы за нечто высшее. Если понадобится, я пожертвую своим народом во имя возвышения человека. Но и тогда о достоинстве человека я стану судить не по политическому формуляру, а единственно по его сути. Крестовый поход, (обескровливающий) народ, может быть посвящен только богу. (...) Настало время честных раздумий, время наполнить смыслом слова, потерявшие всякую рыночную стоимость, потому что перед нами встают новые проблемы, запутанные и противоречивые. В том числе проблема чести и бесчестья. (...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Серр - в 30-е гг. технический директор в авиакомпании "Эр-Франс", в которую влилась в 1933 г. компания "Аэропосталь". (2) ...и совсем еще недавно - на борту "Лайтнингов П-38". - Летом 1943 г. Сент-Экзюпери совершил всего два разведывательных вылета. 1 августа, возвращаясь с задания, он допустил незначительную аварию при посадке (самолет врезался в насаждения, ограждавшие летное поле), и 12 августа американское командование, ссылаясь на возраст писателя, отстранило его от полетов на "Лайтнинге". (3) ...мне нечего возразить... Мермозу... - О политических настроениях Ж. Мермоза см. коммент. к с. 131. (4) Лично я был против перемирия. - Имеется в виду капитуляция Франции 22 июня 1940 г. (5) Я угнал из Бордо самолет. - Об этом эпизоде см. коммент. к с. 91. (6) А я еще не беру в расчет арабскую проблему. - Подразумевается враждебность арабского населения Северной Африки к французским колониальным властям. (7) Наших офицеров в Висбадене постоянно шантажировали. - Имеется в виду "комиссия по перемирию", работавшая в немецком городе Висбадене (см. коммент. к с. 110). (8) ...в одной Варшаве три миллиона поляков были отправлены в газовые камеры. - Сент-Экзюпери, вероятно, имеет в виду расправу оккупантов над жителями варшавского гетто после подавления вспыхнувшего там восстания (апрель-июль 1943 г.). Приведенная им цифра сама по себе ошибочна, но в целом писатель имел все основания ужасаться геноциду (в то время его размеры были известны еще не полностью), осуществлявшемуся гитлеровцами. (9) Ты можешь ненавидеть Пейрутона за все, в чем он уступил. - Марсель Пейрутон (1887-?) в 1940-1941 гг. занимал пост министра внутренних дел в правительстве Виши; при его участии в октябре 1940 г. были приняты первые расистские законы, ограничивавшие права евреев во Франции. В дальнейшем Пейрутон примкнул к генералу Жиро, который назначил его генерал-губернатором Алжира; его отставка в июне 1943 г. явилась успехом Ш. де Голля, добивавшегося чистки французской администрации в Северной Африке от вишистских элементов. (10) ...я бы, возможно, поставил перед собой задачу убить Пюше. - Пьер Пюше (1899-1944) также был одно время (в 1941-1942 гг.) министром внутренних дел в правительстве Виши и нес ответственность за многие репрессии. Так же как и М. Пейрутон, он стал одним из сотрудников генерала Жиро в Северной Африке, но затем, с приходом к власти де Голля, был арестован как активный коллаборационист и весной 1944 г. по приговору суда расстрелян. (11) Мандель Жорж (1885-1944) - французский политический деятель. В июне 1940 г., будучи министром почт и телеграфа, занял патриотическую позицию и пытался препятствовать заключению капитулянтского перемирия с немцами. В дальнейшем он боролся против правительства Виши и был убит его агентами. (12) ..в конечном счете перемирие было заключено не правительством, а Францией. - Сент-Экзюпери явно преувеличивает "единодушие" французского народа в момент капитуляции. Он игнорирует, в частности, инициативу Французской коммунистической партии, которая б июня 1940 г., находясь в подполье, выступила с призывом к правительству немедленно вооружить народ и организовать оборону Парижа. (13) Пруво Жан (1885-1979) - французский газетный магнат, в июне 1940 г., занимая в правительстве пост министра информации, был одним из инициаторов перемирия с Германией. (14) ...под властью штреземановских педерастов... - Густав Штреземан (1878-1929) был одним из лидеров Веймарской республики в Германии, созданной после поражения в первой мировой войне и Ноябрьской революции 1918 г. (15) Дерулед Поль (1846-1914) - французский писатель и политический деятель крайне националистического толка; здесь его имя упомянуто как нарицательное обозначение шовиниста. (16) Бийанкур - см. коммент. к с. 74. (17) ...нью-йоркским спорщикам... - Подразумеваются французские эмигранты-голлисты, с которыми Сент-Экзюпери полемизировал, находясь в США. (18) Фогель (Вожель) Люсъен (1886-?) - французский журналист, в 1940 г. эмигрировал в США, где участвовал в деятельности голлистской эмигрантской организации "France for ever" ("Франция - навеки "). (19) В настоящее время твой голлизм готовит войну против американцев или, при случае, против англичан. - Отношения "Сражающейся Франции" с западными союзниками (особенно с США) действительно складывались достаточно напряженно, хотя до "подготовки войны" дело, конечно, не доходило. Так, в 1942 г. англоамериканцы не предупредили де Голля о готовившейся ими высадке на территории североафриканских колоний Франции, а в дальнейшем пытались отстранить его от власти на этих территориях, делая ставку то на адмирала Дарлана, то на генерала Жиро. Западных союзников не устраивала слишком самостоятельная политика генерала де Голля, препятствовавшая их планам ослабления Франции как своего экономического и политического конкурента. (20) Трефуэль Жак (1897-1977) - французский химик и бактериолог, директор Пастеровского института. (21) Давид Вейлъ - по-видимому, Жан Давид-Вейль (1898-1972), французский востоковед, хранитель музея Лувра. Сергей Зенкин Письмо Х. [Алжир, конец 1943 г., середина ноября?] Перевод: С французского Е.В. Баевской I (...) Я в постели, в неподвижности(1)... Лестница, ведущая в прихожую. Шесть мраморных ступенек, полное затемнение. Так вот. Я весьма бодро иду на обед, во время которого должен увидеться со Шнейдером(2) и друзьями. Забываю про дыру. Проваливаюсь, лечу в пустоте. Недолго. И со всей высоты собственного роста (и лестницы) грохаюсь прямо на спину. Копчиком о край одной ступеньки, пятым поясничным позвонком - о край другой. Чтобы погасить инерцию моего тела, двух точек, да еще таких угловатых, явно недостаточно. Копчик-то выдержал. А вот позвонок - нет. По позвоночнику удар, само собой, передался черепу, и пять минут я провалялся на лестнице почти без сознания. Затем принялся ставить сам себе диагноз. Я сказал себе: такого удара ни один позвоночник не выдержит. Он сломан. Тут я проверил собственные ноги: они двигались. Значит, решил я, сломан позвонок, который не содержит спинного мозга, следовательно, несъедобный. Так оно и оказалось. Я все же не дурак. В пятом поясничном спинного мозга нет. Затем я стал подниматься. Мне удалось встать на ноги. Крошечными шажками я добрался до трамвая и явился к обеду. Мне было очень больно, и это подтверждало мои догадки. Я сказал: Прошу прощения, что опоздал, но я только что сломал себе позвонок. Все расхохотались. Я тоже. О моем позвонке так никто и не спросил. Вернувшись домой, я подсунул под дверь Пелисье записку: Я сломал себе позвонок у вас на лестнице, когда шел обедать. Будьте добры, осмотрите меня завтра утром. Ночь я провел мерзко, от удара у меня голова шла кругом. Заснул около восьми. А он прочел мою записку и ушел себе в госпиталь. Ему было некогда. Так сказала Северина. Я оказался в тупике. Я был приглашен на один более или менее официальный завтрак и оправдаться мог только серьезным диагнозом. И все-таки я пошел на этот завтрак, очень, очень медленно. На обратном пути, часа в четыре, мне стало совсем уж худо. Тогда я через Северину воззвал к Пелисье с просьбой о консультации (он был у себя в кабинете). Он пощупал мой позвонок и сказал что-то вроде: - Вы же видите, он не смещается. Я ответил: - И все-таки он сломан! Он рассмеялся. Я понимал, что из-за всей этой истории с позвонком попал в дурацкое положение. И смиренно спросил: - Но что же делать, ведь мне больно? Он очень, очень понятно разъяснил мне причину моих болей и посоветовал заняться гимнастикой. Чтобы окончательно рассеять мои сомнения, он прибавил, что перевидал уйму людей, которые попадали в катастрофы, даже под колеса поезда, и не ломали себе при этом ни единого позвонка. Господи боже мой, поезд - он такой большой. И тяжелый. И едет быстро. Рядом с ним мои шесть ступенек детские игрушки. Тогда я отправился на другой обед. Еще медленней. Я превозмогал боль. Я уговаривал себя, что ходьба - прекрасная гимнастика, но в глубине души не очень-то в это верил. На другой день Советы давали большой прием(3). Мне очень хотелось посмотреть, как все будет. Я был приглашен. И я пошел. Праздник был устроен на покрытой цветами лужайке перед каким-то дворцом. В высшей степени элегантно. Но ничего, кроме оранжада. По лужайке бродили все министры, все генералы и все христиане Алжира. Ждали львов. Все спрашивали: Где же они? Львы были тут же, но внешне походили на банкиров. И потчевали всех оранжадом. Это подействовало на христиан весьма успокоительно. Но со мной на этой лужайке, где не было ни единого стула, приключилось несчастье: я стоял и не мог сделать ни единого шага. Когда мимо проходил кто-нибудь знакомый, я обращался к нему: Вы на машине? Нет? Тогда хотя бы побудьте со мной пять минут! А то я торчу тут один и выгляжу дурак дураком. Между прочим, так оно и было. Но я был начеку и каждый раз, когда мне удавалось обмануть боль, делал шажок по направлению к выходу. Путь грозил затянуться, но тут наконец появился адмирал Обуано(4) и помог мне репатриироваться. Потом, когда я принялся докучать Пелисье рассказами о своем несчастье, он сказал: - Да, ушибы бывают очень болезненные! Ну, ладно. Раз уж вам необходимо, чтобы вас успокоили, сходите к такому-то рентгенологу, он прекрасный специалист. Мне и впрямь надо было, чтобы меня успокоили. Рентгенолог взглянул на снимок и сказал: - Да вы с ума сошли! Почему вы не в постели? У вас поперечный перелом пятого поясничного позвонка: легкое вертикальное смещение и трещина в кости. К тому же весь позвонок на несколько миллиметров смещен влево! - Вот как! - Перелом позвонка - дело серьезное! Три месяца постельного режима, иначе останетесь калекой на всю жизнь. - Вот как! - Черт побери, вы что, сами не чувствуете, что у вас сломан позвонок? - Еще как чувствую! С этим я вернулся к Пелисье. По дороге я сам себе представлялся чем-то вроде треснувшей вазы. Я ступал с немыслимыми предосторожностями. Я объявил доктору Пелисье: - У меня перелом, завтра будут снимки. - Перелом? Откуда вы знаете? - Врач сказал. - Болван ваш врач. Вечно эти рентгенологи вмешиваются в диагностирование! Пускай занимаются рентгеном, остальное - не их забота. - Кушать подано! - Это пришла Северина. - Где... я буду... завтракать? Я уже свыкся с представлениями о треснувшей вазе, и мне хотелось прилечь, чтобы не разлететься на куски. Кроме того, мне было больно. Но я тут же понял, что Северина старенькая, а рентгенолог болван. И взгромоздился на стул. Наутро были готовы снимки. В течение пяти минут Пелисье видел, что это перелом, а потом опомнился. - Это у вас врожденное. - Но почему? - Потому. - Вот как. Я чувствовал, что со всеми своими предосторожностями выгляжу посмешищем. А между тем мне делалось все больнее и больнее. - И все-таки... Я так сильно ударился... Это его возмутило. Он ведь объяснял мне насчет поезда, а я ничего не понял. - Да я видел людей, которые падали с шестого этажа - и ни единой царапины! Ну что ж. Я попросил одного знакомого зайти к рентгенологу. Рентгенолог считает, что случай ясный. У меня боли - это тоже ясно. В конце концов, в этом позвонке нет спинного мозга. Ну да ладно, как-нибудь все утрясется. Или растрясется. II Продолжаю письмо. Акт второй. Поскольку я не мог передвигаться, пришлось подключить военных врачей(5). Они пришли. Посмотрели снимки. Сказали, что это перелом. Из чистой вежливости я попросил Пелисье зайти с ними поздороваться. Он им сказал: - Этот рентгенолог - зазнайка и невежда, сделайте больному рентген еще раз у себя в госпитале. Он любезно отвез меня в госпиталь и сказал военному рентгенологу, конкуренту предыдущего, штатского: - Доктор Б. большой чудак. Перелом выглядел бы так-то и так-то. Новый рентгенолог сделал снимки. Они вышли неудачно. Он сделал повторные. Получилось уже лучше. Точь-в-точь утренние туманы на японском пейзаже. Очень было красиво. Сквозь утренние туманы виднелось нечто похожее не то на холм, не то на позвонок. Рентгенолог-конкурент вздохнул. Потом изрек: - Я не согласен с мнением доктора Б. Потом он стал придумывать, в чем именно он не согласен. И придумал. Ткнув на заострение, которое вчера было объявлено врожденным, он сказал: - Это просто-напросто проекция крестцовой кости. - Не правда ли? - откликнулся Пелисье. Поскольку переломом это быть не могло, необходимо было как-нибудь это обозвать. Пусть будет врожденная проекция. Дома Пелисье сказал: - Вы же слышали, я его за язык не тянул. - Разумеется. Итак, военные врачи тоже не пожелали признать у меня перелом. Тогда я стал ходить на прогулки, чтобы поскорей выздороветь. Однако до сих пор еще не выздоровел. III Сегодня уже прошла неделя. Мне не лучше и не хуже. Но Пелисье уверяет, что ушибы не проходят по три месяца, так что боль - в порядке вещей. Как бы то ни было, я изрядно устал. Поскольку Пелисье думает, что я до сих пор сомневаюсь, он притащил мне сегодня рентгеновский снимок настоящего перелома. Бесспорного перелома. - Вот как выглядит перелом. Правда, я мог бы и сам поставить диагноз. Вместо позвонка какая-то блямба, а вокруг ореол осколков, каждый размером с зуб. Я сказал: - Да, явный перелом. И при этом подумал: Поезд тут ни при чем, шестиэтажный дом тоже, следовательно, виновата торпеда. Судя по причиненным повреждениям, все это натворила именно торпеда. Потом я робко осведомился: - Это все, что осталось от того господина? - Что это? - Этот позвонок? Тогда он отнял у меня снимок. Теперь я в сомнениях. Мой рогатый позвонок, по всей видимости, не ядовит. Но на душе у меня скверно, потому что он, как это ни странно, продолжает болеть. Я предпочел бы знать, в чем тут дело, и пусть бы уж это оказался простой костный перелом. Мне как-то неловко, что я продолжаю ходить. Но раз у меня ничего не находят, то оставаться в постели было бы еще более неловко. Что же дальше? Да... Что же дальше-то? Хотелось бы наконец обрести хоть какую-то судьбу. А то я словно в поезде, который застрял перед семафором. Не воюю и не делаю свою собственную работу, не здоров и не болен, не понят и не расстрелян, не блаженствую и не страдаю. И вконец утратил всякую надежду. Странная штука безнадежность. Чувствую, что мне нужно родиться заново. Я понял, что радовался бы, если бы меня заставили годами лежать врастяжку привязанным к доске. Это была бы судьба духа. Точно так же я радовался бы, если бы меня опять пустили за штурвал Лайтнинга и позволили воевать дальше: это была бы судьба солдата. Или влюбиться бы мне безнадежно: был бы рад и этому. Лишь бы навсегда. Это была бы судьба сердца. Безнадежно влюбиться - не значит потерять надежду. Это значит, что соединишься с любимой лишь в бесконечности. А по пути - негаснущая звезда. И можно отдавать, отдавать, отдавать. Как странно, что я не могу обрести веру. Можно безнадежно любить бога: это как раз по мне. Солем и григорианский псалом. Церковное пение - совсем не то, что мирское. В нем есть что-то морское. Я часто об этом думал. В сороковом году, перед отъездом из Лиона, я как-то в воскресенье пошел в Фурвьер(6), поднялся на холм. Шла (вечерня?). Было холодно. В церкви безлюдно, один только хор. И я в самом деле почувствовал, что я внутри корабля. Хор - это был экипаж, а я - пассажир. Да, прячущийся ото всех пассажир-заяц. Мне казалось, что я прокрался туда незаконно, обманом. И право же, я был восхищен. Восхищен чем-то несомненным, чего мне никогда не удается удержать. Мне бесконечно жаль людей: пока они спят, они все пропускают. Я только не знаю что. (...) Почему мне так нехорошо? Вы не представляете себе, до чего мне страшно. О, я вовсе не позвонок имею в виду. Он мне, в сущности, даже полезен. (...) Встряска была великолепная (для головы тоже) и... у меня немного прояснились мысли. Занятно. Нервы тоже пришли в порядок. Я был как-то весь напряжен, так напряжен - физически не мог написать больше двух страниц. У меня руку сводило. Меня в буквальном смысле невозможно было читать. (...) А мои письма двух последних месяцев! На второй же странице почерк совершенно менялся. (...) И вот встряска все это сняла. То, что было во мне разлажено, снова встало на место. Странно. (...) Вот еще записка для мамы. Боже, как все это печально! Найти себя... это, наверно, невозможно. Где то, в чем можно себя найти, - где дом, обычаи, верования? Вот почему в наше время так невыносимо трудно и горько жить. Пытаюсь работать, но работа идет с трудом. Эта безжалостная Северная Африка разъедает душу: я уже больше не могу. Это могила. Как легко было вылетать на Лайтнинге на боевые задания! Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон(7). Д. ничем не может мне помочь - да и чем тут поможешь? Я, признаться, боюсь за свою работу - боюсь даже в чисто материальном плане. Я готов ко всему. (...) Во всем, что касается лично меня, я утратил малейшую надежду. Немного грущу о себе самом. Грущу обо всех. Когда я слышу, какие надо мной изрекают приговоры, мне делаются ненавистны все приговоры вообще. Главное, люди теряют надежду, им не хватает солнца. А что, если я люблю в других именно то, в чем могу помочь им сделаться лучше? Люблю тех, кому могу дать больше, чем получить? В сущности, я так одинок. Что, если я люблю помогать тем, кто тонет, держать голову над водой? Заставлять человеческий голос звучать по-особенному, вызывать на человеческом лице особенную улыбку. Что, если меня волнуют только пленные души? Когда мне чудом удается хоть на три секунды приручить того, кто считался погибшим, когда в нем хоть на три секунды пробуждается доверие ко мне - видели бы вы, какое лицо он ко мне обращает! Быть может, я по призванию - искатель подземных ключей. Искатель того, что таится глубоко под землей. Я так мало нужен тем, кто совершенен. Мне говорят: Утопленница погрузилась глубже, чем ты думаешь... Но я бегу. И это вовсе не безумие. Только я один знаю, что вытаскиваю на свет божий. Странно, что мне понадобилось время, чтобы это понять. Но я действительно не чувствую в себе призвания ни составить чье-то счастье, ни получить его от кого-либо. Если я составляю чье-то счастье - мне делается страшно, словно я указал путнику неверную дорогу. Что до того, чтобы получать самому - мне-то ведь так немного нужно. Вполне можно подумать, что я жесток: я не утешаю в горестях, не выполняю желаний. Пусть я жесток с плотью, с сердцем, но только не с душой. Поэтому на самом деле я никогда не был жесток. Я, пожалуй, принадлежу тем, кто выбирает меня, как дорогу. Мне совершенно безразлично, откуда они идут. Чтобы выразить то, что я хочу сказать, мне, повторяю, не найти иных слов, кроме тех, которые относятся к религии. Я понял это, перечитывая своего Каида(8). Смысл этого трудно облечь в слова, но не случайно возникают эти повозка, дорога и обоз для вожатого вожатых. И ничего, ничего другого я не понимаю. Не понимаю, как это кто-то может быть достоин меня. Я ведь не награда. Или как это я могу быть кого-то достоин. Я ничего не достоин. И я не умею думать по-другому. Кстати, я уже устал сам от себя. От своих запутанных мыслей по всякому поводу. Я словно сам у себя в тюрьме. И в других отношениях я тоже заключен в символическую тюрьму Что -можно противопоставить обвалу в горах? Я совершенно пал духом. Хочу писать в полную силу, но здесь для меня чудовищно неблагоприятный климат. Из меня жизнь уходит Никогда еще я не испытывал подобного бесплодного изнурения. Это ужасно. Эх, всего два месяца назад так здорово был вылетать на Лайтнинге на задания! Эти болваны американцы сами не знают, что они со мной делают, лишая меня полетов. (...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Я в постели, в неподвижности... - Описанный ниже несчастный случай произошел с писателем 5 ноября 1943 г. Полученная травма мучила Сент-Экзюпери несколько месяцев и еще более усиливала его подавленное состояние, вызванное отстранением от боевых полетов (см. коммент. к с. 138). (2) Шнейдер - лицо неустановленное. (3) На другой день Советы давали большой прием. - Имеется в виду прием в советском представительстве при Французском комитете национального освобождения по случаю 26-й годовщины Октябрьской революции. (4) Обуано Филипп (1899-1961) - вице-адмирал, соратник Ш. де Голля, в 1943 г. командовал военно-морскими силами "Сражающейся Франции". (5) ...пришлось подключить военных врачей. - Находясь на военной службе (в резерве командования), Сент-Экзюпери должен был освидетельствоваться у военных врачей, чтобы получить разрешение оставаться дома из-за травмы. (6) Фурвьер - см. коммент. к. с. 95. (7) Эти болваны американцы решили, что я слишком стар, и поставили передо мной заслон.- Предельный возраст, установленный в американских ВВС для полетов на скоростных самолетах "Лайтнинг", составлял 35 лет, тогда как писателю было уже 43. (8) ...перечитывая своего "Каида". - См. коммент. к с. 74. Сергей Зенкин Письмо жене, Консуэло [Алжир, без даты] Перевод: С французского Е.В. Баевской Нью-Йорк, раздоры, споры, клевета, выходки А. Б.(1) окончательно мне осточертели. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Но я от них устал. Все это как-то не по-человечески. Напускают туману... И в них во всех это есть. Это не моя родина. Мне надо быть выше этого, чтобы защищать покой в Аге(2), и обеды с Лазаревым(3), и твоих уток (которых ты жаришь, между прочим, неправильно, потому что корочка почти не хрустит), чтобы защищать все лучшее. Лучшее в тех вещах, что мне дороги. Верность. Простоту. Партии в шахматы с Ружмоном(4) (вот уж славный парень), преданность, труд, согретый любовью, но только не игру с правдой, которую затевают лжецы в изгнании, вдалеке от всех человеческих понятий... ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) ...выходки А. Б. ... - Имеется в виду французский поэт-сюрреалист Андре Бретон (1896-1966), в 1941 г. эмигрировавший в США. Бретон отрицательно отозвался о "Военном летчике". (2) ...защищать покой в Аге... - В этом городе жили мать и сестра Сент-Экзюпери. (3) Лазарев Пьер (1907-1972) - французский журналист, газетный издатель; сын эмигранта из России. В конце 30-х гг. он был редактором газеты "Пари-суар", где печатались корреспонденции Сент-Экзюпери, в годы оккупации жил в эмиграции, сотрудничал в американских органах пропаганды. (4) Ружмон Дени де (р. 1906) - швейцарский франкоязычный писатель. В 1940-1947 гг. жил в США и часто встречался там с Сент-Экзюпери. Сергей Зенкин Письмо Х. [декабрь; получено 18 февраля 1944 г.] Перевод: С французского Е.В. Баевской Сейчас три часа ночи. (...) Больше не могу. Почему, ну почему такая тоска? Начну с новостей, не слишком интересных. Позвонок все-таки оказался сломан. Пелисье признал это через месяц скрепя сердце, когда увидел совершенно уже бесспорный снимок. А я весь этот месяц оставался на ногах, не имея морального права ложиться в постель. (П. принял бы это за оскорбление.) Для меня это была сущая китайская пытка. Надо сказать, что ходьба при переломах подобного типа, к счастью, не представляет большой опасности (так что я из многих зол выбрал меньшее). Сейчас мне по-прежнему больно, вечерами я просто инвалид, но в общем все налаживается. Все непременно пойдет на лад. А вот настроение... Тут все неладно. Для меня нестерпима эта эпоха. Я больше не могу. (...) Все как-то обострилось. В голове мрак, на сердце холод. Кругом посредственность. Кругом уродство. У меня к этим людям один существенный упрек(1). Они не пробуждают ни в ком бодрости. Они никого не вдохновляют на жертвы. Они ничего не могут извлечь из человека. Унылые надзиратели в дурном коллеже. Вот их амплуа. Они мешают мне, как болезнь. (...) Вот ведь странно. Я еще никогда, никогда не был так одинок на земле. Меня словно гнетет безутешное горе. Не знаю, найду ли в себе силы излечиться от этого. И некому мне помочь. А люди в этой стране - ну и убожество! Отбросы всех континентов. Запасной путь, на котором приходят в негодность все составы. Замшелая провинциальная жандармерия. Смехотворная напыщенность классных наставников, чувствующих себя хозяевами положения. Видели бы вы их ассамблею(2) - вот уж убогое зрелище! А как они из кожи лезут, чтобы уберечь от осмеяния то, что и в самом деле смешно! Смешно настолько, что страх берет. А канцелярщина, которую они разводят в ожидании, пока им позволят открыть стрельбу! Клянусь тебе, у них нет никакого чувства юмора. И столько вопиющих несправедливостей! И все это медленно нарастает по мере того, как набирает силу глупость. Глупо настолько, что страх берет. Безобразно настолько, что страх берет. Я сыт по горло. Эта разобщенность с эпохой задевает меня больше всего на свете. Мне уж так хочется расстаться со всеми этими олухами! Что мне делать здесь, на этой планете? Со мной не хотят иметь дела? Какое удачное совпадение: я с ними тоже не хочу иметь ничего общего! Я с удовольствием попросил бы уволить меня с должности их современника. Среди них нет ни одного, кто мог бы сказать мне хоть что-нибудь интересное. Они меня ненавидят ? Это утомляет меня больше всего, я хотел бы отдохнуть. Быть бы мне садовником, окруженным плодами. Или умереть. Боже мой, я ведь все-таки несколько раз в жизни был счастлив - правда, всегда ненадолго. Так почему у меня нет больше права на одно-единственное безоблачное утро? грустно, грустно, что надеяться больше не на что. О нет, грусть моя - не от хвори. Я-то прекрасно знаю, что для меня нестерпима социальная неприкаянность. Я весь наполнен гулом, как раковина. Не умею быть счастливым в одиночку Как бодро, весело было, когда я работал в Аэропосталь! -какое это было великое дело! Не могу я больше в это убожестве. Не могу. Жизнь в одиночном заключении, без веры. Эта дурацкая комната(3). И никакого завтрашнего дня. Не могу больше в этом гробу. Да, вот еще: так, мелочь. Встречаю сегодня утром генерала Р. (бывший начальник разведотдела). - А, здравствуйте, Сент-Экс. Между прочим, будьте начеку... - А что такое? - Дорогой мой, берегитесь того, берегитесь сего... - Что вы имеете в виду? - Предостеречь друга - наш долг. Будьте же осторожны. - Ладно. Так я больше ничего из него и не вытянул. Здесь, Межсоюзническом комитете, натыкаюсь на Ложье(4). Ничтожество, ректор Академии. Восседает среди верховных жрецов режима. Изволил меня заметить. - Здравствуйте! - Здравствуйте. И тут он,окруженный верховными жрецами, на меня обрушивается: - Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена!(5) - Я? - А кто же? Да, хорош ваш Петен! Тут вмешивается один из жрецов, состоящих в свите этого хама: - Как! Неужели вы член Национального совета? И Ложье ему в ответ: - Конечно, кто же этого не знает! Вы помните это злополучное назначение, которым я обязан какому-то мерзавцу. Вы помните, в какой я был ярости, помните, что я сразу заявил протест. Но к чему пытаться что-либо объяснять? В атмосфере страстей, вскипающих вокруг выборов, слишком сложно развеять клевету. Я отрезал: - Вы прекрасно знаете, что ведете себя сейчас как последний мерзавец. И все. А что мне оставалось сказать? Говорю вам, стена становится все толще. Говорю вам, ненависть вокруг сгущается. Еще говорю вам, что я не вынесу утраты солнца. Приехав сюда, я попал в ловушку. Мне не выдержать ни клеветы, ни оскорблений, ни этого неописуемого бездействия(6). Я не умею жить вне любви. Я всегда говорил, действовал, писал только побуждаемый любовью. Я люблю свою страну куда больше, чем все они, вместе взятые. Они любят только самих себя. До чего странная у меня судьба! Она неумолима, как лавина в горах, а я совершенно бессилен. За всю жизнь не могу упрекнуть себя ни в одном шаге, продиктованном ненавистью или местью, ни в одном корыстном поступке, ни в одной строчке, написанной ради денег. А чувствую себя все-таки, как заживо погребенный. Все это странно, странно, странно. Может быть, уехать? Но я уже по колено увяз в этих зыбучих песках. Вытащить из них ноги было бы невероятным чудом. Завтра я завязну до пояса. Все идет к тому, что я окажусь в тюрьме. Но там-то и проявится их слабость: ведь если не больше нравится спать, кто может мне в этом помешать? Я подумываю, не сжечь ли мою книгу(7)? Если у меня украдут рукописи - не хочу, чтобы они валялись на их грязных кухнях. Горе мое выше моих сил. (...) Вы видите: я не понимаю жизни. Ночами на меня наваливается тоска. По родным. По родине. По всему, что я люблю. Не могу забыть, какой чудесный покой нисшел на меня в последнюю ночь в Ливии(8). Говорите со мной, заставляйте меня любить жизнь. Когда я показываю карточные фокусы(9), я выгляжу веселым, но не могу же я показывать фокусы себе самому, и на сердце у меня смертельный холод. Тут затевается новый журнал Арш, который намерен перепечатать Письмо заложнику(10). Я к этому не стремился. У меня нет ни малейшей охоты снова привлекать к себе внимание, слушать, что говорят обо мне, или говорить самому. Один тип из окружения Ложье сказал мне: Я отказался сотрудничать в Арш, потому что, по слухам, там будут печатать вас! Во. она, нескрываемая ненависть! Нескрываемое негодование! Если этот тип меня расстреляет, ему, несомненно, будет казаться, что он спас мир. От чего? Я ненавижу - и куда сильнее, чем он, - все виды предательства. Я люблю - и намного сильнее чем он, - все, что связано с Францией. Что до немцев, то я не раз дрался и еще буду драться с ними, рискуя головой. В отличие от него. Так в чем же дело? Нет, с меня довольно. Скандал с Ложье... Это, по-моему, и впрямь бесподобно. Я чувствую, что окружен ненавистью. Я все чувствую. Но я гадал: Что они могут мне сделать? Я рассуждал так: Я сражался за мою страну, несмотря на возраст, я выступал против захватчика - и устно, и письменно. Я всегда ненавидел политику, и никто ни в чем не может меня упрекнуть... Я чувствую, что паровоз набирает ход, но куда о держит путь? И вот наконец этот подонок разрешает мое недоумение. Господи, как я был глуп! Я начисто забыл о том случае! О дурацком назначении, о котором я не был даже официально извещен. Следовательно, не был обязан официально его отклонить. Тем не менее я тут же по всей форме отказался от него через американскую прессу и радиовещание, после чего уже никто со мной об этом не заговаривал, и я был уверен, что с этой нелепостью покончено. - Ага! Ага! Так вы до сих пор являетесь членом совета... - Послушайте, это же чепуха! Я отказался... И тут этот подонок перебивает: - Несколько слов для прессы, чтобы угодить прессе, это не считается. А где ваше заявление об отставке? ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ! И все это с видом жандарма, ловко припершего мошенника к стенке! Остальные качают головами и думают про себя невесть что! А я, чтобы все разом уладить, попросту поворачиваюсь ним спиной. Вот куда идет паровоз! Случаю со мной дается законный ход. Он уже подлежит ведению закона. И этот подонок скажет мне: Бог свидетель, я вас люблю и уважаю! Но разве мы вправе делать для вас исключение? Ваш случай достаточно распространенный... Взять хотя бы Пейрутона! Тоже, надо думать, приличный человек, патриот (...). Все это тошнотворно и в то же время восхитительно. Все идет по пути, предначертанному провидением. И надвигается на меня. Медленно так надвигается. У меня адские боли в позвонке. Пелисье несколько озадачен моим переломом. Это как будто не такой перелом, который лишает человека способности передвигаться: сломан поперечный отросток пятого поясничного позвонка. Но мне кажется, что у меня что-то другое. Пелисье предлагает ультрафиолетовое облучение, но я и слушать не хочу. Он говорит: Это снимет боли, но мне наплевать на боли. Они мне нужны как симптомы. И вообще, боль - это нечто дружественное. Она неплохой компаньон. И такой преданный... Я боюсь только тоски. Тревоги за тех, с кем нельзя больше быть рядом. Я тревожусь за них. Старая история, вечно я рвусь в спасатели! Если мне не дадут к ним присоединиться - все их несчастья камнем лягут мне на сердце. Боюсь бессонных ночей, боюсь (...) Возня вокруг моей книги меня раздражает. Но что же, по-вашему, позволить им все чернить? Или выискивать у меня то, что достойно их похвал? Найти можно все, что хочешь. Доказательством тому служит генерал Ложье, но меня от этого мутит. Иногда мне выпадает удача испытать страдание, в котором нет ничего низкого. Это боль в позвоночнике. Но боль эта не настолько велика, чтобы по-настоящему меня утешить. Нынче вечером мне хотелось бы вволю наплакаться. Мешает сознание того, что все это смешно. Весь этот цирк, и этот Ложье, и это жульничество! У меня есть какое-то социальное чутье. Я никогда не ошибался. Вот уже год, как я все понимаю. Я... мне, конечно, плевать на себя, но я - это пятьсот тысяч. И я твердо знаю, что мои помыслы чисты. Три дня спустя. Холодно. Спина ноет. У Пелисье не топят (нет камина). Зуб на зуб не попадает. Ложусь в двух пижамах кальсонах и в халате. Ночь мне удается превратить в нечто. сносное. Но дни омерзительны. Это, конечно, я в тюрьме. Может быть, мне нужно очутиться в тюрьме. Не кончая самоубийством. Я обязан выплатить какой-то чудовищный долг. В истории с Ложье меня бесит бесчестье. Не люблю бесчестья. Мерзко подумать, что меня посадят в тюрьму как пособника палачей. Это полностью противоречит истинным моим убеждениям. Сесть в тюрьму за приверженность к СВОЕЙ религии, пожалуй, и не обидно. Но поплатиться тюрьмой за чужую - это уж из ряда вон. Ну разумеется, почему бы и не тюрьма? Мне до безумия хочется покончить с собой. (Но тут уж дело в тоске, а над ней я не властен.) Вопрос в одном сколько я выдержу. Может быть больше, чем мне кажется. (Но я ведь уже столько вытерпел!) Быть может, это вернет меня на путь истинный... Один бог знает. (Да здравствует бог, как вы говорили.) Рисунки у меня не получаются. На три тысячи - один удачный. Вот и этот не вышел. Если я кое-как научился писать, то лишь потому, что ясно вижу свои недостатки. Ни одна неудачная фраза от меня не ускользает. Не так уж глупо я когда-то сказал: "Я не умею писать, я умею только править. Вкратце, что такое голлизм? Группа частных лиц (это все были частные лица) сражается вне Франции, которая побеждена и должна спасать сама свое существование. И это очень хорошо. Франции следует участвовать в борьбе. Генерал такого иностранного легиона(11) мог бы в своей борьбе рассчитывать на меня. Но эта группа частных лиц выдает себя за самое Францию (а Франция это Трефуэль, это Диди). Эта группа хочет извлечь для себя выгоду из приносимой ею жертвы, хотя эта жертва меньше, чем жертва Франции (не говоря о том, что из истинного самопожертвования выгод не извлекают). Из того, что она участвует в борьбе за пределами Франции, представляя собой самый обычный иностранный легион, эта группа намерена извлечь такую выгоду, как управление завтрашней Францией! Это бессмыслица, потому что самопожертвование по сути своей не дает никаких прав. Вот главное. Это бессмыслица, потому что завтрашняя Франция должна возродиться (если ей вообще суждено возродиться) из собственной плоти. Из той плоти, которая дала узников, заложников, детей, умерших с голоду. Это тоже главное. Их ассамблея? Недурно разыграно. Но это спектакль, и этот спектакль смешон. Они думают, что они - Франция, а должны бы понимать, что они - из Франции, а это совершенно разные вещи! Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола(12): - Вы заблуждаетесь, Соединенные Штаты нельзя сбрасывать со счетов... Там искренне любят Францию. Рузвельт - больше француз, чем все республиканцы, вместе взятые. В интересах страны следует его поддерживать, а не шельмовать. Необходимо взять курс на дружбу с Соединенными Штатами... Необходимо в интересах Франции... - После того как они так со мной обошлись(13)? Он утомителен. Личности, которые разгуливают с собственным пьедесталом под мышкой, очень утомляют зрителей. Вы мне писали? Если писали, то о чем? Я не получил никакого ответа на свое письмо. Остерегайтесь передавать письма с оказией, даже если доверяете гонцам. Беда в том, что люди ленивы. Приехав сюда, они, не имея в своем распоряжении автомобиля, сдают письмо на почту. А это все равно, что пропечатать его в газетах... - Очень, очень милый человек, но придется его расстрелять... - За что? - Он причина того, что в Соединенных Штатах не признают генерала де Голля... В самом деле? Как лестно! Как я горд собой! О люди... Этот толстый дурень С. - В Бразилии вас хотели расстрелять! - Вот как? Дурнем он был всегда, а вот растолстел недавно. Опух в опале - недурно звучит! Он только забыл прибавить, этот толстый дурень, что сам способствовал этому! Я еще тогда, в Соединенных Штатах, был вне себя от ярости: он в своих выступлениях цитировал Военного летчика в перевранном виде! Он извлекал из моей книги аргументы в пользу своей рыхлой и тупой политики! Эта улитка С. ничуть не благороднее какого-нибудь там Анри Э(14)... Что бы вы ни имели в виду, всякие мерзавцы начинают за вас цепляться и размахивать вами. Все дезертиры, все банкроты, отсиживающиеся в Южной Америке, объявили себя голлистами. Это придавало им весу. Улитки-коллаборационисты ссылались на Военного летчика, безбожно перевирая его... А что поделаешь! Люди! Теперь, когда он оказался без работы, от его елейных разглагольствований об иностранных делах скулы сводит. Когда он говорит мне: Вы были нашей совестью! - меня мутит от омерзения. Какая совесть у сиропа! Ненависть. Все делается под знаком ненависти. Несчастная страна! Жиро пугало огородное и как таковое шума не боится. Это сущность его военной отваги. Но, будучи пугалом, он боится ветра. И тот, другой, для которого сам господь бог - голлист. И вся эта банда крабов, которые умеют только одно - ненавидеть. Ах, страна моя... А мой министр, Летроке(15), которого извлекли из нафталина, эксгумировали из недр музея Гревен(16), - до чего же ему хочется, чтобы его принимали всерьез!.. Один генерал спросил: Летроке - кто это? Тридцать суток заключения в крепости. В Дакаре, в кабаке, некий командир соединения изрек, глядя на портрет Великого Могола: - Приколите его как следует, а то вон кнопки выпали! А лучше вставьте в рамку, под стекло, по крайней мере красивее будет... По крайней мере... Пятнадцать суток строгого ареста за по крайней мере!.. Один полковник в дакарском кабаке заметил: - В тунисской армии(17) было больше раненых, чем в армии де Голля солдат. (Кстати, это верно.) Полковника стерли в порошок - поделом ему. Снова преследуются виновные в оскорблении величества, снова имеет силу закон о святотатстве. И это в разгар борьбы с нацизмом! Ну как, скажите, мне все это выдержать? Мне так горько, что сил больше нет... Я сказал себе эти слова потихоньку, словно они бог знает как поэтичны: хотелось немного поплакаться. То, что я писал тогда о Ливии, - правда. Когда в последний день на рассвете парашюты оказались сухими(18) и я решил, что мне конец, я минут десять лежал не двигаясь и утешался одной-единственной фразой, которая очень трогала меня: Сердце высохло... высохло... из него не выжать ни слезинки! Такого же утешения я искал и сейчас; свернулся на кровати и твердил, баюкая себя: Мне так горько, что сил больше нет... Но эти слова - словно китайские рыбки. Вынутые из воды, они уже ни на что не похожи. Вот так и слова, выхваченные из сна... И все-таки это правда. Мне так горько, что сил больше нет (...) 24-12-43 Рождественская ночь. В поместье Ла-Моль у дяди Эмманюэля(19) помню изумительный вертеп: ясли с овцами, лошадьми, быком; а еще там были пастухи, и ослик, и трое царей-волхвов, каждый вдесятеро выше лошади, а главное - запах воска: он для меня неотделим от всякого праздника... Мне было пять лет. Благодарность, возносимая миром за рождение крошечного ребенка, - как это поразительно! Две тысячи лет спустя! Род человеческий сознавал, что должен взрастить чудо, как дерево растит свои плоды; и вот он весь стеснился вокруг чуда - какая в этом поэзия! Цари-волхвы... Легенда или история? А до чего красиво! Как странно! Я думал о тюрьме. Лежал в постели и представлял себе. Представлял какой-нибудь неожиданный поворот событий, который позволит мне выкрутиться. Такой ход ,потом еще такой - и партия выиграна! Между тем на сей раз, если гроза грянет, мне уже не отвертеться. По крайней мере мне сейчас кажется, что я сам не захочу уклониться. Выпью эту чашу до дна. Уклонившийся утрачивает свою судьбу и словно проваливается в никуда. Это несерьезно. Корнильон-Молинье предлагает мне в январе - феврале поехать с ним в Россию. Я согласился(20). Надо же мне куда-то деваться, а там хотя бы мой возраст не будет мне помехой на войне. Но что же тогда станет с этой алжирской помойкой? Боли в спине все сильнее. Я по-прежнему отказываюсь от ультрафиолетовых лучей, которые навязывает мне мой гостеприимный хозяин. Облучать сломанную кость - эта глупость просто бесит меня. Конечно, в пехоту я больше не гожусь. Но я никогда особенно не любил ходить пешком: всегда был тяжел на ногу. В двадцать пять - ревматизм, проболел четыре года. Потом Гватемала(21). И так далее. Вероятно, самолет был для меня своеобразной компенсацией (...) Да, работать. Но где? И как? И зачем, если все равно придется сжечь плоды своего труда? Может быть, ничего и не случится - но это еще не значит, что я ошибаюсь. С тех пор как вы живете там, вы должны были до некоторой степени понять, что такое эта ненависть, над которой вы, слушая мои рассказы, подчас посмеивались. Они насядут на меня, если из-за меня их начнут - или не начнут - ругать в Америке. Вот и все. Если бы не это... Когда ненависть исходит от какого-нибудь Ложье - это вполне естественно. Он ненавидит меня точно так же, как я его презираю. Меня тошнит от его рассуждений, от этих махинаций с человеческими жизнями, от суемудрия, которое ни во что не вникает, но надо всем вершит суд, от готовности приспособиться к любой низости и тупости. Неужели он когда-то был ребенком? Быть не может. Такие, наверно, рождаются прямо в пенсне. Но когда та же ненависть исходит от человека пусть взбалмошного, но чистого, она меня деморализует. Как неудача в любви. Невозможность найти общий язык с людьми всегда была для меня нестерпима. У меня сразу же пропадает всякая вера в то, что я не могу облечь в слова. Мне казалось, что язык - это как любовь у черепах. Нечто не вполне завершенное. Результаты будут видны через тридцать миллионов лет. Благодать будет дарована. Люди будут понимать друг друга с полуслова. Чтобы найти свое место, им необходимы два лагеря. С. тянется ко мне, потому что я не голлист. Жаль. Меня-то к С. вовсе не тянет. В свое время я не до конца раскусил этого изнеженного пастыря. Эту тепленькую улитку. Меня тошнит от такой теплоты. В Бразилии он вел себя не слишком-то благородно. Лужа липучего сиропа. Там он записал меня в компанию своих - очень жаль! Но сопротивляться этому невозможно. Паразиты все равно заведутся. Беспокойство за других настигает меня всякий раз как гром среди ясного неба. Ни с того ни с сего сваливается на меня какая-нибудь особа, которой грозят невероятные опасности, а у нее только и есть, что четыре жалких шипа, больше ей нечем защищаться от мира(22). То одна, то другая. Но не могу же я бросаться вплавь на все зовы о помощи одновременно! Тем более что я и плавать-то не умею. Но тюрьма - это, вероятно, нечто вроде монастыря. Мне, пожалуй, только тогда и бывает спокойно, когда мне приходится хуже всех. Вот почему, как ни странно, боль в позвоночнике несколько меня успокаивает. И я твердо знаю, что, если бы мне было очень больно, я совсем бы успокоился. И я твердо знаю, что, если бы я умирал, мне казалось бы, что меня окружают заботой. Это идет из детства. Поцелуют, уложат, убаюкают. Но сейчас все не так. Являются, откуда ни возьмись, одна за другой, один за другим, и все одно и то же. Как для обитателя Солема - что те люди, что эти, что грех, что добродетель, что рождение, что смерть. В мою последнюю ливийскую ночь все, что я любил, представлялось мне совершенно осязаемо. Очень странно. Говорят, что меня ищут, чтобы передать письмо от вас. Попытаюсь найти этого гонца. Я кое-что обдумал. Удивительно все же (если наблюдать откуда-нибудь с Сириуса), как может измениться душевное состояние от обычного письма. Это похоже на воздействие музыки. Вас погружают в стихию Иоганна Себастьяна Баха, и все ваши ощущения меняются. Даже смерть, если она настигнет вас в это время, приобретает совершенно иной смысл. И любой ваш поступок. И любое горе. Признание всегда несет в себе ни с чем не сравнимый смысл. Это удивительно. В сущности, если Бах говорит мне что-то, значит, он меня признал. А на днях мне пришло письмо, которое меня взволновало. Тот, кто писал, признал меня. Этому письму и тюрьма была бы нипочем. Оно просочилось бы в любую тюрьму. А ведь его автор не так уж мне дорог, но сейчас он приобрел в моих глазах какую-то всемирную важность. Богу угрожать, разумеется, бессмысленно. И бессмысленно то, что пишет мне мой корреспондент о Бахе: ведь он - просто бог, просто присносущий. Потому что Бах сумел то, что сумело это письмо. Не такие уж это разные вещи. И естественно, мне кажется, что я не могу жить без той, что написала мне это письмо. Но напиши мне не она, а другая - я и без той не мог бы жить. Я сразу же сказал себе: Вот то, чего я жажду, потому что здесь для меня был готов водопой, но встреться мне Бах или какая-нибудь старинная песня XV века, я тоже сказал бы: Вот то, чего я жажду... И в конце концов жажда моя минует их всех, минует Баха и устремится к какой-то общей мере всех вещей, которая мне никак не дается. Сюда привозят все выходящие в Америке книги. Кроме моих. МОИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Я представляю собой недурной документ, потому что жестоко страдаю. Недоразумение или тревога поражают меня с ходу, как бандитский нож. А некоторые слова с ходу меня исцеляют. Я, конечно, воображаю всякий раз, что имею дело с личностями. Мне мерещится любовь (а может примерещиться и ненависть: я всякий раз проникаюсь ненавистью к тем, кто, как Л., крутит скверную музыку), но всякий раз мне мерещится, что я проникаюсь любовью или ненавистью к какой-нибудь определенной личности. И чем дольше я живу, тем полней убеждаюсь: мерещится мне не столько любовь, сколько предмет этой любви. На самом деле существуют только пути. И всякий раз подворачивается именно такое существо, которое вступает на один из этих путей. С личностью мне сразу же становится скучно. Каждый человек церковь, в которой можно молиться, но не целый же день напролет! Бог бывает в церкви не всегда. Человек - это час молитвы. (Но далеко не всякий человек.) Не считая этих озарений, я на удивление одинок. То единственное, что занимает меня в мире, дается мне молниеносными озарениями, и я не умею это схватывать. 0жог - от музыки, от картины или от любви. Вот почему я так часто думаю о празднике, в котором как бы концентрируется смысл года. И я твердо знаю, что год должен казаться пустым. Он осмысляется только во время праздника. А об отдельных его составных частях судить не могу. Вот почему они раздражают меня, когда вникают в булыжники на дороге. Как шагнул, да как поступил, да какое слово сказал. Все шаги, все поступки, все слова кажутся мне безобразными. Меня упрекают, почему я не осуждаю то-то и то-то - ну разумеется, я это осуждаю. Но и другую крайность тоже. А заодно и их самих! И разумеется, Дарлана(23)! Ложье - дело другое! И я категорически отказываюсь превозносить этого, чтобы угодить тому. Раз они жрут из одного корыта, значит, в обоих есть низость. Сами того не зная, они, такие, какие они есть, служат орудием определенной судьбы. Разве я виноват, что на любом божестве заводятся паразиты? Что собор возводится из таких же камней, что и бордель? Мне плевать на причины, по которым какой-нибудь там Ложье ненавидит своих врагов. И точно так же мне плевать на причины, по которым Пейрутон ненавидит Ложье. Что они могут сквозь собственные неприятности разглядеть в происходящем? Плевать я хотел на все их распри. Меня волнует только незримое пришествие. Это, конечно, не значит, что у меня есть способности к родовспоможению. Это значит лишь, что от их уровня меня мутит. Здесь объявился Ж. и произвел на меня изрядное впечатление, хоть я терпеть не могу эту шушеру, да и жену его тоже. Всех этих королей наркотиков, преступного мира, черного рынка. Но зримый успех клеветы, поверхностных суждений и оговора всегда очень впечатляет. Ну как, скажите, как мне хотя бы набраться решимости объяснить ему, что я ненавижу вишистский режим, который у него с языка не сходит, куда сильнее, чем он? Куда глубже. И упорней. (...) Я понимаю, что всякий, кто прислушивается к голосу рассудка, покончил бы с собой во время разбирательства, не дожидаясь, пока его поджарят, обезглавят и распнут. Но рассудок всегда вызывает негодование у страсти: друг друга им не понять. Я смотрю на камни, а вижу собор; но как я покажу его другим, пока он не построен? В сущности, мне даже убивать их не хочется. Я пожимаю плечами; мне очень горько. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) У меня к этим людям один существенный упрек. - Имеются в виду сторонники генерала де Голля, который к концу 1943 г. удалил генерала Жиро из ФКНО и окончательно утвердил свою власть в этом комитете. (2) Видели бы вы их "ассамблею"... - Речь идет о Временной консультативной ассамблее - представительном органе, созданном при ФКНО в ноябре 1943 г. (3) Доктор Пелисье отвел Сент-Экзюпери маленькую. узкую комнату, похожую на кладовку: по одну сторону от окна - бельевые шкафы, по другую, вдоль стены - небольшая кровать. - Прим. фр. издателя. (4) Ложье Анри (1888-1973) - французский ученый-физиолог. После оккупации Франции жил в эмиграции, был в США одним из активистов голлистской организации "France for ever", в 1943-1944 гг. работал в Алжире, возглавлял местную академию. (5) "Здравствуйте, уважаемый член Национального совета Петена!" - об истории с назначением Сент-Экзюпери в "национальный совет" см. коммент. к с. 97. (6) ...этого неописуемого бездействия. - Имеется в виду вынужденное бездействие Сент-Экзюпери после отстранения от полетов в августе 1943 г. и травмы в ноябре. (7) ...мою книгу? - Имеется в виду "Цитадель". (8) ...в последнюю ночь в Ливии. - См. коммент. к с. 55. (9) Когда я показываю карточные фокусы... - Все люди, знавшие Сент-Экзюпери, восхищались его мастерством в карточных фокусах. (10) ...новый журнал "Арш", oкоторый намерен перепечатать "Письмо заложнику". - "Письмо заложнику" было помещено в первом номере этого журнала, вышедшем в Алжире в феврале 1944 г. Это была первая публикация Сент-Экзюпери на территории, контролируемой деголлевской администрацией, которая препятствовала распространению книг писателя. (11) Генерал такого иностранного легиона... - Здесь Сент-Экзюпери вкладывает в слова "иностранный легион" особый смысл: французские войска, ведущие борьбу против фашизма за пределами метрополии. (12) Пьер Кот, вернувшись из Соединенных Штатов, урезонивает Великого Могола. - Пьер Кот (1895-1977) - французский политический деятель, был министром авиации в правительстве Народного фронта; в 1940-1943 гг. жил в эмиграции в США, затем представлял партию радикальных социалистов во Временной консультативной ассамблее в Алжире. "Великим Моголом" (название династии феодальных правителей Индии в XVI-XIX вв.) Сент-Экзюпери иронически именует де Голля. (13) "После того как они так со мной обошлись?" - О напряженных отношениях между организацией де Голля и правительством США см. коммент. к с. 143. (14) Анри Э-Гастон Анри-Э (1890-?), в 1940-1942 гг. посол правительства Виши в Вашингтоне. (15) ...мой "министр" Летроке... - Андре Летроке (1884-1963) с декабря 1943 г. занимал во Французском комитете национального освобождения пост комиссара по армии. Сторонник де Голля, он воспротивился предполагавшейся командировке Сент-Экзюпери в США для получения новой авиационной техники. Иронические кавычки при слове "министр" объясняются здесь тем, что Сент-Экзюпери не признавал ФКНО полномочным правительством Франции (см. коммент. к с. 109). (16) Музей Гревен - парижский музей восковых фигур. (17) Тунисская армия - армия генерала Жиро, политического соперника де Голля, участвовавшая с декабря 1942 по май 1943 г. совместно с англо-американцами в ликвидации итало-немецкой группировки в Тунисе. (18) Когда... парашюты оказались сухими... - См. рассказ об этом в "Планете людей". Сент-Экзюпери и его товарищ в пустыне расстилали на песке парашюты, чтобы собрать росу. (19) ...у дяди Эмманюэля... - Имеется в виду Эмманюэль де Фонколомб, брат матери писателя. (20) Корнилъон-Молинье предлагает мне в январе-феврале поехать с ним в Россию. Я согласился. - Генерал Эдвард Корнильон-Молинье (р. 1899) в годы войны занимал высокие командные посты в ВВС "Сражающейся Франции". В начале 1944 г. готовилась отправка в СССР группы французских военных пилотов для пополнения истребительного полка "Нормандия", сражавшегося на советско-германском фронте; очевидно, именно об этом и идет здесь речь. (21) Потом Гватемала. - См. коммент. к с. 94. (22) А. де Сент-Экзюпери. Избранное. Маленький принц. Лениздат, 1977, с. 476. Пер. Н. Галь, - Прим. перев. (23) Дарлан - см. коммент. к с. 111. Сергей Зенкин Письмо матери(1). [5 января 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Дорогая мамочка, Диди, Пьер, все вы, кого я так люблю, что вы поделываете, как себя чувствуете, как живете, какие у вас планы? До чего же печальна эта долгая зима! Старенькая моя ласковая мамочка, я так надеюсь, что через несколько месяцев вы обнимете меня и я буду сидеть в вашей комнате у огня и буду рассказывать вам о своих замыслах, буду спорить с вами, но не очень... и вы будете слушать меня, вы, которая во всех случаях жизни всегда права... Я люблю вас, мамочка. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Письмо матери Это письмо было доставлено в оккупированную Францию одним из руководителей движения Сопротивления, который в январе 1944 г. был заброшен туда на американском самолете. Сергей Зенкин Письмо Х. [Алжир, 10 января 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Разговор с женщиной, доставившей письмо. Любопытно. Но я предпочел бы ограничиться знакомством с ее почерком. Я, я, я - это чересчур утомительно. И изо всех видов я особенно отвратительное я ему заявила. Она заявила президенту, королю, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Она храбра. Такие вот заносчивые люди, как правило, храбры. Храбры из вызова. Она бросает вызов королю, президенту, жандарму, полковнику, пожарнику, дворнику. Алжир она находит невыносимым, и тут она права. Но она считает невыносимыми американцев, японцев, монакцев, беррийцев, негров, индейцев, индусов, русских, немцев, марсиан, канаков. И притом всех их она ставила на место, всех сажала в лужу. Господи, как она бывает утомительна! Вне всякого сомнения, она оказала Сопротивлению серьезные услуги. Люди подобного типа могут вызывающе пронести коротковолновый передатчик под носом у гестапо. А женщины вроде нее наделены чисто мужской смелостью. То, что она делает, возможно, и весьма полезно, но в ее рассказах нет ничего интересного. С горечью она распространяется об обиде, которую ей нанесли, не приняв во внимание ее информацию. Она сообщала в Англию о результатах бомбежки мостов. И вот они там прислушивались не к ней. Они, дескать, доверяют лишь тем, кто, выслуживаясь, преувеличивает и сообщает, что все разрушено, даже если все целехонько. У нее есть этому доказательства... сотни идиотских доказательств. Но существует такая штука, которая называется аэрофотосъемка. Каждая бомбардировка сопровождается аэрофотосъемкой, и на этих фотографиях можно буквально сосчитать, сколько болтов недосчитывает мост. Четкость неимоверная! Это куда верней, чем отправлять пешим ходом разведчика, да к тому же и быстрее. Так что они там не слушают ни ее, ни ее соперниц, а спокойненько делают стереоскопические монтажи из аэрофотоснимков. Славная девушка? В чем-то - несомненно. Но, безусловно утомительная. Ноль. Нынешний вечер - сплошная черная ярость. Но завтра он превратится в уныние. А сегодняшняя ярость оттого, что все мои труды последнего месяца, как я и предполагал, кончились ничем. Генерал д'Астье де ла Вижери(1) сделался моим ходатаем Буска(2) (который отнюдь не герой) согласился поставить еще раз, но уже под новым углом вопрос о моей поездке в Англию Дело таинственным образом затянулось. И тем не менее! Все казалось таким простым, ясным, нужным. И вот сегодня вечером мне позвонил начальник отдела заграничных миссий полковник Эскарра: - Понимаете... в следующий раз, под другим углом... во можно... - Что, не прошло? - Шеф... - Понятно. Вето? Глухая стена. (...) Вина моя все та же: я утверждал в Соединенных Штатах, что можно быть хорошим французом, настроенным антигермански, антинацистски, и не считать голлистскую партию будущим правительством Франции. Да, в сущности, проблема эта нелеп Решать будет Франция. За границей можно служить Франции но не управлять ею. Голлизм должен стать оружием в борьбе должен поставить себя на службу Франции. Но они негодуют когда им говоришь это. Три года я здесь от них только и слышу о будущем правительстве Франции. Но я никогда не предам свою сущность. Франция - не Виши, но Франция - и не Алжир. Франция - в подполье. И если ей так хочется, пусть отдает себя алжирцам. Но они не имеют на это никакого права! Я абсолютно уверен, что она выберет их. Из ненависти к вишистской мерзости. И по незнанию их сути. Вот бедствия времени, когда отсутствует всякая информация. Террора не избежать. И расстреливать при этом терроре будут во имя неписаного корана. Худшего из всех. Но я не поставил на службу им огромное влияние (по их мнению), которым пользуюсь. Я больше всех ответствен за их неудачу в Соединенных Штатах! Только из-за меня они до сих пор не в правительстве! Смешно до невозможности! Ничего себе формирование политических пристрастий! Мне это безумно льстит... Но этим и объясняется тяжесть досье, пухнущих у меня над головой. Великолепная находка для них! Тошнит. Сюда прибыла большая партия книг из Соединенных Штатов. Только моих нет в продаже. Я зачумленный... Ну и ладно, плевать мне на это. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Астье де ла Вижери Эмманюэль д' (1900-1969) один из руководителей французского движения Сопротивления, комиссар по внутренним делам в ФКНО. В начале 1944 г. он предлагал назначить Сент-Экзюпери военным атташе в Англии. (2) Буска Пьер (1891-?) - генерал, в 1943 г. был назначен командующим французской авиацией в Северной Африке; один раз, в декабре 1943 г., он уже пытался добиться командирования Сент-Экзюпери с военной миссией в США (см. коммент. к с. 158). Сергей Зенкин Письмо Ж. Пелисье, подсунутое ему ночью под дверь [Алжир, 10 января 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Старина, я ложусь поздно, потому что всегда мог работать только ночью, и, хотя мне требуется в среднем часов семь сна, мне нипочем встать в 4, 5, 6, 7, 8, 9 утра... и вообще проснуться в любое время. Нипочем мне это и по той причине, что, если по телефону ничего срочного не сообщат, я тут же засну опять. При той нелепой жизни, какой вынуждает меня жить г-н Летроке, я, вполне естественно, предпочитаю писать по ночам (днем из-за шума и суеты я это делать не могу), а утром спать, что лучше, чем бездельничать. Тем не менее я в любое время в распоряжении каждого, кому нужен, и мне будет крайне неудобно, если обо мне пойдут слухи, будто я прошу не беспокоить меня по утрам. Это и случилось сегодня, так как вы из дружеских чувств решили оберечь мой сон. На коленях умоляю вас не обращать внимания на то, что я сплю. (Это примерно то же, что для вас вызов в больницу.) Если вы еще не встали, я пойду звонить в кабинет или гостиную и нисколько вас не потревожу. Поймите, я предпочитаю не спать шесть ночей подряд, чем дать кому-нибудь возможность подумать (особенно имея в виду мою профессию), будто я не разрешаю тревожить себя до десяти утра. Я из-за этого выгляжу этакой смешной барынькой. Будите меня без каких бы то ни было угрызений совести, даже если я только что лег. Моя работа по ночам не касается моих корреспондентов. Заранее благодарю. Письмо Ивонне де Летранж(1) [февраль 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Ивонна, дорогая, как мне тебя не хватает! Мне так много нужно тебе сказать, так много! И очень хотелось бы знать, что ты делаешь, как поживаешь, о чем думаешь в эту эпоху вавилонского столпотворения, когда все языки утратили смысл. Может быть, там, где ты, все на удивление здраво - и направленность мыслей, и направленность чувств, но тут, где пребываю я, - стоячая лужа. И лягушки распевают оперу. Если у нас повсюду так, можно отчаяться в жизни. У меня потребность восстановить человеческое доверие. Я ненавижу политику. Ненавижу сухие и ложные идеи. Мне так необходимо все пересмотреть заново, исходя единственно из сущности. Жить дружбой, домом, садом... Я пытаюсь делать, как лучше. Ты это знаешь. Обнимаю тебя изо всех сил. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Ивонна де Летранж - двоюродная сестра писателя. Сергей Зенкин Письмо Льюису Галантьеру [май 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Дорогой, дорогой Льюис, После нескольких полетов над Францией ваши соотечественники сочли меня чересчур старым, чтобы летать на большой высоте. И я сидел без дела. Однако благодаря любезности американского генерала Эйкера, согласившегося сделать для меня исключение, я вновь восстановлен в качестве пилота Лайтнинга П-38. Скорость этого самолета превышает как-никак восемьсот километров в час. А я вне всяких сомнений - старейший среди союзнических и неприятельских летчиков! В сорок четыре года я все еще, как юноша, летаю со скоростью восемьсот километров в час на высоте тридцать пять тысяч футов! Джон Филипс, репортер Лайф, только что сделал репортаж о нашей эскадрилье. Он представил его как продолжение Flight to Arras. Не согласитесь ли вы, так много сделавший для успеха этой книжечки, оказать мне огромную любезность и перевести не то пять, не то шесть страниц ответов на вопросы? Это доставило бы мне огромную радость. Дорогой Льюис, в такой дали от всех вас я превращаюсь в старика. Но я тысячу раз предпочитаю свое нынешнее положение алжирской помойке. Гнуснее этого мне уже ничего не увидеть. Зато французская армия (не политика) совершенно великолепна. Дорогой Льюис, обнимаю вас и всех, кто вокруг вас. Ваш Сент-Экс Письмо г-же Франсуа де Роз(1). [о. Сардиния, май 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Благодарю вас, дорогая Ивонна, за многое-многое. Не могу даже сказать за что (то, что идет в счет, незримо...), и тем не менее раз мне хочется вас поблагодарить, значит, у меня есть для этого основания. Впрочем, это все неважно. Саду не говорят спасибо. А я всегда делил человечество на две части. Есть люди-сады и люди-дома. Эти всюду таскают с собой свой дом, и ты задыхаешься в их четырех стенах. Приходится с ними болтать, чтобы разрушить молчание. Молчание в домах тягостно. А вот в садах гуляют. Там можно молчать и дышать воздухом. Там себя чувствуешь непринужденно. И счастливые находки сами возникают перед тобой. Не надо ничего искать. Вот бабочка, вот жук, вот светлячок. О цивилизации светлячков ничего не известно. Об этом можно поразмышлять. У жука такой вид, словно он знает, куда направляется. Он очень спешит. Это поразительно, и об этом тоже можно поразмышлять. Бабочка. Когда она садится на большой цветок, говоришь себе: для нее это - словно она на качающейся террасе висячих садов Вавилона... А потом замечаешь первые звезды и - замолкаешь. Нет, я вовсе не благодарю вас. Вы такая, какая есть. Просто мне захотелось еще раз у вас прогуляться. И еще я подумал вот о чем. Существуют люди-шоссе и люди-тропинки. Люди-шоссе наводят на меня скуку. Мне скучны щебенка и километровые столбы. У людей-шоссе четко определенная цель. Барыш, амбиции. А вдоль тропинки вместо километровых столбов орешник. Бредешь по ней и щелкаешь орехи. Ты на ней для того, чтобы просто-напросто быть на ней. И шагаешь для того, чтобы идти по ней, а не куда-то, куда тебе необходимо. А от километрового столба ждать совершенно нечего... Ивонна, дорогая Ивонна, люди нашей эпохи попали в ловушку. Телефонная цивилизация невыносима. Подлинное присутствие сменилось карикатурой на присутствие. С человека на человека теперь переключаются так же, как в одну секунду поворотом ручки приемника переключаются с Иоганна Себастьяна Баха на Пойдем-ка, цыпочка. Нынче ни на чем не сосредоточишься, человек сейчас во всем и ни в чем. Ненавижу это растворимое человечество. Если я где-то нахожусь, то я там как бы навечно. Садясь на скамейку, я желаю сидеть на ней вечность. Я имею право на своей скамейке на пять минут вечности. Вы, разумеется, встречаетесь со слишком многими людьми. II это раздражает. Они вас обкрадывают. И вечером вы, конечно, в состоянии величайшего уныния. Во всяком случае, у вас было бы такое чувство, не мешай вам об этом думать телефон, не будь он постоянно под рукой. И тем не менее очень интересно побыть некоторое время рядом с вами. Даже секунду, если это некоторое время секунда. Вы присутствуете в пожатии руки, в приветствии, даже в прощании. Вы спешите только в вещном, зримом мире. А втайне от себя самой неспешным шагом проходите по саду. И эта ваша истинная походка безмерно мне дорога. Это, безусловно, означает, что вы нерастворимы. Но будьте все-таки настороже. Крутить слишком много ручек у приемников - изнурительно, даже если человек нерастворим. Даже если он умеет превратить одну секунду Баха в вечность. Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность - это дорога. А сто дорог разом - уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние. Я становлюсь седым стариком, который сидит и покачивает головой. Словно сожалею о молодости, что прошла во времена повозок, запряженных волами. Мне бы надо быть меровингским королем(2). Однако я всю жизнь разъезжал. Даже немножко устал от разъездов. Только сейчас я по-настоящему понимаю знаменитую китайскую пословицу: Три вещи не дают возвыситься духом. Во-первых, путешествие... И то, что мне раз двадцать говорил Дерен(3): Я знал лишь трех поистине великих людей. Все трое были неграмотны. Савойский пастух, рыбак и нищий. Они ни разу не уезжали из родных мест. За всю мою жизнь они единственные, кто снискал мое уважение... И еще очаровательные слова бедняги Жоз Лаваля(4) по возвращении из Соединенных Штатов: Ужасно рад, что вернулся. Я не дорос до небоскребов, я на уровне осла... У меня изжога от километровых столбов. Они никуда не ведут. Надо было родиться в другое время... Ожидая, когда же у меня появится призвание уйти в Солем (григорианские песнопения так прекрасны), или в тибетский монастырь, или стать садовником, я вновь выжимаю рычаги газа и со скоростью шестьсот километров в час лечу в никуда... Именно поэтому, Ивонна, дорогая Ивонна, я совершил тихую прогулку в этом письме, в котором нет, в общем, никаких важных известий и которое, несомненно, будет трудно прочесть (я слишком стар, чтобы исправлять свой почерк). Да оно и не имеет никакого значения. Просто-напросто я пять минут вечности посидел в дружеской сени. Сент-Экзюпери Отвечать не надо, так как я убежден, что письма никогда не дойдут до этих богом забытых мест(5), а я скоро буду в Алжире. Я вам позвоню. Самолет улетает: доверяю ему это письмецо. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Письмо г-же Франсуа де Роз. Об адресате письма сведений нет. (2) Мне бы надо быть меровингским королем. - Династия Меровингов правила во Франции в V-VIII вв. Сент-Экзюпери шутливо намекает на пассивность и безынициативность в государственной политике ее представителей, за которыми закрепилось прозвище " королей-ленивцев ". (3) Дерен Андре (1880-1954) - французский художник, принадлежал к направлениям фовизма и кубизма. (4) Лаваль Жозе - лицо неустановленное. (5) ...до этих богом, забытых мест... - Эскадрилья, в которой служил Сент-Экзюпери, базировалась в это время на о. Сардиния. Сергей Зенкин Телеграмма Кертису Хичкоку(1). [6 июня 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна РАЗРЕШАЮ КОНСУЭЛО ВОЗОБНОВИТЬ ДОГОВОР СЪЕМЕ КВАРТИРЫ И НАДЕЮСЬ СКОРО НАПИСАТЬ ВАМ КНИГУ ТЧК СЧАСТЛИВ НЕСМОТРЯ ВОЗРАСТ ВНОВЬ ЛЕТАТЬ КАЧЕСТВЕ ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА ФРАНЦУЗСКОЙ ЭСКАДРИЛЬИ ВХОДЯЩЕЙ СОСТАВ АМЕРИКАНСКОЙ ГРУППЫ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ ТЧК ДУМАЮ ВСЕХ ВАС СЕРДЕЧНО ВАШ АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Хичкок - см. коммент. к с. 108. Сергей Зенкин Письмо Ж. Пелисье. [Тунис, 9-10 июля 1944 г.(1)] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Дорогой Друг, Я здесь на два дня. Мой самолет неисправен. Электропровода перепутались, и все перегорело: стартер, радио и пр. ... Но когда это письмо дойдет до вас, я уже, несомненно, вернусь на свою голубятню. Случайно узнал, что отношения между моей голубятней и Алжиром были почти что прерваны. Так что даже если меня долго не будет,не пересылайте мне мои письма. Они пропадут. И все-таки попробуйте каждый раз дублировать телеграммы. Бесконечно вам благодарен. Возвращаюсь завтра. У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на шесть. Но, разумеется, нынешнюю мою жизнь - завтрак в шесть утра, столовую, палатку или беленную известкой комнату, полеты на высоте десять тысяч метров в запретном для человека мире - я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Собраться с мыслями и работать для себя во временном чистилище я не способен. В нем я утрачиваю общественный смысл. Но я выбрал работу на максимальный износ и, поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятный. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась прежде, чем я истаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее. Само собой, я восхищен моими отважными товарищами по эскадрилье. И тем не менее чудовищно страдаю из-за отсутствия человеческого общения. Все-таки, все-таки Дух - это страшно важно. Когда я ем в столовой, меня всякий раз не оставляет горестное ощущение безвозвратно потерянного времени. Я способен раствориться в любой группе, какой бы она ни была (...). Но никому и в голову не приходит, что мне может недоставать чего-то, кроме кино и женщин, как им. И однако свое я я по большей части затаиваю в молчании. И мне всего не хватает. (...) ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Тунис, 9-10 июля 1944г. - Сент-Экзюпери летал в Тунис на церемонию крещения сына Р. Гавуаля. Сергей Зенкин Пари между Сент-Эксом и его другом полковником Максом Желе(1). [15 июля 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Прямоугольный параллелепипед, высота которого равна диагонали основания, состоит из кубиков со стороной в 1 сантиметр. Площадь прямоугольника основания равна произведению 311 850 на некоторое неизвестное число. Требуется определить высоту параллелепипеда. Если полковник Желе, выпускник Политехнической школы, успеет решить мою задачу за три дня и три бессонные ночи, обязуюсь подарить ему авторучку Паркер 51. Если же он не решит ее за трое суток, то подарит мне шесть пачек сигарет Филип Моррис. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Желе Макс - товарищ Сент-Экзюпери по авиагруппе 2/33 со времен кампании 1940 г. Сергей Зенкин Письмо матери(1). [Борго, июнь 1944 г.(2)] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Мамочка, Мне так хочется, чтобы вы не волновались обо мне и чтобы получили это письмо. У меня все в порядке. Во всем. Грустно только, что так долго не виделся с вами. И я очень тревожусь за час, милая моя старенькая мамочка. В какое несчастное время мы живем! Для меня было ударом узнать, что Диди потеряла свой лом. Ах, мамочка, как бы я хотел ей помочь! Но в будущем пусть она твердо рассчитывает на меня. Когда же наконец будет возможно сказать тем, кого любишь, о своей любви к ним? Мама, поцелуйте меня от всего сердца, как я вас целую. Антуан ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Письмо матери Это последнее письмо Сент-Экзюпери матери дошло до нее лишь год спустя после его гибели, в июле 1945 г. (2) Борго, июль 1944 г. - Эскадрилья, где служил Сент-Экзюпери, 17 июля была перебазирована на о. Корсика. Сергей Зенкин Письмо Пьеру Даллозу(1). [30 или 31 июля 1944 г.] Полевая почта 99027 Перевод: С французского Л.М. Цывьяна Дорогой, дорогой Даллоз, я ужасно огорчен вашим коротким письмецом! На этом континенте вы, безусловно, единственный человек, которого я почитаю таковым. Как бы мне хотелось знать, что вы думаете о нынешних временах! Я, например, предаюсь отчаянию. Полагаю, вы считаете, что я был прав со всех точек и под любым углом зрения(2). Вот что значит добрая слава! Да наставит вас небо опровергнуть меня. Как бы я был счастлив, докажи вы это! Я воюю, что называется, изо всех сил. Я, вне всяких сомнений, - старейшина военных летчиков всего мира. Для одноместных истребителей, на которых я летаю, установлен возрастной предел в тридцать лет. Однажды на высоте десять тысяч метров над озером Анси у меня вышел из строя один мотор, и было это как раз тогда, когда мне исполнилось... сорок четыре года! Я с черепашьей скоростью полз над Альпами, отданный на милость первого встречного немецкого истребителя, и тихонько посмеивался, вспоминая сверхпатриотов, которые запрещают мои книги в Северной Африке. Смешно. После возвращения в эскадрилью (а вернулся я туда чудом) я испытал все, что только возможно. Аварию, обморок из-за неисправности в системе подачи кислорода, погоню истребителей, а однажды в воздухе у меня загорелся мотор. Я не считаю себя скупцом и здоров, как плотник. Это единственное мое утешение! И еще те долгие часы, когда я совсем один лечу над Францией и фотографирую. Все это странно. Здесь я вдали от извержений ненависти, но все-таки, несмотря на благородство товарищей по эскадрилье, что-то в этом есть от нищеты человеческой. Мне совершенно не с кем поговорить. Конечно, это важно - с кем живешь. Но какое духовное одиночество! Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Меня ужасает грядущий муравейник. Ненавижу добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садовником. Обнимаю вас. Сент-Экс ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Даллоз Пьер - журналист и известный спортсмен-альпинист, участник французского Сопротивления. В январе 1944 г. он был переправлен в Англию и работал в заграничных органах Сопротивления в Лондоне и Алжире. Это и следующее письма Сент-Экзюпери - последние, написанные им; они были найдены в его комнате после того, как писатель не вернулся из разведывательного полета 31 июля 1944 г. (2) Полагаю... что я был прав со всех точек и под любым углом рения. Писатель, судя по всему, намекает на трагические события в Веркоре - горном массиве на юге Франции, где в июле 1944 г. немецким войскам удалось разгромить крупное соединение французских партизан. Пьер Даллоз, адресат письма, был одним из инициаторов создания партизанской базы в Веркоре; вину за ее гибель отчасти несло командование "Сражающейся Франции", не оказавшее партизанам своевременной помощи. Сент-Экзюпери, скептически относившийся к де Голлю и его окружению, очевидно, усматривал в этих событиях лишнее подтверждение своим выводам. Сергей Зенкин Письмо Х. [30 июля 1944 г.] Перевод: С французского Л.М. Цывьяна (...) Я четырежды едва не погиб. И это мне до одури безразлично. Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением (...)(1) начхать мне на нее. Осточертели они мне. Здесь война, и я подвергаюсь опасности, самой неприкрытой, самой неприкрашенной, какая только может быть. Опасности в чистом виде. Как-то меня заметили истребители. Я все-таки удрал. Я счел это бесконечно благотворным. Не из спортивного или воинственного восторга: их я не испытываю. А потому что не воспринимаю ничего, кроме качества внутренней сущности. Мне омерзела их фразеология. Омерзела их напыщенность. Омерзела их полемика, и я ничегошеньки не понимаю в их добродетели (...) Добродетель - это значит спасать французское духовное наследие, оставаясь хранителем библиотеки где-нибудь в Карпантра(2). Добродетель - беззащитным лететь на самолете. Обучать детей чтению. Быть простым плотником и пойти на смерть. Они - народ... а я нет. Нет, я тоже принадлежу этой стране. Несчастная страна! (...) Полевая почта 99027 ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Фабрика ненависти, неуважения, которая у них зовется возрождением... - Писатель вновь критикует голлизм, в политике которого он видел искусственное разжигание вражды между французами. (2) Карпантра - старинный город в департаменте Воклюз, на юге Франции. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Письмо заложнику
Антуан де Сент-Экзюпери Письмо заложнику(1) Перевод: С французского Н. Галь I В декабре 1940 года, по дороге в Америку, я проезжал через Португалию, и Лиссабон показался мне каким-то грустным и светлым раем. В ту пору там было много разговоров о неминуемом вторжении, и Португалия судорожно цеплялась за свое призрачное счастье. В Лиссабоне устроили великолепную, невиданной прелести выставку, и столица улыбалась через силу - так улыбается мать, когда нет вестей от сына с войны, стараясь его спасти своей верой: Мой сын жив, ведь я улыбаюсь... Вот и столица Португалии словно говорила: Смотрите, я так безмятежна, я такая мирная и светлая... Весь материк нависал над Португалией, словно угрюмая гора, где рыщут орды хищников, а праздничная столица бросала Европе вызов: Разве можно на меня напасть, ведь я так стараюсь не прятаться! Ведь я так беззащитна!.. У меня на родине города по ночам были серые, как пепел. Я отвык там от света, и при виде сияющего огнями Лиссабона беспокойно и смутно становилось у меня на душе. Когда предместье окутано тьмой, бриллианты в чересчур ярко освещенной витрине привлекают грабителей. Чувствуешь, как они подбираются ближе. Я чувствовал - над Лиссабоном нависает ночь Европы и в ночи кружат стаи бомбардировщиков, точно они издалека почуяли драгоценную добычу. Но Португалия силилась не замечать алчного чудовища. Она не хотела верить зловещим знамениям. Вверяясь самообману отчаяния, она говорила только об искусстве. Неужели ее посмеют раздавить - ее, служительницу искусства? Она извлекла на свет все свои чудеса - неужели ее посмеют раздавить среди таких чудес? Она выставила напоказ своих великих людей. Пусть у нее нет армии, нет пушек - от железа и стали захватчика она заслонилась часовыми из камня: своими поэтами, своими землепроходцами и первооткрывателями. Пусть у нее нет армии, нет пушек - захватчику преградит дорогу ее прошлое. Неужели ее посмеют раздавить - ее, наследницу столь славного прошлого? Каждый вечер я в невеселом раздумье бродил по этой прекрасной выставке; то был образец тончайшего вкуса, все здесь было на грани совершенства, даже музыка - неброская, выбранная с таким тактом, она струилась среди садов мягко, скромно, будто бесхитростная песня родника. Неужели погубят это удивительное чувство гармонии? И через силу улыбающийся Лиссабон казался мне еще грустней моих погасших городов. Я знавал - быть может, знавали и вы - немного странные семьи, где за столом сохраняют место умершего. Здесь отвергают непоправимое. Но мне кажется, этот вызов судьбе не утешает. Надо признать, что мертвые - мертвы. И тогда мы вновь, хоть и по-иному, ощущаем их присутствие. А в таких семьях им мешают возвратиться. Из умерших делают вечных изгнанников, гостей, которые навсегда опоздали к трапезе. Траур здесь променяли на ожидание, лишенное смысла. Мне казалось, такие дома поражены неисцелимым недугом, который душит сильнее, чем горе. О господи, смирился же я и надел траур, когда потерял Гийоме, последнего моего друга (он разбился со своим почтовым самолетом). Гийоме уже не переменится. Никогда больше он меня не навестит, но и не покинет меня никогда. Я пожертвовал бесполезной ловушкой - его прибором за моим столом - и в умершем вновь обрел настоящего друга. А Португалия пыталась верить в счастье, сохраняла его прибор за столом, его праздничные фонарики, его музыку. Лиссабон прикидывался счастливым в надежде, что и господь бог поверит в это счастье. Самый воздух Лиссабона казался еще тягостней из-за иных беженцев. Я говорю не об изгнанниках, которые искали здесь убежища. Не о переселенцах, искавших землю, которую они могли бы возделывать своими руками. Я говорю о тех, кто покинул родину, оставил в беде соотечественников, лишь бы спасти свой кошелек. Мне не удалось поселиться в самом Лиссабоне, и я жил в Эшториле(2), подле казино. Я попал сюда прямо из пекла: девять месяцев подряд моя авиагруппа непрерывно летала над Германией и только за время немецкого наступления потеряла три четверти летного состава. Потом я возвратился на родину, ощутил угрюмую тяжесть неволи и угрозу голода. Я изведал непроглядную ночь, которая придавила наши города. А теперь в двух шагах от меня казино Эшторила каждый вечер наполняли привидения. Неслышные кадиллаки, притворяясь, будто им есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидения красовались в вечерних туалетах, совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины, но то было застолье статистов: им не о чем было говорить. Потом они играли в рулетку или в баккара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов. Теснились поближе к бесстрастному крупье и лезли вон из кожи, лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликованье. Как будто они живые. Играли на состояния, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук. Расплачивались монетой, быть может уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди выдавали векселя на Сириус. Цеплялись за прошлое, словно в последние месяцы ничто в мире не рушилось, и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их надежно обеспечены и договоры заключены навечно. Это было как во сне. Какой-то кукольный театр. И это было грустно. Конечно же, они ничего не способны были ощутить. Я уходил от них. Шел на взморье глотнуть свежего воздуха. И мне казалось, что море Эшторила, курортное прирученное море, тоже участвует в их игре. Оно влачило по заливу одну-единственную вялую волну, и волна сверкала под луной, как шлейф бального платья, совсем не к месту и не ко времени. На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев. И пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их - растения без корней - с одного материка на другой. Я говорил себе: Хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. На родине я научился многому, что будет бесполезно в чужих краях. Но вот эмигранты достают из карманов записные книжки - последние приметы их былой причастности к подлинному миру. Они еще притворяются живыми. Изо всех сил стараются придать себе вес. - Знаете, я такой-то, - говорят они. - Я из такого-то города... Друг такого-то... знакомы вы с таким-то? И рассказывают про какого-нибудь приятеля, или про какие-то свои обязательства, или какой-то промах - про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Но все связи с прошлым распались, ибо эти люди покинули родину. Прошлое еще дышит теплом, оно еще так свежо, так живо - таким бывает вначале воспоминание о любви. Собираешь в пачку письма, полные нежности. Присоединяешь к ним милые сердцу памятки. Заботливо все это перевязываешь. И на первых порах такая святыня источает грустное очарование. А потом пройдет мимо светловолосая девушка с голубыми глазами - и святыня умирает. Ибо и старый приятель, и старые обязательства, и родной город, и память о доме - все выцветает, если ничему больше не служит. И эмигранты это чувствовали. Как Лиссабон прикидывался безмятежным, так они прикидывались, будто верят в скорое возвращение. До чего безобиден уход блудного сына! Уход этот мнимый, ведь позади остался отчий дом. Уходишь ли в другую комнату или на другую сторону планеты, разница не так уж велика. Присутствие друга, который где-то далеко, подчас ощутимей, чем его присутствие во плоти. Такое чувство рождает молитва. Никогда я так не любил родной дом, как в пору, когда очутился в Сахаре. Никогда ни один жених не был ближе к своей нареченной, чем бретонские моряки, что в XVI веке огибали мыс Горн и отдавали свою молодость борьбе со встречным ветром. Едва они уходили в плаванье, для них уже начинался обратный путь. Загрубелыми руками поднимая паруса, они готовили свое возвращение. Самая короткая дорога из бретонской гавани к дому невесты вела вокруг мыса Горн. А вот эмигранты мне казались бретонскими моряками, у которых отняли оставленных в Бретани невест. Любимая уже не засветит для них в окне скромный огонек. Они отнюдь не блудные сыны. У этих блудных детей нет дома, куда можно было бы возвратиться. Вот тут-то и начинаются подлинные скитания - скитания вне собственной души. Как создать себя заново? Как распутать тяжелый клубок воспоминаний? Этот призрачный корабль, словно некое чистилище, нес на себе груз еще не родившихся душ(3). Живыми и подлинными, столь подлинными, что хотелось их коснуться, оставались только те, кто был неотделим от парохода, облагорожен настоящим делом, - кто разносил подносы с едой, драил медяшку, чистил обувь и с чуть заметным презрением обслуживал мертвецов. Команда смотрела на эмигрантов немного свысока вовсе не потому, что те были бедны. Им недоставало не денег, но весомости. Эмигрант уже не был членом такой-то семьи, другом такого-то, человеком с такими-то обязательствами. Каждый еще играл свою роль, но все это была неправда. Никто в них больше не нуждался, никто не ждал от них помощи. Какое чудо - телеграмма, которая переполошит тебя, глубокой ночью поднимет с постели, погонит на вокзал: Приезжай! Ты мне нужен! Друзья, готовые нам помочь, находятся быстро. Куда труднее заслужить друзей, которые ждут помощи от нас. Да, конечно, эти призраки не будили ничьей ненависти и зависти, никто им не докучал. Но никто и не любил их по-настоящему. Я говорил себе: едва они сойдут на берег, их в знак сочувствия засыплют приглашениями на коктейли, на званые обеды. Но кто станет стучаться к ним в дверь, кто потребует: Открой! Это я! Долго надо молоком вскармливать младенца, прежде чем он сам начнет требовать грудь. Долго надо взращивать дружбу, прежде чем друг предъявит на тебя права. Поколение за поколением должно разориться, поддерживая обветшалый замок, который вот-вот рухнет, - тогда лишь научишься его любить. II И я говорил себе: Главное - чтобы где-то сохранялось все, чем ты жил прежде. И обычаи. И семейные праздники. И дом, полный воспоминаний. Главное жить для того, чтобы возвратиться... Я чувствовал: самая суть моя в опасности, оттого что так хрупки далекие магнитные полюсы, без которых я - ничто. Мне грозила опасность узнать доподлинную пустыню, и я начал постигать тайну, которая давно уже меня занимала. Когда-то я прожил три года в Сахаре. И я, как многие другие, пытался постичь, чем же она завораживает и покоряет. Казалось бы, там только и есть, что одиночество и лишения, - но всякий, кому случилось побывать в пустыне, тоскует по тем временам, как по самой счастливой поре своей жизни. Тоска по бескрайним пескам, тоска по одиночеству, тоска по простору - все это лишь слова, литературные штампы, и ничего они не объясняют. А вот здесь, на борту парохода, битком набитого пассажирами, я, кажется, понял, что же такое пустыня. Да, конечно, в Сахаре, сколько хватает глаз, видишь все тот же песок, вернее, обкатанную временем гальку (песчаные дюны там редкость). Там ты вечно погружен в неизменное однообразие скуки. И однако, незримые божества создают вокруг тебя сеть притяжении, путей и примет - потаенную живую мускулатуру. И уже нет однообразия. Явственно определяются знаки и вехи. И даже тишина всякий раз иная. Бывает тишина мирная, когда утихает вражда племен и вечер приносит прохладу, и кажется - ты остановился в безмятежной гавани и спустил паруса. Бывает полуденная тишина, когда под давящим солнцем - ни мысли, ни движения. Бывает тишина обманчивая, когда замирает северный ветер, когда мотыльки и стрекозы - цветочная пыльца, взметенная из глубинных оазисов, - предвещают песчаную бурю с востока. И тишина недобрая, когда узнаешь, что в шатрах дальнего племени зреет заговор. И тишина загадочная, когда между арабами завязываются тайные переговоры. И напряженная тишина, когда ждешь гонца, а он все не возвращается. И пронзительная ночная тишина, в которую вслушиваешься затаив дыхание. И тишина, полная грусти, когда вспоминаешь тех, кого любишь. Все тяготеет к полюсам. Каждая звезда указывает верный путь. Все они звезды волхвов. Каждая служит своему богу. Вон та указывает путь к далекому, почти недостижимому роднику. И даль, что отделяет тебя от того родника, гнетет, точно крепостной вал. А эта указывает на родник, который давно иссяк. И сама эта звезда кажется иссохшей. И в пространстве, отделяющем тебя от пересохшего родника, дороги нет. А вон та звезда привела бы к неведомому оазису, который восхваляли кочевники, но дорога туда заказана: ее преграждают непокорные племена. И пески между тобою и тем оазисом - как заколдованная лужайка из сказки. Еще одна звезда ведет на юг, в белый город, он точно сладостный плод, так и тянет его отведать. А та ведет к морю. И наконец, магнитное поле пустыни порождает безмерно далекие, почти неправдоподобные полюсы: дом твоего детства, который и сегодня живет в памяти; Друг, о котором только и знаешь, что он есть. И ощущаешь себя в силовом поле: есть силы пронизывающие и животворные, они тебя притягивают или отталкивают, льнут к тебе или сопротивляются. И стоишь на земле твердо, уверенно и надежно, в самом средоточии важнейших путей и направлений. Пустыня не дарит осязаемых богатств, здесь ничего не видно и не слышно, а меж тем внутренняя жизнь не слабеет, напротив, становится еще насыщенней, и волей-неволей убеждаешься, что человеком движут прежде всего побуждения, которых глазами не увидишь. Человека ведет дух. В пустыне я стою ровно столько, сколько стоят мои божества. Так вот, если на борту того печального корабля я чувствовал, что богат и еще не утратил живительных связей, и еще не вымерла моя планета, - то лишь потому, что далеко позади, затерянные в ночи, окутавшей Францию, у меня остались друзья, и я начал понимать: без них я не существую. Конечно же, Франция была для меня не бесплотным божеством и не историческим понятием, но живой плотью и опорой моей, сетью связей, которые направляли мою жизнь, системой магнитных полюсов, к которым тяготело мое сердце. И мне необходимо было чувствовать: они защищенной и долговечней, чем я, - те, кто мне нужен, как путеводная звезда, чтобы не сбиться с дороги. Чтобы знать, куда возвратиться. Чтобы не сгинуть. В этих-то людях и умещалась сполна и через них жила во мне моя родина. Так для мореплавателя суша воплощена всего лишь в свете нескольких маяков. По маяку не измеришь расстояния. Просто его свет стоит перед глазами. И в этой путеводной звезде - все чудеса далекой суши. И вот сегодня, когда Франция, теперь уже полностью захваченная врагом, затерялась в безмолвии со всем своим грузом, словно корабль, на котором погашены все огни и неизвестно, уцелеет ли он среди бурь, - сегодня судьба тех, кого я люблю, терзает меня куда сильнее, чем любой одолевающий меня недуг. Оказывается, само бытие мое в опасности оттого, что мои любимые так беззащитны. Тому, о ком так тревожно сегодня ночью твердит мне память, пятьдесят лет. Он болен. И он еврей. Уцелеет ли он среди ужасов немецкой оккупации? Чтобы представить себе, что он еще дышит, мне надо верить: захватчики о нем не подозревают, его укрыла надежная крепость - молчание крестьян приютившей его деревни. Тогда лишь я верю - он еще жив. Тогда лишь, далекий скиталец в необъятных владениях его дружбы, я могу чувствовать себя не эмигрантом, но путешественником. Ибо пустыня совсем не там, где кажется. В Сахаре несравнимо больше жизни, чем в столице, и людный город, полный суеты, - та же пустыня, если утратили силу магнитные полюсы жизни. III Как же творит жизнь то силовое поле, которым мы живы? Откуда она, сила тяготения, которая влечет меня к дому друга? В какие решающие мгновения стал он одним из полюсов, без которых я себя не мыслю? Из каких неуловимых событий сплетаются узы вот такой неповторимой нежности и через нее - любовь к родной стране? Нет, подлинные чудеса не шумны. И самые важные события очень просты. Случай, о котором я хочу рассказать, так неприметен, что мне надо вновь пережить его в воображении, надо говорить с тобою, друг мой. Тот день, незадолго до войны, мы провели на берегу Соны, возле Турню. Позавтракать решили в ресторанчике, дощатая веранда его выступала над рекой. Мы уселись за простой деревянный стол, изрезанный ножами посетителей, и спросили два перно. Врач запретил тебе спиртное, но в особых случаях ты плутовал. А это, конечно, был случай особый. Мы сами не знали почему, но так уж оно было. Мы радовались чему-то столь же неосязаемому, как плоть светового луча. И ты решился выпить праздничный стаканчик перно. А в нескольких шагах от нас два матроса разгружали барку, и мы предложили им выпить с нами. Мы окликнули их сверху, с веранды. И они пришли. Просто взяли и пришли. Так естественно было их позвать - наверно, как раз потому, что в душе у нас, неизвестно отчего, был праздник. Конечно же, они не могли не отозваться. Итак, мы чокнулись! Пригревало солнце. Теплым медом оно омывало тополя на другом берегу и равнину до самого небосклона. Нам становилось все веселей, а почему - бог весть. Но так надежно, без обмана светило солнце и текла река, и трапеза наша была настоящей трапезой, и матросы пришли на зов, и служанка подавала нам так весело, приветливо, словно возглавляла празднество, которому не будет конца. Ничто не нарушало наш покой, от хаоса и смятения нас защищали прочные устои цивилизации. Мы вкусили некоего блаженства, казалось - все мечты сбылись и не осталось желаний, которые можно бы поверять Друг другу. Мы чувствовали себя чистыми, прямодушными, мудрыми и снисходительными. Мы бы не сумели объяснить, что за истина открывалась нам во всей своей очевидности. Но нами владела необычайная уверенность. Уверенность почти гордая. Так сама Вселенная через нас являла свою добрую волю. Уплотнялись звездные туманности, отвердевали планеты, зарождались первые амебы, исполинский труд жизни вел от амебы к человеку - и все так счастливо сошлось, чтобы через нас завершиться этой удивительной радостью. Право же, это настоящая удача. Так мы наслаждались, мы без слов понимали друг друга, и наш пир походил на священнодействие. Служанка, будто жрица, скользила взад и вперед, ее движения убаюкивали нас, мы чокались с матросами, точно исповедовали одну и ту же веру, хоть и не сумели бы ее назвать. Один из матросов был голландец. Другой немец. Когда-то он бежал от нацизма, в Германии его преследовали за то, что он был коммунист, а может быть, троцкист, или католик, или еврей (уже не помню, какой ярлык стал поводом для травли). Но в тот час матроса не определял никакой ярлык. Важна была сущность. Тесто, из которого слеплен человек. Он был просто Друг. И всех нас соединило дружеское согласие. Ты был в согласии с нами со всеми. И я тоже. И матросы, и служанка. О чем мы думали так согласно? О стакане перно? О смысле жизни? О том, какой славный выдался день? Мы бы и это не сумели высказать словами. Но согласие наше было столь полным, столь прочным и глубоким, покоилось на законах столь очевидных в своей сути, хоть их и не вместить в слова, что мы готовы были бы обратить этот деревянный домишко в крепость, и выдержать в нем осаду, и умереть у пулемета, лишь бы спасти эту суть. Какую же суть?.. Вот это как раз и трудно объяснить! Боюсь, что я сумею уловить не главное, а только отблески. Нередко слова бессильны, и, пожалуй, истина ускользнет. Не знаю, поймут ли меня, скажу одно: мы бы охотно пошли в бой, лишь бы спасти нечто в улыбке матросов, и твоей, и моей, и в улыбке служанки, спасти чудо, сотворенное солнцем, которое неустанно трудилось миллионы лет, - и победным завершением его трудов стала эта наша совсем особенная улыбка. Самое важное чаще всего невесомо. Здесь как будто всего важней была улыбка. Часто улыбка и есть главное. Улыбкой благодарят. Улыбкой вознаграждают. Улыбкой дарят тебе жизнь. И есть улыбка, ради которой пойдешь на смерть. Эта особенная улыбка освобождала от гнетущей тоски наших дней, оделяла уверенностью, надеждой и покоем - вот почему, чтобы верней выразить мою мысль, я не могу не рассказать еще об одной улыбке. IV Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны(4). Часа в три ночи я опрометчиво явился безо всякого разрешения на товарную станцию посмотреть, как грузят секретное оружие. В полутьме, в суете погрузки моя дерзость, пожалуй, осталась бы незамеченной. Но я вызвал подозрения у ополченцев-анархистов. Все вышло очень просто. Я и не слыхал, как они, мягко. бесшумно ступая, окружили меня и вот уже обступили вплотную, будто сжалась осторожная рука. Дуло карабина легонько уперлось мне в живот, и молчание показалось мне торжественным. Наконец я догадался поднять руки. Я заметил, что они пристально смотрят не в лицо мне, а на мой галстук (мода анархистского предместья не одобряла подобных украшений). И невольно съежился. Я ждал выстрела - в те времена суд был скорый. Но выстрела не последовало. Несколько мгновений совершенной пустоты, все замерло, только грузчики двигались словно в каком-то неправдоподобном танце, где-то в ином мире... а затем мне кивком велели идти вперед, и мы не спеша зашагали через рельсы сортировочной станции. Меня захватили в полном безмолвии, без единого лишнего движения. Так действуют обитатели морских глубин. Вскоре я очутился в подвале, где размещался теперь сторожевой пост. При чахлом свете убогой керосиновой лампы сидели еще ополченцы и дремали, зажав между колен карабины. Они равнодушно, вполголоса перекинулись несколькими словами с моими провожатыми. Один из них меня обыскал. Я говорю по-испански, но каталанского не знаю. Все же я понял, что у меня спрашивают документы. А я забыл их в гостинице. Я ответил: Гостиница... Журналист... - но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика - мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялся и прислонился к стене. Да, всего отчетливей здесь ощущалась скука. Скука и сопливость. У этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это - подобие человеческих отношений Но меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика, на меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума. Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих? Рассвета? Я говорил себе: Может быть, они ждут, когда захочется есть... И еще я говорил себе: Экая будет глупость! Это же просто нелепо!.. Куда сильней тревоги было во мне другое чувство - отвращение к бессмыслице. Я говорил себе: Сейчас они очнутся, захотят действовать, и меня пристрелят! Грозила ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили? Я знал о них только одно: они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, к какой бы они партии ни принадлежали, преследуют не людей (человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит) - они ищут симптомы. Истина, не согласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин. На кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос - опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность моей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы - сколько мне лет. Возраст - это не шутка! Он вмещает всю твою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, сколько превозмочь горя, столько победить отчаяния, стольких опасностей избегнуть, - а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений, забвения и любви. Твой возраст - какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот благодаря сцеплению многих счастливых случайностей ты чего-то достиг. Тебе уже тридцать семь. И даст бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил себе: Вот к чему я пришел. Мне тридцать семь... Хотелось обременить моих судей столь весомым признанием... Но меня больше ни о чем не спрашивали. И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не знаю отчего, слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо - и, к моему немалому изумлению, тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета. Чудо это не стало развязкой драмы, оно просто рассеяло ее - так свет рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не переменилось. Убогая керосиновая лампа, бумаги, раскиданные на столе, прислонившиеся к стене люди, краски, запахи - все оставалось прежним. И однако, все преобразилось в самой своей сути. Эта улыбка дала мне свободу. Это был знак столь же несомненный, столь же ясно предвещал он череду событий и столь же был необратим, как восход солнца. Он открывал новую эру. Все оставалось по-старому - и все стало иным. Стол с беспорядочно раскиданными бумагами ожил. Ожила керосиновая лампа. Ожили стены. Будто некое волшебство развеяло скуку, которую источала в этом подземелье каждая мелочь. Словно сызнова потекла по жилам незримая кровь, связуя все здесь воедино и всему возвращая смысл. И те, кто был в комнате, не шелохнулись, но еще мгновенье назад они мне казались непостижимо далекими, словно допотопные чудища, - и вот возрождались к жизни близкой и понятной. С необыкновенной остротой я ощутил: все мы люди! Все мы живые! И я им сродни. Юноша, который мне улыбнулся, только что был всего лишь исполнителем, орудием, частицей какого-то чудовищного муравейника - и вот, оказывается, он немного неловок, почти застенчив, и застенчивость эта полна обаяния. Едва ли этот террорист был менее груб, чем любой другой. Но в нем проснулся человек и сразу стало ясно, что где-то в душе он беззащитно мягок! Мы, люди, так часто напускаем на себя неколебимую суровость, но втайне каждый изведал и колебания, и сомнения, и скорбь... Ничего еще не было сказано. И однако, все было решено. Анархист протянул мне сигарету, а я благодарно положил руку ему на плечо. И теперь, когда лед был сломан, другие ополченцы тоже снова стали людьми, и я вступил в круг их улыбок, точно в раскрывшуюся передо мной привольную страну. Я погружался в их улыбки, как когда-то - в улыбки наших спасителей в Сахаре. Товарищи искали нас несколько дней и наконец отыскали, приземлились как можно ближе, и шли к нам широким шагом, и размахивали руками, чтобы мы издалека увидели: они несут нам бурдюки с водой. Улыбка спасителей, когда я терпел аварию, улыбка потерпевших аварию, которых спасал я, тоже вспоминается мне словно родина, где я был безмерно счастлив. Подлинная радость - это радость разделенная. И спасая людей, находишь эту радость. Вода обретает чудодейственную силу, лишь когда она - дар сердца. Заботы, которыми окружают больного, убежище, дарованное изгнаннику, даже прощение вины только тогда и прекрасны, когда праздник этот озаряет улыбка. Улыбка соединяет нас наперекор различиям языков, каст и партий. У меня свои обычаи, у другого свои, но мы исповедуем одну и ту же веру. V И разве эта совсем особенная радость - не самый драгоценный плод нашей культуры? Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом. Воспитанные в духе уважения к человеку, мы превыше всего ценим простые встречи, что превращаются порой в чудесные празднества... Уважение к человеку! Уважение к человеку!.. Вот он, пробный камень! Нацист уважает лишь себе подобных, а значит, он уважает только себя. Он отвергает противоречия - основу созидания, а стало быть, разрушает всякую надежду на движение к совершенству и взамен человека на тысячу лет утверждает муравейник роботов. Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар - преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает. А нам, напротив, кажется, что движение наше к совершенству еще не закончено, что завтрашняя истина питается вчерашними ошибками и преодоление противоречий - единственно плодородная почва, на которой возможен наш рост. Мы признаем своими и тех, кто с нами не схож. Но какое это своеобразное родство! Его основа - не прошлое, ко будущее. Не происхождение, но цель. Друг для друга мы - паломники и долгими разными и трудными путями стремимся к месту встречи. Но вот сегодня уважение к человеку - условие, без которого нет для нас движения вперед, - оказалось б опасности. Катастрофы, сотрясающие ныне мир, погрузили нас во тьму. Перед нами запутанные задачи, и решения их противоречивы. Истина вчерашняя мертва, истину завтрашнего дня надо еще создать. Единого решения, приемлемого для всех, пока не видно, в руках у каждого из нас лишь малая толика истины. Политические верования, которым недостает явной для всех правоты, чтобы утвердиться, прибегают к насилию. Так мы расходимся в выборе средств - и рискуем забыть, что стремимся мы к одной и той же цели. Если путник, взбираясь в гору, слишком занят каждым шагом и забывает сверяться с путеводной звездой, он рискует ее потерять и сбиться с пути. Если он просто переставляет ноги, лишь бы не застыть на месте, он никуда не придет. Прислужника в храме, чересчур озабоченная сбором платы за стулья, рискует позабыть, что она служит богу. Так и я, увлекшись политическими разногласиями, рискую забыть, что политика лишь тогда имеет смысл, когда она помогает раскрыть духовную сущность человека. В счастливые наши часы мы изведали чудо подлинно человеческих отношений - и в них наша истина. Сколь бы жизненно необходимыми ни казались нам наши действия, мы не вправе забывать, во имя чего действуем, иначе действия наши останутся бесплодными. Мы хотим утвердить уважение к человеку. Мы в одном стане - зачем же нам ненавидеть друг друга? Никто из нас не вправе себе одному приписать чистоту помыслов. Во имя пути, который я избрал, я могу отвергнуть путь, избранный другим. Я могу оспаривать ход его мысли. Ход мысли не всегда верен. Но если человек стремится к той же звезде, мой долг - его уважать, ибо мы братья по Духу. Уважение к Человеку! Уважение к Человеку!.. Если в сердцах людей заложено уважение к человеку, люди в конце концов создадут такой общественный, политический или экономический строй, который вознесет это уважение превыше всего. Основа всякой культуры прежде всего - в самом человеке. Прежде всего это - присущая человеку слепая, неодолимая жажда тепла. А затем, ошибаясь снова и снова, человек находит дорогу к огню. VI Вот потому-то, друг мой, мне так нужна твоя дружба. Мне, как глоток воды, необходим товарищ, который, поднимаясь над спорами, рожденными рассудком, уважает во мне паломника, идущего к этому огню. Мне так нужно хоть изредка заранее вкусить обетованного тепла, немного подняться над собой и отдохнуть на высотах, где мы непременно встретимся. Я так устал от словесных распрей, от нетерпимости, от фанатизма! К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, не подчиняясь заповедям какого бы то ни было Корана, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать; с тобой я обретаю душевный мир, как тогда в Турню. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто Человека. Ты чтишь во мне посланца тех верований, привычек и пристрастий, которых, может быть, и не разделяешь. Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю. Ты расспрашиваешь меня, словно путешественника. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли, в тебе я чувствую себя чистым - и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть, вовсе не по моим рассуждениям и поступкам. Нет, ты принимаешь меня таким, какой я есть, и потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть. Зачем мне друг, который меня судит? Если меня навестил друг и если он хромает, я сажаю его за стол, а не требую, чтобы он пустился в пляс. Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится! Мне нужно еще раз сесть с тобою рядом на щелястой деревянной веранде скромной гостиницы на берегу Соны, и позвать к нашему столу двух матросов, и чокнуться с ними в мирном свете улыбки, подобной восходу солнца. Если я еще смогу вернуться в строй, я буду сражаться и за тебя. Ты мне нужен, чтобы тверже верилось: он еще настанет, час той улыбки. Мне нужно помогать тебе жить. Я вижу тебя - ты так слаб, тебе грозит столько опасностей, нелегко тебе в пятьдесят лет, дрожа от холода в изношенном пальтишке, долгие часы стоять в очереди у какой-нибудь убогой лавчонки, чтобы кое-как протянуть еще день. Ты француз до мозга костей, и я знаю, смерть грозит тебе вдвойне: за то, что ты француз, и за то, что ты еврей. Я знаю цену общности, которая отвергает распри. Все мы - Франция, мы ветви одного дерева, и я буду служить твоей истине, как ты служил бы моей. Мы, французы, которые оказались вне Франции, призваны в этой войне освободить из-под ледяной толщи посевы, стынущие под гнетом немецкого нашествия. Мы призваны помочь вам, оставшимся во Франции. Призваны возвратить вам свободу на французской земле, ибо здесь ваши корни, и ваше неотъемлемое право - здесь оставаться. Вас сорок миллионов, и все вы - заложники. Новые истины всегда вызревают под гнетом во мраке подземелий: там, во Франции, в сознании сорока миллионов заложников рождается сейчас новая истина. И мы заранее покоряемся этой истине. Ибо вы укажете нам путь. Не нам нести духовное пламя тем, кто, словно воск свечи, уже питает это пламя всем своим существом. Быть может, вы не станете читать наши книги. Быть может, не станете слушать наши речи. Быть может, отвергнете наши мысли. Сейчас не мы создаем Францию. Мы только можем ей служить. Что бы мы ни делали, мы не вправе ждать благодарности. Не измерить одной мерой свободу битвы и гнет во тьме порабощения. Не измерить одной мерой ремесло солдата и ремесло заложника. Вы - святые. Примечания: (1)Письмо заложнику Обращенное к Л. Верту, письмо первоначально было задумано как предисловие к одной из его книг. Впервые опубликовано частично в канадском франкоязычном журнале "Америк франсез" в марте 1943 г., полностью-отдельным изданием в июне того же года. (2) Эшторил - см. коммент. к с. 92. (3) ...словно некое чистилище, нес на себе груз еще не родившихся душ.Речь идет не о чистилище как таковом, а о лимбе - по католической теологии, области, где пребывают в ожидании Страшного суда души младенцев, умерших до крещения, и праведников, живших до пришествия Христа; не приобщившиеся при жизни к христианству, эти души считаются еще не родившимися. (4) Это случилось в Испании, я там был корреспондентом в дни гражданской войны. - Сент-Экзюпери вспоминает здесь свою первую поездку в охваченную войной Испанию летом 1936 г.Антуан де Сент-Экзюпери «Планета людей»
Анри Гийоме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгуЗемля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги. Ибо земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями. Но для этой борьбы ему нужны орудия. Нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу вырывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет – орудие, которое прокладывает воздушные пути, – приобщает человека к вечным вопросам. Никогда не забуду мой первый ночной полет – это было над Аргентиной, ночь настала темная, лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным – тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей… Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, – быть может, иные и отзовутся.
I. ЛИНИЯ
Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая, еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Эр-Франс», установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Пробные вылеты, перегоны Тулуза – Перпиньян, нудные уроки метеорологии в ангаре, где зуб на зуб не попадал. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на «стариков». «Стариков» мы встречали в ресторане – они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно оделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех, в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс, – и за краткими, скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. «Старики» умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память. Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова; на плечи его все еще давила тяжесть непомерного напряжения. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе, из конца в конец, небо словно гнилое и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи, – так на старинных парусниках срывались с цепей пушки и бороздили палубу, грозя гибелью. Я долго смотрел на Бюри и наконец, сглотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бюри хмуро склонялся над тарелкой, он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову – и рассмеялся. Это было чудесно – Бюри смеялся не часто, этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство: из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона. Наконец однажды вечером вызвали и меня в кабинет начальника. Он сказал коротко: – Завтра вы летите. Я стоял и ждал, что сейчас он меня отпустит. Но он, помолчав, прибавил: – Инструкции хорошо знаете? В те времена моторы были ненадежны, не то что нынешние. Нередко ни с того ни с сего они нас подводили: внезапно оглушал грохот и звон, будто разбивалась вдребезги посуда, – и приходилось идти на посадку, а навстречу щерились колючие скалы Испании. «В этих местах, если мотору пришел конец, пиши пропало – конец и самолету!» – говорили мы. Но самолет можно и заменить. Самое главное – не врезаться в скалу. Поэтому нам, под страхом самого сурового взыскания, запрещалось идти над облаками, если внизу были горы. В случае аварии пилот, снижаясь, мог разбиться о какую-нибудь вершину, скрытую под белой ватой облаков. Вот почему в тот вечер на прощанье медлительный голос еще раз настойчиво внушал мне: – Конечно, это недурно – идти над Испанией по компасу, над морем облаков, это даже красиво, но… И еще медлительнее, с расстановкой: – …но помните, под морем облаков – вечность… И вот мирная, безмятежная гладь, которая открывается взору, когда выходишь из облаков, сразу предстала передо мной в новом свете. Это кроткое спокойствие – западня. Мне уже чудилась огромная белая западня, подстерегающая далеко внизу. Казалось бы, под нею кипит людская суета, шум, неугомонная жизнь городов, – но нет, там тишина еще более полная, чем наверху, покой нерушимый и вечный. Белое вязкое месиво становилось для меня границей, отделяющей бытие от небытия, известное от непостижимого. Теперь я догадывался, что смысл видимого мира постигаешь только через культуру, через знание и свое ремесло. Море облаков знакомо и жителям гор. Но они не видят в нем таинственной завесы. Я вышел от начальника гордый, как мальчишка. С рассветом настанет мой черед, мне доверят пассажиров и африканскую почту. А вдруг я этого не стою? Готов ли я принять на себя такую ответственность? В Испании слишком мало посадочных площадок, – случись хоть небольшая поломка, найду ли я прибежище, сумею ли приземлиться? Я склонялся над картой, как над бесплодной пустыней, и не находил ответа. И вот в преддверии решительной битвы, одолеваемый гордостью и робостью, я пошел к Гийоме. Мой друг Гийоме уже знал эти трассы. Он изучил все хитрости и уловки. Он знает, как покорить Испанию. Пусть он посвятит и меня в свои секреты. Гийоме встретил меня улыбкой. – Я уже слышал новость. Ты доволен? Он достал из стенного шкафа бутылку портвейна, стаканы и, не переставая улыбаться, подошел ко мне. – Такое событие надо спрыснуть. Увидишь, все будет хорошо! От него исходила уверенность, как от лампы – свет. Несколько лет спустя он, мой друг Гийоме, совершил рекордные перелеты с почтой над Кордильерами и Южной Атлантикой. А в тот вечер, сидя под лампой, освещавшей его рубашку, скрещенные руки и улыбку, от которой я сразу воспрянул духом, он сказал просто: – Неприятности у тебя будут – гроза, туман, снег, – без этого не обойтись. А ты рассуждай так: летали же другие, они через это прошли, значит, и я могу. Я все-таки развернул свою карту и попросил его просмотреть со мною маршрут. Наклонился над освещенной картой, оперся на плечо друга – и вновь почувствовал себя спокойно и уверенно, как в школьные годы. Странный то был урок географии! Гийоме не преподносил мне сведения об Испании, он дарил мне ее дружбу. Он не говорил о водных бассейнах, о численности населения и поголовье скота. Он говорил не о Гуадиксе, но о трех апельсиновых деревьях, что растут на краю поля неподалеку от Гуадикса. «Берегись, отметь их на карте…» И с того часа три дерева занимали на моей карте больше места, чем Сьерра-Невада. Он говорил не о Лорке, но о маленькой ферме возле Лорки. О жизни этой фермы. О ее хозяине. И о хозяйке. И эта чета, затерявшаяся на земных просторах за тысячу с лишним километров от нас, безмерно вырастала в моих глазах. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили издалека, словно звезды, – подобно смотрителям маяка эти двое всегда готовы были помочь людям своим огнем. Так мы извлекали из забвения, из невообразимой дали мельчайшие подробности, о которых понятия не имеет ни один географ. Ведь географов занимает только Эбро, чьи воды утоляют жажду больших городов. Но им нет дела до ручейка, что прячется в траве западнее Мотриля, – кормилец и поилец трех десятков полевых цветов. «Берегись этого ручья, он портит поле… Нанеси его тоже на карту». О да, я буду помнить про мотрильскую змейку! Она выглядела так безобидно, своим негромким журчаньем она могла разве что убаюкать нескольких лягушек, но сама она спала вполглаза. Затаясь в траве за сотни и сотни километров отсюда, она подстерегала меня на краю спасительного поля. При первом удобном случае она бы меня превратила в сноп огня… Готов я был и к встрече с драчливыми баранами, которые всегда пасутся вон там, на склоне холма, и, того гляди, бросятся на меня. «Посмотришь – на лугу пусто, и вдруг – бац! – прямо под колеса кидаются все тридцать баранов…» И я изумленно улыбался столь коварной угрозе. Так понемногу Испания на моей карте, под лампой Гийоме, становилась какой-то сказочной страной. Я отмечал крестиками посадочные площадки и опасные ловушки. Отметил фермера на горе и ручеек на лугу. Старательно нанес на карту пастушку с тридцатью баранами, совсем как в песенке, – пастушку, которой пренебрегают географы. Потом я простился с Гийоме, и мне захотелось немного пройтись, подышать морозным вечерним воздухом. Подняв воротник, я шагал среди ничего не подозревающих прохожих, молодой и ретивый. Меня окружали незнакомые люди, и я гордился своей тайной. Они меня не знают, бедняги, а ведь на рассвете с грузом почты они доверят мне свои заботы и душевные порывы. В мои руки предадут свои надежды. И, уткнувшись в воротник, я ходил среди них как защитник и покровитель, а они ничего и ведать не ведали. Им не были внятны и знаки, которые я ловил в ночи. Ведь если где-то зреет снежная буря, которая помешает мне в моем первом полете, от нее, возможно, зависит и моя жизнь. Одна за другой гаснут в небе звезды, но что до этого прохожим? Я один понимал, что это значит. Перед боем мне посылали весть о расположении врага… А между тем эти сигналы, исполненные для меня такого значения, я получал возле ярко освещенных витрин, где сверкали рождественские подарки. Казалось, в ту ночь там были выставлены напоказ все земные блага, – и меня опьяняло горделивое сознание, что я от всего этого отказываюсь. Я воин, и мне грозит опасность, на что мне искристый хрусталь – украшение вечерних пиршеств, что мне абажуры и книги? Меня уже окутывали туманы, – рейсовый пилот, я уже вкусил от горького плода ночных полетов. В три часа меня разбудили. Я распахнул окно, увидел, что на улице дождь, и сосредоточенно, истово оделся. Полчаса спустя я уже сидел, оседлав чемоданчик, на блестящем мокром тротуаре и дожидался автобуса. Сколько товарищей до меня пережили в день посвящения такие же нескончаемые минуты, и у них так же сжималось сердце! Наконец он вывернулся из-за угла, этот допотопный дребезжащий тарантас, и вслед за товарищами настал и мой черед по праву занять место на тесной скамье между невыспавшимся таможенником и двумя или тремя чиновниками. В автобусе пахло затхлой и пыльной канцелярией, старой конторой, где, как в болоте, увязает человеческая жизнь. Через каждые пятьсот метров автобус останавливался и подбирал еще одного письмоводителя, еще одного таможенника или инспектора. Вновь прибывший здоровался, сонные пассажиры бормотали в ответ что-то невнятное, он с грехом пополам втискивался между ними и тоже засыпал. Точно в каком-то унылом обозе, трясло их на неровной тулузской мостовой, и поначалу рейсовый пилот был неотличим от всех этих канцеляристов… Но мимо плыли уличные фонари, приближался аэродром – и старый тряский автобус становился всего лишь серым коконом, из которого человек выйдет преображенным. В жизни каждого товарища было такое утро, и он вот так же чувствовал, что в нем, в подчиненном, которого пока еще может безнаказанно шпынять всякий инспектор, рождается тот, кто скоро будет в ответе за испанскую и африканскую почту, – тот, кто через три часа среди молний примет бой с драконом Оспиталета, а через четыре часа выйдет из этого боя победителем; и тогда он волен будет избрать любой путь – в обход, над морем, или на приступ, напрямик через Алькойский кряж, – он поспорит и с грозой, и с горами, и с океаном. В жизни каждого товарища было такое утро, и он, затерянный в безликой, безымянной кучке людей под хмурым небом зимней Тулузы, вот так же чувствовал, как растет в нем властелин, который через пять часов оставит позади зиму и север, дожди и снега и, уменьшив число оборотов, неторопливо спустится в лето, в залитый ослепительным солнцем Аликанте. Старого автобуса давно уже нет, но он и сейчас жив в моей памяти, жесткий, холодный и неуютный. Он был точно символ непременной подготовки к суровым радостям нашего ремесла. Все здесь было проникнуто строгой сдержанностью. Помню, три года спустя в этом же автобусе (не было сказано и десятка слов) я узнал о гибели Лекривэна, одного из многих наших товарищей, туманным днем или туманной ночью ушедших в отставку навеки. Была такая же рань – три часа ночи, и такая же сонная тишина, как вдруг наш начальник, неразличимый в полутьме, окликнул инспектора: – Лекривэн не приземлился ночью в Касабланке. – А? – отозвался инспектор. Неожиданно вырванный из сна, он с усилием встряхнулся, стараясь показать свой ревностный интерес к службе. – А, что? Ему не удалось пройти? Повернул назад? Из глубины автобуса ответили только: – Нет. Мы ждали, но не услышали больше ни слова. Тяжело падали секунды, и понемногу стало ясно, что после этого «нет» ничего больше и не будет сказано, что это «нет» – жестокий, окончательный приговор: Лекривэн не только не приземлился в Касабланке – он уже никогда и нигде не приземлится. Так в то утро, на заре моего первого почтового рейса, и я, как все мои товарищи по ремеслу, покорялся незыблемому порядку, и смотрел в окно на блестевший под дождем асфальт, в котором отражались огни фонарей, и чувствовал, что не слишком уверен в себе. От ветра по лужам пробегала рябь, похожая на пальмовые ветви. «Да… не очень-то мне везет для первого рейса…» – подумал я. И сказал инспектору: – Погода как будто неважная? Инспектор устало покосился на окно. – Это еще ничего не значит, – проворчал он, помедлив. Как же тогда разобрать, плохая погода или хорошая? Накануне вечером Гийоме одной своей улыбкой уничтожил все недобрые пророчества, которыми угнетали нас «старики», но тут они опять пришли мне на память: «Если пилот не изучил всю трассу назубок да попадет в снежную бурю… одно могу сказать, жаль мне его, беднягу!..» Надо же им было поддержать свой авторитет, вот они и качали головой, и мы смущенно поеживались под их соболезнующими взглядами, чувствуя себя жалкими простачками. И в самом деле, для многих из нас этот автобус оказался последним прибежищем. Сколько их было – шестьдесят? Восемьдесят? Всех ненастным утром вез тот же молчаливый шофер. Я огляделся: в темноте светились огненные точки, каждая то разгоралась, то меркла в такт раздумьям курильщика. Убогие раздумья стареющих чиновников… Скольким из нас эти спутники заменили погребальный кортеж? Я прислушивался к разговорам вполголоса. Говорили о болезнях, о деньгах, поверяли друг другу скучные домашние заботы. За всем этим вставали стены унылой тюрьмы, куда заточили себя эти люди. И вдруг я увидел лик судьбы. Старый чиновник, сосед мой по автобусу, никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий мирок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в своем обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе, ты воздвиг этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немалого труда стоило забыть, что ты – человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространстве, ты не задаешься вопросами, на которые нет ответа: ты просто-напросто обыватель города Тулузы. Никто вовремя не схватил тебя и не удержал, а теперь уже слишком поздно. Глина, из которой ты слеплен, высохла и затвердела, и уже ничто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то. Я уже не в обиде на дождь, что хлещет в окна. Колдовская сила моего ремесла открывает предо мною иной мир: через каких-нибудь два часа я буду сражаться с черными драконами и с горными хребтами, увенчанными гривой синих молний, – и с наступлением ночи, вырвавшись на свободу, проложу свой путь по звездам. Так совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы в глубь наших владений. Сегодня они перестали быть неизведанной стихией. Летчик, бортмеханик и радист уже не пускаются в путь наудачу, самолет для них – лаборатория. Они повинуются не скользящему под крылом ландшафту, а дрожи стрелок. За стенками кабины тонут во мраке горы, – но это уже не горы, это незримые силы, чье приближение надо рассчитать. Радист при свете лампы старательно записывает цифры, механик делает пометки на карте, – и если горы снесло в сторону, если вершины, которые пилот намеревался обойти слева, безмолвно развернулись прямо перед ним, точно вражеская армия в засаде, он попросту выправляет курс. И на земле дежурные радисты, прислушиваясь к голосу товарища, все разом старательно записывают: «0 часов 40 минут. Курс 230. На борту все благополучно». Так странствует в наши дни экипаж воздушного корабля. Он и не замечает, что движется. Словно ночью в море, он далек от каких-либо ориентиров. Но моторы заполняют все непрерывной дрожью, и от этого кабина – уже не просто освещенная комнатка. И время идет. И за всеми этими циферблатами, радиолампами, стрелками действует некая незримая алхимия. Секунда за секундой таинственные жесты, приглушенные слова, сосредоточенное внимание готовят чудо. И в урочный час пилот может уверенно выглянуть наружу. Из Небытия рождается золото, оно сверкает посадочными огнями. И все же с каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, каких не испытал бы и в самом сердце Индии, – и кажется, уже не будет возврата. Так было с Мермозом, когда он впервые пересек на гидроплане Южную Атлантику и под вечер приблизился к Пот-о-Нуар – «котлу тьмы». С каждой минутой перед ним все теснее сходились хвосты ураганов, – словно на глазах воздвигали стену, – потом опустилась ночь и скрыла эти приготовления. А часом позже он вывернулся из-под облаков и очутился в заколдованном царстве. Перед ним вздымались смерчи, они казались неподвижными – черные колонны невиданного храма. Вверху они расширялись, поддерживая низкий, мрачный свод бури, но через проломы в своде падали широкие полосы света, и полная луна сияла меж колонн, отражаясь в холодных плитах вод. И Мермоз пробирался через эти руины, куда не вступала больше ни одна душа, скользил по лунным протокам, среди бакенов света, метивших извилистый фарватер, огибал гигантские гремучие колонны вставшего дыбом океана, – четыре часа шел он к выходу из храма. Это грозное величие ошеломляло, и, лишь когда Пот-о-Нуар остался позади, Мермоз вдруг понял, что даже не успел испугаться. Мне тоже помнятся такие часы, когда покидаешь пределы реального мира: в ту ночь все радиопеленги, посланные с аэродромов Сахары, невероятно искажались и совсем сбили меня и моего радиста Нери с толку. Неожиданно сквозь просвет в тумане под нами блеснула вода, и я круто повернул к берегу, но невозможно было понять, далеко ли мы ушли над морем. Как знать, доберемся ли мы теперь до берега? Может не хватить горючего. И даже если доберемся, надо еще найти посадочную площадку. А меж тем луна уже заходила. Все трудней становилось производить измерения сноса – и мы, уже оглохшие, постепенно слепли. Луна угасала в тумане, словно тлеющий уголь в сугробе. Небо над нами тоже затягивалось облачной пеленой, и мы плыли между облаками и туманом, в тусклой мертвой пустоте. Аэродромы, которые откликались на наш зов, не могли определить, где мы находимся. «Пеленг дать не можем… Пеленг дать не можем…» – повторяли они, потому что наш голос доносился до них отовсюду и ниоткуда. И вдруг, когда мы уже отчаялись, впереди слева на горизонте сверкнула огненная точка. Я неистово обрадовался. Нери наклонился ко мне, и я услышал – он поет! Конечно же это аэродром, конечно же маяк! Ведь больше здесь нечему светить – по ночам вся огромная Сахара погружается во тьму, вся она словно вымирает. Но огонек померцал немного и угас. То была заходящая звезда, всего на несколько минут проглянула она над горизонтом, между облаками и пеленой тумана, и на нее-то мы взяли курс… А потом перед нами вставали еще и еще огни, и мы со смутной надеждой брали курс на каждый новый огонек. И если он не угасал сразу, мы подвергали его испытанию. – Видим огонь, – передавал Нери аэродрому в Сиснеросе. – Трижды погасите и зажгите маяк. Сиснерос гасил и вновь зажигал свой маяк, но не мигал жестокий свет, за которым мы жадно следили, – неподкупная звезда. И хоть горючее все убывало, мы каждый раз попадались на золотой крючок: уж теперь-то впереди настоящий маяк! Уж теперь-то это аэродром – и жизнь!.. И опять мы меняли звезду. Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен недосягаемых планет, и кто знает, как отыскать ту настоящую, ту единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля, и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог… Единственная планета… Я вам расскажу, какая мне тогда привиделась картина, хотя, быть может, вы сочтете это ребячеством. Но ведь и в минуту опасности остаешься человеком со всеми человеческими заботами, и я был голоден и хотел пить. Если только доберемся до Сиснероса, думал я, там наполним баки горючим и снова в путь, и вот рано поутру мы в Касабланке. Дело сделано! Мы с Нери отправимся в город. Иные маленькие бистро на рассвете уже открыты… Мы усядемся за столик, нам подадут свежие рогалики и кофе с молоком, и мы посмеемся над опасностями минувшей ночи. Мы с Нери примем утренние дары жизни. Так старой крестьянке трудно было бы ощутить Бога, не будь у нее яркого образка, наивной ладанки, четок: чтобы мы услыхали, с нами надо говорить простым и понятным языком. Так радость жизни воплотилась для меня в первом глотке ароматного обжигающего напитка, в смеси кофе, молока и пшеницы – в этих узах, что соединяют нас с мирными пастбищами, с экзотическими плантациями и зрелыми нивами, со всей Землей. Среди великого множества звезд лишь одна наполнила этим душистым напитком чашу нашей утренней трапезы, чтобы стать нам ближе и понятнее. Но между нашим воздушным кораблем и той обитаемой планетой ширились неодолимые расстояния. Все богатства мира остались на крохотной песчинке, затерявшейся меж созвездий. И звездочет Нери, пытаясь ее распознать, все еще напрасно заклинал светила. Вдруг он стукнул меня по плечу. За тумаком последовала записка. Я прочел: «Все хорошо, принимаю превосходное сообщение». С бьющимся сердцем я ждал, пока он допишет те несколько слов, которые нас спасут. И вот наконец этот дар небес у меня в руках. К нам обращалась Касабланка, откуда мы вылетели накануне вечером. Послание задержалось в пути и неожиданно настигло нас за две тысячи километров, когда мы плутали где-то над морем, между облаками и туманом. Исходило оно от государственного контролера аэропорта в Касабланке. В радиограмме говорилось: «Господин де Сент-Экзюпери, я вынужден просить Париж наложить на вас взыскание: при вылете из Касабланки вы развернулись слишком близко к ангарам». Да, правда, я развернулся слишком близко к ангарам. Правда и то, что этот человек отчитывал меня просто по долгу службы. И в конторе аэропорта я смиренно выслушал бы выговор. Но там, где он настиг нас, он был неуместен. Дико прозвучал он среди этих редких звезд, в густом тумане, над морем, которое дышало угрозой. Нам вручена была судьба почты и самолета, и наша собственная судьба; нелегкая это была задача – остаться в живых, а тут человек срывал на нас свою мелочную злость. Но мы с Нери ничуть не возмутились – напротив, вдруг повеселели и даже возликовали. Он помог нам сделать открытие: здесь мы сами себе хозяева! Итак, этот капрал не заметил по нашим нашивкам, что нас произвели в капитаны? Он прервал наши думы на полпути от Большой Медведицы к созвездию Стрельца, и стоило ли волноваться по мелочам, когда встревожить нас могло разве что предательство луны… Долг планеты, с которой подал голос этот человек, прямой и единственный ее долг был – сообщить нам точные данные, чтобы мы могли рассчитать свой путь среди светил. И данные эти оказались неверны. А обо всем прочем ей бы пока помолчать. И Нери пишет мне: «Чем валять дурака, лучше бы они нас куда-нибудь привели…» Они – это означало: все население земного шара, все народы с их парламентами и сенатами, с армиями, флотами и императорами. И, перечитывая послание глупца, вздумавшего сводить с нами счеты, мы повернули на Меркурий. Спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду, мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И на беду, в лучшем случае нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что скорее всего мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора. Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нери сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти: «Сиснерос пробует определить, где мы. Сиснерос передает: предположительно двести шестнадцать…» Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался, мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нери наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом – и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нери радировал в ответ: «Горючего осталось на час, продолжаем курс девяносто три». Между тем один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса – Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога: радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот – наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности! И вдруг издалека, за четыре тысячи километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F … ? (Сейчас я уже не помню номер.) – Да. – Тогда в вашем распоряжении горючего еще на два часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос». Так требования ремесла преображают и обогащают мир. Но для того чтобы в привычных картинах летчику открылся новый смысл, ему вовсе не обязательно пережить подобную ночь. Однообразный вид за окном утомляет пассажира, но экипаж смотрит другими глазами. Вон та гряда облаков, встающая на горизонте, для летчика не декорация: она бросит вызов его мускулам и задаст нелегкие задачи. И он уже принимает ее в расчет, измеряет и оценивает, они говорят на одном языке. А вот высится гора, до нее еще далеко, – чем она его встретит? При свете луны она послужит неплохим ориентиром. Но если летишь вслепую, и, уклонясь в сторону, с трудом исправляешь курс, и не знаешь точно, где находишься, тогда эта горная вершина обернется взрывчаткой, наполнит угрозой всю ночь, как одна-единственная мина – игрушка подводных течений – отравляет все море. Иным видится пилоту и океан. Для пассажиров буря остается невидимкой: с высоты незаметно, как вздымаются валы, и залпы водяных брызг кажутся неподвижными. Лишь белеют внизу широко распластанные пальмовые ветви, зубчатые, рассеченные прожилками и словно заиндевелые. Но пилот понимает, что здесь на воду не сядешь. Эти пальмы для него – как огромные ядовитые цветы. И даже если рейс выдался удачный, на своем отрезке трассы пилот не просто зритель. Он не восхищается красками земли и неба, следами ветра на море, позолотой закатных облаков, – он их обдумывает. Точно крестьянин, который, обходя свое поле, по тысяче примет узнает, ждать ли ранней весны, не грянут ли заморозки, будет ли дождь, и пилот тоже предвидит по приметам близкий снегопад, туман или ясную, погожую ночь. Поначалу казалось, самолет отдаляет человека от природы, – но нет, еще повелительней становятся ее законы. Грозовое небо вызывает пилота на суд стихий – и, одинокий, он отстаивает свой груз в споре с тремя изначальными божествами: с горами, морем и бурей.II. ТОВАРИЩИ
1
Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка – Дакар. Моторы тогда были очень ненадежны, Мермоз потерпел аварию и попал в руки мавров; они не решились его убить, две недели держали в плену, потом за выкуп отпустили. И Мермоз снова стал возить почту над теми же районами. Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой; Мермоз и тут был впереди, ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Ему дали самолет с потолком в пять тысяч двести метров. А вершины Кордильер кое-где достигают семи тысяч. И Мермоз пустился на поиски просветов. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развеваются по ветру снежные покрывала; и предгрозовую мглу, что гасит все земные краски; и воздушные потоки, рвущиеся навстречу меж двух отвесных каменных стен с такой яростью, словно вступаешь в драку на ножах. Мермоз начинал бой с неизвестным противником и не знал, можно ли выйти из подобной схватки живым. Мермоз прокладывал дорогу для других. И вот однажды, прокладывая дорогу, он попал к Андам в плен. Ему пришлось сесть на каменную площадку на высоте четырех тысяч метров, края площадки обрывались отвесно, и два дня они с механиком пытались выбраться из этой ловушки. Но безуспешно. Тогда они решились на последнюю отчаянную попытку: самолет разбежался, резко подскочил раз-другой на неровном камне и с края площадки сорвался в бездну. Падая, он набрал наконец скорость и опять стал повиноваться рулям. Мермоз выровнял машину перед каменным барьером и перемахнул через него, но все-таки зацепил верхнюю кромку; проведя в воздухе каких-нибудь семь минут, он вновь попал в аварию: из трубок радиатора, лопнувших ночью на морозе, текла вода; и тут под ним, как земля обетованная, распахнулась чилийская равнина. Назавтра он начал все сначала. Разведав во всех подробностях дорогу через Анды и отработав технику перелета, Мермоз передоверил этот участок трассы своему товарищу Гийоме и взялся за разведку ночи. В то время наши аэродромы еще не освещались, как теперь, и когда Мермоз темной ночью шел на посадку, для него зажигали три жалких бензиновых факела. Он справился и с этим и проложил путь другим. Ночь была приручена, и Мермоз взялся за океан. Уже в 1931 году он впервые доставил почту из Тулузы в Буэнос-Айрес за четверо суток. На обратном пути у него что-то случилось с маслопроводом, и он опустился прямо на бушующие воды Атлантики. Оказавшееся поблизости судно спасло и почту и экипаж. Так Мермоз покорял пески и горы, ночь и море. Не раз пески и горы, ночь и море поглощали его. Но он возвращался – и снова отправлялся в путь. Так проработал он двенадцать лет, и вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что выключает правый мотор. И наступило молчание. Казалось бы, волноваться не из-за чего, но молчание затянулось, прошло десять минут – и все радисты авиалинии, от Парижа до Буэнос-Айреса, стали на тревожную вахту. Ибо если в обыденной жизни десять минут опоздания – пустяк, то для почтового самолета они полны грозного смысла. В этом провале скрыто неведомое событие. Маловажное ли, трагическое ли, оно уже совершилось. Судьба вынесла свой приговор, окончательный и бесповоротный: быть может, жестокая сила всего лишь заставила пилота благополучно опуститься на воду, а быть может, разбила самолет вдребезги. Но тем, кто ждет, приговор не объявлен. Кому из нас не знакома эта надежда, угасающая с каждой минутой, это молчание, которое становится все тяжелее, словно роковой недуг? Сперва мы надеялись, но текли часы, и вот уже слишком поздно. К чему обманывать себя – товарищи не вернутся, они покоятся в глубинах Атлантического океана, над которым столько раз бороздили небо. Сомнений нет, долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой – так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп. Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет, – таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не почувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного. Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго, им, точно часовым на посту, не перемолвиться словом. И только случай порою то здесь, то там вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе после стольких лет вновь за ужином вернешься к прерванной когда-то беседе, и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья. А там и опять в дорогу. Вот почему земля разом и пустынна и богата. Богата потаенными оазисами дружбы – они скрыты от глаз и до них нелегко добраться, но не сегодня, так завтра наше ремесло непременно приводит нас туда. Быть может, жизнь и отрывает нас от товарищей и не дает нам много о них думать, а все равно где-то, бог весть где, они существуют – молчаливые, забытые, но всегда верные! И когда наши дороги сходятся, как они нам рады, как весело нас тормошат! А ждать – ждать мы привыкли… Но рано или поздно узнаешь, что один из друзей замолк навсегда, мы уже не услышим его звонкого смеха, отныне этот оазис недосягаем. Вот тогда настает для нас подлинный траур – не надрывающее душу отчаяние, скорее горечь. Нет, никто никогда не заменит погибшего товарища. Старых друзей наскоро не создашь. Нет сокровища дороже, чем столько общих воспоминаний, столько тяжких часов, пережитых вместе, столько ссор, примирений, душевных порывов. Такая дружба – плод долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, что скоро найдешь приют в его тени. Так устроена жизнь. Сперва мы становимся богаче, ведь много лет мы сажали деревья, но потом настают годы, когда время обращает в прах наши труды и вырубает лес. Один за другим уходят друзья, лишая нас прибежища. И, скорбя об ушедших, втайне еще и грустишь о том, что сам стареешь. Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком. Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства – прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого, – да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить дружбу Мермоза, дружбу товарища, с которым навсегда связали нас пережитые испытания. Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят сто тысяч звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты – всесилен. Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета: деревья, цветы, женщины, улыбки – все расцветила яркими красками жизнь, возвращенная нам вот сейчас, на рассвете, весь согласный хор мелочей нам наградой. Не купить за деньги и ту ночь, которая мне сейчас вспоминается, – ночь в непокоренном районе Сахары. Мы – три самолета компании «Аэропосталь» – застряли под вечер на берегу Рио-де-Оро. Первым сделал вынужденную посадку мой товарищ Ригель – у него заклинило рули; на выручку прилетел другой товарищ, Бурга, однако пустячная поломка и его приковала к земле. Наконец возле них сел я, но к тому времени уже стемнело. Мы решили починить машину Бурга, но не ковыряться впотьмах, а ждать утра. Годом раньше на этом же самом месте потерпели аварию наши товарищи Гурп и Эрабль – и непокоренные мавры их убили. Мы знали, что и сейчас где-то у Бохадора стоит лагерем отряд в триста ружей. Вероятно, издалека увидав, как приземлились наши три самолета, они подняли тревогу, – и эта ночь может стать для нас последней. Итак, мы приготовились к ночному бдению. Вытащили из грузовых кабин несколько ящиков, высыпали багаж, составили ящики в круг и внутри каждого, точно в сторожке, зажгли жалкую свечу, кое-как защищенную от ветра. Так среди пустыни, на обнаженной коре планеты, одинокие, словно на заре времен, мы возвели человеческое поселение. Мы собрались на главной площади нашего поселения, на песчаном пятачке, куда падал из ящиков трепетный свет, и стали ждать. Мы ждали зари, которая принесет нам спасенье, или мавров. И уж не знаю почему, но было в той ночи что-то праздничное, рождественское. Мы делились воспоминаниями, шутили, пели. Мы были слегка возбуждены, как на пиру. А меж тем ничего у нас не было. Только ветер, песок да звезды. Суровая нищета в духе траппистов. Но за этим скудно освещенным столом горстка людей, у которых в целом свете не осталось ничего, кроме воспоминаний, делилась незримыми сокровищами. Наконец-то мы встретились. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности. И тогда мы друг другу опора. Тогда оказывается – все мы члены одного братства. Приобщаешься к думам товарищей и становишься богаче. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря.2
Скажу несколько слов о тебе, Гийоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Не ради этого я хочу рассказать о самом поразительном твоем приключении. Есть такое человеческое качество, для него еще не придумано названия. Быть может, серьезность? Нет, и это неверно. Ведь с ним уживается и улыбка, и веселый нрав. Оно присуще плотнику: как равный становится он лицом к лицу с куском дерева, ощупывает его, измеряет и, чуждый пустой самонадеянности, приступает к работе во всеоружии своих сил и умения. Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гийоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства! Они не знали тебя, Гийоме. Тебе вовсе незачем перед боем поднимать противника на смех. Когда надвигается буря, ты говоришь: «Будет буря». Ты видишь, что тебе предстоит, и готовишься к встрече. Я хорошо помню, как это было, Гийоме, и я свидетельствую. Зимой ты ушел в рейс через Анды – и исчез, пятьдесят часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. Пять дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать два самолета! Казалось, и сотне эскадрилий за сто лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на семь тысяч метров. Мы потеряли всякую надежду. Даже местные контрабандисты, головорезы, которые в долине ради пяти франков идут на любой риск и преступление, и те не решились вести спасательные отряды на штурм этих твердынь. «Нам своя шкура дороже, – говорили они. – Зимой Анды человека живым не выпустят». Когда мы с Деле возвращались в Сантьяго, чилийские должностные лица всякий раз советовали нам отказаться от поисков. «Сейчас зима. Если даже ваш товарищ и не разбился насмерть, до утра он не дожил. Ночь в горах пережить нельзя, она превращает человека в кусок льда». А потом я снова пробирался среди отвесных стен и гигантских столпов Анд, и мне казалось – я уже не ищу тебя, а в безмолвии снежного собора читаю над тобой последнюю молитву. А на седьмой день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул – всего лишь два слова: – Гийоме жив! И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через десять минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой двух механиков – Лефевра и Абри. А еще через сорок минут приземлился на дороге, шестым чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча, мы все плакали, мы душили тебя в объятиях – ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо! Вот тогда ты сказал – и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости: – Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Двое суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под пятиметровым слоем снега,видимости не было никакой – и летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков – они кончались на высоте шести тысяч метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг шести с половиной тысяч – и взял курс на Аргентину. Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает – и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу, и все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру трамплином, – и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает. Словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой. От нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз, а навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. – Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему, – рассказывал ты. – Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними – нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там, в горах. А какие громоздились облака!.. – Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с шести тысяч метров до трех с половиной. Тут я увидел под собой черное плоское пространство, оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я знал, что оно лежит в глубокой котловине и одна ее сторона – вулкан Маипу – поднимается на шесть тысяч девятьсот метров. Хоть я и вырвался из облачности, меня все еще слепили снежные вихри, и, попытайся я уйти от озера, я непременно разбился бы о каменные стены котловины. Я кружил и кружил над ним на высоте тридцати метров, пока не кончилось горючее. Два часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел – и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся – опять сбило. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так двое суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел пять дней и четыре ночи. Но что от тебя осталось, Гийоме! Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился, точно старуха! В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь. Но они не утолили боль. Измученное тело мешало тебе, ты ворочался, и не находил себе места, и никак не мог уснуть. Твое тело не забыло ни скал, ни снегов. Они наложили на тебя свою печать. Лицо твое почернело и опухло, точно перезрелый побитый плод. Ты был страшен и жалок, прекрасные орудия твоего труда – твои руки – одеревенели и отказывались тебе служить; а когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути – бредешь, и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя, – назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие. И нет ему конца. И опять, в который раз, ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я поил тебя всякими целебными снадобьями: – Пей, старик! – И понимаешь, что было самое удивительное… Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось – вот ты идешь в лютый сорокаградусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте четырех с половиной тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь по краю откосов, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь, и силы, и рассудок и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей; возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть; падаешь и вновь поднимаешься, не даешь себе хотя бы краткой передышки – ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь. Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. С каждым мигом ты цепенел, стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха – и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну. – В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, – говорил ты мне. – Идешь два, три, четыре дня – и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать. Но я говорил себе – если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь! И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Ты поразил меня одним признанием: – Понимаешь, уже со второго дня всего трудней было не думать. Уж очень мне стало худо, и положение самое отчаянное. И задумываться об этом нельзя, а то не хватит мужества идти. На беду, голова плохо слушалась, работала без остановки, как турбина. Но мне все-таки удавалось управлять воображением. Я подкидывал ему какой-нибудь фильм или книгу. И фильм или книга разворачивались передо мной полным ходом, картина за картиной. А потом какой-нибудь поворот опять возвращал мысль к действительности. Неминуемо. И тогда я заставлял себя вспоминать что-нибудь другое… Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег – и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире – раз, два, три… а там десятая – и конец. – Я сделал все, что мог, надежды никакой не осталось – чего ради тянуть эту пытку? Довольно было закрыть глаза – и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство: сомкнешь веки, и все пропадает – ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь, точно вол – непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и, словно морфий, наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора. Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя, вернее, они звучали как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков! И ты, скупец, решил у нас отнять радость своего возвращения. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль. – Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если… Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через четыре года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в пятидесяти метрах перед тобой торчит утес. – Я подумал – если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут. А поднявшись на ноги, ты шел еще две ночи и три дня. Но ты вовсе не надеялся уйти далеко. – По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые два часа или около того мне приходилось останавливаться – то еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь: опять я что-нибудь да забыл! Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя, не поднял. Потом забыл часы. Потом перочинный нож. Потом компас. Что ни остановка, то потеря… Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново… – Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Опять мне приходят на память эти слова – я не знаю ничего благороднее, эти слова определяют высокое место человека в мире, в них – его честь и слава, его подлинное величие. Наконец ты засыпал, сознание угасало, но с твоим пробуждением и оно тоже возрождалось и вновь обретало власть над изломанным, измятым, обожженным телом. Так, значит, наше тело лишь послушное орудие, лишь верный слуга. И ты гордишься им, Гийоме, и эту гордость ты тоже сумел вложить в слова: – Я ведь шел голодный, так что, сам понимаешь, на третий день сердце начало сдавать… Ну и вот, ползу я по круче, подо мной – обрыв, пропасть, пробиваю в снегу ямку, чтобы сунуть кулак, и на кулаках повисаю – и вдруг сердце отказывает. То замрет, то опять работает. Да неуверенно, неровно. Чувствую – помешкай оно лишнюю секунду, и я свалюсь. Застыл на месте, прислушиваюсь – как оно там, внутри? Никогда, понимаешь, никогда в полете я так всем нутром не слушал мотор, как в эти минуты – собственное сердце. Все зависело от него. Я его уговариваю – а ну-ка, еще разок! Постарайся еще… Но сердце оказалось первый сорт. Замрет – а потом все равно опять работает… Знал бы ты, как я им гордился! Задыхаясь, ты наконец засыпал. А я сидел там, в Мендосе, у твоей постели и думал: если заговорить с Гийоме о его мужестве, он только пожмет плечами. Но и восхвалять его скромность было бы ложью. Он выше этой заурядной добродетели. А пожмет плечами потому, что умудрен опытом. Он знает – люди, застигнутые катастрофой, уже не боятся. Пугает только неизвестность. Но когда человек уже столкнулся с нею лицом к лицу, она перестает быть неизвестностью. А особенно – если встречаешь ее вот так спокойно и серьезно. Мужество Гийоме рождено прежде всего душевной прямотой. Главное его достоинство не в этом. Его величие – в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых, он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества – ведь они зависят и от его труда. Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир. И таких людей ставят на одну доску с тореадорами или с игроками! Расхваливают их презрение к смерти. А мне плевать на презрение к смерти. Если корни его не в сознании ответственности, оно – лишь свойство нищих духом либо чересчур пылких юнцов. Мне вспоминается один молодой самоубийца. Уж не знаю, какая несчастная любовь толкнула его на это, но он старательно всадил себе пулю в сердце. Не знаю, какому литературному образцу он следовал, натягивая перед этим белые перчатки, но помню – в этом жалком театральном жесте я почувствовал не благородство, а убожество. Итак, за приятными чертами лица, в голове, где должен бы обитать человеческий разум, ничего не было, ровно ничего. Только образ какой-то глупой девчонки, каких на свете великое множество. Эта бессмысленная судьба напомнила мне другую смерть, поистине достойную человека. То был садовник, он говорил мне: – Бывало, знаете, рыхлю заступом землю, а сам обливаюсь потом… Ревматизм мучит, ноги ноют, кляну, бывало, эту каторгу на чем свет стоит. А вот нынче копался бы и копался в земле. Отличное это дело! Так вольно дышится! И потом, кто теперь станет подстригать мои деревья? Он оставлял возделанную землю. Возделанную планету. Узы любви соединяли его со всеми полями и садами, со всеми деревьями нашей земли. Вот кто был ее великодушным, щедрым хозяином и властелином. Вот кто, подобно Гийоме, обладал истинным мужеством, ибо он боролся со смертью во имя Созидания.III. САМОЛЕТ
Не в том суть, Гийоме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхание моторов, опираться на пятнадцать тонн металла; задачи, встающие перед тобой, в конечном счете – задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей. Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, над черной землей возник первый слабый проблеск, первый сноп света. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник – и возвращал тебе жизнь. Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводит в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель. Самолет – не цель, он всего лишь орудие. Такое же орудие, как плуг. Нам кажется, будто машина губит человека, – но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей двести тысяч лет, сто лет истории машины – такая малость! Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом, мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось: взаимоотношения людей, условия труда, обычаи. Да и наш внутренний мир потрясен до самого основания. Хоть и остались слова – разлука, отсутствие, даль, возвращение, – но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем. И нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, – но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку. Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы – скитальцы, мы еще не успели создать себе отчизну. Все мы – молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель, он летит всех выше, всех быстрей. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтоб на захваченных землях поселился колонист! Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу – прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины. И как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали, как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать. Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромней и незаметней. Кажется, будто все труды человека – создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте; словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели наконец первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным – уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившееся из почки, таинственно слитное и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. Машина на пределе своего развития – это уже почти не машина. Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий труда мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, обточенная морем; тем же примечательна и машина – пользуясь ею, постепенно о ней забываешь. Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу. Но сегодня мы уже не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем все ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты. В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается, точно гонг, как удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила, точно дар, переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец мощь его вполне созрела – и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.IV. САМОЛЕТ И ПЛАНЕТА
1
Да, конечно, самолет – машина, но притом какое орудие познания! Это он открыл нам истинное лицо Земли. В самом деле, дороги веками нас обманывали. Мы были точно императрица, пожелавшая посетить своих подданных и посмотреть, довольны ли они ее правлением. Чтобы провести ее, лукавые царедворцы расставили вдоль дороги веселенькие декорации и наняли статистов водить хороводы. Кроме этой тоненькой ниточки, государыня ничего не увидела в своих владениях и не узнала, что на бескрайних равнинах люди умирают с голоду и проклинают ее. Так и мы брели по извилистым дорогам. Они обходят стороной бесплодные земли, скалы и пески; верой и правдой служа человеку, они бегут от родника до родника. Они ведут крестьянина от гумна к пшеничному полю, принимают у хлева едва проснувшийся скот и на рассвете выплескивают его в люцерну. Они соединяют деревню с деревней, потому что деревенские жители не прочь породниться с соседями. А если какая-нибудь дорога и отважится пересечь пустыню, то в поисках передышки будет без конца петлять от оазиса к оазису. И мы обманывались их бесчисленными изгибами, словно утешительной ложью, на пути нам то и дело попадались орошенные земли, плодовые сады, сочные луга, и мы долго видели нашу тюрьму в розовом свете. Мы верили, что планета наша – влажная и мягкая. А потом наше зрение обострилось, и мы сделали жестокое открытие. Самолет научил нас двигаться по прямой. Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим больше от родников и берем курс на дальние цели. Только теперь, с высоты прямолинейного полета, мы открываем истинную основу нашей земли, фундамент из скал, песка и соли, на котором, пробиваясь там и сям, словно мох среди развалин, зацветает жизнь. И вот мы становимся физиками, биологами, мы рассматриваем поросль цивилизаций – они украшают собою долины и кое-где чудом расцветают, словно пышные сады в благодатном климате. Мы смотрим в иллюминатор, как ученый в микроскоп, и судим человека по его месту во Вселенной. Мы заново перечитываем свою историю.2
Когда летишь к Магелланову проливу, немного южнее Рио-Гальегос видишь внизу поток застывшей лавы. Эти остатки давно отбушевавших катаклизмов двадцатиметровой толщей придавили равнину. Дальше пролетаешь над вторым таким потоком, над третьим, а потом идут горушки, бугры высотой в двести метров, и на каждом зияет кратер. Ничего похожего на гордый Везувий: прямо на равнине разинуты жерла гаубиц. Но сегодня здесь мир и тишина. Странным и неуместным кажется это спокойствие вставшей дыбом земли, где когда-то тысячи вулканов, изрыгая пламя, перекликались громовым рокотом подземного органа. А сейчас летишь над безмолвной пустыней, повитой лентами черных ледников. Дальше идут вулканы более древние, их уже одела золотая мурава. Порою в кратере растет дерево, совсем как цветок в старом горшке. Окрашенная светом догорающего дня, равнина больше похожа на великолепный парк с заботливо подстриженным газоном и лишь слегка вздымается вокруг огромных разинутых пастей. Улепетывает заяц, взлетает птица – жизнь завладела новой планетой, небесным телом, которое наконец облеклось доброй плотью земли. Незадолго до Пунта-Аренас последние кратеры сходят на нет. Горбы вулканов почти незаметны под ровным покровом зелени, все изгибы спокойны и плавны. Каждую щель затянула эта мягкая ткань. Почва ровная, склоны пологие, и уже не помнишь об их происхождении. Зелень трав стирает с холмов мрачные приметы. И вот самый южный город на свете, он возник благодаря случайной горстке грязи, что скопилась меж древней застывшей лавой и южными льдами. Здесь, совсем рядом с этими черными потоками, особенно остро ощущаешь, какое это чудо – человек. Редкостная удача! Бог весть как, бог весть почему этот странник забрел в сады, которые словно только его и ждали, в сады, где жизнь возможна лишь одну геологическую эпоху – краткий срок, мимолетный праздник среди нескончаемых будней. Я приземлился в тихий теплый вечер. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана и гляжу на девушек. Они прелестны, и в двух шагах от них еще острее чувствуешь: непостижимое существо человек. В нашем мире все живое тяготеет к себе подобному, даже цветы, клонясь под ветром, смешиваются с другими цветами, лебедю знакомы все лебеди – и только люди замыкаются в одиночестве. Как отдаляет нас друг от друга наш внутренний мир! Между мною и этой девушкой стоят ее мечты – как одолеть такую преграду? Что могу я знать о девушке, которая неспешно возвращается домой, опустив глаза и улыбаясь про себя, поглощенная милыми выдумками и небылицами? Из невысказанных мыслей возлюбленного, из его слов и его молчания она умудрилась создать собственное королевство, и отныне для нее все другие люди – просто варвары. Я знаю, она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах. Лишь вчера рожденная вулканами, зелеными лужайками или соленой морской волной, она уже почти божество. Пунта-Аренас! Прислоняюсь к камням фонтана. Старухи приходят сюда набрать воды; их удел – тяжелая работа, только это я и узнаю об их судьбе. Откинувшись к стене, безмолвными слезами плачет ребенок; только это я о нем и запомню: славный малыш, навеки безутешный. Я чужой. Я ничего о них не знаю. Мне нет доступа в их владения. До чего скупы декорации, среди которых развертывается многоликая игра человеческой вражды, и дружбы, и радостей! Волей случая люди брошены на еще не остывшую лаву, и уже надвигаются на них грозные пески и снега, – откуда же у них эта тяга к вечности? Ведь их цивилизация – лишь хрупкая позолота: заговорит вулкан, нахлынет море, дохнет песчаная буря – и они сгинут без следа. Этот город, видно, раскинулся на щедрой земле, полагают, что слой почвы здесь глубокий, как в Бос. И люди забывают, что здесь, как и повсюду, жизнь – это роскошь, что нет на планете такого места, где земля у нас под ногами и впрямь лежала бы толстым слоем. Но в десяти километрах от Пунта-Аренас я знаю пруд, который наглядно это показывает. Окаймленный чахлыми деревцами и приземистыми домишками, он неказист, точно лужа посреди крестьянского двора, но вот что непостижимо – в нем существуют приливы и отливы. Все вокруг так мирно и обыденно, шуршат камыши, играют дети, а пруд подчиняется иным законам, и ни днем ни ночью не замирает его медленное дыхание. Недвижная сонная гладь, единственная ветхая лодка, а под всем этим – воды, покорные влиянию луны. Их черные глуби живут одной жизнью с морем. Окрест, до самого Магелланова пролива, под тонкой пленкой трав и цветов все причудливо связано, все смешивается и переливается. И вот – город, кажется, он надежно построен на обжитой земле, и здесь ты дома, – а у самого порога, в луже шириной едва в сотню метров, бьется пульс моря.3
Мы живем на планете-страннице. Порой благодаря самолету мы узнаем что-то новое о ее прошлом: связь лужи с луной изобличает скрытое родство – но я встречал и другие приметы. Пролетая над побережьем Сахары, между Кап-Джуби и Сиснеросом, тут и там видишь своеобразные плоскогорья от нескольких сот шагов до тридцати километров в поперечнике, похожие на усеченные конусы. Примечательно, что все они одной высоты – триста метров. Одинаковы их уровень, их окраска (они состоят из тех же пород), одинаково круты их склоны. Точно колонны, которые, возвышаясь над песками, еще очерчивают тень давно рухнувшего храма, эти столбы свидетельствуют, что некогда здесь простиралось, соединяя их, одно огромное плоскогорье. Воздушное сообщение между Касабланкой и Дакаром только еще начиналось, наши машины были в те годы хрупки и ненадежны – и, когда мы терпели аварию или вылетали на поиски товарищей или на выручку, нередко нам приходилось садиться в непокоренных районах. А песок обманчив: понадеешься на его плотность – и увязнешь. Что до древних солончаков, с виду они тверды, как асфальт, и гулко звенят под ногой, но зачастую не выдерживают тяжести колес. Белая корка соли проламывается – и оказываешься в черной зловонной трясине. Вот почему, когда было возможно, мы предпочитали гладкую поверхность этих плоскогорий – здесь-то не скрывалось никакой западни. Порукой тому был слежавшийся крупный и тяжелый песок – громадные залежи мельчайших ракушек. На поверхности плоскогорий они сохранились в целости, а дальше вглубь – это видно было по срезу – все больше дробились и спрессовывались. В самых древних пластах, в основании массива, уже образовался чистейший известняк. И вот в ту пору, когда надо было выручать из плена наших товарищей Рена и Серра, захваченных непокорными племенами, я доставил на такое плоскогорье мавра, посланного для переговоров, и, прежде чем улететь, стал вместе с ним искать, где бы ему сойти вниз. Но со всех сторон наша площадка отвесно обрывалась в бездну круто ниспадающими складками, точно тяжелый каменный занавес. Спуститься было немыслимо. Надо было лететь, искать более подходящее место, но я замешкался. Быть может, это ребячество, но так радостно ощущать под ногами землю, по которой ни разу еще не ступали ни человек, ни животное. Ни один араб не взял бы приступом эту твердыню. Ни один европейский исследователь еще не бывал здесь. Я мерил шагами девственный, с начала времен не тронутый песок. Я первый пересыпал в ладонях, как бесценное золото, раздробленные в пыль ракушки. Первым я нарушил здесь молчание. На этой полярной льдине, которая от века не взрастила ни единой былинки, я, словно занесенное ветрами семя, оказался первым свидетельством жизни. В небе уже мерцала звезда, я поднял к ней глаза. Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил. Незапятнанно чистая скатерть, разостланная под чистыми небесами. И вдруг сердце у меня замерло, словно на пороге необычайного открытия: на этой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, чернел камень. Под ногами лежала трехсотметровая толща спрессованных ракушек. Этот сплошной гигантский пласт был как самый неопровержимый довод: здесь нет и не может быть никаких камней. Если и дремлют там, глубоко под землей, кремни – плод медленных превращений, совершающихся в недрах планеты, – каким чудом один из них могло вынести на эту нетронутую поверхность? С бьющимся сердцем я подобрал находку – плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза. На скатерть, разостланную под яблоней, может упасть только яблоко, на скатерть, разостланную под звездами, может падать только звездная пыль, – никогда ни один метеорит не показывал так ясно, откуда он родом. И естественно, подняв голову, я подумал, что небесная яблоня должна была уронить и еще плоды. И я найду их там, где они упали, – ведь сотни и тысячи лет ничто не могло их потревожить. И ведь не могли они раствориться в этом песке. Я тотчас пустился на поиски, чтобы проверить догадку. Она оказалась верна. Я подбирал камень за камнем, примерно по одному на гектар. Все они были точно капли застывшей лавы. Все тверды, как черный алмаз. И в краткие минуты, когда я замер на вершине своего звездного дождемера, предо мною словно разом пролился этот длившийся тысячелетия огненный ливень.4
Но всего чудесней, что там, на выгнутой спине нашей планеты, между намагниченной скатертью и звездами, поднялся человеческий разум, в котором мог отразиться, как в зеркале, этот огненный дождь. Среди извечных напластований мертвой материи человеческое раздумье – чудо. А они приходили, раздумья… Однажды авария забросила меня в сердце песчаной пустыни, и я дожидался рассвета. Склоны дюн, обращенные к луне, сверкали золотом, а противоположные склоны оставались темными до самого гребня, где тонкая, четкая линия разделяла свет и тень. На этой пустынной верфи, исполосованной мраком и луной, царила тишина прерванных на час работ, а быть может, безмолвие капкана, – и в этой тишине я уснул. Очнувшись, я увидел один лишь водоем ночного неба, потому что лежал я на гребне дюны, раскинув руки, лицом к этому живозвездному садку. Я еще не понимал, что за глубины мне открылись, между ними и мною не было ни корня, за который можно бы ухватиться, ни крыши, ни ветви дерева, и уже во власти головокружения я чувствовал, что неудержимо падаю, стремительно погружаюсь в пучину. Но нет, я не падал. Оказалось, весь я с головы до пят привязан к земле. И, странно умиротворенный, я предавался ей всею своей тяжестью. Сила тяготения показалась мне всемогущей, как любовь. Всем телом я чувствовал – земля подпирает меня, поддерживает, несет сквозь бескрайнюю ночь. Оказалось – моя собственная тяжесть прижимает меня к планете, как на крутом вираже всей тяжестью вжимаешься в кабину, и я наслаждался этой великолепной опорой, такой прочной, такой надежной, и угадывал под собой выгнутую палубу моего корабля. Я так ясно ощущал это движение в пространстве, что ничуть не удивился бы, услыхав из недр земли жалобный голос вещества, мучимого непривычным усилием, стон дряхлого парусника, входящего в гавань, пронзительный скрип перегруженной баржи. Но земные толщи хранили безмолвие. Но плечами я ощущал силу притяжения – все ту же, гармоничную, неизменную, данную на века. Да, я неотделим от родной планеты – так гребцы затонувшей галеры, прикованные к месту свинцовым грузом, навеки остаются на дне морском. Затерянный в пустыне, окруженный опасностями, беззащитный среди песков и звезд, отрезанный от магнитных полюсов моей жизни немыми далями, раздумывал я над своей судьбой. Я знал: на то, чтоб возвратиться к этим животворным полюсам, если только меня не разыщет какой-нибудь самолет и не прикончат завтра мавры, уйдут долгие дни, недели и месяцы. Здесь у меня не оставалось ничего. Всего лишь смертный, заблудившийся среди песков и звезд, я сознавал, что обладаю только одной радостью – дышать… Зато вдоволь было снов наяву. Они прихлынули неслышно, как воды родника, и сперва я не понял, откуда она, эта охватившая меня нега. Ни голосов, ни видений, только чувство, что рядом кто-то есть, близкий и родной друг, и вот сейчас, сейчас я его узнаю. А потом я понял – и, закрыв глаза, отдался колдовству памяти. Был где-то парк, густо заросший темными елями и липами, и старый дом, дорогой моему сердцу. Что за важность, близок он или далек, что за важность, если он и не может ни укрыть меня, ни обогреть, ибо здесь он только греза: он существует – и этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность. Я уже не безымянное тело, выброшенное на берег, я обретаю себя – в этом доме я родился, память моя полна его запахами, прохладой его прихожих, голосами, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек в лужах – и то донеслось до меня. Мне так нужны были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат возникает в пустыне чувство одиночества, чтобы постичь смысл ее молчания, возникающего из бесчисленных молчаний, когда не слышно даже лягушек. Нет, я уже не витал меж песков и звезд. Эта застывшая декорация больше ничего мне не говорила. И даже ощущение вечности, оказывается, исходило совсем не от нее. Передо мною вновь предстали почтенные шкафы старого дома. За приоткрытыми дверцами высились снеговые горы простынь. Там хранилась снеговая прохлада. Старушка домоправительница семенила, как мышь, от шкафа к шкафу, неутомимо проверяла выстиранное белье, раскладывала, складывала, пересчитывала. «Вот несчастье!» – восклицала она, заметив малейший признак обветшания, – ведь это грозило незыблемости всего дома! – и сейчас же подсаживалась к лампе и, не жалея глаз, заботливо штопала и латала эти алтарные покровы, эти трехмачтовые паруса, неутомимая в своем служении чему-то великому – уж не знаю, какому богу или кораблю. Да, конечно, я должен посвятить тебе страницу, мадемуазель. Возвращаясь из первых своих путешествий, я всегда заставал тебя с иглой в руке, год от года у тебя прибавлялось морщин и седин, но ты все так же утопала по колена в белых покровах, все так же своими руками готовила простыни без складок для наших постелей и скатерти без морщинки для нашего стола, для праздников хрусталя и света. Я приходил в бельевую, усаживался напротив и пытался тебя взволновать, открыть тебе глаза на огромный мир, пытался совратить тебя рассказами о своих приключениях, о смертельных опасностях. А ты говорила, что я ничуть не переменился. Ведь я и мальчуганом вечно приходил домой в изорванной рубашке («Вот несчастье!») и с ободранными коленками, и по вечерам надо было меня утешать, совсем как сегодня. Да нет же, нет, мадемуазель! Я возвращаюсь уже не из дальнего уголка парка, но с края света и приношу с собой дыхание песчаных вихрей, терпкий запах нелюдимых далей, ослепительное сияние тропической луны! Ну конечно, говорила ты, мальчики всегда носятся как угорелые, ломают руки и ноги и еще воображают себя героями. Да нет же, нет, мадемуазель, я заглянул далеко за пределы нашего парка! Знала бы ты, как мала, как ничтожна его сень. Ее и не заметишь на огромной планете, среди песков и скал, среди болот и девственных лесов. А знаешь ли ты, что есть края, где люди при встрече мигом вскидывают ружье? Знаешь ли ты, мадемуазель, что есть на свете пустыни, там ледяными ночами я спал под открытым небом, без кровати, без простынь… – Вот дикарь! – говорила ты. Как я ни старался, она оставалась тверда и непоколебима в своей вере, точно церковный служка. И мне грустно было, что жалкая участь делает ее слепой и глухой… Но в ту ночь в Сахаре, беззащитный среди песков и звезд, я оценил ее по достоинству. Не знаю, что со мной творится. В небе столько звезд-магнитов, а сила тяготения привязывает меня к земле. И есть еще иное тяготение, оно возвращает меня к самому себе. Я чувствую, ко многому притягивает меня моя собственная тяжесть! Мои грезы куда реальнее, чем эти дюны, чем луна, чем все эти достоверности. Да, не в том чудо, что дом укрывает нас и греет, что эти стены – наши. Чудо в том, что незаметно он передает нам запасы нежности – и она образует в сердце, в самой его глубине, неведомые пласты, где, точно воды родника, рождаются грезы… Сахара моя, Сахара, вот и тебя всю заворожила старая пряха!V. ОАЗИС
Я уже столько говорил вам о пустыне, что, прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром – он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник – города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны и, словно кровеносные сосуды, питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера – и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы – пленник лужайки посреди уснувшего парка. Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порою скрывается больше тайн, чем за Китайской стеной, и молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий оазис. Расскажу об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине, близ Конкордии, но могло быть и где-нибудь еще: мир полон чудес. Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком «форде» не было ничего примечательного. – Вы у нас переночуете… И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом! Приземистая глыба, почти крепость. Но, едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок, приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священная обитель. Тотчас появились две девушки. Они испытующе оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство; младшая, чуть надув губы, постучала о пол свежесрезанным прутиком; нас представили друг другу, девушки молча и словно бы с вызовом подали мне руку – и скрылись. Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна. – Да-да, они у нас дикарки, – только и сказал отец. И мы вошли в дом. Мне всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает нос из каждой щелки мостовой, – лазутчица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом, она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился. Ибо все здесь обветшало и оттого было полно обаяния, точно старое замшелое дерево со стволом, потрескавшимся от времени, точно садовая скамья, куда приходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и дверей изъел древоточец, стулья колченогие… Чинить здесь ничего не чинили, зато пеклись о чистоте. Все было вымыто, надраено, все так и сверкало. И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок – все было великолепно, а лучше всего паркет: кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой, точно зыбкие мостки, но притом, навощенный, натертый, сиял как зеркало. Занятный дом, к нему нельзя было отнестись со снисходительной небрежностью, напротив – он внушал величайшее уважение. Уж конечно, каждый год вносил новую черточку в его сложный и странный облик, прибавлял ему очарования, тепла и дружелюбия, а кстати прибавлялось и опасностей, подстерегавших на пути из гостиной в столовую. – Осторожно! В полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дыра, это уж время постаралось. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили: «Дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но…» Не говорили также, хоть это была чистая правда: «Город сдал нам этот дом на тридцать лет. Город и должен чинить. Посмотрим, чья возьмет…» До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком: – Да-да, обветшало немножко… Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите – в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянет со своими святотатственными орудиями артель каменщиков, плотников, краснодеревцев, штукатуров и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости, и вот вы – как в гостях. Не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами – не дом, а приемная в мэрии! Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки! Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика – и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, прадедушкины счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезные, поневоле начинаешь думать да гадать, для чего они, и уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет. – Не угодно ли пожаловать к столу? Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхал разлитый повсюду, точно ладан, запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые старинные лампы, их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства, и от них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы водворялись на место, и островки света застывали неподвижно, а вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево. Вновь появились обе девушки – так же таинственно, так же безмолвно, какпрежде исчезли. И с важностью сели за стол. Они, верно, успели накормить своих собак и птиц. Распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они краешком глаза втихомолку следили за мной и примеривались – стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, будто в новом земном раю. Девушки обращали всех живых тварей в своих подданных, завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки – и все, от мангусты до пчел, их заслушивались. И я ждал – вот сейчас эти две проказницы, беспощадным зорким взглядом насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор – скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые посетившим нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихала, вдруг звонко раздавалось: – Одиннадцать! И всей прелестью этой цифры наслаждались только сестры да я. Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытные. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных, по походке своей лисы понимали, хорошо она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах. Я любовался этой зоркой, строгой и чистой юностью, но было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить «одиннадцать», я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя. Тут не помогла бы даже лесть – тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость: они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла, ведь и это не для робких – забраться на вершину платана только затем, чтоб поглядеть, оперились ли птенцы, и дружески с ними поздороваться. Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной, так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступило молчание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно. Тогда младшая, видимо, удовлетворенная экзаменом, все же не преминула еще разок меня испытать; впиваясь в кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки, она пояснила невиннейшим тоном – конечно же в надежде меня ошеломить, окажись я все-таки недостойным варваром: – Это гадюки. И умолкла очень довольная, явно полагая, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрый, как молния, взгляд, оценивая мое первое движение; тотчас обе как ни в чем не бывало склонились над тарелками, и лица у них были уж такие кроткие, такие простодушные… У меня поневоле вырвалось: – Ах вон что… гадюки… Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икр – и это, оказывается, гадюки… На свое счастье, я улыбнулся. И притом от души – притворная улыбка их бы не провела. Но я улыбнулся потому, что мне было весело и этот дом с каждой минутой все больше мне нравился, и еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь: – Под столом в полу дыра, тут они и живут. – И к десяти вечера возвращаются домой, – прибавила младшая. – А днем они охотятся. Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко – живой лукавый ум, затаенная усмешка. И это великолепное сознание своей власти… Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко. Что стало с моими двумя феями? Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг – прощанье с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настает день – и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь «девятнадцать». Этот высший балл – точно груз на сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван. И неизменно проницательный взор впервые обманывается – и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта. Верят, что ему по душе ветхий, дырявый паркет, верят, что он любит мангуст. Верят, что ему лестно доверие гадюки, прогуливающейся под столом у него по ногам. Отдают ему свое сердце – дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны. И болван уводит принцессу в рабство.VI. В ПУСТЫНЕ
1
На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках: пленники песков, мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и не часто попадали вновь на то же место. Здесь, в пустыне, таких оазисов не встретишь: сады, молодые девушки – это просто сказка! Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке, среди своих книг и ручных мангуст, они терпеливо ждут, и все утонченней становятся их нежные души. И сами они становятся все краше… Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди камня и песка гаснет молодость, – но чудится, что там, вдалеке, стареет весь мир. На деревьях налились плоды, в полях всколосились хлеба, расцвела красота женщин. Но время уходит, надо бы скорее возвратиться… Но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой… И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок дюн. Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени, нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Мы – как пассажир скорого поезда: оглушенный перестуком колес, он мчится сквозь ночь и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края, – но все неудержимо, все пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка, ветер свистал в ушах, и все чудилось, что мы еще в пути. И казалось, нас тоже, наперекор всем ветрам, уносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца. В довершение всего, пустыня – это еще и непокорные племена. По ночам в Кап-Джуби каждую четверть часа, точно бой башенных часов, тишину разрывали громкие голоса: от поста к посту перекликались часовые. Так испанский форт Кап-Джуби, затерянный среди непокорных племен, защищался от таящихся во тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали, как перекликаются часовые – и голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки. И все же мы любили пустыню. На первых порах вся она – только пустота и безмолвие, но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она – родина. Или вот рядом с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам уставу, – ведь он все равно что в пустынях Тибета, к нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в его келью? Она пуста. Царство человечье внутри нас. Так и пустыня – это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках… Но вот сегодня нас измучила жажда. И только сегодня мы делаем открытие: от колодца, о котором мы давно знали, все светится окрест. Так женщина, не показываясь на глаза, преображает все в доме. Колодец ощущаешь издали, как любовь. Сначала пески для нас просто пустыня, но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков. Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара – это мы сами. Чтобы понять Сахару, мало побывать в оазисе, надо поверить в воду, как в Бога.2
Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем – Ригель, Гийоме и я – мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуакшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил, точно узник, старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно. – Это ведь не шутка – когда можешь поговорить с людьми… Это не шутка! Да, мы видели, что это не шутка: он плакал. – За полгода вы – первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан… Мы еще не успели опомниться. В двух часах лету от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком сержантом, и он плачет от радости. – Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте, в тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина! Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал: – В последний раз и чокнуться-то было нечем… Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили. Чокнуться! Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался в даль – быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд… Но вина не осталось, нечем отметить праздник. Нечем чокнуться. И некуда деваться от позора… – Я так хочу, чтоб он поскорей вернулся. Так его жду… – А где он, сержант? Сержант кивает на пески: – Кто знает? Наш капитан – он везде! И настала ночь, мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть было не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете, только теперь они оставались на своих местах. В полете, если ночь уж очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет понемногу начинает крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безбрежных просторов Сахары взяться рыбачьим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности. Потихоньку выравниваешь самолет. И селение возвращается на место. Будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездие. Селение? Да. Селение звезд. Но отсюда, с высоты форта, видна лишь застывшая, словно морозом схваченная пустыня, песчаные волны недвижны. Созвездия все развешаны по местам. И сержант говорит: – Вы не думайте, уж я знаю, что где… Держи прямо вон на ту звезду – и придешь в Тунис. – А ты из Туниса? – Нет. Там у меня сестренка троюродная. Долгое, долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть: – Когда-нибудь возьму да и махну в Тунис. Конечно, не просто пешком, держа вон на ту звезду. Разве что когда-нибудь в походе, у пересохшего колодца, им завладеет самозабвение бреда. Тогда все перепутается – звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения. – Один раз я попросил у капитана увольнительную – надо, мол, съездить в Тунис, проведать сестренку. А капитан и говорит… – Что же? – На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко. – И красивая у тебя сестренка? – Которая в Тунисе? Еще бы! Беленькая такая. – Нет, а другая, в Дакаре? Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально и немножко обиженно ты ответил: – Она была негритянка… Что для тебя Сахара, сержант? Ежечасное ожидание божества. И сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками, там, за тысячи километров. А для нас? Для нас пустыня – то, что рождалось в нас самих. То, что мы узнавали о себе. В ту ночь и мы были влюблены в далекую девушку и в капитана…3
Порт-Этьен, стоящий на рубеже непокоренных земель, городом не назовешь. Там только и есть что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный, малолюдный Порт-Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера Порт-Этьену угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан – комендант форта – показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта, пески всасывают его, точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздает нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность – самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом – с безмолвием пустыни. Люка, начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, и здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде. В тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции, за четыре тысячи километров, ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика, и мы легонько поглаживаем их пальцем, точно драгоценность. Капитан называет их «мой парк». И едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал. Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается оклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет, потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса пустыни. Пустыня перестала быть нежилым домом: караван – как магнит в ночи. Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так! Что только нам не грозит – болезнь, катастрофа, неприятель! Человек на нашей планете – мишень для подстерегающих в засаде стрелков. И сенегалец-часовой, словно пророк, напоминает нам об этом. – Французы! – откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно. Когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком… Да, конечно, она еще далека, еще приглушена и скрыта этими бескрайними песками, и, однако, весь мир уже не тот. Пустыня снова предстает во всем своем великолепии. Вражеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, окружает ее ореолом величия. Одиннадцать часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В ноль часов десять минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреюсь перед щербатым зеркальцем. Время от времени, с мохнатым полотенцем вокруг шеи, подхожу к двери и оглядываю нескончаемые пески; ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаюсь к зеркалу. Раздумываю. Когда стихает ветер, что дул месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться: аварийные фонарики привязаны к поясу, планшет и карандаши при мне. Иду к Нери, сегодня ночью он у меня радистом. Он тоже бреется. «Ну, как?» – спрашиваю. Пока все в порядке. Это вступление – самая несложная часть полета. Но тут я слышу – что-то потрескивает: о мой фонарик бьется стрекоза. И почему-то екнуло сердце. Снова выхожу и смотрю – ночь ясна. Скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая, нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот о мой фонарик ударяются зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне всколыхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение – еще смутное, едва уловимое, возникающее где-то глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу – ветер совсем стих. По-прежнему прохладно. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь – да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знака, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка. Поднимаюсь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. Зачем бы залетели сюда эти стрекозы, чего ищут они за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, – верный знак, что в открытом море ярится ураган. Так и эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я – последняя граница, которой достигла ослабевшая волна. Если бы за мною, в двадцати шагах, висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня словно бы предсмертной лаской. Но я знаю, еще несколько секунд – и Сахара переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет и трех минут – заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут – все небо заволокут тучи песка. Сейчас мы ринемся в это пекло, в огневую пляску беснующейся пустыни. Но я взволнован другим. Неистовая радость переполняет меня: я почуял опасность, как дикарь чутьем, по едва уловимым приметам, угадывает, что сулит завтрашний день; с полуслова я понял тайный язык пустыни, прочел ее нарастающую ярость в трепетных крылышках стрекозы.4
В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа, мы только пролетали над ними; осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос: купят сахарную голову либо чай и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить. Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь – ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда браниться. Просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были оттого, что мнили себя всемогущими. Не один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне: «Скажи спасибо, что до твоей Франции больше ста дней пути…» Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья. Потом я снова навестил их шатры и услыхал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видели ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи, ибо, по Корану, это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой: тридцать лет скорби и нищеты – и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров – оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа – ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом нагие пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе: – Знаешь… ваш французский бог… он куда милостивей к французам, чем бог мавров к маврам. Месяцем раньше им устроили прогулку по Савойе. Провожатый привел их к водопаду – точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом. – Отведайте-ка, – сказал им провожатый. Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и, если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кап-Джуби, в Сиснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку – с консервной банкой в руках они выпрашивают воду: – Дай попить, дай… – Дам, если будешь слушаться. Вода дороже золота, малая капля воды высекает из песка зеленую искру – былинку. Если где-нибудь в Сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров – туда, где теперь вырастет трава… Вода – она дается так скупо, за десять лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя, – а тут с шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира. – Нам пора, – говорил провожатый. Но они словно окаменели. – Не мешай… И замолкали и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду – можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте. – Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте… – Надо подождать. – Чего ждать? – Пока вода кончится. Они хотели дождаться часа, когда бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится, он скупой. – Да ведь эта вода течет уже тысячи лет!.. И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в боге… – Ваш французский бог, понимаешь ли… Но я-то их знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась, они в смятении, сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское интендантство снабжало их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что и говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды. Но эти трое одной крови с Эль-Мамуном, эмиром Трарзы (имя я, кажется, путаю). Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом. Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы и чтили племена, вдоволь было видимых благ, – казалось бы, чего еще желать? Но однажды ночью, совершенно неожиданно, он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватил верблюдов, ружья – и вновь ушел к непокорным племенам. Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника, мятежная вспышка гордости, что скоро угаснет, точно ракета, ибо ей неминуемо преградит путь легкая кавалерия Атара… Это обычно называют изменой. И диву даются – откуда такое безумие? А между тем судьба Эль-Мамуна – это судьба многих и многих арабов. Он старел. А со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда эмир понял, что, скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял, он загрязнил руки и изменил богу ислама. И в самом деле, что ему ячмень и мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом – а ведь когда-то Сахара была полна опасностей, за каждой песчаной грядой таилась угроза, и, раскинув на ночь лагерь, он никогда не забывал выставить часовых, и по вечерам у костра при вести о передвижении врага сильней бились сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов – а его, однажды изведав, уже не забыть. И вот он бесславно бродит по умиротворенным, утратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине – пустыня. Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение. Но любовь к Аллаху превыше всего. – Спокойной ночи, Эль-Мамун. – Да хранит тебя бог. Офицеры заворачиваются в одеяла, растягиваются на песке, точно на плоту, лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает ход времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле Премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слабого вскрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться, – и униженные племена вновь обретут былое величие, и вновь начнется погоня за врагом, которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески… Еще мгновенье – и совершится непоправимое, и с ним родится новый мир… И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают.5
Нынче я в Джуби, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муйану и пью чай у них в шатре. Муйан, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня – он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина: – Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы – все твое. Глядя на меня в упор, Муйан наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании. – Что он сказал? – Сказал – Боннафу украл у Р'Гейбата тысячу верблюдов. Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается оттого, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов – и, чтобы уберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись, точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там – завидная добыча! Он манит все взоры, и, влекомые неодолимой силой, племена устремляются на его меч. Муйан смотрит на меня еще суровей и опять что-то говорит. – Что он сказал? – Сказал – завтра мы пойдем на Боннафу. Триста ружей. Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плаванье невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг к югу овеян славой. И, право, не знаю, что ведет людей – ненависть или любовь. Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить! Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу, – но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете – два месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, – и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу. – Боннафу силен, – признается мне Кемаль. Теперь я знаю их тайну. Как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается с боку на бок, уязвленный, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо, – так не дают им покоя далекие шаги Боннафу. Обойдя выступившие против него отряды, этот христианин, одетый мавром, с двумя сотнями полудиких головорезов проник в непокоренный край, – а ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ярмо покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу; здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним; его беззащитность – и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах, опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулко отдаются в самом сердце пустыни. Муйан все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченный из синего гранита. Только сверкают глаза да серебряный кинжал – он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных! Больше чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает – ибо он пойдет войной на Боннафу, с рассветом он выступит в поход, движимый ненавистью, которая так похожа на любовь. И опять он наклоняется к брату, что-то говорит вполголоса и смотрит на меня. – Что он сказал? – Сказал – если встретит тебя подальше от форта, застрелит. – Почему? – Он сказал – у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть Боннафу, но у тебя нет истины. Муйан недвижим, складки синего покрывала на нем точно каменная одежда статуи, он выносит мне приговор. – Он говорит – ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. Твои бесстыжие женщины не закрывают лицо, он сам видел. Он говорит – ты никогда не молишься. Он говорит – на что тебе твои самолеты, и радио, и твой Боннафу, раз у тебя нет истины? Этот мавр великолепен, он защищает не свободу свою – в пустыне человек всегда свободен, – и не сокровища, видимые простым глазом, – в пустыне их нет, – он защищает свое внутреннее царство. Точно корсар в старину, Боннафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков, и вот лагерь Кап-Джуби преобразился, мирной стоянки беззаботных пастухов как не бывало. Словно бурей, смята она дыханием Боннафу, и вечером шатры теснее жмутся друг к другу. На юге царит безмолвие, от него замирает сердце: это безмолвствует Боннафу! И Муйан, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Боннафу. Когда Боннафу возвратится во Францию, враги его не обрадуются, нет, они будут горько жалеть о нем, словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов и жизнь потускнеет. И они станут говорить мне: – Почему он уезжает, твой Боннафу? – Не знаю… Долгие годы он играл с ними в опасную игру – ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне и, как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, словно в библейские времена. И вот он уезжает, – значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маврам играть одним. И они смущены – есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет, им хочется верить в него. – Твой Боннафу еще вернется. – Не знаю. Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучит сражаться в бридж с офицерами, наскучат и повышение по службе, и женщины. Он затоскует по благородной жизни воина и возвратится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там, во Франции, его ждет самое важное, но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня, – здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Боннафу вернется, в первую же ночь эта весть облетит непокорные племена. Мавры будут знать – он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сотнями своих пиратов. И молча поведут на водопой верблюдов. Запасут побольше ячменя. Проверят ружья. Движимые своей ненавистью – или, быть может, любовью.6
– Спрячь меня в самолете и отвези меня в Марракеш… Каждый вечер невольник мавров в Кап-Джуби обращал ко мне эти слова, как молитву. И, совершив, таким образом, все, что мог, для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день – ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному богу, который может его спасти. И, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого – черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь: я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу. А между тем я, простой пилот, лишь несколько месяцев, как стал начальником аэропорта в Кап-Джуби; в моем распоряжении только и есть что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая, не по росту, койка – и я не так обольщаюсь насчет своего могущества. – Ну-ну, Барк, там видно будет… Все невольники зовутся Барками, так зовут и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился: не может забыть, что был когда-то королем. – Что ты делал в Марракеше, Барк? В Марракеше, наверно, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там занимался отличным ремеслом: – Я перегонял стада, и меня звали Мохамед! Там его призывали каиды: – Я хочу продать своих быков, Мохамед. Пригони их с гор. Или: – У меня тысяча баранов на равнине, отведи их повыше, на пастбища. И Барк, вооружась скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ, он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых, он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет: богатый ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда – утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность: растроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк – лекарь, пророк и повелитель – молился о своем народе. Однажды к нему приступили мавры: – Пойдем с нами на юг за скотом. Шли долго, на четвертый день углубились в горное ущелье – тут уже начинались владения непокорных племен, – и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство. Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме (единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище) и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою столь же неуклонно, как к смерти. Праздность – и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю. Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища – замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочая дребедень, невесть как занесенная сюда, в пески, точно обломки кораблекрушения. И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник – со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят, его дело – готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет – скорей бы обжег новый день. Счастливы северные страны, там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимой – о солнце; печальны тропики, там всегда одна и та же влажная духота; но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде. Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне, он словно ослеп – ведь ему больше не видны медленные реки Сенегала или белые города Южного Марокко, он словно оглох – ведь ему больше не слышны родные голоса. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, – что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно что умерли. Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества. И, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню. – На, бери, – говорит иной раз вождь пленнику. В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. К чему они? Ведь он так предан! Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли, – теперь он всего лишь счастливый раб. Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, тщетно упрашивая принять его в услужение, – а на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в Джуби нагие рабы. Мавры не мучили их и не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию, а ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и спозаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще, – но глядели просто из любопытства, они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали: «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть – ложись и спи». Так он и лежал, простертый на песке, ощущая голод – всего лишь головокружение, – но совсем не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительна. Понемногу он сливался с землей. И земля принимала иссушенные солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю. Немало я видел таких обреченных; первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы; впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывалась смутная покорность, с какою принимает гибель обессилевший горец, – зная, что уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня потрясли даже не его мучения. В мучения я не верю. Но со смертью каждого человека умирает неведомый мир, и я спрашивал себя, какие образы в нем гаснут? Что там медленно тонет в забвении – плантации Сенегала? Снежно-белые города Южного Марокко? Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы: приготовить бы чай, погнать стадо на водопой… быть может, засыпает душа раба, – а может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями, во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну, – яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии, такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец. И не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле. – Я перегонял стада, и меня звали Мохамед… Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу, в один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец, – но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная Богом, за краткий час уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое «я». Но Барк не желал отречься от себя – а ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб! Нет, Барк не свыкся с кабалой, как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радостей раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнего Мохамеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться! Барк был точно поседелый сторож, что умирает от верности среди заросших травою аллей, среди тоскливой тишины. Он не говорил: «Я – Мохамед бен-Лаусин», он говорил: «Меня звали Мохамед», он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохамед вновь оживет и самым воскресением своим изгонит того, кто был рабом. Случалось, в ночной тиши на него нахлынут воспоминания – живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам: «Среди ночи он вдруг говорит про Марракеш, говорит, а сам плачет». Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот, другой, – и здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где испокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза – и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала неведомо почему, словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало как магнит – и тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь, и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью. А для этого довольно мне только подать знак. И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался: – Завтра пойдет почта на Агадир… Ты спрячь меня в самолете… Бедняга Барк! Как могли мы помочь ему бежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. Затакой грабеж, за такое оскорбление мавры назавтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков – Лоберга, Маршаля, Абграля – я пытался выкупить Барка, но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба. И они рады случаю: – Давайте двадцать тысяч франков. – Да ты что?! – А вы поглядите, какие у него сильные руки… Так проходили месяцы. Наконец мавры сбавили цену, и с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось его купить. Сговорились мы не сразу. Торговались целую неделю. Сидели кружком на песке – пятнадцать мавров и я – и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина Барка, разбойник Зин уль-Раттари: он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину: – Да продай ты старика, все равно ему недолго жить. Он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть. Продай его французу, пока не поздно. Другому головорезу, Рагги, я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку, и Рагги искушал хозяина Барка: – На эти деньги ты купишь верблюдов, и ружья, и пули. И пойдешь войной на французов. И добудешь у Атара трех новых рабов, а то и четырех, молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика. И мне его продали. Шесть дней кряду я держал его взаперти в нашем бараке: начни он разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет, мавры опять схватили бы его и продали куда-нибудь подальше. Но я освободил его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились марабут, прежний хозяин Барка и здешний каид Ибрагим. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной, но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ. – Теперь ты нам сын. По закону он стал сыном и мне. И Барк перецеловал всех своих отцов. До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По двадцать раз на день приходилось описывать предстоящее ему несложное путешествие: самолет доставит его в Агадир, а там, прямо на аэродроме, ему вручат билет на автобус до Марракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника: возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу, и города, которые он скоро увидит после стольких лет… Ко мне пришел Лоберг. Они с Маршалем и Абгралем решили – не годится это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него тысяча франков – с этим он не пропадет, покуда не найдет работу. И я подумал: старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков – и уверены, что «творят добро», и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же: едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга – нищета, и через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне. Но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких. – Ну вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком. Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Кап-Джуби. У самолета собрались сотни две мавров: всем любопытно, какое лицо становится у раба на пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки. И мы, не без тревоги выпуская в свет нашего пятидесятилетнего новорожденного, машем ему на прощанье: – Прощай, Барк! – Нет. – Как так «нет»? – Я не Барк. Я Мохамед бен-Лаусин. Последние вести о нем доставил араб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире. Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать что хотел. Он долго бродил по городку и все не говорил ни слова; наконец Абдалла догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился: – Что с тобой? – Ничего… Он растерялся от этой внезапной, безмерной свободы и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но, если не считать этой неясной радости, сегодня он – все тот же Барк, каким был вчера. А ведь отныне он – равный среди людей, теперь и ему принадлежит солнце, и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел. Потребовал чаю для Абдаллы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба: у него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга нимало не удивился и преспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что, наливая чай, славит свободного человека. – Пойдем куда-нибудь еще, – сказал Барк. Они поднялись к Касбе, – квартал этот господствует над Агадиром. Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые и кроткие, что Барк воспрянул духом, ему показалось – сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но так же радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал им о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил: «Я Мохамед бен-Лаусин». Но это их ничуть не изумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних краев… Он опять потащил Абдаллу в город. Он бродил среди еврейских лавчонок, и глядел на море, и думал, что вот он волен идти куда хочет, он свободен… Но эта свобода показалась ему горька – он затосковал по узам, которые вновь соединили бы его с миром. Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын, привычный к лести. Это был маленький заморыш, Барк подарил ему ласку – и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни, этот маленький заморыш, благодаря Барку он улыбнулся – и вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрезжило впереди, и он ускорил шаг. – Ты что ищешь? – спросил Абдалла. – Ничего, – отвечал Барк. Но, завернув за угол, он наткнулся на играющих ребятишек и остановился. Вот оно. Он молча поглядел на них. Отошел к еврейским лавчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Абдалла возмутился: – Дурак, чего зря деньги тратишь! Но Барк не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикарь. Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежалась вся агадирская детвора, и он всех обул в шитые золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестностей Агадира, и оттуда тоже стекались дети, окружали Барка и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение. По мнению Абдаллы, Барк «с радости рехнулся». Но, по-моему, суть не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья. Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое: право добиваться любви, право идти куда вздумается и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги… они не утолят острое, жгучее, точно голод, желание быть человеком среди людей, ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком Барком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился, он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах – все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да – слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей – всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связуют каждого с другими людьми и придают ему весомость. А вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды… Так, в сиянии закатного солнца над Агадиром, в час вечерней прохлады, которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование Барка. Близился час отъезда – и он шел, омытый приливом детворы, как омывало его когда-то прихлынувшее к ногам стадо, и проводил во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свой убогий кров и окажется за всех в ответе, и, может быть, его старым рукам не под силу будет всех прокормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение свое на земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать – зашить в пояс кусок свинца, – шел Барк тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли.7
Такова пустыня. Коран (а это всего лишь правила игры) обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста, меж тем в недрах ее незримо разыгрывается драма, бурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески покоренные и непокоренные! И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства, сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли, – весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями, здесь по-особенному звучали шаги, и во всем был свой особый смысл, в иных краях никому не доступный. Но вот становишься взрослым, живешь по иным законам – и что остается от парка, полного теней детства – колдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, сложенной из серого камня, и почти с отчаянием обходишь ее кругом: как странно, что они так малы и тесны – владения, которым когда-то не было ни конца, ни края… и как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата, – ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру. И непокоренной пустыни уже нет. Кап-Джуби и Сиснерос, Пуэрто-Кансадо, Ла-Сагуэт-эль-Хамра, Дора и Смарра утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим, как тускнеет в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из «Тысячи и одной ночи» в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым – но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях; стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни. А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали. Ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее: они дарили один только час восторга – и этот час достался нам. Пустыня? Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии, я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было.VII. В СЕРДЦЕ ПУСТЫНИ
1
На подступах к Средиземному морю я встретил низкую облачность. Спустился до двадцати метров. Дождь хлещет в ветровое стекло, море словно дымится. Как ни напрягаю зрение, ничего в этой каше не видно, того и гляди напорешься на какую-нибудь мачту. Мой механик Андре Прево зажигает для меня сигареты. – Кофе… Он скрывается в хвосте самолета и приносит термос. Пью. Опять и опять подталкиваю рукоятку газа, держусь на двух тысячах ста оборотах. Обвожу взглядом приборы – мои подданные послушны, все стрелки на своих местах. Взглядываю на море – в дождь от него поднимается пар, точно от огромного таза с горячей водой. Будь у меня сейчас гидроплан, я пожалел бы, что море так «изрыто». Но я лечу на обыкновенном самолете. Изрытое море, не изрытое, все равно не сядешь. И от этого, непонятно почему, у меня возникает нелепейшее ощущение, что я в безопасности. Море принадлежит миру, мне чужому. Вынужденная посадка здесь – это не по моей части, это меня даже не страшит – для моря я не предназначен. Лечу уже полтора часа, дождь стихает. Тучи все еще стелются низко, но в них неудержимой улыбкой уже сквозит свет. Великолепны эти неторопливые приготовления к ясной погоде. Наверно, слой белой ваты у меня над головой стал совсем тонкий. Уклоняюсь в сторону, обходя дождь, – уже незачем идти напролом. И вот первая прогалина в небе… Я и не глядя угадал ее, потому что впереди на воде словно лужайка зазеленела, словно возник щедрый и яркий оазис – совсем как ячменные поля Южного Марокко, при виде которых у меня так щемило сердце, когда я возвращался из Сенегала, пролетев три тысячи километров над песками. Вот и сейчас у меня такое чувство, словно я вступаю в обжитые края, и становится веселей на душе. Оборачиваюсь к Прево: – Ну, теперь живем! – Живем… – откликается он. Тунис. Самолет заправляют горючим, а я покуда подписываю бумаги. Выхожу из конторы – и тут раздается негромкий шлепок, словно что-то плюхнулось в воду. Глухой короткий всплеск, и все замерло. А ведь однажды я уже слышал такое – что это было? Да, взрыв в гараже. Тогда от этого хриплого кашля погибли два человека. Оборачиваюсь – над дорогой, идущей вдоль летного поля, поднялось облачко пыли, два автомобиля столкнулись на большой скорости и застыли, будто в лед вмерзли. К ним бегут люди, бегут и сюда, к конторе. – Телефон… доктора… голова… У меня сжимается сердце. Вечер так безмятежно ясен, а кого-то сразил рок. Погублена красота, разум, быть может – жизнь… Так в пустыне крадутся разбойники, ступая по песку неслышным шагом хищника, и застигают тебя врасплох. Отшумел вражеский набег. И опять все утопает в золотой предвечерней тишине. Опять вокруг такой покой, такая тишь… А рядом кто-то говорит – проломлен череп. Нет, не хочу ничего знать про этот помертвелый, залитый кровью лоб. Ухожу к своему самолету. Но ощущение нависшей угрозы не оставляет меня. И скоро я вновь услышу знакомый звук. Когда на скорости двести семьдесят километров я врежусь в черное плоскогорье, я услышу знакомый хриплый кашель, грозное «ха!» подстерегавшей нас судьбы. В путь, на Бенгази.2
В путь. Стемнеет только через два часа. Но уже перед Триполитанией я снял черные очки. И песок стал золотой. До чего же пустынна наша планета! Быть может, и вправду реки, тенистые рощи и леса, людские селенья – все рождено лишь совпадением счастливых случайностей. Ведь наша Земля – это прежде всего скалы и пески! Но сейчас все это мне чужое, у меня своя стихия – полет. Надвигается ночь, и становишься в ней затворником, точно в стенах монастыря. Затворником, погруженным в тайны неизбежных обрядов, в сомнения, которых никто не разрешит. Все земное понемногу блекнет и скоро исчезнет без следа. Расстилающийся внизу ландшафт еще слабо озарен последними отсветами заката, но уже расплывчат и неясен. Ничто, ничто не сравнится с этим часом. Кто изведал непостижимое, страстное самозабвение полета, меня поймет. Итак, прощай, солнце. Прощайте, золотящиеся просторы, где я нашел бы прибежище, случись какая-нибудь поломка… Прощайте, ориентиры, которые не дали бы мне сбиться с пути. Прощайте, темные очертания гор на светлом небе, что помогли бы мне не наскочить на риф. Я вступаю в ночь. Иду вслепую, по приборам. У меня остается лишь один союзник – звезды… Мир там, внизу, умирает медленно. Мне все ощутимей не хватает света. Все трудней различить, где земля, а где небо. Земля словно вспухает, расплывается вширь клубами пара. Будто затонув в зеленой воде, трепетно мерцают первые светила небесные. Еще не скоро они засверкают острым алмазным блеском. Еще не скоро увижу я безмолвные игры падучих звезд. В иные ночи эти огненные искры проносятся стайками, словно гонимые ветром, бушующим среди созвездий. Прево зажигает на пробу основные и запасные лампочки. Обертываем их красной бумагой. – Еще раз… Он прибавляет новый слой, щелкает выключателем. Но свет еще слишком яркий. Словно на засвеченной фотографии, от него лишь померкнут и без того еле уловимые очертания внешнего мира. Пропадет тончайшая мерцающая пленка, которая порой и в темноте обволакивает все предметы. Вот и ночь настала. Но подлинная ночная жизнь еще не началась. Еще не скрылся серп ущербной луны. Прево уходит в хвост самолета и приносит сандвич. Ощипываю кисть винограда. Есть не хочется. Ни есть, ни пить. И я ничуть не устал, кажется, могу хоть десять лет так лететь. Луны больше нет. В непроглядной ночи подает о себе весть Бенгази. Он тонет в кромешной тьме, нигде ни проблеска. Не замечаю города, пока не оказываюсь прямо над ним. Ищу посадочную площадку – и вот вспыхивают красные огни по краям. Четко вырисовывается черный прямоугольник. Разворачиваюсь. Точно огненный столб пожара, взметнулся в небо луч прожектора, описал дугу и проложил по аэродрому золотую дорожку. Опять разворачиваюсь, примечаю возможные препятствия. Этот аэродром отлично приспособлен для ночной посадки. Сбавляю газ и планирую, словно погружаюсь в черную воду. Приземляюсь в двадцать три часа по местному времени. Подруливаю к прожектору. Хлопочут необыкновенно учтивые офицеры и солдаты, то возникая в слепящем луче, то исчезая во тьме, где уже ничего не различишь. Смотрят мои документы, заправляют самолет горючим. За двадцать минут все готово к отлету. – Сделайте над нами круг, дайте знать, что у вас все благополучно. В путь. Выруливаю на золотую дорожку, впереди никаких препятствий. Моя машина – «Самум», – несмотря на груз, легко отрывается от земли, не добежав до конца площадки. Прожектор все еще светит вдогонку и мешает мне при развороте. Наконец луч уводят в сторону – догадались, что меня слепит. Делаю разворот с набором высоты, в лицо вдруг снова бьет прожектор, но тотчас, отпрянув, длинным золотым жезлом указывает куда-то в сторону. Да, здесь на земле все необыкновенно внимательны и учтивы. Опять разворачиваюсь, беру курс на пустыню. Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью тридцать-сорок километров в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все триста. Беру курс правее, на середину прямой, соединяющей Александрию с Каиром. Это мне поможет миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за три часа двадцать минут. Если спадет – за три сорок пять. Начинаю одолевать тысячу с лишним километров пустыни. Луны нет и в помине. Все до самых звезд залито черной смолой. И впереди не будет ни огонька, ни единый ориентир не придет мне на помощь, до самого Нила я отрезан от людей, потому что и радио на борту нет. Я и не ищу нигде признаков жизни, смотрю только на компас да на авиагоризонт Сперри. Слежу только за лениво подрагивающей светящейся черточкой на темном диске. Когда Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Лечу на высоте две тысячи метров, мне предсказывали, что здесь ветер будет самый благоприятный. Изредка зажигаю лампочку, проверяя работу мотора, – не все приборы у меня светящиеся; а потом опять остаюсь в темноте, среди моих крохотных созвездий, что льют такой же неживой, такой же неиссякаемый и загадочный свет, как настоящие звезды, и говорят тем же языком. И я, подобно астрономам, читаю книгу небесной механики. Я тоже исполнен усердия и чужд всего земного. А вокруг все словно вымерло. Прево держался долго, но и он засыпает, и теперь я полнее ощущаю одиночество. Только мягко рокочет мотор, да с приборной доски смотрят мне в лицо мои спокойные звезды. А я призадумываюсь. Луна сегодня нам не союзница, радио у нас нет. Ни одна самая тоненькая ниточка не свяжет нас больше с миром, пока мы не упремся в окаймленный огнями Нил. Мы в пустоте, и только мотор держит нас на весу и не дает сгинуть в этой смоле. Как в сказке, мы пересекаем мертвую долину, черную долину испытаний. Здесь никто не поможет. Здесь нет прощенья ошибкам. Что с нами будет, одному Богу известно. Из-за приборной доски сквозит лучик света. Бужу Прево – это надо убрать. Прево медведем ворочается в темноте, отфыркивается, вылезает из своего угла. Мастерит какое-то хитроумное сооружение из носовых платков и черной бумаги. Вот уже и нет луча. Он ворвался к нам, словно из другого мира. Он был неуместен среди отрешенного фосфорического свечения приборов. Это был не звездный свет, а свет ночного кабачка. Но главное, он сбивал меня с толку, затмевая мерцание приборов. Мы летим уже три часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет – вот оно что, я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Так близко от моих ориентиров я предпочел бы ясное небо. Озаренное этим сиянием, засветилось крыло. Свет уже не пульсирует, он стал ярче, от него брызнули лучи, на конце крыла расцвел розовый букет. Меня сильно встряхивает – начинается болтанка. Я вошел в толщу облаков и не знаю, высоко ли они громоздятся. Поднимаюсь на высоту две пятьсот – вокруг все то же. Спускаюсь до тысячи метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно. Как-нибудь. Ничего не поделаешь. Будем думать о другом. Там видно будет. А все-таки не по душе мне это освещение – кабак, да и только. Прикидываю: сейчас приходится поплясать, это в порядке вещей, но ведь меня понемногу болтало всю дорогу, хоть высота была большая и небо чистое. Ветер ничуть не ослабел, стало быть, скорость наверняка превышала триста километров в час. Короче говоря, ничего я толком не знаю, попробую определиться, когда выйду из облаков. И вот выхожу. Огненного букета как не бывало. По его неожиданному исчезновению понимаю, что облака остались позади. Всматриваюсь – передо мною, насколько можно разобрать, неширокий просвет, а дальше снова на пути стеной встают облака. И снова ожил букет на крыле. Вынырнув на мгновенье, опять увязаю в черной смоле. Это уже тревожно, ведь, если я не ошибся в расчетах, до Нила рукой подать. Может быть, посчастливится заметить его в просвете среди туч, но просветы так редки. А снижаться боязно: если скорость была меньше, чем я думал, подо мною все еще плоскогорья. Я пока не тревожусь всерьез, боюсь только потерять время. Но я знаю, когда настанет конец моему спокойствию – через четыре часа и пятнадцать минут полета. Когда минет этот срок, станет ясно, что даже при полном безветрии (а ветер, конечно, был) долина Нила не могла не остаться позади. Достигаю бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще – и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи. Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность, эта звезда волхвов, этот опасный призыв. Проснулся Прево, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его, не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там, внизу. Прево опять засыпает. Ничего там не высмотришь. Мы летим четыре часа пять минут. Подошел Прево, сел рядом. – Пора бы уже прибыть в Каир… – Да, не худо бы… – А там что, звезда или маяк? Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Прево. Он всегда очень чуток ко всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеюсь выскользнуть из-под облаков. Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорья уже позади, подо мною ничто не должно возвышаться над уровнем моря, я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток. Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400, но кто знает, какое здесь давление у земли. Прево наклоняется ко мне. Кричу ему: – Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить! Впрочем, ничего не известно, может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни. – Морской маяк! Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие! Где он, этот маяк-привидение, эта ночная небылица? Мы с Прево приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в трехстах метрах под нами, и вот тут-то… – А! Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться вдребезги. На скорости двести семьдесят километров в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал: вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прево, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание: вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда – и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на сто метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, с маху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая… Самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал – вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Эта дрожь, эта ярость, эта непонятная медлительность? Пять секунд… шесть… И вдруг нас завертело, новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло – и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево: – Прыгайте! Скорей! В ту же секунду крикнул и он: – Сгорим! Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в двадцати метрах от самолета. Спрашиваю Прево: – Целы? – Цел! – отвечает он и потирает колено. – Пощупайте себя, – говорю. – Двигайтесь. У вас ничего не сломано? Честное слово? А он отвечает: – Пустяки, это запасной насос… Мне почудилось – его раскроило надвое, как ударом меча, и сейчас он рухнет наземь, но он смотрел остановившимися глазами и все твердил: – Это запасной насос… Мне почудилось – он сошел с ума, сейчас пустится в пляс… Но он отвел наконец глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил: – Пустяки, запасной насос стукнул меня по коленке.3
Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за двести пятьдесят метров от того места, где самолет остановился, мы находим искореженные обломки металла и сорванные листы обшивки, они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга вспорот. Самолет чудом не перевернулся, он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости двести семьдесят в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку, – мы съехали, точно на катках. Опасаясь короткого замыкания – как бы все-таки не случился пожар, – Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю: мы летели четыре часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала пятидесяти километров в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся – и кто знает, в каком направлении? Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в четыреста… Ко мне подсаживается Прево. – И как это мы остались живы… Не отвечаю и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя. Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги. Медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление. И все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть… так и есть… Медленно возвращаюсь к самолету. Сажусь возле кабины и соображаю. Я искал – есть ли надежда – и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, – и не дождался. – Прево, я не видал ни единой травинки… Прево молчит, не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Оказаться посреди пустыни, когда ориентируешься с точностью до четырехсот километров… И вдруг вскакиваю на ноги: – Вода! Баки разбиты, бензин и масло вытекли. Вода тоже. И все уже всосал песок. Находим продырявленный термос, в нем уцелело пол-литра кофе, на дне другого – четверть литра белого вина. Процеживаем то и другое и смешиваем. Еще нашлось немного винограда и один-единственный апельсин. И я прикидываю: в пустыне под палящим солнцем этого едва хватит на пять часов ходу… Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь, надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы – неизвестно. Питья – меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю, и это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего: нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров. – Экая досада, – говорит Прево. – Что такое? – Уж лучше бы разом конец!.. Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды – быть может, совершится чудо и спасенье все-таки придет с воздуха. И нельзя сидеть на месте – вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать. Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок, в полусне оживают голоса, воспоминания, кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда, мне хорошо, я вверяюсь сну, как приключению. И действительность отступает… Да, наутро все стало по-другому!4
Я очень любил Сахару. Немало ночей провел в краю непокорных племен. Не раз просыпался среди необозримых золотистых песков, на которых от ветра зыбь, как на море. И засыпал под крылом самолета и ждал помощи, – но то было совсем, совсем иначе. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных, словно галька. Похоже на металлическую чешую, купола холмов сверкают, как кольчуга. Мы очутились в царстве минералов. Все вокруг заковано в броню. Одолеешь перевал, а там встает еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтоб оставался след – путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, – все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад – и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра. И от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через три дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу: в той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы, – ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю – смешно, нелепо, но мне кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление просто потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни. Идем уже пять часов, картина вокруг меняется. Перед нами долина, на дне ее струится песчаная река, и мы пускаемся по ней. Идем скорым шагом, надо пройти как можно дальше, и, если ничего не найдем, вернуться дотемна. Вдруг я останавливаюсь: – Прево! – Что? – Про след забыли… Когда же мы перестали тянуть за собой борозду? Если мы ее не отыщем – конец. Поворачиваем, но берем правее. Отойдя подальше, свернем еще раз под прямым углом и тогда наверняка пересечем старый след. Связав эту нить, шагаем дальше. Зной усиливается, порождая миражи. Пока они еще очень просты. Разливается на пути озеро, а подойдешь ближе – и нет его. Решаем перейти песчаную долину, подняться на самый высокий холм и оглядеться. Шагаем уже шесть часов. Отмахали, наверно, добрых тридцать пять километров. Взбираемся на самую макушку черного купола, садимся, молчим. Внизу песчаная река, по которой мы шли, впадает в песчаное море без единого камешка, – сверкающая белизна слепит, жжет глаза. Пустыня, пустыня без конца и края. Но на горизонте игра света воздвигает новые миражи, куда более притягательные. Вздымаются крепости, минареты, громады с четкими, ясными очертаниями. Различаю большое темное пятно, оно прикидывается рощей, но над ним нависло облако – последнее из тех, что днем рассеиваются и вновь собираются под вечер. Та роща – лишь тень громоздящихся облаков. Дальше идти нет смысла, никуда мы не придем. Надо возвращаться к самолету, этот красно-белый бакен, быть может, заметят наши товарищи. Я почти не надеюсь на розыски с воздуха, и все же только оттуда еще может прийти спасение. А главное, там, в самолете, остались последние капли влаги, а мы больше не можем без питья. Чтобы жить, надо вернуться. Мы замкнуты в железном кольце, в плену у жажды, надолго она не отпустит. Но как трудно поворачивать назад, когда, быть может, впереди – жизнь! Быть может, там, за миражом, и в самом деле встают города, течет по каналам вода, зеленеют луга. Я знаю, он единственно разумен, этот крутой поворот руля. И поворачиваю, а чувство такое, словно идешь ко дну. Лежим возле самолета. За день отшагали шестьдесят километров с лишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить… Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния, он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер… Только где люди? И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Наш безмолвный вестник так ярок, так сияет в ночи. И я думаю – он несет не только отчаянный призыв, но и любовь. Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь, ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся! Мне чудятся глаза жены. Одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Глаза вопрошают. Сколько взглядов, и в каждом – упрек: почему я молчу? Но я отвечаю! Отвечаю! Отвечаю, как только могу, не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи! Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли: шестьдесят километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Разве мы виноваты, что не сможем долго ждать? Мы бы и рады смирно сидеть на месте да потягивать из фляги. Но в тот миг, когда я увидел дно оловянного стаканчика, некий маятник начал отсчитывать время. В тот миг, когда я осушил последнюю каплю, я покатился под откос. Что я могу, если время уносит меня, как река. Прево плачет. Хлопаю его по плечу. Говорю в утешение: – Подыхать так подыхать… И он отвечает: – Да разве я о себе… Ну конечно, я и сам открыл эту истину. Вытерпеть можно все. Завтра и послезавтра я в этом уверюсь: вытерпеть можно все на свете. В предсмертные муки я верю лишь наполовину. Не впервые прихожу к этой мысли. Однажды я застрял в кабине тонувшего самолета и думал, что погиб, но не очень страдал при этом. Сколько раз бывал я в таких переделках, что уже не думал выйти живым, но не впадал в отчаяние. Вот и сейчас не жду особых терзаний. Завтра я сделаю открытия еще поудивительней. И хоть мы запалили такой огромный костер, Бог свидетель, я уже не надеюсь, что наш призыв дойдет до людей… «Да разве я о себе…» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Опять и опять мне чудятся глаза, полные ожидания, – и едва увижу их, по сердцу как ножом полоснет. Я готов вскочить и бежать, бежать со всех ног. Там гибнут, там зовут на помощь! Так странно мы меняемся ролями, но я никогда и не думал по-другому. А все же только Прево помог мне понять, как это верно. Нет, Прево тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести, так же, как и я. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли – когда уснешь, будет уже все равно. И тогда – безграничный покой! Но там – там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии… думать об этом нестерпимо. Там погибают, не могу я смотреть на это сложа руки! Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне: отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь!.. Мы идем!.. Идем!.. Мы спасем вас! Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья, мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать. Что ж. Буду спать.5
На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества Прево сказал: – Хорошо, хоть револьвер есть. Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен! Не желаю знать никаких чувств, все просто, очень просто. И родиться. И вырасти. И умереть от жажды. Искоса слежу за Прево, если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят: «Хорошо бы вымыть руки». Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других. О том, что мы бессильны успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем. Нас все еще не ищут, то есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора, но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеянной черными точками камней, мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что спасители наши кружат в другом мире. Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее чем за две недели найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику: пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Прево подаст мне знак – разожжет костер… но никто нас не отыщет. Итак, я ухожу и даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминаю все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на сорока процентах, а здесь падает до восемнадцати. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только девятнадцать часов. А когда пройдет двадцать часов, перед глазами вспыхивает яркий свет – и это начало конца: жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отсрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет? Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан. А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как апаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то, неведомо чьи, норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы – они пусты. Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести, я на это и не надеялся. Нет, я не разочарован, напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть – иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку, на песке четко отпечатался каждый шаг фенека. Прелесть что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок. Представляю, как на заре мой ушастый приятель рысцой перебегает от камня к камню и слизывает ночную росу. А здесь следы реже: мой лис пустился вскачь. А вот здесь ему повстречался собрат, и они побежали рядышком. Даже удивительно, как отрадно мне следить за этой утренней прогулкой. Как славно видеть, что и здесь есть жизнь. И кажется, уже не так хочется пить… Но вот наконец и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть видны над песком крохотные сухие кустики, не вышесуповой миски; они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. На рассвете фенек отправляется за провизией. И тут я наталкиваюсь на одну из великих загадок природы. Мой лис задерживается не у всякого кустика. Иные он не удостаивает вниманием, хотя они густо унизаны улитками. Иные опасливо обходит стороной. К иным приступает деликатно – не объедает начисто. Снимет две-три ракушки – и отправляется в другой ресторан. Что это, игра? Может быть, он не хочет насытиться разом, хочет растянуть удовольствие этой утренней прогулки? Нет, едва ли. Игра слишком разумна, ее диктует необходимость. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. И так, переходя от одного кустика к другому, он уничтожил бы все свое стадо. Но фенек осторожен и не мешает стаду плодиться. Ради одной трапезы он обходит добрую сотню этих редких бурых кустиков, больше того – он ни за что не снимет с одной и той же веточки двух улиток подряд. Он ведет себя так, будто ясно понимает, в чем таится опасность. Ведь попробуй он наедаться досыта, не заботясь о будущем, скоро и улиток не станет. А без улиток не станет и фенеков. Следы вновь привели меня к норе. Фенек сейчас дома, конечно, еще издали заслышал мои тяжелые шаги и теперь в страхе ждет. И я говорю ему: «Лис, дружок, мне крышка… но представь, мне и сейчас любопытно, как ты живешь и что поделываешь…» Стою в раздумье… да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через тридцать он умрет. А тридцать лет или три дня… тут все дело в том, какой мерой мерить… Только вот всплывают перед глазами образы, которые лучше не вспоминать… И опять иду своей дорогой, усталость все сильнее, и что-то во мне переменилось. Миражей нет, а я сам их вызываю… – Э-эй! Поднимаю руки, кричу – там человек, он мне машет… нет, это просто черный каменный столб. В пустыне все начинает жить какой-то странной жизнью. Я хотел разбудить спящего бедуина, но он обратился в почерневший ствол дерева. Дерево? Откуда ему здесь взяться? Наклоняюсь, хочу поднять обломанную ветвь – она из мрамора! Выпрямляюсь, смотрю по сторонам – вот и еще черный мрамор. Все вокруг усеяно обломками доисторического леса. Сотни тысяч лет назад он рухнул, точно храм, сметенный чудовищным, первобытной силы ураганом. И века докатили до меня эти осколки исполинских колонн, отполированные, гладкие, как сталь, окаменелые, остекленевшие, совершенно черные. Еще можно различить, где от ствола отходили ветви, можно проследить живые изгибы дерева, сосчитать годовые кольца. Лес, некогда полный птичьих песен, шороха, шелеста, поразило проклятие, и деревья обратились в соляные столбы. Все вокруг мне враждебно. Эти величавые останки, такие черные – черней, чем железный панцирь, одевающий холмы, – меня отвергают. Зачем я здесь, живой среди этого нетленного мрамора? Смертный, которому суждено обратиться в прах, – зачем я здесь, в царстве вечности? Со вчерашнего дня я прошел уже километров восемьдесят. Кружится голова – наверно, от жажды. А может, от солнца. Оно блещет на этих точно маслом смазанных обломках окаменелых стволов. На этом панцире Вселенной. Здесь больше нет ни песка, ни лисиц. Осталась одна лишь гигантская наковальня. И вот я иду по этой наковальне. И солнце гулким молотом бьет меня по голове. Но что это?.. – Эй! Э-эй! – Ничего там нет, успокойся, ты бредишь. Уговариваю себя, взываю к собственному рассудку. Так трудно не верить своим глазам. Так трудно не кинуться со всех ног за караваном… вот же он идет… вон там… видишь?.. – Дурень, ты его просто выдумал, ты и сам это знаешь… – Тогда все на свете обман… Все на свете обман, но вот на холме в двадцати километрах от меня стоит самый настоящий крест. Не то крест, не то маяк… Но море не в той стороне. Значит, это крест. Всю ночь я изучал карту. Напрасный труд, ведь неизвестно, где мы. Но я до одури вглядывался в каждый знак, который говорил о присутствии человека. И в одном месте обнаружил кружок, а над ним вот такой же крест. Просмотрел условные обозначения на полях: церковь, миссия или монастырь. Рядом с крестом я увидел на карте черную точку. Опять посмотрел на поля – постоянный колодец… Сердце так и подпрыгнуло, и я повторил в полный голос: «Постоянный колодец… постоянный колодец… постоянный колодец!» Что перед этим чудом все сокровища Али-Бабы? Чуть подальше я заметил два белых кружка и на полях прочел: пересыхающий колодец. Это было уже не так прекрасно. А дальше, куда ни погляди, – ничего. Ничего. Так вот она, миссия или монастырь! Монахи воздвигли на холме огромный крест – путеводный знак для погибающих! И надо только идти прямо на него. Надо только бежать прямо к этим доминиканцам… – Да ведь в Ливии нет никаких монастырей, кроме коптских. – …прямо к этим ученым доминиканцам. У них отличная прохладная кухня, выложенная красными изразцами, а во дворе изумительный ржавый насос. И под ржавым насосом, под ржавым насосом, – как не догадаться! – под ржавым насосом и есть постоянный колодец! Вот будет у них праздник, когда я позвоню у дверей, ударю в колокол… – Дурень, о чем ты? Такие дома – в Провансе, да и там нет никакого колокола. – …я позвоню в колокол. Привратник возденет руки к небесам и воскликнет: «Сам Бог вас послал!» – и созовет всю братию. И монахи кинутся мне навстречу. Они обрадуются мне, как бездомному сироте в рождественскую ночь. И отведут меня на кухню. И скажут: «Сейчас, сын мой, сейчас… мы только сбегаем к постоянному колодцу». И я задрожу от счастья… Но нет, не стану плакать только оттого, что там, на холме, уже нет никакого креста. Все посулы запада – ложь. Круто поворачиваю на север. Север – он хотя бы полон песнью моря. Итак, я одолел перевал – и передо мною распахнулась необъятная ширь. А вот и прекраснейший город на свете. – Ты же и сам знаешь, что это мираж. Да, я прекрасно знаю, что это мираж. Меня не проведешь. Ну а если я так хочу – гнаться за миражом? Если я хочу надеяться? Если я влюблен в этот город, обнесенный зубчатыми стенами, щедро позолоченный солнцем? Если мне нравится идти к нему все прямо, прямо, легкими шагами, – ведь я уже не чувствую усталости, ведь я счастлив… Прево со своим револьвером просто смешон! Мое опьянение куда лучше. Я пьян. Я умираю от жажды! Сумерки меня отрезвили. В страхе останавливаюсь – я слишком далеко зашел. В сумерках мираж угасает. Даль нага и безрадостна; колодца, дворцов, пышных риз как не бывало. Вокруг пустыня. – Вот чего ты добился! Тебя застигнет ночь, придется ждать рассвета, а до завтра твои следы на песке сгладятся – и не будет возврата. – Тогда уж лучше идти все прямо да прямо. Зачем поворачивать назад? Ни к чему мне этот поворот руля, ведь сейчас, быть может, я открою… да, я уже открываю объятия морю… – Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря, уж наверно, не меньше трехсот километров. А возле вашего «Самума» ждет Прево! И может быть, его уже заметил какой-нибудь караван… Ладно, я вернусь, но сперва позову, вдруг люди близко. – Э-эй! Черт побери, обитаемая это планета или нет? – Э-эй! Люди!.. Я охрип. Уже нет голоса. Просто смешно так вопить… Все-таки попробуем еще раз: – Лю-ди! Это звучит так высокопарно и неестественно… И я поворачиваю назад. Шагаю два часа, и вот уже виден отсвет огромного костра – в страхе, что я заблудился, Прево разжег его чуть не до небес. А мне все равно… Еще час ходу… Еще пятьсот метров. Еще сто. Еще пятьдесят. – О-о! Останавливаюсь, пораженный. Такая радость нахлынула, от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра Прево разговаривает с двумя арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним… не так долго пришлось бы маяться! Радостно кричу: – Э-эй! Бедуины так и подскочили, обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Прево один идет мне навстречу. Открываю объятия. Прево поддерживает меня под локоть – разве я падал? Говорю ему: – Ну вот и они! – Кто? – Арабы! – Какие арабы? – Да эти, которые тут, с вами!.. Прево как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну: – Никаких арабов тут нет… Вот теперь я, наверно, заплачу.6
Здесь можно прожить без воды только девятнадцать часов, а что мы пили со вчерашнего вечера? Несколько капель росы на рассвете! Но северо-восточный ветер все еще держится – и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону сгущаются в небе облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь! Но в пустыне дождей не бывает. – Прево, давайте-ка разрежем парашют на треугольники. Разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, наутро выжмем это тряпье в бак из-под бензина, все-таки наберется немного росы. Мы разостлали под звездами шесть белых полотнищ. Прево снял с самолета бак. Будем ждать утра. Среди обломков Прево отыскал настоящее чудо – апельсин! Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин – такая малость, ведь нам нужно двадцать литров воды! Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю: люди не знают, что это такое – апельсин. И еще думаю: мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина – и это одна из самых отрадных минут моей жизни… Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще: в жизни каждое положение – это особый мир, его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя сигарета и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают: какое мужество! А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой, и этот последний час для него – целая жизнь. У нас скопилось неслыханное богатство – пожалуй, литра два росы. С жаждой покончено! Мы спасены, мы будем пить! Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака, но она уж такая желто-зеленая и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни извелся я от жажды, после первого же глотка с трудом перевожу дух. Я бы напился и из грязной лужи, но этот ядовитый металлический привкус еще сильнее жажды. Смотрю на Прево – он ходит по кругу, озабоченно глядя себе под ноги, будто что потерял. И вдруг, не переставая кружить, наклоняется – и его рвет. Полминуты спустя настает мой черед. Рвота страшная, до судорог – падаю на колени, впиваюсь пальцами в песок. Мы не в силах вымолвить ни слова, так проходит четверть часа, под конец нас рвет желчью. Кончено. Только еще мутит немного. Но последняя наша надежда рухнула. Не знаю, что в этом виновато – вещество ли, которым был пропитан парашют, или четыреххлористый углерод, осевший на стенках бака. Надо было найти другой сосуд, а может быть, другую ткань. Что ж, пора! Уже светло. В путь! Прочь от этого окаянного плоскогорья, будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме, со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут. И снова убеждаемся – это не мы терпим бедствие. Терпят бедствие те, кто нас ждет! Те, для кого так грозно наше молчание. Те, кого уже терзает чудовищная ошибка. Как же к ним не спешить! Вот и Гийоме, возвратясь из Анд, рассказывал мне, как он спешил на помощь погибающим. Эта истина справедлива для всех. – Будь я один на свете, я бы лег и уже не вставал, – говорит Прево. И мы идем на восток-северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас в глубь Аравийской пустыни. О том дне я больше ничего не помню. Помню лишь, что очень спешил. Скорей, скорей, все равно, что впереди, хотя бы и смерть. Помню еще, что шел, упорно глядя под ноги, миражи мне осточертели. Время от времени мы сверялись с компасом. Иногда ложились на песок, чтоб немного передохнуть. Я захватил на ночь плащ, а потом где-то его кинул. Дальше – провал. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке. Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше: эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнища парашютного шелка. Если отравились мы не из-за него, завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем опять разостлать под звездами наши ловушки для росы. Но в этот вечер небо на севере ясное, ни облачка. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается! Вот он лижет нам руки, лицо… А все-таки надо сделать привал, мне сейчас не пройти и десяти километров. За три дня я прошел сто восемьдесят, даже больше, и ничего не пил. Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит: – Озеро! Честное слово! – Вы с ума сошли! – Да ведь сумерки, откуда сейчас возьмется мираж?! Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить? А он твердит свое: – До него минут двадцать ходу, пойду погляжу… Это упрямство меня бесит: – Что ж, подите поглядите… гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое, нет ли, оно же у черта на рогах! И нет его совсем. Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу! И я думаю: бывают же безумцы, кидаются под поезд – не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там, а я умру здесь. И все это неважно, все пустяки… Мной овладело равнодушие, а это дурной знак. Такое же спокойствие ощутил я, когда тонул. Что ж, воспользуемся этим! Растягиваюсь прямо на камнях и пишу свое последнее письмо. Прекрасное письмо. Очень достойное. Щедро оделяю всех мудрыми советами. Перечитываю его с каким-то тщеславным удовольствием. Все станут говорить: «Изумительное письмо! Какая жалость, что он погиб!» Интересно, долго ли я еще протяну. Пытаюсь набрать слюны – сколько часов я не сплевывал? Но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается. И перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через два часа – конец. Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да, да… я плыву, я на корабле! Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась среди звезд то вправо, то влево. Мачты здесь нет, но все равно я плыву в неизвестность и ничего не властен изменить. Работорговцы бросили меня на палубу, связав по рукам и ногам. Думаю о Прево – он не возвращается. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек. А, вот он – размахивает фонариком в пятистах метрах от меня. Он потерял свой след! У меня нет фонаря, нечем сигналить в ответ – поднимаюсь, кричу, но он не слышит… За двести метров от него вспыхивает еще один фонарик, и еще. Бог мой, да ведь это помощь, меня ищут! Кричу: – Э-эй! Но меня не слышат. Три фонаря призывно сигналят, опять и опять. Я не сошел с ума. Сегодня мне не так уж плохо. И я спокоен. Внимательно всматриваюсь. За пятьсот метров от меня горят три фонарика. – Э-эй! Опять не слышат. Тут меня охватывает страх. Короткий приступ, он больше не повторится. Надо бежать! «Подождите!.. подождите!..» Сейчас они повернут обратно! Пойдут искать в другом месте, а я погибну! Погибну у порога жизни, когда уже раскрылись объятия, готовые меня поддержать! – Э-эй! Э-эй! – Э-эй! Услышали. Задыхаюсь – задыхаюсь и все-таки бегу. Бегу на голос, на крик. Вижу Прево – и падаю. – Ох, когда я увидал все эти фонари… – Какие фонари? Да ведь он один! Во мне поднимается уже не отчаяние, а глухая ярость. – Ну, как ваше озеро? – Я шел к нему, а оно все отодвигалось. Я шел к нему целых полчаса. Но все равно было еще далеко. И я повернул. Но теперь я уверен, это самое настоящее озеро. – Вы с ума сошли, вы просто сошли с ума. Ну зачем вы так? Зачем… Что он сделал? Что – зачем? Я готов заплакать от злости и сам не знаю, чего злюсь. А Прево срывающимся голосом объясняет: – Я так хотел найти воду… у вас совсем белые губы! Вот оно что… Ярость моя утихает. Провожу рукой по лбу, словно просыпаюсь, и мне становится грустно. Говорю негромко: – Я видел три огонька – совсем ясно, вот как вас сейчас вижу, ошибиться было невозможно. Говорю вам, Прево, я их видел! Прево долго молчит. – Да-а, – признается он наконец, – плохо дело. В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам, леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода – странно, что только делает с человеком жажда! Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет – падаю на колени, обхватываю голову руками и жду: сейчас опустится меч убийцы! Немного погодя ловлю себя на том, что поднялся и, весь дрожа, иду сам не знаю куда! Где это я? Вот оно что – я ушел, и Прево меня зовет! От его криков я и очнулся… Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю. И говорю себе: это не от холода. Нет. Это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один. Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фонари – это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба… И вот я опять на коленях… Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. Сто граммов чистого эфира, сто граммов девяностоградусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир – глоток, другой. Это все равно что глотать ножи. Глотнул спирту – нет, сразу сдавило горло. Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прево хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку. Горло у меня по-прежнему сдавлено – дурной знак, но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и ногам, уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться – не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив… Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь. И я забываю о своем онемевшем теле. Больше я не двинусь, а значит, и мучиться не стану. Да, по правде сказать, не так уж это и мучительно… Мучения положены на музыку усталости и бреда. И все оборачивается книжкой с картинками, немного жестокой сказкой… Совсем недавно меня преследовал ветер, и, спасаясь от него, я кружил, как затравленный зверь. Потом стало трудно дышать: кто-то уперся коленом мне в грудь. Колено давило. И я пытался сбросить гнет, я отбивался от ангела смерти. Никогда я не был в пустыне один. Теперь я уже не верю в реальность окружающего – и ухожу в себя, закрываю глаза, больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвенье: реки, впадая в море, обретают покой. Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше трех дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти куда вздумается. Считается, будто он свободен… И никто не видит, что мы на привязи у колодцев, мы привязаны, точно пуповиной, к чреву земли. Сделаешь лишний шаг – и умираешь. Мне горько одно – ваше горе, – а больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни. А в городах люди о ней забыли. Дело вовсе не в авиации. Самолет – не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета. Ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города, от счетоводов и письмоводителей, и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин. Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной, и ищешь свою истину по звездам. Не стану жаловаться на судьбу. Три дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя – на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых. И право, это куда важнее, чем выбирать – в каком бы мюзик-холле убить вечер. Мне странны пассажиры пригородных поездов – воображают, будто они люди, а сами, точно муравьи, подчиняются привычному гнету и даже не чувствуют его. Чем они заполняют свои воскресенья, свой жалкий, бессмысленный досуг? Однажды в России я слышал – на заводе играли Моцарта. Я об этом написал. И получил двести ругательных писем. Меня не возмущают те, кому больше по вкусу кабацкая музыка. Другой они и не знают. Меня возмущает содержатель кабака. Не выношу, когда уродуют людей. Я счастлив своим ремеслом. Чувствую себя пахарем, аэродром – мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь! В последнем счете здесь великолепно!.. Ни о чем не жалею. Я играл – и проиграл. Такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Я знаю, что я люблю. Люблю жизнь. Кажется, небо начинает бледнеть. Высвобождаю руку из песка, ощупываю разостланное рядом полотнище – оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос: «Сердце высохло… сердце высохло… сердце как камень, не выжмешь ни слезинки!..» – В путь, Прево! Пока еще не спеклась глотка, надо идти.7
Дует западный ветер – тот самый, что иссушает человека за девятнадцать часов. Гортань еще не спеклась, но пересохла и болит. Внутри уже немного царапает. Скоро начнется кашель – мне про него рассказывали, и я жду. Язык мне мешает. Но что хуже всего, перед глазами уже мелькают слепящие искорки. Едва они обратятся в пламя, я лягу. Идем быстро. Пользуемся прохладой раннего утра. Ведь когда станет припекать, мы больше не сможем идти. Когда станет припекать… Мы не имеем права вспотеть. И передохнуть тоже не имеем права. В прохладном воздухе этого утра всего лишь восемнадцать процентов влаги. Ветер дует из недр пустыни. И под его тихой, вероломной лаской испаряется наша кровь. В первый день мы съели немного винограда. За три дня – половинка апельсина и половина виноградной кисти. Есть мы бы все равно ничего не могли – у нас пропала слюна. Но голода я и не чувствую, только жажду. И кажется, не так мучительна жажда, как ее последствия. Пересохла гортань. Язык как деревянный. В глотке дерет, вкус во рту премерзкий. Непривычно и дико. Будь у нас вода, все эти ощущения, конечно, как рукой бы сняло, но я не припомню, что за связь между ними и этим чудесным лекарством. Жажда перестает быть неутоленным желанием, она все больше становится болезнью. Мне еще мерещатся родники и фрукты, но это меня уже не так терзает. Забываю сияющее великолепие апельсина, как забываю, кажется, все, что было мне дорого. Быть может, я уже все позабыл. Мы сидим, а надо снова идти. Долгие переходы нам больше не под силу. Через каждые пятьсот метров усталость валит с ног. И такое наслаждение растянуться на песке. А надо снова идти. Картина вокруг меняется. Камней все меньше. Теперь под ногами песок. Впереди, в двух километрах, – дюны. На них кое-где темнеет низкорослый кустарник. Эти пески мне больше по душе, чем стальной панцирь. Эта пустыня – светлая. Это Сахара. Я, кажется, узнаю ее в лицо… Теперь мы валимся без сил через каждые двести метров. – Вон до тех кустиков уж непременно дойдем. Это предел. Через неделю, когда мы на машине возвратимся за останками нашего «Самума», выяснится, что в этот последний поход мы одолели восемьдесят километров. А я уже прошел около двухсот. Хватит ли сил идти дальше? Вчера я шел, ни на что не надеясь. Сегодня самое слово «надежда» потеряло смысл. Сегодня мы идем потому, что идем. Наверно, так движутся волы в упряжке. Вчера мне грезился апельсиновый рай, сегодня рай для меня уже не существует. Я больше не верю, что есть на свете апельсиновые рощи. Я уже ничего не чувствую, сердце во мне высохло. Вот сейчас упаду, но отчаянья нет. Нет даже горечи. А жаль – печаль показалась бы мне сладостной, как вода. Можно себя пожалеть, горевать о себе, словно о друге. Но у меня не осталось на свете друзей. Меня найдут, увидят мои обожженные глаза и подумают: как он страдал, как звал на помощь! Но бурные порывы, сожаления, страдания души – это ведь тоже богатство. А я все потерял. Юные девушки в первую ночь любви узнают печаль и плачут. Печаль нераздельна с трепетом жизни. А я уже не печалюсь… Я сам стал пустыней. Во рту уже нет слюны, и в душе нет больше милых образов, которые я мог бы оплакивать. Солнце иссушило во мне источник слез. Но что это? Дыханье надежды коснулось меня – так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Ничто не изменилось – и, однако, все стало иным. Песчаная гладь, невысокие холмики, редкие мазки зелени – все это уже не ландшафт, а сцена. Она пуста, но чего-то ждет. Смотрю на Прево. Он тоже поражен и тоже никак не разберется в своих ощущениях. Честное слово, сейчас что-то произойдет… Честное слово, пустыня ожила. Честное слово, это безлюдье, это безмолвие вдруг преобразилось, оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь. Мы спасены: по песку кто-то прошел… Да, мы потеряли след рода человеческого, мы были отрезаны от своих собратьев, одни во всем мире, словно забытые в час великого переселения, – и вот он на песке, чудесный отпечаток, оставленный ногою человека. – Смотрите, Прево, здесь разошлись двое… – А здесь опустился на колени верблюд… – А здесь… Но это совсем не значит, что мы уже спасены. Нам нельзя ждать. Пройдет час, другой – и нас уже ничто не спасет. Когда начинается кашель, жажда убивает быстро. А горло у нас у обоих… Но я верю: где-то в пустыне мерно движется караван. Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Гийоме рассказывал: «Под конец я слышал – в Андах пели петухи. И поезда слышал…» Заслышав петуха, я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал: сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет… Но тут Прево схватил меня за руку: – Слыхали? – Что? – Петух! – Значит… значит… Дурень, конечно же это значит – жизнь… У меня все-таки была еще галлюцинация, последняя: гнались друг за другом три собаки. Прево их не видел, хоть и смотрел в ту же сторону. А вот бедуина мы видим оба. Мы протягиваем к нему руки. Мы оба зовем его что есть силы. И оба смеемся от счастья!.. Но наши голоса не слышны и за тридцать шагов. Голосовые связки уже высохли. Мы говорили друг с другом почти беззвучно и даже не замечали этого! И вот бедуин, что выступил со своим верблюдом из-за пригорка, медленно, медленно удаляется. А вдруг он здесь один? Жестокий демон только показал нам его – и уводит… А у нас уже нет сил бежать! На дюне появился еще один араб, мы видим его в профиль. Вопим, как можем, – все равно чуть слышно. Машем руками, кажется, на всю пустыню видны наши отчаянные сигналы. Но этот бедуин все смотрит прямо перед собой… И вот понемногу, не спеша, он оборачивается. Стоит ему повернуться к нам лицом – и свершится чудо. Стоит ему посмотреть в нашу сторону – и конец жажде, смерти, миражам. Он еще только слегка повернул голову, а мир уже стал иным. Одним поворотом головы, одним лишь взглядом он творит жизнь – и мне кажется, он подобен Богу… Это чудо… Он идет к нам по песку, словно некий бог по водам… Араб поглядел на нас. Положил руки нам на плечи – и мы покорились легкому нажиму его ладоней. Мы лежим на песке. Нет больше ни племен, ни наречий, ни каст… Бедный кочевник возложил нам на плечи длани архангела. Мы ждали, лежа ничком на песке. И вот мы пьем, уткнувшись в таз, как телята. Бедуина пугает наша жадность, опять и опять он заставляет нас передохнуть. Но стоит ему нас отпустить – и снова мы приникаем к воде. Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца. Ты – величайшее в мире богатство, но и самое непрочное – ты, столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в двух шагах от солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть два литра росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты – божество, которое так легко спугнуть… Но ты даешь нам бесконечно простое счастье. А ты, ливийский бедуин, ты – наш спаситель, но твои черты сотрутся в моей памяти. Мне не вспомнить твоего лица. Ты – Человек, и в тебе я узнаю всех людей. Ты никогда нас прежде не видел, но сразу признал. Ты – возлюбленный брат мой. И я тоже узнаю тебя в каждом человеке. Ты предстал передо мною в озарении благородства и доброты – могучий повелитель, в чьей власти напоить жаждущих. В тебе одном все мои друзья и все недруги идут ко мне на помощь, у меня не осталось в мире ни одного врага.VIII. ЛЮДИ
1
Снова я коснулся истины и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал – вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Мне кажется, эту душевную ясность знал вечный скиталец Боннафу. Узнал ее и затерянный в снегах Гийоме. И мне тоже не забыть, как я лежал, засыпанный песком, и меня медленно душила жажда, и вдруг в этом звездном шатре что-то согрело мне душу. Как она достигается, эта внутренняя свобода? Да, конечно, человек полон противоречий. Иному дается верный кусок хлеба, чтобы ничто не мешало ему творить, а он погружается в сон; завоеватель, одержав победу, становится малодушен; щедрого богатство обращает в скрягу. Что толку в политических учениях, которые сулят расцвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и, когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств. Мы не умеем предвидеть самое главное. Кого из нас не обжигала жарче всего нежданная радость среди несчастий? Ее не забыть, о ней тоскуешь так, что готов пожалеть и о несчастьях, если с ними пришла та жаркая нечаянная радость. Всем нам случалось, встретив товарищей, с упоением вспоминать о самых тяжких испытаниях, которые мы пережили вместе. Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека? Истина не лежит на поверхности. Если на этой почве, а не на какой-либо другой апельсиновые деревья пускают крепкие корни и приносят щедрые плоды, значит, для апельсиновых деревьев эта почва и есть истина. Если именно эта религия, эта культура, эта мера вещей, эта форма деятельности, а не какая-либо иная дают человеку ощущение душевной полноты, могущество, которого он в себе и не подозревал, значит, именно эта мера вещей, эта культура, эта форма деятельности и есть истина человека. А здравый смысл? Его дело – объяснять жизнь, пусть выкручивается как угодно. В этой книге я говорил о людях, которые словно бы следовали неодолимому призванию, которые шли в пустыню или в авиацию, как другие идут в монастырь; но задача моя отнюдь не в том, чтобы заставить вас восхищаться прежде всего этими людьми. Восхищения достойна прежде всего почва, их взрастившая. Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей лавчонке. Другой неуклонно идет к своей цели – и даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определят его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу: тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы, они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига, – и вновь они погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека – но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию. Ночи в воздухе, ночи в пустыне… это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании – и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех. Это было на фронте под Мадридом, я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном.2
Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий, с командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке – о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. «Кто полезет туда первым…» – и, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту. – Мы с тобой пойдем первыми, – говорит он сержанту. – Пей и ложись спать. Сержант лег. Мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут пять назад я выглянул в бойницу. Сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла. И перед глазами у меня все еще – зеленоватые от луны крепости. Солдаты, что сидят со мною, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки – дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы. Слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего – отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна. Скоро эти люди омоются – пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, – все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты длят партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но они завели будильник, он возвышается на этажерке, точно владыка на престоле. И он позвонит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи, затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору, полого уходящему вверх, к голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова: «Чертова атака…» или: «Ну и холодище!» И канут в ночь. В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прево, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды и нам удалось – один только раз! – проспать два часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом: чудесной властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтобы забыть обо всем на свете и уснуть сладким сном. Так спал и сержант, он свернулся в клубок – не разберешь, где что; когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки, я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки поденщика или докера. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьверы, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, вся сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтобы она вращала свой жернов. – Эй, сержант! Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и опять погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут, и сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи… но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так воскресным утром в коллеже звонок неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились веселые игры на зеленом лугу; но все напрасно. Звонок звонит и звонит – и безжалостно возвращает его в царство людской несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах и груз снаряжения, а там – тяжкий бег атаки – и смерть. Не столько даже смерть, как липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, и удушье, и леденящий холод: ощущаешь не столько самую смерть, но уж очень неуютно умирать. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни – возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле. Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза: – Уже пора? Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла: сержант улыбался! Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рожденья и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и без толку вымотались. А небо уже светлело, и вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре…» В этот час механики протирают спросонья глаза и расчехляют винты самолетов, в этот час пилот идет к синоптикам за сводкой, по земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубеет, уже идут приготовления к празднику – но не для нас, уже расстилают скатерть, а мы не приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие… – А здесь – экая гнусность… – докончил Мермоз. А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть? Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни: был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок – все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсемдругое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики, она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: – Пошли? – Пошли. И вы пошли. Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела. Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины – ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес, – и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, она хочет стать дикой уткой… А еще мне вспоминаются газели, ручные газели, которых я завел в Джуби. У нас у всех там были газели. Мы держали их в просторном загоне, обнесенном проволочной сеткой, чтоб у них было вдоволь воздуха, ведь газели очень нежны, и надо, чтоб их постоянно омывали струи ветра. Но все же, если поймать их еще маленькими, они живут и в неволе и едят из рук. Они позволяют себя гладить и тычутся влажной мордочкой тебе в ладонь. И воображаешь, будто и впрямь их приручил. Будто уберег их от неведомой скорби, от которой газели угасают так тихо и так кротко… А потом однажды застаешь их в том конце загона, за которым начинается пустыня, они упираются рожками в сетку. Их тянет туда, как магнитом. Они не понимают, что бегут от тебя. Ты принес им молока – они его выпили. Они все еще позволяют себя погладить и ласковей прежнего тычутся мордочкой тебе в ладонь… Но едва их оставишь, они пускаются вскачь, как будто даже весело, и вот уже снова застаешь их на том же месте в конце загона. И если не вмешаться, они так и останутся там, даже не пытаясь одолеть преграду, – просто будут стоять, понурясь, упершись рожками в сетку, пока не умрут. Быть может, для них пришла пора любви? Или попросту им непременно надо мчаться, мчаться во весь дух? Они и сами не знают. Они попали в плен совсем крохотными, еще слепыми. Им не знакомы ни приволье бескрайних песков, ни запах самца. Но ты понятливей их. Ты знаешь, чего они ищут – простора, без которого газель еще не газель. Они хотят стать газелями и предаваться своим пляскам. Хотят мчаться по прямой – сто километров в час! – порой высоко взлетая, словно вдруг прямо из-под ног взметнулось пламя. Не беда, что есть на свете шакалы, ведь в том истина газелей, чтобы пугаться, от страха они превзойдут сами себя в головокружительных прыжках. Не беда, что есть на свете лев, ведь в том истина газелей, чтобы упасть на раскаленный песок под ударом когтистой лапы! Смотришь на них и думаешь: их сжигает тоска. Тоска – это когда жаждешь чего-то, сам не знаешь чего… Оно существует, это неведомое и желанное, но его не высказать словом. Ну, а мы? Чего не хватает нам? Что ты нашел здесь, на фронте, сержант, откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову, быть может – улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, но равенство? «Эй, товарищ!..» Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое. Вы еще врозь. Но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл. И, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю. Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще не покоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся: «Сукин ты сын! Это из-за тебя я сел в калошу, дернул тебя черт залезть на высоту в две тысячи, когда там ветер навстречу! Шел бы пониже, как я, уж давно были бы в Порт-Этьене!» И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарить. Ведь у него такие же права на нашу жизнь. Все мы – ветви одного дерева. И я гордился тобой, моим спасителем! Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком, ты приобщился к большому миру – и вот тебя, отверженного, приемлет любовь. Мне наплевать, искренни ли, разумны ли были высокие слова, которые, возможно, заронил тебе в душу кто-то из политиков. Раз эти семена принялись у тебя в душе и дали ростки, значит, они-то и были ей нужны. Об этом судить только тебе. Земля сама знает, какое ей нужно зерно.3
Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями и есть у нас общая цель; и мы знаем по опыту: любить – это не значит смотреть друг на друга, любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину, – так они и обретают друг друга. А иначе в наш век – век комфорта – почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарищей в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой. Быть может, потому-то все в мире сейчас трещит и шатается. Каждый страстно ищет веры, которая сулила бы ему полноту души. Мы яростно спорим, слова у нас разные, но за ними – те же порывы и стремления. Нас разделяют методы – плод рассуждений, но цели у нас одни. Так чему же тогда удивляться. Кто в Барселоне, в подвале анархистов, встретясь с этой готовностью пожертвовать собой, выручить товарища, с этой суровой справедливостью, ощутил однажды, как в нем пробуждается некто совсем новый, незнакомый, для того отныне существует лишь одна истина – истина анархистов. А кому довелось однажды стоять на часах в испанском монастыре, охраняя перепуганных коленопреклоненных монахинь, тот умрет за церковь. Если бы сказать Мермозу, когда он, в сердце своем торжествуя победу, ринулся с высоты Анд в долину Чили, если бы сказать ему: чудак, да стоит ли рисковать жизнью ради писем какого-нибудь торгаша, – Мермоз бы только усмехнулся. Истина – это человек, который рождался в нем, когда он летел через Анды. Если вы хотите убедить того, кто не отказывается от войны, что война ужасна и отвратительна, не считайте его варваром – прежде чем судить, постарайтесь его понять. Задумайтесь хотя бы над таким случаем. Один офицер с юга во время боев с риффами командовал постом, зажатым между двух горных хребтов, где находились повстанцы. Однажды вечером он принимал парламентеров с западных гор. Как полагается, пили чай, и вдруг началась ружейная пальба. На пост напали племена с восточных гор. Капитан хотел спровадить парламентеров и принять бой, но они возразили: «Сегодня мы твои гости. Бог не позволяет нам тебя покинуть…» И они присоединились к его солдатам, помогли отстоять пост и тогда лишь вернулись в свое орлиное гнездо. А потом они в свою очередь собрались атаковать пост – и накануне отрядили к капитану послов: – В тот вечер мы тебе помогли… – Это верно. – Ради тебя мы извели три сотни патронов… – Это верно. – По справедливости ты должен их нам вернуть. Нет, капитан благороден, он не станет извлекать выгоду из их великодушия. И он отдает патроны, зная, что стрелять будут в него. Истина человека – то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в знак братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Начните спорить о войне с таким капитаном, и он ответит вам лишь презрительной жалостью. И будет прав. Но и вы тоже правы, когда ненавидите войну. Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым – и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники. Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов – и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, – это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина – это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной, – так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина – не то, что доказуемо, истина – это простота. К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же. Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми. А мы хотим бежать с каторги. В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни. Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они? Все мы – кто смутно, кто яснее – ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей… Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть. Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью, от– того что они – немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена. Но эти идолы – идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво – умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо. Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения. Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы – команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга. Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, – но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд – и вот он уже не просто слуга. Он – часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи. Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе – была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня, от окопов ее отделяло метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» – и, тяжело ступая, они спешили вдогонку. Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти. Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна. Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе. Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы – не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица – слепок с этой маски. Это тело формовало их тела – отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это – безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать! Да, это горько, но так просто и естественно – мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине. Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей. Так от поколения к поколению передается жизнь – медленно, как растет дерево, – а с нею передается и сознание. Какое поразительное восхождение! Из расплавленной лавы, из того теста, из которого слеплены звезды, из чудом зародившейся живой клетки вышли мы – люди – и поднимались все выше, ступень за ступенью, и вот мы пишем кантаты и измеряем созвездия. Старая крестьянка передала детям не только жизнь, она их научила родному языку, доверила им богатство, копившееся медленно, веками: духовное наследство, что досталось ей на сохранение – скромный запас преданий, понятий и верований, все, что отличает Ньютона и Шекспира от первобытного дикаря. Тот голод, что под обстрелом гнал бойцов Испании на урок ботаники, что гнал Мермоза к Южной Атлантике, а иного – к стихам, – это вечное чувство неутоленности возникает потому, что человек в своем развитии далеко еще не достиг вершины и нам надо еще понять самих себя и Вселенную. Надо перебросить мостки во тьме. Этого не признают лишь те, кто мудростью почитает себялюбивое равнодушие; но такая мудрость – жалкий обман. Товарищи, товарищи мои, беру вас в свидетели: какие часы нашей жизни самые счастливые?4
И вот на последних страницах этой книги я опять вспоминаю состарившихся чиновников – наших провожатых на рассвете того дня, когда нам наконец-то впервые доверили почтовый самолет и мы готовились стать людьми. А ведь и они были во всем подобны нам, но они не знали, что голодны. Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться. Несколько лет назад, во время долгой поездки по железной дороге, мне захотелось осмотреть это государство на колесах, в котором я очутился на трое суток; трое суток некуда было деться от неумолчного перестука и грохота, словно морской прибой перекатывал гальку, и мне не спалось. Около часу ночи я прошел весь поезд из конца в конец. Спальные вагоны пустовали. Пустовали и вагоны первого класса. А в вагонах третьего класса ютились сотни рабочих-поляков, их выслали из Франции, и они возвращались на родину. В коридорах мне приходилось переступать через спящих. Я остановился и при свете ночников стал присматриваться; вагон был без перегородок, точно казарма, и пахло здесь казармой или полицейским участком, и ходом поезда мотало и подбрасывало сваленные усталостью тела. Целый народ, погруженный в тяжелый сон, возвращался к горькой нищете. Большие, наголо обритые головы перекатывались на деревянных скамьях. Мужчины, женщины, дети ворочались с боку на бок, словно пытаясь укрыться от непрерывного грохота и тряски, что преследовали их и в забытьи. Даже сон не был им надежным приютом. Экономические приливы и отливы швыряли их по Европе из края в край, они лишились домика в департаменте Нор, крохотного садика, трех горшков герани, какие я видел когда-то в окнах польских шахтеров, – и мне казалось, они наполовину потеряли человеческий облик. Они захватили с собой лишь кухонную утварь, одеяла да занавески, жалкие пожитки в расползающихся, кое-как стянутых узлах. Пришлось бросить все, что было им дорого, все, к чему они привязались, всех, кого приручили за четыре-пять лет во Франции, – кошку, собаку, герань, – они могли увезти с собой лишь кастрюли да сковородки. Мать кормила грудью младенца; смертельно усталая, она казалась спящей. Среди бессмыслицы и хаоса этих скитаний передавалась ребенку жизнь. Я посмотрел на отца. Череп тяжелый и голый, как булыжник. Скованное сном в неловкой позе, стиснутое рабочей одеждой бесформенное и неуклюжее тело. Не человек – ком глины. Так по ночам на скамьях рынка грудами тряпья валяются бездомные бродяги. И я подумал: нищета, грязь, уродство – не в этом дело. Но ведь вот этот человек и эта женщина когда-то встретились впервые, и, наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своем обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся ныне в машину, только и способную ковать или копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало? Животное и в старости сохраняет изящество. Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек? Я шел дальше среди своих попутчиков, спавших тяжелым, беспокойным сном. Храп, стоны, невнятное бормотанье, скрежет грубых башмаков по дереву, когда спящий, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавке, переворачивается с боку на бок, – все сливалось в глухой, непрестанный шум. А за всем этим – неумолчный рокот, будто перекатывается галька под ударами прибоя. Сажусь напротив спящей семьи. Между отцом и матерью кое-как примостился малыш. Но вот он поворачивается во сне, и при свете ночника я вижу его лицо. Какое лицо! От этих двоих родился на свет чудесный золотой плод. Эти бесформенные тяжелые кули породили чудо изящества и обаяния. Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь – обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят ее и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадет под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречен. Я вернулся в свой вагон. Я говорил себе: эти люди не страдают от своей судьбы. И не сострадание меня мучит. Не в том дело, чтобы проливать слезы над вечно незаживающей язвой. Те, кто ею поражен, ее не чувствуют. Язва поразила не отдельного человека, она разъедает человечество. И не верю я в жалость. Меня мучит забота садовника. Меня мучит не вид нищеты, – в конце концов люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На Востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт. Один лишь Дух, коснувшись глины, творит из нее Человека.Сент-Экзюпери Антуан Послание американцу
Антуан де Сент-Экзюпери Послание американцу(1) Перевод: С французского Л.М. Цывьяна В апреле 1943 года я покинул Соединенные Штаты, чтобы присоединиться в Северной Африке к моим боевым товарищам из "Flight to Arras"(2). Я плыл на одном из кораблей американского конвоя. Конвой в тридцать судов вез из Соединенных Штатов в Северную Африку пятьдесят тысяч ваших солдат. Когда, проснувшись, я прохаживался по палубе, то видел вокруг настоящий плавучий город. Тридцать кораблей мощно вспарывали море. Но у меня возникало не ощущение мощи, а нечто совсем иное. Конвой рождал во мне ликующее чувство крестового похода. Американские друзья, мне очень хотелось бы в полной мере воздать вам должное. Возможно, между нами и вами когда-нибудь возникнут более или менее серьезные трения. Каждая нация эгоистична. И каждая нация считает свой эгоизм священным. Может быть, сегодня или завтра ваша уверенность в своей материальной мощи заставит вас добиваться каких-то преимуществ, которые нам покажутся оскорбительными. Когда-нибудь между вами и нами могут возникнуть достаточно серьезные разногласия. Войны всегда выигрываются энтузиастами, но мирные договоры зачастую диктуются деловыми людьми. Ну что ж, даже если когда-нибудь в душе я и буду порицать их решения, это все равно никогда не заставит меня позабыть те благородные цели, которые поставил перед собой в этой войне ваш народ. Я всегда буду готов признать высочайшие достоинства вашей глубинной сущности. Нет, не ради корысти американские матери послали своих сыновей на войну. Не ради корысти американские парни готовы рисковать жизнью. Я знаю и впоследствии расскажу у себя на родине, каким крестовым походом духа стала для каждого из вас эта война. И как одно из многих доказательств я приведу два запомнившихся мне факта. Вот первый. Во время плавания я, естественно, находился среди ваших солдат и невольно наблюдал, как ведется среди них военная пропаганда. Пропаганде, чтобы быть действенной, должно взывать не знаю уж к каким чувствам благородным, обыденным или низменным. Если бы ваши солдаты участвовали в этой войне только ради защиты американских интересов, пропаганда ежедневно твердила бы им об угрозе вашим нефтяным промыслам, вашим каучуковым плантациям, вашим рынкам сбыта. Но она почти не касалась таких тем. А раз она говорила о другом, значит, ваши парни хотели понять это другое. Так о чем же рассказывали им, чтобы объяснить, почему они должны жертвовать собой? Им рассказывали о заложниках, повешенных в Польше. О заложниках, расстрелянных во Франции. Рассказывали, что новая рабовладельческая система грозит задавить чуть ли не половину человечества. То есть говорили не о них, а о других. Вырабатывали в них чувство солидарности со всеми людьми Земли. Пятьдесят тысяч солдат плыли на нашем конвое, чтобы спасать не только гражданина Соединенных Штатов, но и Человека, уважение к Человеку, свободу Человека, величие Человека. Благородство вашего народа придало и благородство пропаганде. И если даже когда-нибудь ваши творцы мирного договора, исходя из своих политических и материальных интересов, в чем-то ущемят Францию, они тем самым исказят ваше подлинное лицо. Как могу я позабыть, за какое великое дело сражался народ Соединенных Штатов? Вера в вас подтвердилась и в Тунисе, где в июле 1943 года я вместе с вашими летчиками летал на "Лайтнингах". И вот второе доказательство. Как-то вечером двадцатилетний американский летчик пригласил меня и моих друзей поужинать. Его мучила моральная проблема, которая казалась ему очень серьезной. Но он был стеснителен и не решался рассказать нам о тайной драме, не дающей ему покоя. Чтобы он чуточку осмелел, пришлось слегка его подпоить. И наконец, покраснев, он признался: "Сегодня утром у меня был двадцать пятый боевой вылет. На Триест. Меня чуть было не перехватили "Мессершмитты-109". Завтра я опять полечу и, возможно, меня собьют. Вы знаете, за что воюете: за освобождение своей родины. Но меня ваши европейские проблемы не касаются. Наши интересы сосредоточены в Тихом океане. И если все-таки я пошел на риск быть похороненным здесь, то, как я понимаю, лишь для того, чтобы вернуть вам вашу землю. Каждый человек имеет право жить свободным в своей стране. Я чувствую себя солидарным со всеми людьми. Но когда я и мои соотечественники поможем вам освободить ваш дом... вы ведь в свою очередь поможете нам в Тихом океане?" Мы готовы были расцеловать нашего юного друга! В минуту опасности он испытывал потребность услышать от других подтверждение своей веры в человеческую солидарность. Разумеется, я прекрасно понимаю, что война неразделима и что его полет в Триест непосредственно служит американским интересам на Тихом океане. Но он-то не знал всех этих тонкостей. И все равно готов был завтра встретиться с опасностью, "чтобы вернуть нам наш дом". Как позабыть такое? Естественно, что и сегодня, вспоминая это, я испытываю волнение. Видите ли, мои американские друзья, у меня впечатление, что на нашей планете возникает нечто небывалое. Материальный прогресс нового времени, вне всякого сомнения, соединил всех людей чем-то вроде настоящей нервной системы. Эти связи неисчислимы. Средства сообщения моментальны. В физическом смысле мы объединены, словно клетки тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознает себя. Рука не ведает, что она связана с глазом. Именно сознание будущего единства смутно томило двадцатилетнего летчика, зарождалось в нем... Ваши молодые люди гибнут на войне, которая, несмотря на все свои ужасы, впервые в мировой истории оказалась для них неосознанным выражением любви. Не предайте же их! Пусть, когда настанет срок, именно такие люди продиктуют условия мира! И пусть этот мир будет похож на них! Это благородная война, и их вера в Разум облагородит мир... Я счастлив быть и со своими французскими товарищами, и с ними. После первых полетов на "Лайтнингах" обнаружился мой возраст. Сорок три года! Скандал! Американские уставы бесчеловечны. В сорок три года не полагается летать на скоростных самолетах вроде "Лайтнинга". Длинная седая борода может попасть в механизм управления и привести к аварии. И вот несколько месяцев я был не у дел... Но как можно думать о Франции и не брать на себя доли риска? Там страдают. Там ведут жестокую борьбу за то, чтобы выжить. Там умирают. Как, сидя где-нибудь в пропагандистском ведомстве, осуждать пусть даже худших среди тех, кто каждой своей клеткой переживает там трагедию? И как любить лучших? Ведь любить - это значит соучаствовать, разделять. Наконец свершилось чудо: по великодушному решению генерала Эйкера(3) я лишился седой бороды и снова получил "Лайтнинг"... Я снова встретил Гавуаля(4), того самого, из "Flight to Arras", - в вашей группе дальней разведки он командует нашей французской эскадрильей, и Ошеде(5), которого некогда во "Flight to Arras" назвал святым войны и которого война в этот раз убила на "Лайтнинге". Я встретил здесь всех тех, про кого писал, что под пятою захватчика они были не побежденными, но зернами, вдавленными в безмолвие земли. После долгой зимы перемирия зерна проросли. Моя бывшая эскадрилья, подобно дереву, вновь возвратилась к жизни. Я счастлив снова участвовать в полетах на большой высоте, так похожих на погружения водолаза. Обвешанный варварскими приборами, окруженный множеством циферблатов, ты углубляешься в запретные области. Дышишь над своею родиной кислородом, произведенным в Соединенных Штатах. Ну не удивительно ли это - воздух Нью-Йорка в небе Франции? Пилотируешь стремительное чудище, именуемое "Лайтнинг П-38", на борту которого возникает ощущение, будто ты не перемещаешься, а оказываешься сразу над целым континентом. А назад привозишь фотоснимки, которые идут на стереоскопический анализ, так же как стеклышки с посевом идут под микроскоп. Дешифровщики фотоснимков работают, подобно бактериологам. Они находят на теле Франции, которой угрожает опасность, следы пожирающих ее вирусов. Вражеские доты, вражеские склады, вражеские эшелоны проявляются под окуляром, словно крохотные бациллы. От них можно погибнуть... ...И еще мучительные раздумья во время полета над Францией, такой близкой и в то же время такой далекой! Кажется, будто от нее тебя отделяют столетия. На высоте тридцати пяти тысяч футов взору открываются любовь, воспоминания, смысл жизни, озаренные солнцем и такие же недостижимые, как сокровища фараонов в витрине музея... Антуан де Сент-Экзюпери ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Послание американцу Написано в мае 1944 г. по просьбе американского журналиста Джона Филипса одного из тех, кто содействовал возвращению Сент-Экзюпери в строй. В середине мая, зачисленный сначала в бомбардировочную авиацию, писатель наконец вновь присоединился к разведывательной авиагруппе 2/33 и получил разрешение на боевые полеты. Его статья при жизни опубликована не была, и лишь в апреле 1945 г. она прозвучала в одной из передач американского радио. (2) "Flight to Arras" "Полет к Аррасу" (англ.) - см. коммент. к с. 108. (3) Эйкер Айра Кларенс (1896-?) - американский генерал, в 1944 г. главнокомандующий союзными ВВС на Средиземном море. (4) Гавуалъ Рене - в 1944 г. командир эскадрильи в составе группы 2/33, непосредственный начальник Сент-Экзюпери. (5) Ошеде - летчик, друг Сент-Экзюпери по кампании 1940 г.; упоминается в "Военном летчике". В 1943 г. погиб, разбившись во время тренировочного полета на "Лайтнннге". Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Послание молодым американцам
Антуан де Сент-Экзюпери Послание молодым американцам(1) Перевод: С французского Е. Баевской Дороти Томпсон(2) попросила меня сказать вам несколько слов, и я очень этому рад. Я сейчас не чувствую себя писателем, обращающимся к некой абстрактной публике. Мне кажется, что я запросто, как ваш товарищ, сижу среди вас, молодых людей доброй воли, и вместе с вами толкую о заботах, которые лежат у нас на сердце. А главное, я говорю сейчас с вами так, как хотел бы говорить со своими соотечественниками. Они теперь далеко. Будьте моими друзьями. Вы воюете. Вы молоды. Вы готовитесь трудиться и драться во имя своей страны. Но вы знаете, что на карту поставлено нечто еще большее, чем судьба вашей страны. Решается судьба всего мира. И вы готовитесь трудиться и драться во имя свободы в целом мире. Будь вы только солдатами, я обратился бы к вам как к солдатам. Я сказал бы: "Выкиньте из головы все проблемы. Сейчас проблема в одном - в оружии". Но вы молоды, и на вас лежит еще более тяжкая ответственность, чем на солдатах. У вас двойная ответственность. Вы готовитесь сражаться за свободу. Но надо еще выяснить, что такое свобода, и построить ее. Слова у людей со временем ветшают и теряют смысл. Ветшают научные теории. Ветшают социальные формулировки. Это расплата за движение человека вперед. Если вы не хотите пробавляться мертвыми мыслями, нужно постоянно освежать их. Значит, свобода - это вопрос, который нельзя отделять от остальных. Ведь человеку, чтобы быть свободным, надо прежде всего быть человеком. Выходит, что, доискиваясь до сути любой проблемы, вы упретесь в проблему человека. Так вот, понятие "свобода" может включать в себя самые различные вещи. Это может быть свобода отречения от обычаев, разрыва с традициями, отстранения от участия в общественных делах - разумеется, при условии, чтобы это не вредило другим людям. Вы можете объявить: "Свобода индивидуума кончается там, где она начинает вредить окружающим". И вы нисколько не вредите окружающим, если ваша общественная жизнь ограничивается контактами, без которых не обойтись, например трудом ради куска хлеба. Вы получили лишь то, что вам причитается. Не будь вас, ничто бы не изменилось. Но оказывается, что, не причиняя вреда окружающим, ваша отстраненность вредит обществу в целом, потому что без вас общество уже не так богато. Нужно стремиться к тому, чтобы общество было богаче, потому что только общество в свой черед делает богаче личность. Любой человек - представитель своей родины, профессии, цивилизации. "Человека вообще" не бывает. Собор построен из камней. Камни составляют собор. Но собор облагораживает каждый из камней. Они становятся камнями, из которых построен собор. Так и вы обретете братство лишь в чем-то большем, чем каждый из вас: люди всегда братья "по" чему-нибудь. Нельзя быть братом вообще. Люди жаждут уз. Узами может стать какая угодно частность. Горбатые могут основать секту горбунов. У кого спина прямая, того они не примут. Но гордость за нашу христианскую цивилизацию, из которой все мы вышли и которая всем нам, верующим и неверующим, принадлежит, велит нам искать эти узы во всеобщем. Нацист пытается подобрать определение немцу или, с натяжкой, арийцу, чтобы объявить его святыней, на которой можно основать религию для избранных. Мы хотим дать определение человеку, чтобы основать нашу религию на нем. Вся наша цивилизация стремилась прежде всего дать определение человеку. Когда от известнейшего врача, приносящего огромную пользу, вы ждете, чтобы он, несмотря на всю свою человеческую значительность, рисковал жизнью ради заразного больного, вы подчиняете личность врача не какой-то другой личности, а Человеку, которого в данном случае представляет обычный больной, сам по себе, возможно, вполне заурядный. Если вы хотите очистить слово "демократия" от всех наслоений, искажающих ее образ, скажите себе, что демократия понимает уважение к свободе как уважение к человеку, и, чтобы привнести в демократию братство, нужно основать человеческое сообщество не на возвеличивании отдельной личности, а на подчинении личностей культу Человека. Так вот, есть только один способ возвести это здание, которое больше каждого из вас и которое в свой черед обогатит вас, когда вы его построите. Один-единственный способ. Его задолго до нас изобрели самые древние религии. На нем основывается дух любой религии. Дух любого общества. Это, можно сказать, самое надежное средство. Люди позабыли его с развитием материального прогресса. Это средство - жертва. Причем под жертвой я подразумеваю не отказ от жизненных благ, не покаянный жест отчаяния. Я подразумеваю под жертвой безвозмездный дар. Дар, ничего не требующий взамен. Вас формирует не то, что вы получаете, а то, что вы отдаете. Усилия, которые вы отдаете обществу, формируют общество. А оно делает богаче вас самих. Да, человечеству было необходимо вырвать человека из рабства, обеспечить ему право на плоды его труда, поэтому мы стали уделять такое внимание труду, подразумевающему обмен. Труд обменивается на товар. Однако мы не должны забывать, что труд приносит нам не только плату, но, главное, делает нас духовно богаче. В хирурге, физике, садовнике больше человеческого, чем в игроке в бридж. Одна сторона труда кормит нас, другая созидает. Созидает самоотдача. И Дороти Томпсон призывает вас отдавать. Она призывает вас созидать ваше общество. Трудясь безвозмездно на благо воюющих Соединенных Штатов, вы поможете строить общество Соединенных Штатов. А еще вы построите ваше братство. Я хотел бы поделиться собственным опытом. Восемь лет я был летчиком гражданской авиации. Я получал плату. Каждый месяц я мог благодаря заработанным деньгам позволить себе кое-какие желанные блага. Но если бы труд гражданского летчика обеспечивал мне только эти определенные выгоды, за что бы мне было так его любить? Он дал мне гораздо больше. Признаюсь вам: на самом деле он сделал меня богаче только потому, что я отдал больше, чем получил. Богачом я был не в те ночи, когда просаживал заработанные деньги, а в те, когда в два часа пополуночи в Буэнос-Айресе - мы тогда прокладывали трассы в тех краях - я, бывало, только засну, измотанный чередой полетов, из-за которых тридцать часов не смыкал глаз, как вдруг меня выдергивает из постели беспощадный телефонный звонок, извещающий о какой-нибудь далекой аварии: "Срочно на аэродром... нужно лететь к Магелланову проливу..." И я с проклятиями вылезал из постели в зимнюю стужу. Накачивался черным кофе, чтобы не клевать носом в полете. Час езды в машине по наспех проложенным дорогам, грязным, ухабистым, - и я на летном поле, вместе с товарищами. Я молча пожимал им руки, еще не до конца проснувшийся, угрюмый, скрюченный ревматизмом, который так легко подхватить зимой после одной-двух бессонных ночей... Я запускал двигатели. Читал метеосводки, словно протоколы будущих неприятностей: грозы, иней, снег... И отрывался от земли, и летел в темноту, навстречу хмурому рассвету. И вот, перебирая в уме события, которые были для меня самыми важными в жизни, я понимаю, что дорожу только воспоминанием об этих тяжких трудах. Их сияющий след потрясает меня. Я помню, как чувствовал в последние предрассветные часы, что все мы - братья по оружию. Рукопожатия, перебранки как странно, что все это оставило во мне глубокий след, сравнимый разве что с памятью о любви. Поиски пропавших товарищей, ремонт отставшего самолета, невыносимая усталость - именно этой части труда обязан я своим рождением, пусть даже и не понимал тогда, как это важно. А от ночей, когда я транжирил свой заработок, остался только пепел. Я никогда не получал ничего существенного за свой труд, если рассматривать его как продукт обмена по километражному тарифу, принятому в гражданской авиации. Мой труд пропал бы впустую, если бы он просто давал мне средства к существованию и не приносил чувства моей причастности "к" чему-то. Летчик причастен "к" авиации, садовник - "к" саду, архитектор - "к" собору, солдат "к" Франции. Прокладка новых трасс делала наши сердца богаче, потому что требовала от нас жертв. Трасса рождалась из наших жертв. А благодаря ей рождались и мы. Теперь, если я повстречаю кого-нибудь из товарищей, я могу сказать ему: "Помнишь?.." Это были прекрасные времена, потому что, связанные общими жертвами, мы любили друг друга. Антуан де Сент-Экзюпери ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Послание молодым американцам С этой речью писатель выступил 7 декабря 1941 г. (в день нападения японской авиации на Перл-Харбор и вступления США в войну) перед членами одной из студенческих организаций Нью-Йорка. Речь была напечатана в мае 1942 г. в одном из американских журналов. (2) Томпсон Дороти (1893-1961) - американская журналистка, в годы второй мировой войны вела активную антифашистскую пропаганду. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг 'Поднимается ветер'
Антуан де Сент-Экзюпери Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг "Поднимается ветер"(1) Перевод: С французского Ю. А. Гинзбург В связи с этой книгой я вспомнил рассуждения моего друга с замечательном репортаже, сделанном одним американским журналистом. "У журналиста хватило вкуса, - говорил он, - записывать военные происшествия прямо со словкомандиров подводных лодок, без всяких комментариев и беллетристики Нередко он даже ограничивался тем, что воспроизводил сухие записи бортовых журналов. Как он правильно поступил, спрятавшись за этим материалом, приглушив в себе писателя. Ведь такие скупые рассказы и голые документы необыкновенно поэтичны и волнующи. Почему люди так глупы, что вечно стараются приукрасить действительность, которая столь прекрасна сама по себе? Если когда-нибудь эти моряки сами возьмутся за перо, возможно, они будут корпеть над скверными романами и скверными стихами, не подозревая, какие сокровища у них в руках..." Но я другого мнения. Эти моряки, возможно, будут сочинять скверные романы, но, значит, те же самые люди и путевые заметки писали бы неинтересно. Потому что не существует рассказов, есть только рассказчики. Нет приключений, есть искатели приключений. Непосредственной передачи действительности не бывает. Действительность - это груда кирпичей,из которой можно построить что угодно. Пусть этот журналист написал свою книгу телеграфным стилем и представил в ней одни только факты - все равно он неизбежно вклинился между действительностью и ее изображением. Он отобрал материал - ведь он рассказал не все подряд - и навязал ему некий порядок. Свой порядок. Навязав свой порядок исходному материалу, он и возвел здание. I Это относится не только к фактам, но и к словам. Предлагаю вам беспорядочную россыпь слов: "мостовая", "камень", "поленья", "стук". Сделайте-ка из них что-нибудь. Вы уклоняетесь Эти слова не из тех, что могут волновать и трогать. Однако Бодлер докажет вам, что умеет создать сильный образ, пользуясь таким словесным материалом: Поленьев гулкий стук о камни мостовой...(2) Этими словами - "мостовая", "камень" или "поленья" - можно точно так же задевать душу, как словами "осень" или "лунный свет". И я не вижу причин, почему бы писатель не мог нас увлечь "гироскопами", "глубинным давлением" в "линией прицела" точно так же, как и любовными воспоминаниями. Но я расхожусь с моим другом в том, что не вижу, почему бы писателю, с другой стороны, не увлекать нас любовными воспоминаниями точно так же, как гироскопами, глубинным давлением и линией прицела. Разумеется, мне приходилось листать сотни страниц сентиментальной чепухи. Но я читал и множество таких повествований, где меня пытались растрогать рассказом о том, как ползет вниз стрелка манометра. Хотя стрелка и падала и ее падение ставило под угрозу жизнь героя, а от жизни героя, по всей вероятности, зависела судьба тоскующей по нем супруги - все это меня не трогало, если автор был бесталанен. Факты сами по себе ничего не передают. Смерть героя - очень печальное событие, если он оставляет безутешную вдову, но, чтобы растрогать нас вдвое сильнее, недостаточно придумать героя-двоеженца. Главная проблема, очевидно, заключается в связях между действительностью и письмом, вернее, между действительностью и мыслью. Как передать чувство? Что мы передаем, когда пытаемся выразить себя? Где тут самое существенное? Это "существенное" мне представляется столь же отличным от использованного материала, как неф собора отличается от груды камней, из которых он построен. Если и есть нечто во внешнем и внутреннем мире, что можно попытаться ухватить, выразить, передать, - то это связи. "Структуры", как сказали бы физики. Вглядитесь в поэтический образ. Сила его воздействия таится не на уровне слов, его составляющих. Она не заключена ни в одном из двух членов сравнения или ассоциации, но в определенном способе их соединения, в особом расположении духа, которое навязывает нам такая структура. Образ - это действие, опутывающее читателя исподтишка. Читателя не стараются растрогать, его околдовывают. Вот почему книга Энн Линдберг показалась мне не просто честным отчетом об одной истории, пережитой авиаторами. Вот почему эта книга прекрасна. Да, автор использует только записи событий, технические подробности; ее отправной материал профессионального происхождения. Тем не менее, речь идет совсем не об этом. Меня вовсе не занимает, насколько труден был тот или иной взлет, долго ли длилось ожидание, скучала или веселилась Энн Линдберг во время путешествия. Все это руда; что из нее выплавлено? Вы скажете, произведение искусства подобно капкану. Но у добычи с капканом разное естество. Вот строитель соборов: он взял камни и создал из них тишину. Настоящая книга - как сеть, ячеями которой служат слова. Сами по себе эти ячеи не важны. Важна живая добыча, которую рыбак вытаскивает со дна морского, эти ртутные молнии, сверкающие между ячеями. Что Энн Линдберг извлекла из своих душевных глубин? Какова ее книга на вкус? Определение подыскать трудно - чтобы передать это ощущение, надо написать целую книгу и поговорить о многих вещах. И все же я чувствую, что страницы книги источают едва заметную тревогу; она обретет разные формы, но будет струиться неутомимо, тихо, как кровь в жилах. Я подметил, что если в произведении искусства есть внутренняя цельность, то проявляется она почти всегда на уровне каких-то простейших сквозных ощущений. Помню фильм, который независимо от воли режиссера оставлял, прежде всего, впечатление тяжести. Все в этом фильме давило тяжким грузом. Наследственность тяжким грузом давила на императора-вырожденца, тяжелые меховые шубы давили на плечи, невыносимый груз ответственности давил на премьер-министра. Даже двери на протяжении всего фильма были налиты тяжестью. А в последнем кадре завоеватель, подавленный тяжестью победы, медленно поднимался по ступеням темной лестницы к свету. Конечно, это сквозное ощущение не было результатом предварительных замыслов. Постановщик о нем и не думал. Но коль скоро можно его уловить, оно есть свидетельство глубинного единства. Мне вспоминается странное замечание Флобера по поводу "Госпожи Бовари" (цитирую, может быть, неточно, но смысл такой): "Эта книга? В ней я хотел, прежде всего, передать оттенок желтизны на стенах в тех углах, где иногда прячутся тараканы". Если свести к подобной простейшей формуле то, что выразила Энн Линдберг, это угрызения совести, возникающие, когда опаздываешь. Так трудно двигаться в соответствии с внутренним ритмом, если приходится преодолевать сопротивление материального мира. Вечно кажется, что все вот-вот остановится! Каким надо быть бдительным, чтобы поддерживать жизнь и движение во вселенной, которая на грани аварии. Линдберг на хрупкой лодочке обследует водную поверхность в заливе Порто-Прайя. С высокого берега Энн видит, как муж барахтается, словно крохотная букашка, увязшая в огромном пятне смолы. Каждый раз, когда она поворачивает к морю, ей кажется, что он не тронулся с места. Напрасно букашка дергает крылышками. Как трудно пересечь залив, стоит только грести чуть помедленнее - и уже никогда больше не выберешься отсюда... Вот они оба на несколько дней застряли на острове, где время не имеет значения, где время застыло. Где люди живут и умирают на одном месте и хранят в мозгу только одну коротенькую мысль, всегда одну и ту же, до той поры, пока и она не замрет. ("Здесь я главный..." - сто раз бубнит им хозяин, монотонно, как далекое эхо.) Надо снова привести время в движение. Надо вернуться на материк, надо влиться в поток, туда, где тратят себя, где меняются, где живут. Энн Линдберг боится не смерти, а вечности. А вечность совсем рядом! Как мало нужно, чтобы так и не пересечь залив, не вырваться с острова, не улететь из Батерста. Они оба, она и Линдберг, запаздывают немного. Совсем немного... Чуть-чуть... Но стоит задержаться подольше, и никто в мире вас больше не ждет. Всем нам приходилось встречать маленькую девочку, которая бегала не так быстро, как другие. Другие дети играют поодаль. "Подождите! Подождите меня!" Но она не поспевает, им надоест ее ждать, ее бросят позади, оставят одну в целом мире. Как ее успокоить? Такая тревога неизлечима. Потому что теперь, если она будет играть вместе со всеми и ей надо будет уйти, а она замешкается с уходом, то наскучит своим друзьям! Вот они уже перешептываются, поглядывают искоса... Опять они бросят ее одну в целом мире! Признание в подобном внутреннем беспокойстве звучит неожиданно в устах этой пары, которой повсюду рукоплещут толпы людей. Телеграмма им сообщает, что их зовут в Батерст, и они бесконечно признательны за это. Потом им не удается вылететь из Батерста вовремя, и они бесконечно стыдятся собственной навязчивости. Тут дело вовсе не в ложной скромности, а в ощущении смертельной опасности: запоздаешь немного - и все погибло. Благотворная тревога. Именно этот страх, что ничего и никогда нельзя будет поправить, заставляет их пускаться в путь за два часа до рассвета, опережать самих предтеч и пересекать океаны, пока еще задерживающие других людей. Как это далеко от тех повествований, где события нанизываются за событиями произвольно, словно в охотничьих рассказах! Энн Линдберг находит для своей книги тайную опору в чем-то несказуемом, первобытном и общечеловеческом, как миф. Как она умеет языком технических подробностей и простой записи происшествий говорить о загадке удела человеческого! Она пишет не о самолете, а с помощью самолета. Этот профессиональный материал служит ей средством передать нам что-то неприметное, но существенное. Линдберг не мог взлететь в Батерсте. Самолет был перегружен. Между тем этому летчику, чтобы оторвать машину от воды, было бы достаточно порыва морского ветра. Но ветра нет. И снова путешественники тщетно пытаются выкарабкаться из смолы. Тогда они решают пойти на жертвы. Они выбрасывают из самолета всю оснастку, все припасы, все приспособления без которых можно обойтись. Пробуют взлететь опять, и опять напрасно; и каждый раз решаются на новые жертвы. Мало-помалу на полу их комнаты растет груда драгоценных для них вещей, которые они с горьким сожалением отрывали от себя одну за другой, по грамму... Энн Линдберг с убедительной искренностью передала эту скромную профессиональную драму. И, разумеется, она точно чувствует поэзию полета. Поэзия эта кроется не в позолоченных закатом облаках. Позолоченные облака дешевый вздор. Поэзия может таиться в повороте отвертки, оставляющем на приборной доске, в ровном ряду датчиков, черную брешь, словно от выбитого зуба. Но не надо заблуждаться: если "писательница сумела заразить своей печалью не только профессионального летчика, но и человека, чуждого этому делу, значит, через поэзию ремесла она пробилась к поэзии общечеловеческой. Она в свой черед прикоснулась к древнему мифу освобождающего самопожертвования. Тут происходит то же, что с деревьями, которые надо подрезать, чтобы они плодоносили, то же, что с людьми, которые в темницах своих монастырей познают просторы духа и через бесконечное самоотречение достигают полнейшего самоосуществления... Но необходима и помощь богов: Энн Линдберг обнаруживает присутствие Рока. Для спасения человека мало отсечь у него часть сердца: нужно, чтобы его коснулась благодать. Мало подрезать дерево, чтобы оно зацвело: нужна работа весны. Мало сбросить лишний груз с самолета, чтобы он взлетел: нужен порыв морского ветра. Энн Линдберг, не помышляя о том, воскрешает Ифигению(3). Она пишет на уровне достаточно возвышенном для того, чтобы ее борьба со временем обрела значение борьбы со смертью, чтобы безветрие в Батерсте исподволь задало нам загадку судьбы - и чтобы внушить нам, что гидроплан, который на воде представляет собой всего лишь громоздкое и тяжелое сооружение, меняет свое естество и становится чистой чуткой кровью, ибо его коснулась благодать морского ветра. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг "Поднимается ветер" Напечатано во французском издании книги, вышедшем в свет в августе 1939 г. Энн Морроу-Линдберг (р. 1906) - американская писательница, жена знаменитого летчика Чарлза Линдберга и его помощница в нескольких перелетах. (2) Поленьев гулкий стук о камни мостовой... - строка из стихотворения Ш. Бодлера "Осенняя песнь" [текст]. (3) Энн Линдберг, не помышляя о том, воскрешает Ифигению. - По греческому мифу, ахейский флот, направлявшийся на осаду Трои, был задержан в пути безветрием. Чтобы умилостивить богов, вызвавших это препятствие, ахейцы были вынуждены принести в жертву дочь своего предводителя Агамемнона - Ифигению. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Предисловие к номеру журнала 'Документ', посвященному летчикам-испытателям
Антуан де Сент-Экзюпери Предисловие к номеру журнала "Документ", посвященному летчикам-испытателям.(1) Перевод: С французского Ю. А. Гинзбург Жан Мари Конти(2) будет говорить здесь о летчиках-испытателях. Конти выпускник Политехнической школы и верит в уравнения. Он прав. Уравнения раскладывают опыт по полочкам. Но на практике, в конце концов, машина довольно редко вылупляется из математических расчетов, как птенец из яйца. Математические расчеты иногда предшествуют опыту, но чаще просто систематизируют его, что, впрочем, очень важно. Приблизительные данные показывают, что колебания такого-то явления описываются ветвью такой-то гиперболы. Теоретик закрепляет эти экспериментальные данные в уравнении гиперболы. Но, благоговейно трудясь над расчетами, он доказывает также, что иначе и быть не могло. Когда более строгие данные позволят ему уточнить кривую, которая станет отныне гораздо более похожа на кривую совсем другого уравнения, - тогда он более строго опишет явление новым уравнением. И снова, трудясь не менее благоговейно, докажет, что это было извечно предусмотрено. Теоретик верит в логику. Он верит, что презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не понимает, что эти три феи перерядились, чтобы соблазнить его, как пятнадцатилетнего влюбленного. Он не знает, что обязан им самыми прекрасными своими открытиями. Они явились ему под именем "рабочих гипотез", "произвольных условий", "аналогий". Как мог он, теоретик, заподозрить, что обманывает суровую логику, что, слушая их, внимает голосам муз... Жан Мари Конти расскажет вам, как прекрасна жизнь летчиков-испытателей. Но он учился в Политехнической школе. Он будет утверждать, что летчик-испытатель вскоре станет для инженера чем-то вроде измерительного прибора. И конечно, я с ним согласен. Я тоже думаю, что настанет день, когда, заболев непонятным недугом, мы обратимся к ученым, которые даже не станут нас расспрашивать, а вытянут у нас шприцем капельку крови, установят по ней несколько величин и перемножат их одна на другую; а потом заглянут в таблицу логарифмов и вылечат нас одной пилюлей. И все-таки, захворав, я пока еще позову старого сельского врача, который посмотрит на меня внимательно краешком глаза, пощупает живот, положит мне на спину старый платок, послушает через него, потом кашлянет, раскурит трубку, потрет подбородок - и улыбнется мне, чтобы лучше меня вылечить. Я пока еще верю в Купе, Лана и Детруайя(3), для которых самолет - это не просто сумма параметров, а живой организм, который надо выслушивать. Они приземляются. Молча обходят машину кругом. Кончиками пальцев гладят фюзеляж, ощупывают крыло. Они не вычисляют - они размышляют. Потом поворачиваются к инженеру и говорят спокойно: "Так вот... Надо подтянуть стабилизатор". Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я восхищаюсь и Мудростью. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Предисловие к номеру журнала "Документ", посвященному летчикам-испытателям . Напечатано в этом номере журнала 1 августа 1939 г. (2) Конти Жан Мари - французский авиатор, готовивший для журнала материалы о летчиках-испытателях. (3) Купе. Лай. Детруайя - французские летчики-испытатели. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Преступление и наказание перед лицом советского правосудия
Антуан де Сент-Экзюпери Преступление и наказание перед лицом советского правосудия Перевод: С французского Д. Кузьмина Первое, что сказал судья, едва началась наша беседа в его кабинете, показалось мне и самой главной его мыслью: "Не в том дело, чтобы наказывать, а в том, чтобы исправлять". Говорил он так тихо, что я наклонился, чтобы расслышать, между тем его руки осторожно разминали невидимую глину. Глядя далеко поверх меня, он повторил: "Надо исправлять". Вот, подумал я, человек, не знающий гнева. Он не удостаивает себе подобных признанием того, что они действительно существуют. Люди для этого судьи хороший материал для лепки, и как не чувствует он гнева, так не чувствует и нежности. Можно прозревать в глине свое будущее творение и любить его большой любовью, но нежность рождается только из уважения к личности. Нежность свивает гнездо из мелочей - забавных черточек лица, пустяшных причуд. Теряя друга, оплакиваешь, быть может, это его несовершенство. Этот судья не позволяет себе судить. Он как врач, которого ничто не поражает. Он лечит, если может, а если не может, то, служа всему обществу, расстреливает. Приговоренный заикается, на его губах страдальческая гримаса; у него ревматизм, и от этого он так смиренно близок нам, - но все это не вызовет милосердия судьи. И я догадываюсь уже, что за великим неуважением к отдельному человеку здесь стоит великое уважение к человеку вообще, длящемуся из века в век поверх отдельных человеческих жизней и созидающему великое. А виновный, думаю я, здесь больше ничего не значит. Я понимаю теперь, почему русское законодательство, так часто карающее смертью, не предусматривает заключения больше чем на десять лет и допускает всяческие снижения этого срока. Если отступник может вернуться в лоно общества, он вернется и раньше. Зачем же продлевать наказание, если наказанный уже стал другим человеком? Ведь и с арабским вождем, признавшим наши законы, мы обращаемся как с равным. Так что само понятие наказания здесь, в СССР, потеряло смысл. У нас говорят, что осужденный расплачивается за свой долг. И каждый год искупления - выплата по некоему незримому счету. Долг может оказаться неоплатным - и тогда осужденному отказывают в праве снова стать человеком. И пятидесятилетний каторжник все еще платит за двадцатилетнего мальчика, которого гнев однажды толкнул на убийство. Судья продолжает, будто размышляя вслух: "Если надо вызвать страх, если преступления против общества множатся и речь уже идет об эпидемии, - мы караем более сильно. Когда армия разлагается, мы расстреливаем для примера. И тот, кто двумя неделями раньше получил бы три года исправительных работ, расстается с жизнью за мелкий грабеж. Но мы остановили эпидемию, мы спасли людей. Если что и кажется нам аморальным - то не эта жестокость в случаях, когда общество в опасности, а заключение заключенного в рамки одного-единственного слова. Разве убийца является убийцей по своей природе, на всю жизнь, как негр - на всю жизнь негр? Убийца - всего лишь истерзанный человек." Руки судьи все лепят и лепят невидимую глину. "Исправлять, исправлять, - говорит он. - Мы достигли на этом пути больших успехов". Попробую встать на его точку зрения. Представляю себе гангстера или сутенера, их мир - со своими законами, своей моралью, своей жестокостью и самоотверженностью. Признаю: человеку, прошедшему такую школу, не стать деревенским пастухом. Он не сможет без приключений, без ночных засад. Без упражнения способностей, выработанных в нем его жизнью, - будь то решительность, смелость, быть может, талант вожака. Он будет чувствовать себя ущемленным, сколько ни тверди о преимуществах добродетели. Жизнь накладывает свой отпечаток. Проститутки тоже отмечены печатью своего ремесла и не слишком позволяют обратить себя в другую веру: они сжились с тоской изматывающего и горького ожидания, с ледяным и скорбным вкусом рассвета, с самим страхом своим, наконец, со свежим рогаликом - лучшим другом в пять утра, в час замиренья с полицией и всем этим непокорным, враждебным городом, в час, когда распутывается хитросплетенье ночных угроз. Кто знает вкус беды? Те и другие стали собой на войне, а потому их не прельстит мир. Тем более - мир, основанный на совести. Но вот перед нами чудо. Этих воров, сутенеров, убийц вытаскивают из каторжной тюрьмы, словно из гигантского бака, и отправляют под охраной нескольких ружей рыть канал от Белого моря до Балтийского. Вот и снова приключение для них, да еще какое! Им предстоит, пахарям-исполинам, провести борозду от моря до моря, глубокую, как овраг, под стать морским кораблям. Возвести соборы стройплощадок и встретить земляные пласты, оползающие с откосов выемки, лесом мощных брусьев, трещащих, точно солома, под напором сил Земли. С приходом ночи они возвращаются в бараки под прицелом карабинов. И густая усталость разливается мертвой тишиной над этим народом, разбившим лагерь на самом переднем крае своего пути, лицом к еще не тронутым землям. И мало-помалу людей захватывает эта игра. Они так и живут бригадами, управляют ими свои инженеры и мастера (ведь в тюрьме оказываются и они). Во главе встают те из них, кто лучше умеет предъявить свой дар вожака. - Да, в том, что касается основ правосудия, я согласен с вами, господин судья. Но нескончаемая борьба, постоянный надзор, внутренний паспорт, порабощение человека коллективом, - вот что кажется нам недопустимым. И, однако, я начинаю понимать и это. Они требуют, чтобы люди не только подчинялись законам созданного здесь общества, но и жили ими. Они требуют, чтобы люди объединялись в единый социальный организм не только по видимости, но и всем сердцем. И только тогда они ослабят дисциплину. Один мой приятель рассказал мне прекрасную историю, она немного прояснит, в чем тут дело. Опоздав на поезд в каком-то далеком маленьком городке, он устроился ближе к вечеру в зале ожидания местного вокзала, между узлов с пожитками, среди которых попадались неожиданные предметы, вроде самоваров; он подумал, что это вещи отъезжающих. Но наступила ночь, и один за другим в зал стали возвращаться хозяева всего этого скарба. Они шли неспеша, умиротворенные обыденностью происходящего. В лавочках по дороге они купили все необходимое и теперь собирались варить овощи. Воцарился дух доверия, как в старом семейном пансионе. Кто-то пел, кто-то вытирал нос ребенку. Мой приятель спросил у начальника вокзала: - Что они тут делают? - Ждут, - ответил тот. - Чего ждут? - Разрешения ехать. - Ехать куда? - Просто ехать, сесть на поезд. Начальник вокзала не был этим удивлен. Они просто хотели ехать. Неважно куда. Чтобы исполнить свое предназначение. Чтобы открыть для себя новые звезды: эти, здешние, казались им траченными временем. Мой приятель сперва восхитился их терпением: два часа в этом зале ожидания представлялись ему уже невыносимыми, три дня свели бы его с ума. Но эти люди потихоньку пели и мирно склонялись над самоварами; и тогда он снова подошел к начальнику вокзала и спросил: - А давно они ждут? Начальник приподнял фуражку, почесал лоб и огласил плод своих подсчетов: - Пожалуй, лет пять или шесть. Потому что у многих русских - душа кочевника. Они не слишком привязаны к своему жилью, им не дает покоя древняя азиатская страсть к странствиям караваном, под светом звезд. Это племя вечно устремляется на поиски: Бога, правды, будущего... А дом - привязывает к земле, и от него освобождаются легко, как нигде. Как постигнуть это равнодушие, приехав из Франции, где маленький домик на краю поля, потихоньку прядущий тонкую шерстяную ниточку дыма, обладает таким могущественным притяжением? Где судебный исполнитель, выселяя вас, вторгается в самую плоть, разрывая тысячи незримых уз? Во Франции невозможно вообразить жителей Севера, заполонивших вокзалы и опьяненных зовом Прованса: на Севере любят свой родной туман. А здесь... Здесь любят огромный мир. Здесь живут, быть может, не столько в доме, сколько в мечте. Нужно приучить этих людей к земле. Нужно приучить их к земному. И власть борется с этими вечными странниками. С внутренним зовом тех, кто заметил звезду. Нужно не дать им пуститься в странствия - к северу, к югу, по воле незримых приливов и отливов. Нужно не дать им пуститься в странствия вновь, к какому-то новому общественному строю - ведь Революция уже свершилась. Не от звезд ли занимаются пожары в этой стране? И тогда строят дома, чтобы приманить кочевников. Не сдают жилье, а продают его. Вводят внутренний паспорт. А тех, кто поднимает глаза к небу с его опасными знаками, отправляют в Сибирь, где надо еще выжить зимой в 60 градусов мороза. Так, может быть, создают нового человека - стойкого, влюбленного в свой завод и коллектив, как садовник во Франции влюблен в свой сад. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ Май 1935 года Сент-Экзюпери провел в Москве, в качестве корреспондента газеты "Пари-Суар": это была одна из первых его больших журналистских работ. К журналистике писатель обратился в связи с денежными затруднениями (гражданская авиация Франции переживает в первой половине 30-х сложный период реорганизации), но наблюдения журналиста быстро становятся для него важнейшим источником литературного творчества; это относится и к московским очеркам, один из которых, описывающий ночную поездку в поезде по пути в Россию, почти без изменений вошел затем в заключительную главу "Планеты людей". Сент-Экзюпери прислал из Москвы пять репортажей, первый из них был опубликован 3 мая. Днем раньше, 2 мая 1935 года, Франция и Советский Союз подписали Договор о дружбе. Неудивительно, что общая тональность репортажей из Москвы для французской газеты должна была быть сочувственной. Однако пафос переустройства мира к лучшему, вынесенный на знамя советского строя, был сам по себе чрезвычайно близок Сент-Экзюпери. Оборотная же сторона советской действительности в середине 30-х была непонятна практически никому из западных интеллектуалов, и первым полномасштабным свидетельством о ней стала год спустя книга Андре Жида. При всем том Сент-Экзюпери не отстраняется от несимпатичных ему черт жизни СССР - скажем, о всевозрастающем самовластьи Сталина он пишет в таких, например, тонах: "Это своеобразная власть. В один прекрасный день Сталин издал указ о том, что порядочный человек должен следить за своим внешним видом и что небритость - признак расхлябанности. Назавтра же мастера на заводах, заведующие отделами в магазинах, профессора в институтах не допускали к работе небритых. /.../ Я не видел на улицах Москвы ни одного милиционера, ни одного солдата, продавца напитков, просто прохожего, который был бы небрит. /.../ И вполне можно вообразить себе, как однажды Сталин из недр Кремля объявит, что уважающий себя пролетарий должен носить вечерний костюм. Россия в этот день будет ужинать в смокингах." (Перевод наш; при публикации этого очерка в СССР подобные пассажи, разумеется, пропускались.) "Преступление и наказание" впервые появилось по-русски в 1996 г. в переводе Е. и Т.Кушнер, имеющем мало общего с подлинником. Переводчик настоящего издания благодарит за консультации А.Карвовского и Н.Сабсович. Д. КузьминАнтуан де Сент-Экзюпери Смысл жизни
Предисловие
Статьи, вошедшие в эту книгу, ранее не переиздавались, воспроизведены без изменений и расположены в хронологическом порядке. Для читателя они станут откровением, познакомив с еще неведомым де Сент-Экзюпери — новеллистом, репортером, лектором, автором предисловий. Открывают книгу самые ранние произведения писателя. Первое — фрагмент повести «Бегство Берниса», потерянной автором. Жан Прево, секретарь редакции журнала «Навир д'Аржан», издаваемого Адриенной Монье, опубликовал его в апрельском номере 1926 года под названием «Авиатор». Прево был поражен талантом и правдивостью начинающего автора. В «Авиаторе» есть страницы, достойные войти в лучшие произведения зрелого де Сент-Экзюпери, написанные в присущей ему стилистике. Жан Прево познакомился с Антуаном де Сент-Экзюпери в салоне Ивонны де Лестранж в декабре 1925 года. Молодые люди были ровесниками. Жан Прево участвовал в Сопротивлении, был в отряде Веркора, он погиб на следующий день после гибели де Сент-Экзюпери. За «Авиатором» следуют очерки, написанные де Сент-Экзюпери во время поездок в Россию и Испанию, опубликованные в газетах «Пари суар» («Вечерний Париж») и «Энтрансижан» («Непримиримый»). Сент-Экзюпери отправился в Москву после турне с чтением лекций по Средиземноморью, которое он совершал вместе с друзьями летчиками Жаном-Мари Конти и Андре Прево в конце апреля 1935 года. После катастрофы, оборвавшей перелет Париж-Сайгон[349], Сент-Экзюпери, вернувшись из Египта, вынужден был выплачивать большую неустойку и поэтому с большим воодушевлением принял предложение газеты «Энтрансижан» поехать в качестве спецкора в Испанию, где началась гражданская война. В августе 1936 года он отправил в газету свои очерки о Барселоне и боях в Лерида. Год спустя он вновь приедет в Испанию, но корреспондентом «Пари суар», остановится в Мадриде и будет писать о линии фронта в Карабаншеле. Очерки Сент-Экзюпери интересны и как его живые, непосредственные впечатления, и как глубокое осмысление этих впечатлений. Не одна страница «Планеты людей» будет написана под влиянием этого жизненного материала — Моцарт, пробуждение сержанта-испанца… В очерках уже зазвучали темы, которые обретут полноту в «Цитадели», — уважение к человеку, смерть, рвение, справедливость, порядок, милосердие.Очерк «Мир или война?» был написан сразу после Мюнхена и опубликован в октябре 1938 года в «Пари суар». Мы знакомимся с Сент-Экзюпери, охваченным тревогой за будущее, пытающимся найти возможность примирить враждующие стороны, понимающим, что это невозможно и что настоящее — лишь прелюдия будущей мировой катастрофы. В этот миг он вспоминает испанцев, которые ночью переговариваются через фронт из траншеи в траншею. Из тех же тревог и тех же предчувствий родился роман Мальро «Надежда». Последняя из трех глав «Мира или войны?» носит название «Надо придать смысл человеческой жизни» и волнует больше других. Мы находим в ней мысли и чувства, которые Сент-Экзюпери разовьет в «Письме генералу X»: отвращение к войне, горечь от того, что тяжелые времена превращают человека в робота, лишая его возможности думать. К размышлениям о противоречиях, к образам пастуха, дозорного, землепашца он вернется в «Цитадели». В октябре 1929 года Сент-Экзюпери был назначен директором филиала «Аэропосталь» в Южной Америке, где нужно было прокладывать новые авиатрассы. Так же, как Гийоме, как Мермоз, он совершал разведывательные полеты. В одном из них над Патагонией попал в циклон. В августе 1939 года еженедельник «Марианна» не поскупился на целую страницу, отдав ее рассказу об этом поединке, который был назван «Пилот и стихии». Этот рассказ часто сравнивали с рассказом Конрада «Тайфун», который, кстати, вспоминает и сам Сент-Экзюпери, говоря, что человек не может сразу осознать, что с ним происходит, не понимает, что на него обрушилось, так как вынужден беспрестанно действовать, и только, вспоминая, видит, что же он пережил. За очерками помещены «Письмо французам» и «Письмо генералу X». «Письмо французам» было написано сразу же после высадки англо-американских частей в Северной Африке в ответ на оккупацию немцами Южной. Главная его тема — единство, столь необходимое для французов. Призыв Сент-Экзюпери появился в газете «Канад» («Канада») в Монреале, был переведен на английский и опубликован в «Нью-Йорк тайме мэгэзин», перепечатан во всех североафриканских газетах, передан по всем американским радиостанциям, вещающим по-французски. Мыслью о необходимости единства проникнуто и «Письмо к заложнику», о том же напоминает и конец «Военного летчика»: «А побежденные должны молчать. Как зерна». С «Письмом генералу X» читатель знаком лучше. Оно было написано в июле 1943 года в Лa-Mapca, неподалеку от Туниса. Осмысленность человеческой жизни — вот главная забота Сент-Экзюпери и в этом письме, и в «Мире или войне?». Завершают книгу предисловия Сент-Экзюпери к двум книгам и номеру журнала «Доюоман», посвященного летчикам-испытателям. Выступив как автор предисловий, писатель опять говорит о главном: «Самое главное? Это, пожалуй, и не высокие радости ремесла, и не его печали, и не опасности, но та точка зрения, до которой они поднимают человека». Живительная книга, представляющая Сент-Экзюпери мастером тех литературных жанров, заниматься которыми его вынудили обстоятельства, вновь погружает нас в мир напряженной и деятельной мысли человека, страстно желавшего осмыслить жизнь и наполнить ее смыслом для всех людей. Клод Рейналь
АВИАТОР
Перевод с французского Марианны КожевниковойКолеса с силой давят на тормозные колодки. Завертелся винт, поднялся ветер, и трава метров на двадцать впереди заструилась, словно вода. Одним движением руки летчик может выпустить бурю, может удержать ее. Шум нарастает, мощнее, мощнее, и вот уже ощутимая плотная среда, окружившая летчика. Когда пилот чувствует, что шум проник в него, его заполнил, слился с ним, он думает — «хорошо» и прикасается тыльной стороной ладони к гондоле — нет, не дрожит. Он рад, что энергия обрела такую плотность. Летчик наклоняется: «Друзья! Счастливо». Ради прощанья на рассвете друзья пришли, волоча за собой безразмерные тени. Но на пороге прыжка длиной в три тысячи километров летчик уже не с ними… Он смотрит на силуэт фюзеляжа, нацелившегося в небо, — против света он похож на ствол гаубицы. За винтом дрожащей пеленой стелется пейзаж. Винт теперь вращается не спеша. Летчик расслабляет руки, так отдают швартовы. Дивясь тишине, он застегивает ремни безопасности, крепления парашюта, потом двигает плечами, туловищем, устраиваясь поудобнее в гондоле. Еще немного — и взлет, с этого мига он уже в ином мире. Последний взгляд на приборную доску, где застыли говорящие циферблаты, — высотомер летчик аккуратно переводит на ноль. Последний взгляд на толстые короткие крылья, одобрительный кивок: «порядок», вот теперь он свободен. Катит медленно навстречу ветру, тянет ручку газа на себя, мотор выбрасывает гарь, становится горячее, самолет рвется вперед, роя винтом воздух. Эластичная струя воздуха подбрасывает самолет вверх, принимает обратно, смягчая удар. Прыжок, еще прыжок, еще. Летчик подлаживает скорость самолета к потоку воздуха, слившись с ним, чувствует, что расширяется, растет. Земля перед глазами вытягивается, вьется ремешком между колесами. Воздух сначала неощутимый, потом текучий, теперь уплотнился, пилот опирается на него и поднимается выше, выше. Исчезли ангары, что стоят вдоль взлетной полосы, потом деревья, потом холмы, и все шире и шире открывается горизонт. С высоты двухсот метров все кажется игрушечным — малютки деревья, раскрашенные домики, леса, похожие на клочки меха. Поднимешься еще выше, и земля оголится. Вокруг неспокойно, короткие жесткие волны толкают самолет, он упирается, задирает нос, завихрения сбоку теребят крылья, гондола дрожит. Но рука летчика удерживает самолет, будто Фемида чаши весов. На высоте трех тысяч метров полный покой, солнце висит неподвижно, вокруг ни единого колебания. И земля — так до нее далеко — тоже совершенно неподвижна. Летчик прикрывает закрылки, проверяет рули высоты, взятый на Париж курс и зависает на десять часов, отмечая лишь движение времени.
* * *
Неподвижные волны лежат на море веером. Солнце наконец стронулось с места. Пилот вдруг физически ощутил неудобство. Посмотрел: задрожала стрелка на счетчике оборотов. Посмотрел: внизу море. Мотор захрипел, запнулся, мысли тоже запнулись, и в голове пусто. Синкопа. Рука летчика автоматически тянет ручку газа. Что это? Капля воды? Пустяки. Летчик бережно доводит гуденье мотора до той ноты, которая его успокаивает. Если бы не холодный пот на лбу, никогда бы не поверил, что было страшно. Летчик снова слегка наклонился вперед, снова крепко оперся локтями о борта гондолы — так он чувствует себя спокойно и надежно. Теперь солнце нависает над ним. Усталость не мешает, если лишний раз не шевелиться, если не тревожить защитившегося неподвижностью тела, если достаточно легких касаний, чтобы управлять самолетом. Уровень масла падает, потом поднимается — что еще стряслось? Мотор начал стучать. Вот сволочь. Солнце повернуло налево и уже покраснело. В голосе мотора слышится что-то металлическое. Нет… вряд ли шатун. Тогда что? Насос? Гайка на ручке подачи газа ослабла, теперь попробуй, выпусти ее из рук. Новое неудобство! Кто ж его знает? Может быть, и шатун. Сиплое дыхание, расшатанные зубы, седые волосы говорят, что организм изношен. С моторами то же самое. Хорошо бы додержаться до земли.* * *
Земля действует успокаивающе — аккуратные квадратики полей, прихотливая геометрия лесов, деревеньки. Пилот опускается ниже, чтобы лучше видеть землю. С большой высоты она кажется голой и мертвой, самолет снижается, и земля меняется: опушается лесами, покрывается зыбью впадин и возвышенностей — она словно бы дышит. Летчик планирует над горой, что похожа на спящего великана; стоит великану набрать в грудь побольше воздуха, и он толкнет самолет. Стойка на капоте нацелена на сад, сад расширяется, раскрывается, как объятья… «Мотор рокочет веселым громом». А настораживающий стук, в который он вслушивался? Летчику не верится, что он был. Рядом земля — сама жизнь. Он еще снижается, повторяя изгибы долины, что сереет лентой прокатного стана. Самолет тянет на себя поля, как простыни, отбрасывая их позади себя. Бросил тень на тополя и забыл о них, потом чуть приподнялся, чтобы пошире раздвинуть горизонт, так борец набирает полную грудь воздуха. Теперь летчик правит на аэродром, летит низко, видит сквозь стеклянную крышу завода свет, видит парк, видит сгустившуюся тень. Земля струится потоком и выносит ему навстречу из неистощимого окоема крыши, стены, деревья… Приземление — чистое надувательство. Обменял мощь ветра, рев мотора, свистящий шелест последнего виража на глухую провинцию: стену ангара, заклеенную белыми листками объявлений, подстриженные тополя, зеленый газон, на который выходят цепочкой юные англичанки с ракетками под мышкой из самолета Лондон — Париж. Пилот растягивается на земле возле липкого фюзеляжа. К нему бегут со всех сторон: «Отлично!», «Чудесно!». Офицеры, друзья, зеваки… Усталость внезапно берет его в тиски. «Мы вам поможем подняться!..» Пилот поднимается, наклоняет голову и смотрит, как блестят у него руки от масла, хмель прошел, ему грустно до смерти.* * *
Теперь он всего-навсего Жак Бернис в пиджаке, чуть отдающем запахом камфары. Он весь поместился в затекшем, неловком теле и берет из аккуратно поставленных в углу чемоданов только преходящее, временное. А комната пока не обжита даже книгами, даже белоснежными простынями. — Алло! Это ты? Он вновь ощущает близость друзей. Слышит восклицания, поздравления. — Точно с неба свалился! Молодчага! — Так и есть, прямо с неба. Когда увидимся? Если честно, сегодняшний вечер занят. Значит, завтра? Завтра всей компанией играют в гольф, пусть он тоже приходит. Неохота? Тогда послезавтра пообедают вместе. Ровно в восемь часов. Бернис идет вверх бульварами. Ему кажется, он расшевеливает толпу, как сквозняк. Как будто бросает вызов. Навстречу такие попадаются, что тошнит, — едва шевелятся, разомлев от лени. А завоюешь вот эту женщину, и жизнь разомлеет, потечет еле-еле. Встречаются мужчины-трусы, а он в себе чувствует столько силы… Ощущая переполняющую его силу, он входит в дансинг. Бросает взгляд на жиголо, пальто не снимает, сохраняет форму любопытствующего путешественника. Жиголо суетятся всю ночь в этом загончике, будто рыбки в аквариуме, выдумывают комплименты, танцуют, подходят к стойке, когда захочется выпить. В полупьяной компании Бернис один сохраняет трезвый рассудок, в нем чувствуется весомая мощь грузчика, он твердо стоит на ногах, мысли у него не плывут, не дробятся. Решил посидеть и пробирается к свободному столику. У женщин, которых он задевает взглядом, гаснут глаза, они их отводят или опускают. Так при его приближении гаснут во время ночных обходов сигареты часовых. Гибкие молодые люди расступаются, давая ему дорогу.* * *
Берниса назначили инструктором учебного отделения, и сегодня он завтракает в кафе по соседству с учебным аэродромом. Унтер-офицеры пьют кофе и переговариваются. Бернис невольно слышит их разговор. «Заняты делом. Славные ребята». Ребята толкуют о взлетной полосе, что раскисла от дождей, о наградных за сопроводительные полеты, о сегодняшних происшествиях. — Лечу на небольшой высоте, и представляешь, невезуха? Лопнул цилиндр. Вокруг ни одной площадки. Вижу двор позади фермы. Скользнул на крыло, выровнялся, и — бабах! — в навозную кучу. Раздается громкий смех. — Со мной еще смешнее было. В один прекрасный день врезался в стог сена. А наблюдатель мой, лейтенант, представьте себе, из гондолы вывалился! Уж я искал его, искал! А он сидит себе в сене… Бернис думает: они были на волосок от гибели, уцелели, и для них это стало смешным случаем. Говорят не рисуясь, буднично, обыкновенно, будто подают рапорт или отчет. Славные ребята. Мы тут все свои не потому, что однополчане, а потому, что можем говорить друг с другом попросту. Это женщины всегда просят: расскажите, что вы там почувствовали.* * *
— Стажер Пишон? — Я. — Вы когда-нибудь летали? — Нет. Вот и хорошо, значит, начнем с чистого листа. Бывшие наблюдатели уверены, что уже все знают. У них на слуху команды: «ручку влево», «педаль от себя». Учить их непросто, упрямятся. — Пойдемте, в первом полете будете только смотреть. Оба устраиваются в гондоле. Механик летной школы раскручивает винт с непростительной медлительностью. Ему здесь маяться еще шесть месяцев и одну неделю, о чем он и сделал запись сегодня утром в туалете. Нацарапал, а потом подсчитал: впереди примерно десять тысяч оборотов винта. Каждый день одно и то же. Ну и куда торопиться, спрашивается… Стажер оглядывает голубое небо, дурацкие деревья, коров, что пасутся возле взлетной полосы. Инструктор протирает рукавом ручку газа: приятно, когда она блестит. Механик считает про себя обороты: насчитал уже двадцать два, сколько энергии зря пропало… — Может, свечи почистишь? Механик всерьез задумывается. Мотор, если захочет, то заведется. Лучше оставить его в покое. Тридцать. Тридцатьодин. Завелся. Стажеру больше ничего не говорят слова «опасность», «героизм», «опьянение полетом». Аэроплан катится, стажер считает, что еще по земле, и вдруг видит внизу ангар. Ветер изо всех сил дует ему в щеки. Стажер уперся взглядом в спину инструктора. Господи! Что это? Неужели уже вниз? Земля качнулась налево, потом направо. Он цепляется за гондолу. Где она, эта земля? Он видит леса, они поворачиваются, приближаются, справа висит полотно железной дороги, небо… и вдруг прямо под шасси ложится спокойное ровное поле. Инструктор оборачивается, у него на лице улыбка. Стажер пытается понять, что произошло. Бернис учит: — Если происходит что-то неожиданное, соблюдайте следующие правила: первое — выключайте мотор, второе — снимайте очки, третье — крепче цепляйтесь за борта гондолы. Отстегивайте ремни только в случае пожара. Ясно? — Ясно! Наконец-то! Стажер дождался: ему сказали об опасности, сделав ее ощутимой, а его достойным знать о ней. Штатским обычно говорят: «Опасности никакой». Пишон горд, что ему доверили тайну. — Впрочем, — прибавляет инструктор, — авиация — вещь не опасная.* * *
Все ждут Мортье. Бернис не спеша набивает трубку. Механик сидит на бидоне, подперев руками голову, и не без удивления наблюдает за своей левой ногой, которая отбивает такт. — Странное дело, Бернис, время словно застопорилось. Механик поднимает голову и видит, что горизонт уже заволокло туманной дымкой. Два-три дерева вдалеке видны пока отчетливо, но туман уже спеленал их понизу. Бернис стоит, по-прежнему опустив голову, и набивает трубку. — Да, остановилось, и мне это не нравится. У Мортье контрольный полет на диплом летчика, он давно должен прилететь. — Бернис, вы бы им позвонили… — Звонил уже. Он вылетел в четыре двадцать. — И с тех пор никаких известий? — Никаких. Полковник уходит. Бернис, уперев в бока руки, смотрит сердито на туман, — раскинулся, будто сеть, и прижал, кто его знает, где, ученика к земле. «А у Мортье никакого хладнокровия, и самолетом управляет кое-как, вот беда-то!» — Смотри-ка!.. Нет, не то, едет какой-то автомобиль. «Мортье, если ты выберешься из тумана, я тебе обещаю… я… я тебя расцелую!» — Бернис! Тебя к телефону! — Алло! Что за идиот надумал снести крыши в Доназеле? — Этот идиот сейчас разобьется, оставьте его в покое, ругайте лучше туман! — Но… Неужели? — Отправляйтесь искать его с лестницей! Бернис вешает трубку. Мортье заблудился, пытается найти ориентир. Туман опускается толстым мягким пологом, теперь и в десяти метрах ничего не разглядишь. — Бегом в медицинскую часть за машиной «Скорой помощи». Если не будет здесь через пять минут, под арест на две недели! — Самолет! Все вскакивают. Ослепший самолет продирается к ним, их не видя. Полковник присоединяется к кучке смотрящих. — Господи! Господи! Господи! — машинально твердит он. Бернис шепчет про себя: — Выключи мотор, выключи, выключи… Прошу тебя, выключи мотор, выключи, выключи… Ты же обязательно врежешься! Мортье увидел препятствие лишь в десяти метрах от себя, но что увидел, никто не узнает. Кто только не бежит к упавшему самолету. Солдаты — неожиданное событие сорвало их с места; унтер-офицеры, ревностные служаки; офицеры с огромным чувством неловкости. Дежурный офицер хоть ничего не видел, но объясняет, как все произошло, полковник наклонился ниже всех, он и тут «отец-командир». Пилота наконец вытащили из гондолы, он бледен до синевы, левый глаз у него выпучен, сломана челюсть. Его положили на траву, встали кружком. — Может, можно… — говорит полковник. — Может, можно… — повторяет лейтенант. Унтер-офицер расстегивает ворот на комбинезоне раненого, вреда это не принесет, а всем становится легче. — «Скорая помощь»! Где она? — спрашивает полковник. По долгу службы он пытается принять решение. — Уже едет, — отвечают ему, хотя никто ничего не знает. Ответ успокаивает полковника. — Кстати, вот еще что! — восклицает полковник и скорым шагом уходит, сам не зная, куда и зачем. Суета не нравится Бернису. Толпа, собравшаяся вокруг умирающего, коробит его. — Идите, ребятки, идите… Расходитесь потихоньку… Люди по двое, по трое расходятся, исчезают в тумане, что ползет со стороны огородов и яблоневых садов, над которыми падал самолет. Пилот-стажер Пишон сделал для себя открытие: смерть — событие будничное. Встреча со смертью возвысила его в собственных глазах. Он вспоминает свой первый вылет с Бернисом, разочарование от того, что земля такая плоская, что все так спокойно, он не разглядел за спокойствием близости смерти. Но она там была, обыденная, заурядная, ее заслоняла улыбка Берниса, равнодушие механика, ослепительное солнце, синее небо. Пишон берет Берниса за руку. — Я хочу вам сказать… Завтра я непременно полечу. Не побоюсь. Берниса не восхищает его бесстрашие. — Полетите, ясное дело. Будете тренировать спирали. До Пишона доходит еще кое-что. — Только кажется, что они не переживают, им просто не до разговоров. — Обычная авария, — отзывается Бернис.* * *
Высота кружит Бернису голову. Одноместный самолет-истребитель громко рокочет. Земля внизу некрасивая — ископанная, изношенная, заплата на заплате, будто всю ее поделили. Четыре тысячи триста метров, Бернис один. Он смотрит на разноцветную мозаику внизу, будто на карту Европы в атласе. Желтые участки — пшеница, лиловые — клевер, людям они нужны одинаково, они сеют то и другое, но на взгляд участки враждуют, противостоят друг другу. Десять веков борьбы, ревности, соперничества выверили в конце концов границы, теперь людское достояние разместилось прочно. Бернис думает, что хмель мечтаний ему больше не нужен, мечты усыпляют, обессиливают, его теперь опьяняет мощь, и он ей хозяин. Он прибавляет скорость, резко увеличив подачу газа, потом медленно и плавно тянет ручку на себя. Горизонт опрокидывается, земля откатывает назад, будто море во время отлива, самолет устремляется прямо в небо. На вершине параболы он опрокидывается и покачивается животом вверх, как мертвая рыба… Пилот, погрузившись в небо, видит над собой землю, она похожа на пляж, и вдруг головокружительно обрушивается на него всем своим весом. Он выключает мотор, земля застывает неподвижно вертикальной стеной: самолет проходит высшую точку. Бернис осторожно подтягивает его, пока перед ним вновь не расстилается мирный окоем горизонта. Виражи вдавливают Берниса в кресло; свечи делают легче легкого, превращая в шарик, готовый лопнуть; прилив смывает горизонт, отлив возвращает на место; послушный мотор урчит, стихает и вновь урчит… Сухой треск: левое крыло! Пилота подловили, на лету подставили подножку: воздух под ним подкосился. Самолет штопором падает вниз. Окоем опускается на него покрывалом. Земля закручивает, поворачивая вокруг него леса, колокольни, равнины. Пилот видит: будто пущенная из пращи, пролетает мимо него белая вилла… Мертвого пилота, как волна утопленника, накрывает земля.РЕПОРТАЖИ
Перевод с французского Марианны Кожевниковой, Дмитрия Кузьмина, Рида Грачева
МОСКВА
Под гул тысячи самолетов Москва готовится праздновать годовщину революции
Позавчера вечером, в канун 1 Мая, я бродил по улицам ночной Москвы и смотрел, как она готовится к необычайному празднеству. Город превратился в строительную площадку. Одни бригады украшали дома и памятники лампочками, флагами и красными полотнищами; другие отлаживали прожекторы, третьи суетились прямо на Красной площади, возя тачки с булыжником, ровняя мостовую. Ревностная ночная работа кипела повсюду — шла большая игра, танцевался трудный молчаливый танец вокруг костров. Ветер надувал огромные красные полотнища на фасадах домов, и казалось, парусники готовы тронуться в путь, все сдвинулось с места, пустилось в странствие к неведомым горизонтам. Мужчины и женщины работали, не останавливаясь. Те самые мужчины и женщины, числом около четырех миллионов, что послезавтра пройдут колонной по площади перед Сталиным, воздавая всем городом ему честь. Вот на стену подняли огромное, похожее на памятник, панно: на фоне заводов словно вырубленный топором Главный мастер, и я решил не спеша обойти вокруг Кремля, где, быть может, мастер уже спит, где, быть может, тоже готовятся к празднику. — Проходите! Охрана днем и ночью бдит над запретным кварталом, где обитает Хозяин. Оказывается, вдоль красных стен гулять запрещено. Как же оберегают этого человека! Не только стены и часовые охраняют крепость, что похожа на город и вмурована в город, — внутри Кремля между стенами и зданиями, темными, поблескивающими золотом, зеленеют откосы-ловушки. Зеленый безмолвный пояс окружает Сталина, ни один человек не проскользнет через него незамеченным, любое появление покажется взрывом. Тихо, пустынно. Легко вообразить, что Сталин не существует вовсе, до такой степени он незрим. Однако спящий сейчас под охраной часовых, зеленых откосов, стен воодушевляет незримым присутствием всю Россию, действует на нее, как бродило, как дрожжи. И если никто не видит самого вождя, сотни тысяч его портретов висят на московских улицах. Нет магазинной витрины, ресторана, театра без портрета, нет стены, с которой бы он не смотрел. И мне кажется, я разгадал причину такой удивительной популярности. Поначалу, я думаю, Сталин показался русским безжалостным угнетателем. Он навис над Россией, когда люди пытались спастись, кто как мог: одни бегством за границу, другие грабежом, третьи спекуляцией. Сталин запер голодных и отдал приказ: «Не трогайтесь с места! Стройте! Голод и нужда — враги, которых можно уничтожить на месте, нося камни, копая землю». Так он повел народ к земле обетованной, и эту обетованную землю заставил родиться на месте пустоши, отказавшись от исхода на тучные пастбища, отказавшись от миражей, порожденных авантюристами. Удивительная, необычная власть. В один прекрасный день Сталин объявил, что только тот достоин имени человека, кто не пренебрегает своим внешним видом, небритые лица признак распущенности. На следующий же день после изданного декрета мастера на заводах, заведующие отделами в магазинах, преподаватели факультетов отправляли домой работников и студентов, явившихся со щетиной на подбородке. — Времени не было, не успел, — оправдывался студент. — Добросовестный студент, — отвечал преподаватель, — всегда найдет время, чтобы оказать честь главному. Так буквально в один день Сталин одарил Россию свежими помолодевшими лицами, одним махом вытащил ее из грязи. Такой вот, согласимся, весьма необычный был заключен договор. На московских улицах я видел только свежевыбритых милиционеров, солдат, официантов, прохожих. Верится, что волшебная палочка планирования коснется однажды и одежды москвичей, тогда улицы Москвы посветлеют, а пока кепки и рабочая одежда горожан придают ей что-то щемяще серое. Не кажется невероятным, что в один прекрасный день Сталин из глубин Кремля отдаст приказ: уважающий себя пролетарий одевается к ужину. И в этот день Россия сядет ужинать в смокингах. Таков спящий сейчас в Кремле человек-невидимка, он покажется соотечественникам только послезавтра. На собственном горьком опыте я убедился, что появление бога из табакерки дело непростое: мне отказали в пригласительном билете на Красную площадь. Чтобы попасть туда, нужно было приехать гораздо раньше, так как каждый приглашенный заполняет особую анкету, после чего подвергается тщательной и суровой проверке. У меня не достало времени запустить в действие административную машину, задействовать посольство, попросить помощи у друзей, а собственные мои усилия не привели ни к чему. В радиусе с километр вокруг Сталина не может появиться ни один человек, чье гражданское положение и прошлое не было бы тщательно проверено, перепроверено и для надежности проверено в третий раз. Ранним утром Первого мая я спустился, собираясь пройтись по городу, но нашел дверь гостиницы запертой. Мне сообщили, что откроется она только в пять часов вечера. Те, у кого не было пригласительного билета, оказались пленниками. Грустно слонялся я по гостиничным коридорам и вдруг услышал рокот грозы. Но то была не гроза — летели самолеты. Тысяча самолетов летела над Москвой, и земля сотрясалась. Не видя, я ощущал тяжесть железного кулака, нависшего над Москвой. Я решил непременно выбраться из гостиницы и выбрался не совсем честным путем. Улица оказалась до странности пустынной — ни машин, ни прохожих, и только несколько ребятишек играли на мостовой. Я поднял глаза к небу и увидел стальные треугольники, они нависали над узкой полосой доступного мне пространства, не исчезая. Жесткий порядок, в котором летели самолеты, требовал необычайной слаженности. Неспешное продвижение темных треугольников, громогласный торжествующий неумолчный рокот тысячи летящих самолетов действовал подавляюще, не было человека, который не ощутил бы их властной мощи. Они летели и летели, а я, прислонившись спиной к стене, смотрел на них и понял одно: несколько самолетов летят, множество самолетов надвигаются, словно лава. Я прошел еще несколько мертвых улиц, обошел несколько оцеплений и добрался наконец до улицы живой — по ней текли демонстранты к Красной площади. Она была запружена вся, от края до края. Толпа продвигалась медленно, неотвратимо, шаг за шагом, и тоже была похожа на темную лаву. В шествии целого города, в перелете тысячи самолетов есть та же неумолимость, что и в единодушном решении присяжных. Медленное шествие людей в темных одеждах с красными флагами, не ведающих о своей силе, впечатляло больше, чем маршировка солдат, солдаты исполняют свою работу, покончив с ней, становятся разными людьми. Эти же были едины во всем — в рабочей одежде, плоти, мыслях. Я видел, что они движутся вперед и тогда, когда остановились на месте. Стояли они долго. Для прохода на Красную площадь открыли, как шлюзы, несколько других улиц, и на этой должны были подождать. И люди ждали, стоя на ледяном холоде, — вчера вечером шел снег. И вдруг произошло чудо. Чудом было обретение человечности, единое целое рассыпалось на живых людей. Послышались звуки аккордеона. Музыканты, рассеянные в толпе с трубами и тарелками, тоже встали в круг и заиграли. Толпа, желая, наверное, и согреться, и развлечься, и попраздновать, пустилась в пляс. Десятки людей, мужчин и женщин, у входа на Красную площадь, сразу утратив напряжение целеустремленности, улыбаясь во весь рот, танцевали, и улица стала доброй и симпатичной, похожей на улицу парижского предместья в ночь на 14 июля. Незнакомец окликнул меня и протянул сигарету, второй дал огонька: люди выглядели счастливыми… Но вот толпа заволновалась, музыканты убрали инструменты, демонстранты подняли вверх флаги, выстроились в ряды. Распорядитель одной из колонн протолкнул женщину вперед, помогая занять ей в ряду свое место 41. Помощь была последним человеческим, семейным жестом, и вот уже все подтянулись, посерьезнели и зашагали к Красной площади, толпа вновь обрела монолитность, готовясь предстать перед Сталиным.По пути в Советский Союз
Ночью в поезде среди шахтеров-поляков, возвращавшихся на родину, спал маленький Моцарт, похожий на сказочного принца. Я рассказал о первомайской Москве, куда приехал в канун праздника. Отдал дань сиюминутности. А должен был бы описать сначала, как добирался до России. Рассказать о дороге — предисловии, что готовит нас к пониманию страны. Атмосфера международного поезда, и та что-то приоткрывает. Полями и перелесками мчится ночью не поезд — средство проникновения и постижения. Мчится по прямой через Европу, а ее сотрясает дрожь тревоги и гнева. Проникновение, казалось бы, по касательной дается легко, но и благодаря ему удается заметить невидимые раны. Полночь, лежу на полке в купе, светит синеватый ночник, я просто еду. Постукивают колеса. Металл, дерево передают мне это постукивание, оно похоже на биение сердца. Снаружи что-то происходит. Изменяется качество звука. На мосту громче становится скрежет. На просторных вокзалах звук утекает, будто в песок. Больше пока я ничего не знаю. Тысячи пассажиров спят в купе, перемещаясь с той же легкостью, что и я. Им так же тревожно, как мне? Скорее всего, мне не удастся добраться до того, чего я ищу. Не экзотики, ей я не доверяю. Я слишком много странствовал, чтобы не знать, как она поверхностна. Происходящее кажется нам зрелищем, интригуя и вызывая любопытство до тех пор, пока мы смотрим на него со стороны, как чужие. Пока не понимаем сути. Назначение обычаев, обрядов, правил игры в том, чтобы придавать жизни вкус, наполнять ее смыслом. И если обычаи обладают такой возможностью, они уже не причудливы, они так просты, так естественны. И все-таки каждый смутно чувствует сокровенную суть путешествия. Для всех нас в нем есть что-то похожее на свидание, незнакомая женщина движется нам навстречу. Она не видна в толпе, мы должны ее отыскать. Женщина неотличима пока от всех других. И кто знает, может быть, нам придется заговорить с тысячью женщин, потерять понапрасну время и все-таки не встретиться с той, которая бы открылась нам, потому что мы не сумели ее угадать. Да. Именно таково путешествие. Я решил осмотреть свое пристанище — дом, пленником которого сделался на три дня, обреченный днем и ночью слушать, как море перекатывает гальку. Я поднялся со своего места. Час ночи. Я прошел поезд из конца в конец. Спальные вагоны пусты. Пусты купе первого класса. Вспомнились роскошные отели Ривьеры, может, какой-то из них и откроется разок за зиму, чтобы приютить одного-единственного постояльца, представителя исчезающего вида, знаменующего, что времена неблагополучны. Зато вагоны третьего класса набиты сотнями уволенных рабочих поляков, они возвращаются к себе в Польшу. Я продвигался узкими коридорами, которые образовали изгибы лежащих тел. Останавливался, смотрел на спящих. Стоя в вагонах без перегородок с запахом казарм или тюрем, я наблюдал в свете ночников, как сотрясает уснувших скорый поезд. Спящие видели скверные сны, возвращаясь в свою нищету. Большие бритые головы мотались на деревянных скамейках. Мужчины, женщины, дети постоянно ворочались, словно шумы и тряска, вторгаясь в их ненадежное забытье, чем-то им грозили. В милосердии крепкого сна им было отказано. Мне показалось, что им отказали и в праве быть людьми, отдав на волю экономических сквозняков, которые оторвали и унесли их от маленьких домиков с палисадниками на севере Франции, от горшков с геранями на подоконниках, — я заметил, что герани всегда цветут на окнах у шахтеров-поляков. Они собрали лишь кухонную утварь, одеяла и занавески, кое-как увязав их в узлы и мешки. Но всех, кого они гладили, любили, с чем сжились за четыре-пять лет во Франции, — кошек, собак, герани они с болью отсекли от себя, подхватив лишь узлы с кастрюлями. Младенец сосал материнскую грудь, а мать до того устала, что, похоже, спала. Жизнь не иссякала и в нелепом хаосе их перемещения. Я посмотрел на отца. Голый череп каменной тяжести. Спит тревожно, ему неудобно, тело сковано грубой одеждой, которая топорщится горбами. Похоже, лежит груда глины. Бродяга из тех, что ночуют, прячась в рыночных прилавках. Я подумал: «Я ведь не о нищете, не о грязи, не о некрасивости. Этот мужчина и эта женщина когда-то познакомились. Мужчина наверняка улыбнулся женщине. Он наверняка после работы принес ей цветы. Застенчивый, неуклюжий, он, возможно, боялся, что его отвергнут. А она, не сомневаясь в своей женской прелести, возможно, из присущего женщинам кокетства, мучила его. И у мужчины, который стал теперь инструментом, лопатой, кувалдой, от волнения сладко заходилось сердце. Как же он сделался грудой глины, вот загадка. Какие жернова перемололи его и изуродовали? Олень, газель, любое животное, состарившись, не теряют природной стати. Почему же так искажается добротное человеческое естество?» Я двинулся дальше, пробираясь среди тревожно спящих людей. Неспокоен был даже воздух, слышался храп, хрипы, невнятные стоны, стук башмаков, — у людей затекали руки и ноги, и они переворачивались на другой бок… А море все шуршало и шуршало галькой… Я присел напротив семейной пары. Примостившись между мужчиной и женщиной, спал ребенок. Он повернулся во сне, и свет ночника упал на его лицо. До чего хорош! Среди кривых ветвей сияло золотое яблочко. Неуклюжая тяжесть скопила красоту и изящество. Я наклонился, чтобы разглядеть получше безупречно гладкое личико, красиво очерченный рот. Я сказал себе: «Вот лицо музыканта, это маленький Моцарт, чудесное обещание, подаренное жизнью!» Он был точь-в-точь как маленький принц из средневековой легенды. Если заботиться о нем, баловать, учить, кто знает, чего он сможет добиться? Когда в саду, благодаря чудесам мутации, вдруг расцветает необычная роза, сбегаются все садовники. Ее окружают заботой, ухаживают, берегут. Но нет садовников для людей. Маленького Моцарта тоже переработают жернова. Лучшее, что услышит этот Моцарт, будут расхлябанные песенки в дешевом кафе-шантане, пропахшем табаком. Моцарт обречен… Я вернулся к себе в вагон. И вот с какими мыслями: «Эти люди привыкли к нищете. И меня томит вовсе не жажда благотворительности. Я не ищу мази, которая смягчила бы боль незаживающей раны. Они истекают кровью, но боль их не мучает. А меня мучает урон, который нанесен человеческой сути, не одному человеку — весь наш род терпит ущерб. Не жалость щемит мне сердце, жалости не доверишься. Забота садовника мешает мне спать этой ночью. Я опечален не бедностью, с бедностью сживаются так же, как сживаются с бездельем. На Востоке люди живут в грязи, и грязь им в радость. Печалит меня то, чему не поможет бесплатный суп. Печалят не горбы, не дыры, не безобразие. Печалит, что в каждом из этих людей погасла искорка Моцарта». Я снова у себя в купе. Проводник окликает меня. Вагон покачивает, и проводник покачивается вместе с ним, в синеватом свете ночника лицо у него восковое. Проводник тихо задает вопрос. Ночью в поезде кто бы ни заговорил, кажется, он открывает тайну. Меня он спросил, во сколько завтра меня разбудить. Какая тут тайна, казалось бы. И все-таки я что-то для себя открыл. Очень важное. Явственно ощутил, что мы с проводником замкнуты каждый в своем мире, между нами пустота, мы отгорожены друг от друга. В городе не до человека. Людей нет, есть функции: почтальон, продавец, сосед, который мешает. Человеком дорожишь в пустыне. Самолет потерпел аварию, и я долго брел, отыскивая форт Ноутшот. Он чудился мне в миражах, возникавших в бреду от жажды. В конце концов я добрался до форта, там в полном одиночестве долгие месяцы жил старик-сержант, от волнения он расплакался. Я тоже. И под необъятным покровом ночи каждый из нас рассказал другому свою жизнь, передал в дар груз воспоминаний, благодаря которым люди понимают: они родня. В пустыне встретились два человека и почтили друг друга дарами, достойными двух послов. Вагон-ресторан. Чтобы до него добраться, я вновь прошел по вагонам, где ехали поляки. Днем все выглядело совершенно иначе. Ночная правда днем не видна. Люди собрались, прибрались, вытерли детям носы, расселись компаниями. Они смотрят в окно, они шутят. Кто-то тихонько напевает. Трагедии больше нет. Посмотрев на этих людей при свете дня, можно жить совершенно спокойно. Их тяжелые грубые руки умеют только копать. Они не мучают себя умозрениями, они созданы своей участью, и эта участь подходит им как нельзя лучше. Я мог бы порадоваться, глядя, как они достают из промасленной бумаги еду, как незатейливо веселятся. Мог бы успокоить себя, сказав, что социальных проблем не существует. Люди эти грубы и похожи на камни. Но ночная магия показала мне, что в глубине породы может спать маленький Моцарт… Вагон-ресторан мчит равнинами и лесами. За окнами уже тощая земля, скудные леса, похожие на мех, траченный молью. Вагон-ресторан приближается к центру Германии. Сегодня вагон-ресторан немецкий. Официанты обслуживают нас с прохладной вежливостью знатных сеньоров. Интересно, почему официанты, будь они поляки, немцы, русские, держатся с аристократической величавостью? Почему, оказавшись за пределами Франции, убеждаешься всякий раз, что французы одрябли? Откуда взялось во Франции пошловатое запанибратство предвыборных кампаний? Почему людям стала безразлична их работа, почему не интересна общественная жизнь? Почему они спят? Лучший пример безразличия — провинциальные торжества: министр перед памятником неведомому выскочке целый час расточает ему похвалы, читая речь, которую сам не писал, а толпа слушает его, не слыша. Все играют в игру, все притворяются. И думают как один о банкете. Но вот ты пересек границу и видишь, что люди всерьез заняты своей деятельностью. Официанты вагона-ресторана в безупречных фраках безупречно подают на стол. Министр, открывая памятник, умеет найти слова, которые задевают людей. Слова зажигают сердца, и открытие самого незначительного памятника окружают крепким каркасом полиции, опасаясь подземного огня. Игра играется не впустую. Так-то оно так, но во Франции так приятно живется, и друг другу мы все как родные… Шофер такси своим запанибратством сразу принимает вас в друзья, а уж до чего расположены к вам официанты на улице Рояль! Они знакомы с половиной Парижа, со всеми ее секретами, раздобудут для вас самый потаенный телефон и, если понадобится, одолжат сто франков, а когда распускаются почки, они оборачиваются к старым клиентам, чтобы и те порадовались радостной вести, которую они готовы сообщить: — Смотрите-ка, ведь весна пришла… Все противоречиво. Беда, если сделаешь выбор, если откроешь для себя, куда движется жизнь. Эта мысль пришла мне во время разговора с немцем, он сидел напротив меня и говорил: «Если Франция и Германия объединятся, они будут заправлять всем миром. Почему французы боятся Гитлера, он же оплот против России? Он поможет здешнему народу стать свободным народом. Он из тех, кто строит, после таких в городах остаются прямые проспекты, носящие их имя. Гитлер воплощенный порядок». А за столом я сижу с испанцами, они так же, как я, едут в Россию и заранее полны энтузиазма. Я слышу их разговор о Сталине. О пятилетнем плане. Обо всем, что там расцветает… Пейзаж тем временем опять изменился. Как только пересечешь французскую границу, весна занимает тебя чуть меньше, зато судьбы людей, похоже, волнуют чуть больше.Москва! А где же революция?
Через полчаса после того, как мы пересекли границу России, наш скорый замедлил ход. Он будто выдохся. Я закрыл чемодан, нам предстояло пересесть на другой поезд, и я стоял в коридоре, уткнув нос в окно и мечтая. Польша останется во мне воздухом, скрипящим песком и черными елями. Увезу и воспоминание о скудном побережье. Чем ближе мы к северу, тем интереснее раскрашивает все свет. В тропиках свет яркий, но рисовать он не умеет. Там есть свет, и в ослепительном свете черные предметы. Даже небо кажется черным. А здесь все вокруг оживает, поблескивает. Этим вечером свет устроил елкам безмолвный праздник, посеребрив их. Ели — деревья невеселые, но они дружат со светом, а пожар в еловом лесу напоминает ураган. Я вспоминаю еловые леса у себя в ландах, они не сгорали, они улетали. Поезд мягко замедляет ход у платформы… Мы в России: Негорелое. Что за предубеждение настроило меня на мысль о разрухе? В помещении таможни можно устраивать празднества. Просторное, проветриваемое, с позолотой. В привокзальном ресторане не меньший сюрприз. Тихонько наигрывает цыганский оркестр, среди кадок с растениями стоят небольшие столики, за ними обедают посетители. Действительность обманывает мои ожидания, и я становлюсь подозрительным. Все это устроено для иностранцев. Да, вполне возможно. Но таможня в Белгороде тоже для иностранцев, а там она похожа на складской двор. Разумеется, я могу допустить, что мне втирают очки, но поскольку я сейчас не судья, а обычный иностранец, у которого досматривают багаж, то я ничего не имею против, чтобы его досматривали в чистоте. Мой сосед настроен не так добродушно. «Я понимаю, вы у себя хозяева, и не могу помешать вам пачкать мое белье…» Таможенник посмотрел на него и вновь с непоколебимым спокойствием принялся перебирать вещи у него в чемодане. Он до того спокоен, что даже не считает нужным проверять их с нарочитым пристрастием. Не ощущает надобности подчеркивать свою власть. И я чувствую вдруг — за его спиной стоят сто шестьдесят миллионов человек, они его опора. Россия огромна, и я остро чувствую мощь поддержки. Сосед потерялся перед спокойствием таможенника. Его натиск закончился ничем, точно так же, как натиск целой армии, встреченной безмолвием и снегом. Сосед умолк. Потом, расположившись в московском поезде, я пытаюсь рассмотреть в темноте, что же за окном. Передо мной страна, о которой если говорят, то говорят с пристрастием. О которой из-за пристрастий мы не знаем почти ничего, хотя Советский Союз совсем недалеко от нас. Мы куда лучше знаем Китай, у нас есть точка зрения на него, и с этой точки зрения мы его обсуждаем. Мы никогда не спорим из-за Китая. Но если мы обсуждаем Советский Союз, мы обязательно впадаем в крайности — восхищаемся или негодуем. В зависимости от того, что ставим на первое место: созидание человека или уважение прав личности. Но пока передо мной не стоит никаких проблем. Дверь в эту страну открыл передо мной вежливый таможенник. Наигрывал цыганский оркестр. А в вагоне-ресторане меня встретил самый стильный, самый подлинный из метрдотелей. Наступило утро, вагон слегка лихорадит близость прибытия. На уплывающей земле появились домики. Домиков все больше, стоят они все теснее. Выстраивается сеть дорог, впереди манит некий центр. Пейзаж стягивается в узел. Узел — Москва, она главная среди этих пятен. Поезд поворачивает, и перед нами открывается столица, вся целиком, как целостная панорама. А над Москвой самолеты, я пересчитал их, семьдесят один. Первое впечатление — огромный, живой, кипящий пчелами улей, и над ним жужжащий, гудящий рой. Жорж Кессель встретил меня на вокзале, подозвал носильщика, и воображаемый мир лишился еще одного призрака — носильщик самый обыкновенный, как везде. Он уложил мои чемоданы в такси, а я, прежде чем сесть, огляделся вокруг. Увидел просторную площадь, по гладкому асфальту катят, рыча, грузовики. Увидел цепочку трамваев, как в Марселе, и неожиданно заметил совсем провинциальную картинку: толпа ребятишек и солдат окружила разносчика мороженого. Потихоньку меня избавляли от наивной веры в сказку. Я уразумел, что шел неверной дорогой, ждал таинственных знаков, каких и быть не могло. С детским простодушием я искал революционности в носильщике, в устройстве витрины. Хватило двухчасовой прогулки, чтобы избавить меня от иллюзий. Не стоило искать революции там, где искал ее я. Обыденная жизнь ничем меня больше не удивит. Я не буду удивляться юным девушкам, которые будут отвечать мне: «У нас в Москве не принято, чтобы девушка одна приходила в бар». Или: «В Москве тоже целуют руки женщинам, но не во всех слоях общества». Не удивлюсь, если мои русские друзья отменят обед, потому что кухарка попросила отпустить ее навестить больную мать. На собственных просчетах я вижу, как постарались исказить предпринятый русскими эксперимент. Совершенно в другом нужно искать жизнь Советского Союза. По другим приметам можно открыть, как глубоко эта почва была перепахана революцией. Хотя улицы и здесь по-прежнему будут мостить мостильщики, а заводами управлять директора, а не кочегары. И если у меня будет еще день или два на знакомство с Москвой, то я ничему не буду удивляться. Не откроешь Москву на перроне. Город не посылает к приезжим послов. Только президенты республик обнаруживают на вокзале маленькую эльзаску в национальном костюме. Только президенты республик целуют разнаряженную малышку и сразу постигают душу города. Только они радостно делятся своим нежданным открытием в приветственной речи, держа малышку на руках.Преступление и наказание перед лицом советского правосудия
Первое, что сказал судья, едва началась наша беседа в его кабинете, — показалось мне и самой главной его мыслью: «Не в том дело, чтобы наказывать, а в том, чтобы исправлять». Говорил он так тихо, что я наклонился, чтобы расслышать, между тем его руки осторожно разминали невидимую глину. Глядя далеко поверх меня, он повторил: «Надо исправлять». Вот, подумал я, человек, не знающий гнева. Он не удостаивает себе подобных признанием того, что они действительно существуют. Люди для этого судьи — хороший материал для лепки, и как не чувствует он гнева, так не чувствует и нежности. Можно прозревать в глине свое будущее творение и любить его большой любовью, но нежность рождается только из уважения к личности. Нежность свивает гнездо из мелочей — забавных черточек лица, пустяшных причуд. Теряя друга, оплакиваешь, быть может, это его несовершенство. Этот судья не позволяет себе судить. Он как врач, которого ничто не поражает. Он лечит, если может, а если не может, то, служа всему обществу, расстреливает. Приговоренный заикается, на его губах страдальческая гримаса; у него ревматизм, и от этого он так смиренно близок нам, — но все это не вызовет милосердия судьи. И я догадываюсь уже, что за великим неуважением к отдельному человеку здесь стоит великое уважение к человеку вообще, длящемуся из века в век поверх отдельных человеческих жизней и созидающему великое. А виновный, думаю я, здесь больше ничего не значит. Я понимаю теперь, почему русское законодательство, так часто карающее смертью, не предусматривает заключения больше чем на десять лет и допускает всяческие снижения этого срока. Если отступник может вернуться в лоно общества, он вернется и раньше. Зачем же продлевать наказание, если наказанный уже стал другим человеком? Ведь и с арабским вождем, признавшим наши законы, мы обращаемся как с равным. Так что само понятие наказания здесь, в СССР, потеряло смысл. У нас говорят, что осужденный расплачивается за свой долг. И каждый год искупления — выплата по некоему незримому счету. Долг может оказаться неоплатным — и тогда осужденному отказывают в праве снова стать человеком. И пятидесятилетний каторжник все еще платит за двадцатилетнего мальчика, которого гнев однажды толкнул на убийство. Судья продолжает, будто размышляя вслух: «Если надо вызвать страх, если преступления против общества множатся и речь уже идет об эпидемии, — мы караем более сильно. Когда армия разлагается, мы расстреливаем для примера. И тот, кто двумя неделями раньше получил бы три года исправительных работ, расстается с жизнью за мелкий грабеж. Но мы остановили эпидемию, мы спасли людей. Если что и кажется нам аморальным — то не эта жестокость в случаях, когда общество в опасности, а заключение заключенного в рамки одного-единственного слова. Разве убийца является убийцей по своей природе, на всю жизнь, как негр — на всю жизнь негр? Убийца — всего лишь истерзанный человек». Руки судьи все лепят и лепят невидимую глину. «Исправлять, исправлять, — говорит он. — Мы достигли на этом пути больших успехов». Попробую встать на его точку зрения. Представляю себе гангстера или сутенера, их мир со своими законами, своей моралью, своей жестокостью и самоотверженностью. Признаю: человеку, прошедшему такую школу, не стать деревенским пастухом. Он не сможет без приключений, без ночных засад. Без упражнения способностей, выработанных в нем его жизнью, — будь то решительность, смелость, быть может, талант вожака. Он будет чувствовать себя ущемленным, сколько ни тверди о преимуществах добродетели. Жизнь накладывает свой отпечаток. Проститутки тоже отмечены печатью своего ремесла и не слишком позволяют обратить себя в другую веру: они сжились с тоской изматывающего и горького ожидания, с ледяным и скорбным вкусом рассвета, с самим страхом своим, наконец, со свежим рогаликом — лучшим другом в пять утра, в час замиренья с полицией и всем этим непокорным, враждебным городом, в час, когда распутывается хитросплетенье ночных угроз. Кто знает вкус беды? Те и другие стали собой на войне, а потому их не прельстит мир. Тем более — мир, основанный на совести. Но вот перед нами чудо. Этих воров, сутенеров, убийц вытаскивают из каторжной тюрьмы, словно из гигантского бака, и отправляют под охраной нескольких ружей рыть канал от Белого моря до Балтийского. Вот и снова приключение для них, да еще какое! Им предстоит, пахарям-исполинам, провести борозду от моря до моря, глубокую, как овраг, под стать морским кораблям. Возвести соборы стройплощадок и встретить земляные пласты, оползающие с откосов выемки, лесом мощных брусьев, трещащих, точно солома, под напором сил Земли. С приходом ночи они возвращаются в бараки под прицелом карабинов. И густая усталость разливается мертвой тишиной над этим народом, разбившим лагерь на самом переднем крае своего пути, лицом к еще не тронутым землям. И мало-помалу людей захватывает эта игра. Они так и живут бригадами, управляют ими свои инженеры и мастера (ведь в тюрьме оказываются и они). Во главе встают те из них, кто лучше умеет предъявить свой дар вожака. — Да, в том, что касается основ правосудия, я согласен с вами, господин судья. Но нескончаемая борьба, постоянный надзор, внутренний паспорт, порабощение человека коллективом — вот что кажется нам недопустимым. И, однако, я начинаю понимать и это. Они требуют, чтобы люди не только подчинялись законам созданного здесь общества, но и жили ими. Они требуют, чтобы люди объединялись в единый социальный организм не только по видимости, но и всем сердцем. И только тогда они ослабят дисциплину. Один мой приятель рассказал мне прекрасную историю, она немного прояснит, в чем тут дело. Опоздав на поезд в каком-то далеком маленьком городке, он устроился ближе к вечеру в зале ожидания местного вокзала, между узлов с пожитками, среди которых попадались неожиданные предметы, вроде самоваров; он подумал, что это вещи отъезжающих. Но наступила ночь, и один за другим в зал стали возвращаться хозяева всего этого скарба. Они шли не спеша, умиротворенные обыденностью происходящего. В лавочках по дороге они купили все необходимое и теперь собирались варить овощи. Воцарился дух доверия, как в старом семейном пансионе. Кто-то пел, кто-то вытирал нос ребенку. Мой приятель спросил у начальника вокзала: — Что они тут делают? — Ждут, — ответил тот. — Чего ждут? — Разрешения ехать. — Ехать куда? — Просто ехать, сесть на поезд. Начальник вокзала не был этим удивлен. Они просто хотели ехать. Неважно куда. Чтобы исполнить свое предназначение. Чтобы открыть для себя новые звезды: эти, здешние, казались им траченными временем. Мой приятель сперва восхитился их терпением: два часа в этом зале ожидания представлялись ему уже невыносимыми, три дня свели бы его с ума. Но эти люди потихоньку пели и мирно склонялись над самоварами; и тогда он снова подошел к начальнику вокзала и спросил: — А давно они ждут? Начальник приподнял фуражку, почесал лоб и огласил плод своих подсчетов: — Пожалуй, лет пять или шесть. Потому что у многих русских — душа кочевника. Они не слишком привязаны к своему жилью, им не дает покоя древняя азиатская страсть к странствиям — караваном, под светом звезд. Это племя вечно устремляется на поиски: Бога, правды, будущего… А дом — привязывает к земле, и от него освобождаются легко, как нигде. Как постигнуть это равнодушие, приехав из Франции, где маленький домик на краю поля, потихоньку прядущий тонкую шерстяную ниточку дыма, обладает таким могущественным притяжением? Где судебный исполнитель, выселяя вас, вторгается в самую плоть, разрывая тысячи незримых уз? Во Франции невозможно вообразить жителей Севера, заполонивших вокзалы и опьяненных зовом Прованса: на Севере любят свой родной туман. А здесь… Здесь любят огромный мир. Здесь живут, быть может, не столько в доме, сколько в мечте. Нужно приучить этих людей к земле. Нужно приучить их к земному. И власть борется с этими вечными странниками. С внутренним зовом тех, кто заметил звезду. Нужно не дать им пуститься в странствия — к северу, к югу, по воле незримых приливов и отливов. Нужно не дать им пуститься в странствия вновь, к какому-то новому общественному строю — ведь Революция уже свершилась. Не от звезд ли занимаются пожары в этой стране? И тогда строят дома, чтобы приманить кочевников. Не сдают жилье, а продают его. Вводят внутренний паспорт. А тех, кто поднимает глаза к небу с его опасными знаками, отправляют в Сибирь, где надо еще выжить зимой в 60 градусов мороза. Так, может быть, создают нового человека — стойкого, влюбленного в свой завод и коллектив, как садовник во Франции влюблен в свой сад.Трагическая гибель самолета «Максим Горький»
«Максим Горький», самый большой в мире самолет, разбился. Он шел на посадку, когда его задел истребитель, летящий на скорости более четырехсот километров в час. Одни говорят, что задето было крыло, другие — центральный мотор, но доподлинно известно, что охваченный огнем самолет начал падать. Затем почерневшие крылья, мотор, фюзеляж неспешно разъединились в воздухе. Скорость падения, и та, казалось, была сдержанной. Зрителям и свидетелям показалось, что они наблюдают за головокружительным скольжением или за торжественным погружением подбитого торпедой корабля. Самолет весом сорок две тонны обрушился на деревянный дом, поджег его и раздавил, обитатели его погибли. Одиннадцать человек экипажа вместе с великим пилотом Журовым и тридцатью пятью пассажирами погибли тоже. Воздушная катастрофа унесла сорок восемь человек. Размах крыльев «Максима Горького», гордости русского воздушного флота, был шестьдесят три метра, длина — тридцать два метра. Восемь моторов, шесть из которых были вмонтированы в крылья, обладали мощностью семь тысяч лошадиных сил. Скорость полета достигала двухсот шестидесяти километров. На самолете был поставлен мощный радиопередатчик, и егоголос, несущийся с облаков к тем, кто слушал его на земле, перекрывал рев восьми моторов. За день до катастрофы я летал на «Максиме Горьком». Я был первым иностранцем, который удостоился такой чести. И последним… Меня долго заставили ждать необходимого разрешения и, когда я уже потерял всякую надежду, во второй половине дня принесли разрешение. Я уселся в носовом салоне и оттуда наблюдал за взлетом. Самолет мощно вздрогнул, и я почувствовал, как быстро монумент поднимает в воздух свое основание весом в сорок две тонны. Мягкость взлета меня поразила. Пока мы разворачивались, чтобы лететь к Москве, я отправился на прогулку. С чистой совестью называю осмотр прогулкой, потому что во время полета осмотрел одиннадцать основных отсеков, связанных между собой автоматической телефонной связью. Мало этого, телефонную связь дублировала система пневматической почты, обеспечивая возможность передавать еще и письменные распоряжения. Самолет потрясал своей величиной — помещения располагались не только внутри фюзеляжа, но и в крыльях. Я осмелился войти в коридор левого крыла и стал открывать одну за другой двери, выходящие в него. За дверями открывались комнатки, потом помещения для моторов, каждый мотор был изолирован от других. Меня догнал инженер и показал электростанцию. Электростанция снабжала током не только радиотелефон, громкоговоритель и взлетное устройство, но еще и восемьдесят осветительных точек, общей мощностью двенадцать тысяч ватт. Я осматривал самолет уже четверть часа, погрузившись в его нутро, словно в трюм миноносца, и мне все время светил электрический свет. Я купался в неутомимом и победительном пении моторов. Навстречу мне попались телефонисты, я заметил, что есть помещения с кроватями, видел механиков в синих брезентовых костюмах. Но больше всего я изумился, когда обнаружил небольшой кабинет и в нем юную машинистку, которая печатала на машинке… Но вот мне снова светит дневной свет. Москва медленно разворачивается под крылом. Бортовой командир, сидя в уголке салона, передает по телефону уж не знаю какие там распоряжения своим пилотам. С радиопоста по пневматической почте ему поступают сообщения. Все вместе создает ощущение сложного механизма, сложно организованной жизни, какой у меня в полете никогда не было. Я уселся поглубже в кресло и закрыл глаза. Через спинку кресла до меня доходили послания восьми моторов. Я чувствовал, как струится по моему телу живая горячая вибрация. Мысленно видел перед собой электростанцию, снабжающую все вокруг светом, вспоминал отсеки с моторами, жаркие, словно печи. И снова открыл глаза. В широкое окно салона проникал голубой свет, а я будто занял место на террасе дорогой гостиницы и сверху озирал землю. Привычное устройство тяжелого аппарата, в котором кабина пилота, бортовое оборудование и пассажирский салон составляют целое, в этом самолете отсутствовало. Отдельно салон управления, отдельно холл, где можно отдыхать, мечтать… Назавтра самолета «Максим Горький» не стало. Его гибель переживается здесь как общенародное горе. Советский Союз потерял не только выдающегося пилота Журова и десять членов его экипажа, не только тридцать пять пассажиров, работников конструкторского бюро ЦАГИ, для которых полет был наградой за отличную работу, Советский Союз потерял великолепное подтверждение жизненности его юной индустрии. Я говорил с людьми, работающими в области авиации, и мне показалось, что их хоть немного, но утешает то, что причиной гибели гиганта была нелепая случайность. Драма произошла не из-за ошибки в расчетах инженеров, не из-за неопытности или неумелости рабочих, не от просчета экипажа. Во время уверенного спокойного полета «Максима Горького» его траекторию, прямую, как выстрел, пересек истребитель.Удивительная вечеринка с мадемуазель Ксавье и десятью чуточку пьяными старушками, оплакивающими свои двадцать лет…
Убедившись, что это и есть дом номер тридцать, я останавливаюсь перед большим унылым зданием. Сквозь подворотню виден длинный ряд дворов и построек. Вход в Сальпетриер[350], и тот не выглядит тоскливей. Такие муравейники — умирающая часть Москвы, в конце концов их разрушат и возведут на их месте высокие белые дома. За несколько лет население Москвы выросло на три миллиона жителей. Эти люди, за неимением лучшего, ютятся в квартирах, разгороженных на отдельные углы, и ждут нового жилья. Система проста: группа преподавателей истории или, скажем, группа краснодеревщиков создают кооператив. Государство дает ссуду (ее надо будет выплачивать ежемесячно). Кооператив заказывает строительство своего дома государственной строительной организации. Каждый знает свою будущую квартиру, выбрал краску для стен, обсудил все тонкости обустройства. Каждый отныне терпеливо ждет в своей унылой комнате — в прихожей настоящей жизни (ведь это лишь на время!). Новый дом уже растет из земли. И они ждут — как ждали в бараках покорители новых земель. Я уже познакомился с современным жильем, где личная жизнь вновь обретает краски. Но мне хотелось посмотреть своими глазами и на эти остатки мрачного прошлого, все еще многочисленные. Потому-то я и скользил, как тень, взад и вперед перед домом номер тридцать. Я еще смутно верил в тайных агентов, что по пятам следуют за иностранцами. Я боялся, как бы они не выросли вдруг прямо между мною и сокровенными секретами СССР. Но, пройдя наконец через подворотню, я не уловил никаких предостерегающих знаков. Моя прогулка никого не интересовала. Проникнув в муравейник, я остановил первого встречного, чтобы узнать, где живет особа, которую я хотел непременно застать, хоть она и не подозревала о моем существовании, — имя у меня было тщательно записано: «Где живет мадемуазель Ксавье?» Первым встречным оказалась огромная тетка, тут же проникшаяся ко мне симпатией. Хлынул поток слов, из которого я ничего не понял: я не знаю русского. Моя робкая попытка что-то сказать вызвала волну дополнительных объяснений. Я не посмел обидеть бегством эту воплощенную любезность, но, желая показать, что не понимаю, дотронулся пальцем до уха. Тогда она решила, что я глухой, и принялась кричать вдвое громче. Пришлось мне положиться на удачу: подняться по первой попавшейся лестнице и позвонить в первую же дверь. Меня провели в комнату. Мужчина, впустивший меня, заговорил по-русски. Я отвечал по-французски. Он долго рассматривал меня, потом повернулся и исчез. Я остался один. Вокруг было множество вещей: вешалка с пальто и кепками, пара ботинок на шкафу, чайник на фетровом чемодане. Где-то кричал ребенок, слышался смех, потом звуки патефона, в недрах квартиры скрипели, то ли закрываясь, то ли открываясь, двери. А я все оставался один в чужом доме, словно взломщик. Наконец, мужчина вернулся, и с ним — женщина в переднике, о который она вытирала мыльную пену с рук. Она заговорила со мной по-английски. Я отвечал по-французски. Оба они как будто приуныли и опять скрылись на лестнице; до меня доносился возрастающий шумок: за дверью набирало ход секретное совещание. Время от времени дверь приоткрывалась, незнакомые люди озадаченно меня разглядывали. Надо полагать, решение было принято, и весь дом ожил. Послышались крики, беготня, наконец дверь распахнулась настежь, и явилось новое лицо, на которое все участники сцены определенно возлагали большие надежды. Этот персонаж приблизился, представился и заговорил по-датски. Все были разочарованы. Среди общего замешательства я по большей части размышлял о том, сколько усилий было затрачено, чтобы прийти сюда незаметно. Между тем толпа жильцов и я грустно смотрели друг на друга, пока в качестве специалиста по еще одному языку ко мне не подвели мадемуазель Ксавье собственной персоной. Это оказалась маленькая старая колдунья, худая, сгорбленная и морщинистая, со сверкающими глазами, — совершенно не понимая, кто я и зачем пришел, она попросила меня следовать за ней. И все эти славные люди, сияя оттого, что меня удалось спасти, разошлись. Теперь я у мадемуазель Ксавье и слегка волнуюсь. Их триста — француженок в возрасте от шестидесяти до семидесяти, затерянных, словно серые мышки, в этом четырехмиллионном городе. Прежние классные дамы или гувернантки при юных девицах прежних времен, они пережили Революцию. Невероятные времена. Прежний мир рухнул, будто огромный храм. Революция давила сильных и рассеивала слабых — игрушки бури — на все стороны света, но не тронула три сотни французских гувернанток. Они были такие маленькие, такие сдержанные, такие незаметные! В тени своих прекрасных воспитанниц они так давно привыкли оставаться невидимками! Они учили нежности французской речи, и прекрасные воспитанницы тотчас сплетали из самых нежных слов ловушки для блистательных женихов-гвардейцев. Старые гувернантки не знали, что за тайная власть у правописания и стиля, ведь сами они не пользовались своей наукой в делах любви. Учили они и манерам, музыке, танцам, делаясь от причащения этим тайнам лишь чопорнее, — а у юных воспитанниц эти тайны оборачивались чем-то легким и живым. И старые гувернантки старели вместе со своими черными одеждами, строгие и скромные, их присутствие оставалось незримым, как добродетель, как хороший тон и хорошее образование. И Революция, выкосившая самые лучезарные цветы, не коснулась, по крайней мере в Москве, этих серых мышек. Мадемуазель Ксавье 72 года, и мадемуазель Ксавье плачет. Я у нее первый француз за тридцать лет. Мадемуазель Ксавье повторяет в двадцатый раз: «Если бы я знала… если бы я знала… я бы так убрала комнату…» А я замечаю приоткрытую дверь и думаю о множестве посторонних обитателей этой квартиры, которые двенадцать раз донесут о нашей тайной встрече. Я все еще во власти романтических представлений. Мадемуазель Ксавье придает легенде реальные очертания. — Это я нарочно открыла дверь! — гордо признается она. — У меня такой замечательный гость, все соседи будут завидовать! И она с грохотом открывает шкафчик, звенят стаканы. Достает бутылку мадеры, печенье, снова гремит стаканами, звонко ставит бутылку на стол. Должен быть слышен шум оргии! И я слушаю ее рассказ. Мне особенно любопытно, что она скажет о Революции: что значат великие потрясения для серой мышки? И как выжить, когда все рушится вокруг? — Революция, — признается моя хозяйка, — это ужасно утомительно. Мадемуазель Ксавье жила тем, что учила французскому дочку повара — за обед. Каждый день приходилось ехать через всю Москву. По пути она, чтобы еще чуть-чуть заработать, продавала по поручению знакомых стариков разные мелочи: губную помаду, перчатки, лорнеты. — Это было незаконно, — доверительно сообщает она, — это считалось спекуляцией, — и рассказывает о самом страшном дне гражданской войны. В то утро ее попросили продать галстуки. Галстуки, в такой-то день! Но мадемуазель Ксавье не видела ни солдат, ни пулеметов, ни убитых. Она была слишком занята продажей галстуков, которые, говорит она, шли нарасхват. Бедная старая гувернантка! Социальное приключение обошло ее, как прежде — приключение любовное. Приключениям она была не нужна. Так на пиратских кораблях, должно быть, можно найти несколько тихих стариков, вечно ничего не замечающих за штопкой матросских рубах. Но однажды она все-таки угодила в облаву. Ее заперли в мрачном помещении среди двух или трех сотен попавших под подозрение. Вооруженные солдаты одного за другим вели их на допрос, отделявший живых от мертвых. — Половину узников, — говорит мадемуазель Ксавье, — после допроса отправляли в подвал. И что же? В эту ночь на лице приключения по-прежнему было написано снисхождение. Лежа на нарах, под которыми текла прямо в вечность черная вода, мадемуазель Ксавье получила на ужин кусок хлеба и три засахаренных орешка. Эти орешки, быть может, самое яркое свидетельство нищеты, — а можно взять и другую историю, с огромным концертным роялем красного дерева, который одна приятельница мадемуазель Ксавье продала тогда за три франка. Но у трех орешков, несмотря ни на что, был привкус игры и детства. Приключение обошлось с мадемуазель Ксавье, как с маленькой девочкой. А между тем ее точила большая забота. Кому доверить перину, купленную ею в час ареста? Спала она на ней и на допросе тоже не захотела с ней расстаться. Прижимая необъятную перину к своему крохотному телу, предстала она перед судьями. И судьи тоже не приняли ее всерьез. Вспоминая о допросе, мадемуазель Ксавье вся дышит возмущением. Судьи сидели за обширным кухонным столом, окруженные солдатами; председатель, утомленный бессонной ночью, проверил ее документы. И этот человек, от которого неумолимо раздваивалась дорога — к жизни и к смерти, — этот человек робко спросил ее, почесывая ухо: «У меня дочке двадцать лет, мадемуазель, — Вы не согласитесь давать ей уроки?» И мадемуазель Ксавье, прижав к сердцу перину, отвечала с сокрушительным достоинством: «Вы меня арестовали. Теперь — судите. Если я останусь жива, завтра мы поговорим о Вашей дочери!» А сегодня она добавляет, сверкнув глазами: — Они не смели на меня взглянуть от стыда! И я уважаю эти восхитительные иллюзии. Я говорю себе: человек замечает в мире лишь то, что уже несет в себе. Нужно обладать определенной широтой личности, чтобы почувствовать высокий накал обстановки и уловить, что он означает. Мне вспоминается рассказ жены одного моего знакомого. Ей удалось укрыться на борту последнего корабля белых, вышедшего в море перед вступлением красных в Севастополь или, быть может, в Одессу. Суденышко было забито до отказа, любой дополнительный груз потопил бы его. Оно медленно отходило от причала; трещина пролегла между двумя мирами — узкая, но уже непреодолимая. Стиснутая толпой на корме, молодая женщина смотрела назад. Разгромленные казаки вот уже два дня как хлынули с гор к морю, и поток их не иссякал. Но кораблей больше не было. Доскакав до причала, казаки спрыгивали с коней, перерезали им глотки, скидывали бурку и оружие и бросались вплавь к спасительному борту, столь близкому еще. Но с кормы по ним стреляли из карабинов. С каждым выстрелом на воде вспыхивала красная звезда. Скоро вся бухта была расцвечена этими звездами. Но лавины казаков, упорные, как в дурном сне, все выносились на причал, все резали глотки коням, все прыгали в воду и плыли до новой красной звезды… А мадемуазель Ксавье нынче устраивает вечеринку — с десятью такими же французскими старушками, у той из них, чье жилье краше. Это прелестная маленькая квартира, вся расписанная хозяйкой. Я добыл для них портвейна и ликеров. Мы все чуточку захмелели и поем старинные песни. У старушек их детство встает перед глазами, они плачут, в душе им снова по двадцать лет (ведь они называют меня не иначе как «мой дружок»!). Я словно прекрасный принц, опьяненный славой и водкой, среди обнимающих меня маленьких старушек! Появляется бесконечно важный господин. Это соперник. Он приходит сюда каждый вечер выпить чаю, отведать печенья, поговорить по-французски. Но сегодня он присаживается к уголку стола, суровый и полный горечи. Однако старушки хотят показать мне его в полном блеске. «Это русский, — говорят они, — и знаете ли, что он сделал?» Я не знаю. Пробую догадаться. Новый гость напускает на себя все более скромный вид. Скромный и снисходительный. Это скромность большого барина. Но старушки окружают его, торопят: «Ну же, расскажите нашему французу, что Вы делали в девятьсот шестом!» Мой соперник играет цепочкой от часов, заставляя наших дам изнывать. Наконец он уступает, поворачивается ко мне и небрежно роняет, выделяя, впрочем, каждое слово: — В девятьсот шестом я играл в рулетку в Монте-Карло. И старушки, торжествуя, хлопают в ладоши. Час ночи, пора и возвращаться. Мне устраивают пышные проводы. Я иду к такси, окруженный маленькими старушками. На каждой руке по старушке. Не слишком крепко стоящей на ногах. Сегодня я у них за дуэнью. Мадемуазель Ксавье шепчет мне на ухо: — В будущем году моя очередь получать квартиру, и мы все соберемся у меня! Вот увидите, как там будет мило! Я уже вышиваю салфетки. Она тянется еще ближе к моему уху: — Вы навестите меня раньше, чем остальных. Я буду первая, правда? Мадемуазель Ксавье через год исполнится всего семьдесят три. У нее будет своя квартира. Она наконец начнет жить…ИСПАНИЯ В КРОВИ
В Барселоне. Невидимая линия фронта гражданской войны
Миновав Лион, я повернул налево, к Пиренеям и Испании. Теперь подо мной чистенькие летние облака, облака для любителей подобных красот, а в них — широкие проемы, похожие на отдушины. И Перпиньян я вижу как бы на дне колодца. Я один на борту, я смотрю вниз и вспоминаю. Здесь я жил несколько месяцев. В то время я испытывал гидросамолеты в Сен-Лоран-де-ла-Саланк. После работы я возвращался в центр этого всегда по-воскресному праздного городка. Просторная площадь, кафе с оркестром, вечерний портвейн. Я сидел в плетеном кресле, а передо мной текла провинциальная жизнь. Она казалась мне такой же безобидной игрой, как игра в оловянных солдатиков. Принаряженные девушки, беспечные прохожие, безоблачное небо. Вот и Пиренеи. Последний благополучный город остался позади. Вот Испания и Фигерас. Здесь люди убивают друг друга. Я бы не удивился, если бы обнаружил пожар, развалины, признаки человеческих бедствий: удивительно то, что ничего подобного здесь не видно. Город как город. Всматриваюсь: никаких следов на этой легкой кучке белого гравия. Церковь — мне это известно — сгорела, а она блестит на солнце. Я не вижу ее непоправимых увечий. Уже рассеялся бледный дым, унесший ее позолоту, растворивший в небесной синеве ее резной алтарь, ее молитвенники, ее утварь. Ни одна линия не нарушена. Да, город как город. Он сидит в центре расходящихся веером дорог, словно паук посреди своей шелковой сети. Как и другие города, он питается плодами долины, которые поступают к нему по белым дорогам. И передо мною только этот образ медленного всасывания пищи, которое на протяжении веков определило лицо земли, свело леса, размежевало пашни, протянуло эти дороги-пищеводы. Ее лицо никогда больше не изменится. Оно уже состарилось. И я думаю, что достаточно построить для пчелиного роя улей среди цветов, он раз и навсегда обретает мир. А вот человеческому рою покой не дарован. Где же трагедия? Ее еще придется поискать. Ведь чаще всего она разыгрывается не на поверхности, но в человеческих душах. Даже в этом мирном Перпиньяне на больничной койке мечется страдающий раком, пытаясь ускользнуть от боли, как от безжалостного коршуна. И в городе уже нет покоя. Таково чудесное свойство человеческой природы: любое страдание, любая страсть излучаются вовне и обретают всеобщее значение. На каком бы чердаке человека ни снедал огонь желания, пламя его охватывает весь мир. Вот наконец Херона, затем Барселона, и я потихоньку скольжу с высоты моей обсерватории. Но и здесь я не замечаю ничего необычного, разве что улицы пусты. И опять разоренные церкви кажутся нетронутыми. Угадываю вдали чуть заметный дымок. Может, это один из тех признаков, что я искал? Свидетельство той самой ненависти, которая так мало разрушила, была так бесшумна и которая, однако, опустошила все? Ведь в этой легчайшей позолоте, уносимой одним дуновением, — вся культура. Да, с чистым сердцем можно спросить: «Где же террор в Барселоне? Где же этот испепеленный город, если сгорело каких-нибудь два десятка зданий? Где массовые убийства, если расстреляно всего несколько сотен из миллиона двухсот тысяч жителей?… Где же этот кровавый рубеж, за которым начинают стрелять?…» Я и в самом деле видел мирные толпы гуляющих по Рамбла, а если мне и попадался вооруженный патруль, одной улыбки часто бывало достаточно, чтобы пройти дальше. Линии фронта с первого взгляда я так и не увидел. В гражданской войне линия фронта невидима, она проходит через сердце человека… И все-таки в первый же вечер я оказался с нею рядом… Только я устроился на террасе кафе среди нескольких разомлевших посетителей, как вдруг перед нами возникло четверо вооруженных мужчин. Они разглядывали моего соседа, потом молча навели карабины прямо ему в живот. Струйки пота побежали по его лицу, он встал и медленно поднял отяжелевшие, точно свинцовые руки. Один из патрульных обыскал его, пробежал глазами документы и подал знак следовать за ним. И человек оставил недопитый стакан, последний стакан в своей жизни, и пошел. И его руки, поднятые над головой, казались руками утопающего. «Фашист», — процедила сквозь зубы женщина за моей спиной: только она и осмелилась показать, что видела эту сцену. А недопитый стакан остался на столе свидетельством безумной веры в счастливый случай, в милосердие, в жизнь… И я смотрел, как удаляется под прицелом карабинов тот, через кого только что в двух шагах от меня проходила невидимая линия фронта.Нравы анархистов и уличные сценки в Барселоне
Приятель только что рассказал: вчера он прогуливался по безлюдной улице, и вдруг патрульный кричит ему: — Сойти с тротуара! А он не расслышал и не подчинился. Патрульный вскидывает карабин, стреляет, но мажет. Однако пуля продырявила шляпу. И приятель, которому таким образом напомнили об уважении к оружию, переходит с тротуара на мостовую… Патрульный, перезарядив карабин, прицеливается, но, поколебавшись, опускает оружие и мрачно рычит: — Вы что, оглохли? Восхитительно, не правда ли? Ведь они хозяйничают в городе, эти анархисты. Они стоят на перекрестках группами по пять-шесть человек, охраняют отели или носятся на сумасшедшей скорости по улицам в реквизированных «испаносюизах». В первое же утро военного мятежа они, вооруженные одними ножами, взяли верх над артиллеристами, которых поддерживали пулеметчики. Они отбили пушки. Одержав победу, они захватили оружие и боеприпасы в казармах и, как и следовало ожидать, превратили город в крепость. В их руках вода, газ, электричество, транспорт. Прогуливаясь утром по городу, я вижу, как они укрепляют свои баррикады. Тут и простенькие стенки из булыжника, и настоящие крепостные валы. Заглядываю за стену. Они там. Они разорили соседний дом и готовятся к гражданской войне, развалясь в красных учрежденческих креслах… А у тех, что охраняют мой отель, тоже дел по горло. Они носятся вверх и вниз по лестницам. Спрашиваю: — Что происходит? — Рекогносцировка… — Зачем? — Ставим на крыше пулемет… — Зачем же? Пожимают плечами. Утром по городу прошел слух: говорят, правительство попытается разоружить анархистов… А я думаю, что оно откажется от этого намерения. Вчера я сделал несколько снимков нашего гарнизона — в каждом отеле есть свой гарнизон — и теперь разыскиваю здоровенного чернявого парня, чтобы вручить ему его изображение. — Где он? Я хочу отдать ему фотографию. Смотрят на меня, почесывают в затылке, затем с огорчением признаются: — Пришлось его расстрелять… Он донес на одного, что тот фашист. Ну, раз фашист, мы его к стенке… А оказалось, это никакой не фашист, а просто его соперник… Им не откажешь в чувстве справедливости. В час ночи, на Рамбла, слышу: — Стой! В темноте возникают карабины. — Дальше нельзя. — Почему? Разглядывают под фонарем мои документы, возвращают их: — Можете пройти, но берегитесь: тут, наверно, будут стрелять. — Что происходит? Не отвечают. По улице медленно тянется колонна орудий. — Куда это? — На станцию, отправляются на фронт. Хотелось бы посмотреть на эту отправку. Пытаюсь подольститься к анархистам. — До станции далеко, а тут еще дождь… Может, вы дадите машину?… Один из них с готовностью исчезает. Он возвращается в реквизированном «делаже». — Мы вас подвезем… И я качу к вокзалу под защитой трех карабинов. Забавная порода эти анархисты. Я их еще не раскусил. Завтра заставлю их разговориться и повидаю их великого трибуна Гарсиа Оливера.Гражданская война — вовсе не война: это болезнь…
Итак, меня провожают анархисты. Вот и станция, где грузятся войска. Мы встретимся с ними вдали от перронов, созданных для нежных расставаний, в пустыне стрелок и семафоров. И мы пробираемся под дождем в лабиринте подъездных путей. Проходим мимо вереницы заброшенных черных вагонов, на них под брезентами цвета сажи топорщатся жесткие конструкции. Я поражен зрелищем железного царства — сюда словно не ступала нога человека. Железное царство мертво. Корабль кажется живым, пока человек своей кистью и краской поддерживает его искусственный цвет. Но стоит покинуть корабль, завод, железную дорогу хоть на две недели, и они угасают, обнажая лицо смерти. Камни собора шесть тысячелетий спустя еще излучают тепло человеческого присутствия, а тут немного ржавчины, дождливая ночь — и от станции остается один скелет. Вот эти люди. Они грузят на платформы свои пушки и пулеметы. С глухим надсадным придыханием они борются против этих чудовищных насекомых без плоти, против нагромождений панцирей и позвонков. Поражает безмолвие. Ни песни, ни выкрика. Только время от времени проскрежещет упавший лафет. Но человеческих голосов не слышно. У них нет военной формы. Они будут умирать в своей рабочей одежде. В черных, пропитанных грязью спецовках. Они копошатся вокруг своих железных пожитков подобно обитателям ночлежки. И я ощущаю дурноту, как в Дакаре, лет десять назад, когда там свирепствовала желтая лихорадка. Командир подразделения говорит со мной шепотом, он заключает: «И мы пойдем на Сарагосу…» Откуда этот шепот? Здесь царит больничная атмосфера. Да-да, ощущение именно такое… Гражданская война — вовсе не война: это болезнь… Эти люди не пойдут в атаку, опьяненные жаждой победы, — они глухо отбиваются от заразы. И в противоположном лагере наверняка происходит то же самое. Цель тут не в том, чтобы изгнать противника с территории: тут нужно избавиться от болезни. Новая вера — это что-то вроде чумы. Она поражает изнутри. Она распространяется в незримом. И на улице люди одной партии чувствуют, что окружены зачумленными, которых они не могут распознать. Вот почему они отбывают в безмолвии со своими орудиями удушения. Ничего общего с полками в былых национальных войнах, что стояли на шахматной доске лугов и перемещались по воле стратегов. Они с грехом пополам объединились в этом хаотическом городе. И Барселона и Сарагоса представляют почти одинаковую смесь из коммунистов, анархистов, фашистов… Да и те, что объединяются, быть может, меньше похожи друг на друга, чем на своих противников. В гражданской войне враг сидит внутри человека, и воюют здесь чуть ли не против самих себя. И поэтому, конечно, война принимает такую страшную форму: больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть — это инфекционный барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают обыски и складывают зараженных на грузовики. А по другую сторону Франко произносит чудовищные слова: «Здесь больше нет коммунистов!» Будто отбор произвела медицинская комиссия, будто его произвел полковой врач… А человек-то, считая, что он может быть полезен, предстал со своей верой, с вдохновением в глазах… — К службе непригоден! На городских свалках жгут трупы, обливая их известью или керосином. Никакого уважения к человеку. Проявления его духа и в том и в другом лагере пресекали как болезнь. Так стоит ли уважать телесную оболочку? И тело, некогда полное молодого задора, умевшее любить, и улыбаться, и жертвовать собой, — это тело даже не собираются хоронить. И я думаю о нашем уважении к смерти. Думаю о белом санатории, где в кругу родных тихо угасает девушка, и они, как бесценное сокровище, подбирают ее последние улыбки, последние слова. Ведь в самом деле — это так индивидуально, так неповторимо. Никогда больше не прозвучит ни именно этот взрыв смеха, ни эта интонация, никто не сумеет так нахмурить брови. Каждый человек — это чудо. И мертвых у нас вспоминают много лет… Здесь же человека просто-напросто ставят к стенке и выпускают внутренности на мостовую. Тебя хватают. Тебя расстреливают. Ты думал не так, как другие. О, только это ночное отправление под дождем и под стать правде этой войны. Эти люди окружают меня, разглядывают, и в глазах у них какая-то серьезность с оттенком грусти. Они знают, что их ждет, если их схватят. И мне становится жутко. И я вдруг замечаю, что тут нет ни одной женщины. Это тоже понятно. На что тут смотреть матерям, которые, рожая сыновей, не знают ни того, какой лик истины их озарит, ни того, кто их расстреляет по законам своего правосудия, когда им минет двадцать лет.В поисках войны
Вчера я приземлился в Лериде и выспался тут, в двадцати километрах от фронта, а утром отправился на фронт. Этот город, расположенный в районе военных действий, показался мне более мирным, чем Барселона. Автомобили катили спокойно, из них не торчали дула винтовок. А в Барселоне днем и ночью двадцать тысяч указательных пальцев положено на двадцать тысяч спусковых крючков. Эти грозно ощетинившиеся оружием метеоры неустанно проносятся сквозь толпу, и поэтому все без исключения граждане как бы взяты на прицел. Но они уже привыкли жить под наведенным в сердце оружием и спокойно занимаются своими делами. Здесь никто не разгуливает, небрежно поигрывая пистолетом. Совсем нет этих довольно претенциозных аксессуаров, которые принято носить с потрясающей небрежностью, словно перчатку или цветок. В Лериде, фронтовом городе, люди серьезны: здесь уже не приходится играть в смерть. И все-таки… — Плотнее закройте ставни. Часовому напротив отеля приказано стрелять на свет. Проезжаем в автомобиле по зоне войны. Баррикады встречаются все чаще, теперь мы то и дело вступаем в переговоры с революционными комитетами. С нашими пропусками считаются лишь кое-где. — Вы что, хотите ехать дальше? — Да. Председатель комитета подходит к висящей на стене карте. — Вам не удастся. В шести километрах мятежники оседлали дорогу. Придется вам объехать вот тут… Тут, кажется, свободно… Правда, утром говорили про кавалерию… Разобраться в линии фронта невероятно трудно: свои деревни, вражеские деревни, деревни, то и дело переходящие из одного лагеря в другой. Эта чересполосица мятежных и республиканских участков наводит на мысль, что война ведется какими-то слабыми импульсами. Тут и намека нет на линию траншей, разделяющую противников с жесткой определенностью ножа. Впечатление такое, словно увязаешь в болоте. Здесь грунт твердый, там проваливаешься… И мы отправляемся в эту трясину… Сколько простора, сколько воздуха между очагами боев! Этой войне удивительно не хватает плотности… На околице деревни тарахтит молотилка. В нимбе золотой пыли рабочие творят хлеб для людей, они широко улыбаются нам. Какая неожиданность — этот прекрасный образ мира!.. Хотя вряд ли смерть нарушает здесь течение жизни. На ум приходит географический термин: один убийца на квадратный километр… и между двумя убийцами — неизвестно чья земля, чьи хлеба и виноградники. Долго вслушиваюсь в пение молотилки, неустанное, как стук сердца. Снова упираемся в тупик. Дорогу преграждает стена из булыжника, и шесть винтовок наведены на нас. За стеной лежат четверо мужчин и две женщины. Впрочем, сразу замечаю, что женщины даже не умеют держать оружие. — Проезда нет. — Почему? — Мятежники… Нам показывают другую деревню в восьмистах метрах — точное повторение той, где мы находимся. Там, конечно, тоже баррикада — точная копия нашей. И, возможно, тоже молотилка, хлеб которой претворится в кровь мятежников. Садимся на траву рядом с бойцами. Они кладут наземь винтовки и нарезают ломтями свежий хлеб. — Вы здешние? — Нет. Каталонцы из Барселоны, коммунисты… Одна из девушек поднимается и, подставив волосы ветру, садится на баррикаду. Она чуть полновата, но свежа и красива. Улыбается нам, излучая радость: — Останусь здесь после войны… В деревне куда лучше, чем в городе… Вот уж не думала! И она восторженно осматривается, словно сделала открытие. Она знала только серые пригороды, дорогу на фабрику по утрам и ничтожные радости грустных кафе. А тут все вокруг кажется ей праздничным. Она вскакивает на ноги, бежит к роднику. И ей, конечно, представляется, что она пьет из самого лона земли. — Воевали вы здесь? — Нет, тут только мятежники иногда что-то затевают… Заметят у нас грузовик или людей и караулят на дороге… Но вот уже две недели как тихо. Они поджидают своего первого врага. А в деревне, что напротив, шесть таких же бойцов тоже поджидают врага. И во всем мире только и есть что эти двенадцать воинов… За два дня, проведенных на фронте в скитаниях по дорогам, я не услышал ни единого выстрела. Я ничего не увидел, кроме этих уже привычных дорог, которые никуда не ведут. Они как будто продолжались между другими хлебами и другими виноградниками, но там была уже иная вселенная. И нам они были недоступны, как те дороги в затопляемых странах, что с незаметным уклоном уходят под воду. На столбе еще можно было прочесть: «Сарагоса, 15 км». Но Сарагоса, как древний Ис, покоилась, недоступная, на дне морском. В поисках войны нам, вероятно, повезло бы больше, если б мы добрались до тех главных пунктов, где грохочет артиллерия и командуют начальники. Но тут так мало войск, так мало начальников, так мало артиллерии! Мы, вероятно, могли бы добраться до этих участков, где пришли в движение массы людей, — есть на фронте узлы дорог, на которых сражаются и умирают. Но между ними остается свободное пространство. Повсюду, где я был, линия фронта — словно распахнутая дверь. И хотя существуют стратеги, пушки, колонны войск, мне кажется, подлинная война происходит не здесь. Все ждут, когда наконец что-то родится в незримом. Мятежники ждут, не объявятся ли у них сторонники среди беспартийных в Мадриде… Барселона ждет, что после вещего сна Сарагоса проснется социалистической и падет. В движение пришла мысль: по сути дела, не солдат, а мысль осаждает города… Она — великая надежда, и она же — опаснейший враг. Мне кажется, несколько этих самолетов и бомб, несколько снарядов и несколько бойцов сами по себе не могут одержать победу. Один обороняющийся в окопе противник сильнее сотни осаждающих. Но может быть, где-то пробирается мысль… Время от времени затевают атаку. Время от времени трясут дерево… Не для того, чтобы выкорчевать его, а чтобы проверить зрелость плодов. Когда город созреет, он падет…Здесь расстреливают, словно лес вырубают… И люди перестали уважать друг друга
Когда я вернулся с фронта, приятели разрешили мне присоединиться к их загадочным экспедициям. И вот мы среди гор, в одной из деревушек, где мир уживается с террором. — Да, мы их всех расстреляли, семнадцать… Они расстреляли семнадцать «фашистов». Священника, его служанку, ризничего и четырнадцать местных «богатеев». Ведь все относительно! Стоит им вычитать из газет, как выглядит «властелин мира» Базиль Захаров, и они тут же переводят это на язык своих представлений. Они узнают в нем своего владельца парников или своего аптекаря. И когда они расстреливают этого аптекаря, они убивают в нем как бы частицу Базиля Захарова. И только сам аптекарь этого не понимает. Теперь мы находимся среди своих, и здесь спокойно. Почти спокойно. Я только что видел в здешней харчевне последнего возмутителя спокойствия — он любезен, он улыбается, он так хочет жить! Он пришел сюда уверить нас, что, несмотря на несколько гектаров виноградников, которыми он владеет, он все-таки принадлежит к роду людскому, как все люди, страдает насморком, сморкается в голубой платок и немного играет в бильярд. Разве можно расстрелять человека, который умеет играть в бильярд? Играл он, впрочем, неважно, неуклюжие руки дрожали: он был встревожен, он еще не знал, считают ли его фашистом. И я представил себе несчастных обезьян, танцующих перед удавом, чтобы его умилостивить. Но мы ничем не можем ему помочь. Сейчас, сидя на столе в помещении революционного комитета, мы пытаемся завести разговор на другую тему. Пока Пепен достает из кармана засаленные документы, я разглядываю этих террористов. Странное противоречие. Это славные крестьянские парни с ясными глазами. Повсюду мы встречаем такие же внимательные лица. Хотя мы всего лишь иностранцы без полномочий, нас неизменно встречают с серьезной предупредительностью. Пепен говорит: — Да… так вот… Его зовут Лапорт. Знаете такого? Документ переходит из рук в руки, и члены комитета качают головами: — Лапорт… Лапорт… Я уже хочу вмешаться, но Пепен останавливает меня: — Они знают, только не хотят говорить… — И небрежно добавляет: — Я французский социалист. Вот мой членский билет… Теперь по рукам пошел билет. Председатель поднимает глаза на нас. — Лапорт?… Что-то не помню… — Ну как же! Французский священник… конечно, переодетый… Вы вчера схватили его в лесу… Лапорт… Его разыскивает наше консульство… Болтаю ногами, сидя на столе. Ничего себе переговоры! Мы буквально у волка в пасти, в горной деревушке, откуда не менее ста километров до первого француза, и требуем у революционного комитета, который расстреливает даже служанок священников, чтобы нам в целости и сохранности возвратили самого священника. И все же я не чувствую опасности. Их предупредительность не показная. С чего бы это им церемониться с нами? Мы ведь здесь беззащитны и вряд ли значим для них больше, чем отец Лапорт. Пепен подталкивает меня локтем: — Кажется, опоздали… Председатель, покашляв, решается наконец: — Утром мы обнаружили труп на дороге у околицы… Он, должно быть, еще там… И он посылает человека якобы проверить документы. — Они его уже расстреляли, — шепчет мне Пепен, — а жаль: могли бы вернуть. Тут славные ребята… Смотрю прямо в глаза этим несколько необычным «славным ребятам». Я действительно не замечаю ничего внушающего тревогу. Меня не пугают их лица, которые, замыкаясь, становятся непроницаемыми, словно стены. Непроницаемыми, с чуть приметным оттенком скуки. Жуткий оттенок! Просто не верится, что наша столь щекотливая миссия спасет нас от подозрений. Как они отличают нас от «фашиста» из харчевни, танцующего танец смерти перед неумолимыми врагами — своими судьями? На ум приходит странная мысль, настойчиво внушаемая инстинктом: стоит только одному из них зевнуть, и мне станет страшно. Я почувствую, что человеческие связи разрушены… Отъехали. Говорю Пепену: — Мы побывали вот уже в трех деревнях, а я никак не пойму, опасно ли наше занятие… Пепен смеется. Он и сам не знает. И все же он спас уже десятки людей. — Правда, вчера был неприятный момент, — признается он. — Я вырвал у них одного картезианца, который буквально уже стоял у стенки… Ну, запах крови… они рассердились… Конец истории я знаю. Как только Пепен — социалист и убежденный антиклерикал, — рискнув жизнью ради этого картезианца, оказался в машине, он повернулся к монаху и в отместку отпустил самое крепкое ругательство из своего лексикона: — Черт побери этих б… монахов! Пепен торжествовал. Но монах не слышал. Он бросился своему спасителю на шею, плача от счастья… В следующей деревне нам вернули одного человека: четверо вооруженных крестьян с таинственной торжественностью извлекли его из погреба. Это был бойкий монах с живыми глазами, имя его я уже не помню. Переодет он крестьянином, в руке узловатая палка, вся в зарубках. — Я отмечал дни… Целых три недели в лесу… Грибами сыт не будешь, я подошел к деревне, тут меня и схватили… Деревенский староста, благодаря которому мы получили живую душу, сообщает не без гордости: — Уж мы в него стреляли, стреляли. Думали — готов… И в свое оправдание добавляет: — Но дело-то ведь было ночью… Монах смеется: — Я ничуть не испугался! И так как нам пора уезжать, начинается бесконечный обмен рукопожатиями с этими «славными» террористами. Особенно достается спасенному. Его поздравляют с тем, что он жив. И монах отвечает на поздравления с радостью, не скрывающей его задних мыслей. А мне бы хотелось понять этих людей. Проверяем список. Нам сообщили, что в Ситхесе находится человек, которому грозит расправа. Мы у него. Проникаем в дом, словно воры на мельницу. На указанном этаже нас встречает худощавый юноша. — Вы, говорят, в опасности. Мы переправим вас в Барселону и вывезем на «Дюкене». Юноша о чем-то долго размышляет. — Я подведу сестру… — Что? — Она живет в Барселоне. Она не может платить за воспитание ребенка, я ей помогаю… — Это другой вопрос… Вам угрожает опасность? — Не знаю… Вот сестра… — Хотите бежать или нет? — Не знаю… А вы как считаете? В Барселоне у меня сестра… Этот, невзирая на революцию, занят своей маленькой семейной трагедией. Он останется здесь и сыграет злую шутку со своей загадочной сестрой. — Ну, как хотите… И мы уходим. Останавливаемся, выходим из машины. Где-то поблизости послышалась частая стрельба. Над дорогой возвышается небольшая роща. Из-за нее в пятистах метрах торчат две фабричные трубы. Патруль останавливается вслед за нами, бойцы вскидывают винтовки, спрашивают нас: — В чем дело? Прислушавшись, показывают на трубы: — Это на заводе… Стрельба смолкла, снова стало тихо. Чуть-чуть дымят трубы. Порыв ветра приглаживает траву, ничего не изменилось… И мы ничего не ощущаем. Однако в этой роще только что умирали. Наступившее безмолвие красноречивее стрельбы: раз она прекратилась, значит, не в кого больше стрелять. Человек, быть может, целая семья только что переселилась из этого мира в другой. Они уже скользят над травами. Но этот вечерний ветер… Эта зелень… Легкий дымок… Вокруг мертвых все остается по-прежнему. Я уверен, что смерть сама по себе ничуть не трагична. Глядя на буйную свежую зелень, я вспоминаю провансальскую деревушку, открывшуюся мне однажды за поворотом дороги. Прижавшаяся к своейколокольне, она выделялась на фоне сумрачного неба. Я лежал в траве и наслаждался покоем, когда ветер донес до меня звуки погребального колокола. Он оповещал мир о том, что наутро будет предана земле сморщенная выцветшая старушка, завершившая свою долю трудов. И мне казалось, это медленная музыка, плывущая в воздухе, звучит не отчаянием, а сдержанным и нежным ликованием. Колокол, что славил одним и тем же звоном крестины и смерть, возвещал о смене поколений, о движении рода людского. Над прахом он сызнова славил жизнь. И, слушая звон во славу обручения бедной труженицы с землей, я испытывал только глубокую нежность. Завтра она впервые уснет под царственным покрывалом, расшитым цветами и поющими цикадами. Рассказывают, что среди убитых есть девушка, но это только слухи. Какая жестокая простота! Покой наш не был нарушен этими глухими выстрелами в море зелени. Этой короткой охотой на куропаток. Эта гражданская панихида, прозвучавшая в листве, оставила нас спокойными, не вызвала мук совести… Да, конечно, у событий человеческой жизни есть два лица — трагическое и бесчувственное. Все меняется в зависимости от того, идет ли речь об отдельном человеке или обо всем человеческом роде. В своих миграциях, в своем слепом движении род забывает умерших. Потому, вероятно, и серьезны лица крестьян, — ясно, что они не кровожадны. И все же, возвращаясь с охоты, они скоро пройдут мимо нас, удовлетворенные расправой, безучастные к девушке, что споткнулась о корень смерти, — она, словно пронзенная на бегу копьем, покоится в лесу, и рот ее полон крови. Я коснулся здесь противоречия, которое мне, конечно, не под силу разрешить. Величие человека определяется не только судьбами всего рода: каждый человек — это огромное царство. Когда обваливается шахта, когда она смыкается над единственным шахтером, жизнь всего поселка висит на волоске. Товарищи, женщины, дети ждут в оцепенении, охваченные тревогой, пока спасательные команды перерывают под их ногами внутренности земли. Разве дело в том, чтобы спасти единицу из толпы? Разве дело в том, чтобы вытащить человека, как вытаскивают лошадь, оценив, какую службу она еще может сослужить? Десяток товарищей того и гляди погибнет во время спасения — это же такой убыток! Нет, не в том дело, чтобы спасти одного муравья из муравьев муравейника, — спасают сознание, это огромное царство, не имеющее цены. В черепной коробке шахтера, над которым не выдержала крепь, заключен целый мир. Близкие, друзья, домашний очаг, теплая вечерняя похлебка, праздничные песни, ласка и гнев и, может быть, даже всечеловеческий порыв, великая всеобъемлющая любовь. Как измерить человека? Его предок когда-то нарисовал оленя на сводах пещеры, и спустя двести тысяч лет движение человеческой руки еще излучает тепло. Еще волнует нас. Продолжается в нас. Движение человека — это неиссякаемый источник. И пусть нам суждено погибнуть, мы поднимем из шахты этого всечеловеческого, хоть и единственного шахтера. Но вот, возвратившись вечером в Барселону, я сижу у приятеля и смотрю из окна на маленький разрушенный монастырь. Обвалились своды, в стенах зияют огромные пробоины, взгляд проникает сквозь них в самые потаенные уголки. И я невольно вспоминаю, как разрывал в Парагвае муравейники, чтобы проникнуть в их секреты. Разумеется, для победителей, разрушивших этот храм, он был таким же муравейником. Удар солдатского сапога выбросил наружу маленьких монашенок, они забегали взад-вперед вдоль стен, и толпа не почувствовала этой трагедии. Но мы-то не муравьи! Мы — люди. Над нами не властны законы числа и пространства. Физик в своей мансарде, завершая расчеты, держит на кончике пера судьбу целого города. Больной раком, проснувшийся ночью, — средоточие человеческого страдания. Может быть, один шахтер стоит того, чтобы погибла тысяча людей. Когда речь заходит о человеке, я отказываюсь от этой чудовищной арифметики. Пусть мне говорят: «Что значит какая-то дюжина жертв по сравнению со всем населением? Что значит несколько сожженных храмов, если город продолжает жить?… Где же террор в Барселоне?» Я отвергаю такие масштабы. Духовный мир человека недоступен складному метру. Тот, кто заточил себя в своей келье, в своей лаборатории, в своей любви, как будто совсем рядом со мной, в действительности вознесся к тибетскому одиночеству, забрался в такие дали, куда никакое путешествие никогда меня не приведет. Достаточно разрушить бедные стены этого монастыря, и я уже никогда не узнаю, какая цивилизация только что навсегда погрузилась на дно моря, словно Атлантида. Охота на куропаток в роще. Девушка, убитая вместе с мужчинами. Нет, вовсе не смерть ужасает меня. Она кажется мне почти сладостной, когда сопряжена с жизнью; мне хотелось бы думать, что в этом монастыре день смерти тоже был праздничным днем… Но это непостижимое забвение самой сущности человека, эти арифметические оправдания я решительно отвергаю. Люди перестали уважать друг друга. Бездушные судебные исполнители, они рассеивают по ветру имущество, не ведая, что уничтожают живое царство… Вот вам комитеты, производящие чистку именем лозунгов, которым достаточно два-три раза измениться, чтобы оставить позади себя только мертвецов. Вот вам генерал во главе своих марокканцев, который со спокойной совестью уничтожает целые толпы, подобно пророку, подавляющему раскол. Здесь расстреливают, словно лес вырубают… В Испании пришли в движение толпы, но каждый отдельный человек, этот огромный мир, тщетно взывает о помощи из глубин обвалившейся шахты.МАДРИД
Пули щелкали над нашими головами, ударяясь о залитую лунным светом стену, вдоль которой мы шли. Те, что летели низко, отскакивали от насыпи с левой стороны дороги. Мы с моим спутником, лейтенантом, не обращали внимания на эти сухие щелчки и в километре от линии фронта, охватывавшей нас подковой, чувствовали себя на белой сельской дороге в полнейшей безопасности. Мы могли петь, смеяться, чиркать спичками — никому до нас не было дела. Мы были точно крестьяне, бредущие на соседний рынок. Там, в тысяче метров отсюда, нам волей-неволей пришлось бы стать пешками на черной шахматной доске войны, но здесь, вне игры, забытые всеми, мы напоминали школьников, которые удрали с уроков. И пули тоже. Шальные пули, брызги далеких сражений. Те, что свистели здесь, там упустили свою добычу. Они не впивались в бруствер, не пробивали человеческую грудь: их выпустили ввысь, в пространство, и они сбежали с поля боя. Вся ночь была пронизана их несуразными параболами; родившись, они жили три секунды свободного полета и погибали. Одни звякали о камень, другие, пролетая в вышине, полосовали звезды длинными ударами бича, и лишь отскакивавшие рикошетом странно звенели, будто на одном месте, как пчелы, опасные на миг, ядовитые, но недолговечные. Насыпь слева от нас кончилась, и мой спутник спросил: — Ну как, спустимся в ход сообщения? А то, пожалуй, пойдем по дороге: сейчас ведь темно… Я уловил скрытую за его вопросом лукавую усмешку. Я ведь хотел узнать, что такое война, — вот он и предлагал мне ее отведать. Разумеется, пули, отскакивавшие рикошетом и жужжавшие, словно пчелы, садящиеся на цветок, внушали к себе почтение. В их музыке чудилось какое-то намерение. Мне казалось, что тело мое намагничено и притягивает их к себе. Но в то же время я полагался на благоразумие товарища: «Он хочет меня припугнуть, но ведь жить-то ему не надоело: раз он предлагает идти по дороге, несмотря на этот колдовской дождь, значит, прогулка не слишком опасна. Ему лучше знать». — Конечно, пойдем по дороге… В такую погоду!.. Безусловно, я предпочел бы ход сообщения, но сохранил свое мнение про себя. Мне были знакомы подобные шутки. В былые времена в Кап-Джуби я и сам забавлялся таким образом. Опасная зона начиналась там в двадцати метрах от форта. И вот, когда ко мне являл с: какой-нибудь заносчивый инспектор, не слишком знакомый с пустыней, я уводил его прямо в пески. Рассказывая по пути о делах аэродрома, я ждал его робкого замечания, которое заранее вознаграждало меня за все взыскания по службе. — Гм… уже поздненько… не вернуться ли нам назад? Вот тут-то я и получал неограниченную власть над моим инспектором, теперь он был у меня в руках. Мы находились уже довольно далеко от форта, и он ни за что не отважился бы возвращаться один. И вот я целый час таскал его за собой, словно покорного раба, выдумывая для этого самые невероятные предлоги. А так как жаловался он, разумеется, только на усталость, я любезно предлагал ему посидеть и подождать, пока я вернусь и прихвачу его с собой. Он делал вид, что колеблется, окидывал взглядом коварные пески и говорил как ни в чем не бывало: — Вообще-то я не прочь еще пройтись… Тут я получал полное удовлетворение и, удаляясь широким шагом от спасительного убежища, начинал рассказывать ему о свирепых нравах кочевых племен. Этой ночью я сам оказался в роли поневоле гуляющего инспектора, однако я предпочел ежесекундно прятать голову в плечи, чем затевать уклончивый, хотя и прозрачный разговор о преимуществах хода сообщения. Нам все же пришлось нырнуть в эту щель, прорытую в земле, хотя ни одному из нас не удалось одержать верх над другим. Но дело принимало серьезный оборот, и наша игра вдруг показалась нам ребячеством. Не потому, что нас могло скосить пулеметной очередью или осветить прожектором, нет: просто в воздухе пронеслось какое-то дуновение, послышалось какое-то бульканье, которое никакого отношения к нам не имело. — Ага, это по Мадриду, — сказал лейтенант. Ход сообщения взбирается на вершину холма недалеко от Карабанчеля. Земляная насыпь со стороны Мадрида местами осыпалась, и сквозь одну из брешей нам открылся белый, удивительно белый город, освещенный полной луной. Менее двух километров отделяло нас от его высоких зданий, над которыми возвышается «Телефоник». Мадрид спит, вернее, притворяется спящим. Ни одной светящейся точки, ни единого звука. Зловещий грохот доносится теперь через каждые две минуты и тонет в мертвом безмолвии. Он не порождает в городе ни шума, ни суеты. Всякий раз он исчезает бесследно, словно камень в воде. Внезапно на месте Мадрида передо мной возникает лицо. Бледное лицо с закрытыми глазами. Суровое и упрямое лицо девы, с покорностью принимающей один удар за другим. И опять над нашими головами раздается знакомое бульканье, словно где-то там, в звездах, откупорили бутылку… Секунда, две, пять… Невольно подаюсь назад: мне кажется, что стреляют прямо в меня, и — трах! — будто рушится весь город! Но Мадрид по-прежнему перед моими глазами. Ничто не изменилось, не исказилось, не дрогнула ни одна черта: каменное лицо остается невозмутимым. — По Мадриду… — машинально повторяет мой спутник. Он учит меня разбираться в этом шелесте под звездами, следить за этими акулами, ныряющими за добычей. — Нет, теперь отвечает наша батарея… А вот это они… но в другом месте… А это… это по Мадриду… Разрывов, которые запаздывают, ждешь бесконечно. Чего только тут не перечувствуешь! Огромное давление все возрастает, возрастает… Скорей бы взорвался этот котел! Конечно, кто-то сейчас умрет, но ведь для кого-то наступит избавление. Восемьсот тысяч жителей, исключая дюжину жертв, получат отсрочку. А между бульканьем и разрывом все восемьсот тысяч находятся под угрозой смерти. Каждый выпущенный снаряд грозит всему городу. И я чувствую, как весь он сжался в комок, напряг свои силы. Я как бы вижу всех этих беззащитных мужчин, женщин, детей, над которыми недвижная дева распростерла свой каменный плащ. Снова слышится омерзительный звук, к горлу подступает тошнота, и, сам не свой, я невнятно бормочу: — Мадрид… бомбят Мадрид… А мой спутник откликается эхом, считая разрывы: — По Мадриду… шестнадцать. Я выбрался из хода сообщения. Лежу ничком на насыпи и смотрю. Новый образ стирает прежний. Мадрид со своими трубами, башнями, иллюминаторами похож на корабль в открытом море. Белый Мадрид на черных волнах ночи. Город прочнее человека: Мадрид нагружен эмигрантами, он перебрасывает их с одного берега жизни на другой. Он везет поколение. Он медленно плывет через века. От чердаков до подвалов его заполнили мужчины, женщины, дети. И они ждут — одни безропотно, другие дрожа от страха, запертые на каменном корабле. Враг торпедирует судно, везущее женщин и детей. Мадрид хотят потопить, как корабль. И сейчас мне плевать на все правила игры в войну. Плевать на опоздания, на причины. Я вслушиваюсь. Я научился узнавать среди других шумов глухой кашель батарей, харкающих на Мадрид. Я научился прослеживать путь этого бульканья под звездами — он проходит где-то близ созвездия Стрельца. Я научился медленно отсчитывать секунды. И я вслушиваюсь. Молния испепелила дерево, покачнулся собор, умер несчастный ребенок. Сегодня днем обстрел застал меня в самом городе. Понадобился чудовищный удар грома, чтобы вырвать с корнем одну-единственную человеческую жизнь. Прохожие стряхивали с себя осыпавшуюся штукатурку, куда-то бежали, рассеивался легкий дымок, а чудом уцелевший жених, еще секунду назад сжимавший тронутую загаром руку невесты, нашел свою любимую на земле, обращенную в кровавый ком, в месиво из мяса и тряпок. Он опустился на колени и, еще не сознавая происшедшего, тихо качал головой, будто хотел сказать: «Как странно!» В этом распластанном перед ним чудовище он не узнавал ни единой черты своей подруги. Волна отчаяния поднималась в нем с жестокой медлительностью и захлестывала его. Пораженный прежде всего этой подменой, он еще несколько мгновений и искал глазами ее легкие очертания, словно они-то уж во всяком случае должны были уцелеть. Но ему осталось лишь кровавое месиво. А легкая позолота, составлявшая неповторимый облик возлюбленной, растаяла! И пока в горле несчастного рождался крик, которому что-то мешало вырваться наружу, он успел осознать, что любил вовсе не эти губы, а их движение, их улыбку. Не эти глаза, а их взгляд. Не эту грудь, а ее легкое колыхание, подобное морской зыби. Он успел осознать наконец причину той тревоги, которую, быть может, внушала ему любовь. Не стремился ли он к недостижимому? Обнимают ведь не тело, а нежный пушок, некий свет, бесплотного ангела, легкую оболочку… И сейчас мне плевать на все правила игры в войну, на закон об ответных мерах. Кто все это затеял? На каждый ответ всегда найдется возражение, и самое первое убийство сокрыто во тьме веков. Больше, чем когда бы то ни было, я не доверяю логике. Если школьный учитель доказывает мне, что огонь не обжигает тела, я протягиваю руку к огню и безо всякой логики узнаю, что в его рассуждениях есть какой-то изъян. Я своими глазами видел девочку, с которой сорвали ее светлые одежды: так неужели же я уверую в справедливость ответных мер? Не могу я понять и того, какой смысл имеет подобный обстрел с чисто военной точки зрения. Я видел домашних хозяек с развороченными внутренностями, видел, как на улицу вышла консьержка с ведром воды и окатила тротуар, чтобы очистить его от следов крови, но я так и не могу постичь, какую роль призвано играть на войне это случайное уничтожение мирных жителей. Деморализующую? Но ведь обстрел приводит к обратному результату! Ведь с каждым снарядом что-то в Мадриде становится прочнее. Те, что колебались, принимают решение. Убитый ребенок, если это ваш ребенок, сразу перетягивает чашу весов. Мне показалось, что обстрел не разобщает, а, напротив, сплачивает людей. Ужас заставляет их сжимать кулаки, и они объединяются в общем ужасе. Мы с лейтенантом взбираемся на насыпь. Перед нами Мадрид: лицо или корабль, он безответно принимает удары. Но так уж устроены люди: испытания постепенно укрепляют их мужество. Потому и воодушевился мой спутник: он чувствует, как крепнет воля города. Он тяжело дышит, упершись кулаками в бедра. Ему уже не жаль ни женщин, ни детей… — Это будет шестьдесят… Удар звенит по наковальне: гигантский кузнец выковывает Мадрид.Продолжаем путь к передовой у Карабанчеля. На фронте, охватывающем нас полукругом, слышна отдаленная перестрелка — бессвязная и всеобщая, как шуршание уносимой и вновь прибиваемой морем гальки. Временами стрельба, как зараза, охватывает все двадцать километров фронта, она распространяется, словно пламя рудничного газа, затем все успокаивается, стихает, уходит в себя. Иногда наступают мгновения такой глубокой тишины, что кажется, будто в ней умерла война. Все разом как бы излечиваются от ненависти. Полминуты такого затишья — и лицо мира уже изменилось. Уже не нужно наносить ответные удары, ждать сопротивления, раскрывать заговоры. Какой прекрасный случай навсегда прекратить стрельбу! Пусть тот, кто отныне выстрелит первым, примет на себя всю ответственность за войну! Для того чтоб спасти мир, достаточно заметить эту тишину. Она ведь беззаботна, как пастух. Она так надеется, что ее услышат… Но, прежде чем каждый успевает эту тишину распознать, где-то уже щелкает ружейный выстрел. Где-то из-под горячего еще пепла выбивается язычок пламени. Где-то движение пальца одного-единственного убийцы, который ни за что не несет ответственности, снова воскрешает войну. И я думаю о тишине, наступающей после взрыва — то ли мины, то ли снаряда. Нас окутывает известковая пыль. Я даже подскакиваю, но по крестьянской походке идущего впереди лейтенанта вижу, что он и внимания не обращает на такие пустяки. Привычка, презрение к смерти, покорность? Постепенно я сам пойму, что военная храбрость служит своего рода панцирем. Человек заставляет молчать воображение. Все, что происходит не ближе десяти метров от него, он отметает в иной мир. Но я еще поворачиваю голову в ту сторону, откуда доносится гром, и стараюсь понять смысл каждого звука. На переднем крае этот безлюдный мир уже населен. Кое-где вспыхивает огонек сигареты, луч карманного фонарика. Теперь мы вслепую пробираемся между домиками Карабанчеля — его прорезают траншеи. Идем, не замечая этого, узкой улочкой, — только она отделяет нас от противника. Ходы сообщения ныряют в подвалы. Здесь спят, бодрствуют, отсюда стреляют через отдушины. И здесь, внизу, мы окунаемся в странную подводную жизнь. Я оказываюсь среди неведомых обитателей морского дна. Время от времени мой проводник тихонько отстраняет рукой немую тень и подталкивает меня на место наблюдателя. Наклоняюсь вперед. Бойница заткнута тряпкой. Выталкиваю ее и всматриваюсь. Вижу только стену напротив и странный лунный свет, словно проникающий сквозь воду. Когда я снова затыкаю отверстие, мне кажется, будто этой тряпкой я стираю растекшийся лучик луны. Распространяется новость, которая тотчас доходит и до меня: перед рассветом назначена атака. Ее цель — отбить тридцать домиков Карабанчеля. Тридцать бетонных крепостей из сотни тысяч. За неимением артиллерии придется взрывать стены гранатами и занимать эти разоренные гнезда одно за другим. Мне представляются рыбы, которых ловят стальной острогой, шаря ею в подводных норах. Я ощущаю легкую дурноту, глядя на этих людей, которые, вдохнув вскоре свежего воздуха, нырнут в синюю ночь и, если им удастся достигнуть противоположной стены, попадут под скалой в объятия смерти. А сколько из них, не пройдя и этих пятнадцати шагов, рухнет, потонет в лунном свете? Но ничто не изменилось в их лицах. Они ждали этого часа. Все они — добровольцы, отказавшиеся от своих надежд, от личной свободы и влившиеся в могучий поток. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. Страх начался легким возбуждением. Усилилась беспричинная стрельба. Противника боялись, как будто, узнав об атаке, он должен был приготовить бог знает какую отчаянную вылазку. Его искали во тьме. Страх внушала сама жертва, боялись той вспышки безумия, на которую способна жертва, когда топор палача касается ее затылка. Когда-то мне приходилось видеть опьяненных ужасом маленьких хищников, затаившихся в своей норе. Они готовы мертвой хваткой вцепиться вам в горло. Здесь искали немого врага, сбежавшего на свободу безумца, замышляющего преступление, и стреляли более всего по тишине. Этим способом хотели принудить его к открытому сопротивлению: боятся-то ведь призраков, а не людей. Но отвечал по-прежнему призрак. И теперь в этом глубоком трюме мы слышали, как трещит наш корабль. Где-то медленно расходятся какие-то швы. В трещины сочится луна. Люди противятся этому вторжению призраков. Луны, ночи, моря. Время от времени врывается буря, и нас сотрясают удары тарана. Там, снаружи, пули просто не дают вздохнуть, они буквально заперли нас в нашем убежище, но снаряды и мины, разрывы которых становятся все чаще, каждый раз заставляют нас содрогнуться, как внезапное покушение, как нож, вонзаемый в сердце невидимым убийцей. Кто-то бормочет: «Ручаюсь, они атакуют первыми». Но вот взрывная волна окатила нас с ног до головы. Люди дрогнули, но не шелохнулись. Мне бы очень хотелось понять причину их сплоченности, их стойкости. Завтра я спрошу об этом моего соседа, сержанта, если он уцелеет в атаке. Я скажу ему: «Сержант, почему ты согласен умереть?» Они недвижны, только вздрагивают под ударами топора. Человека подрубают медленно, словно дерево. Оно еще стоит, но удар следует за ударом. И вот я чувствую, как затрепетали во тьме все его ветви. Пулеметы выбрасывают теперь потоки искр. Ружейная стрельба ожесточается — это уже безотчетная, хаотическая стрельба. Что-то трещит вдоль траншей. Я вижу, как вибрирует ближайший ко мне пулемет. В тридцати сантиметрах над черной землей коса его губит все живое. На уровне тридцати сантиметров от черной поверхности земли жизнь невозможна. И все же что-то надвигается. Ведь ярость эта обращена против призрака, а он не поддается заклинаниям! Атакуют они или нет? Все это похоже на наваждение! Я ничего не заметил сквозь бойницу, клянусь, ничего, кроме одной звезды. А пулеметчик дает очередь за очередью. И когда строчит пулемет, звезда дрожит, словно отражение в воде. Ночь порождает призраки, люди воюют со звездами, а наблюдатель медленно поднимает руку: вот сейчас… сейчас… И вдруг — все разом как бы взрывается. Мысли в моей голове проносятся быстрее. Я думаю. Я думаю то же, что и другие. Я не хочу, не хочу… Не хочу, чтобы ночь взвалила мне на плечи убийцу, прыгнувшего в траншею. Не хочу услышать рядом с собой крик зверя. Не хочу, чтобы сегодня меня подобрали и унесли в огромный каменный мавзолей. О, если бы у меня была винтовка! Берегись! Я бью вслепую. Берегись! Худо будет тому, кто приблизится! Я сливаюсь с этим пулеметчиком, вместе с ним я рассекаю воздух очередями, словно клинком. Берегись! Я вовсе не хочу убивать людей: я хочу убить ночь, войну, ужас, порожденный кошмаром, и надвигающийся на меня бледный призрак… Так вот что такое паника! Мы у капитана. Сержант докладывает обстановку. Тревога оказалась ложной, но противник, видимо, что-то почуял. Не отменяется ли атака? Капитан пожимает плечами. Ведь и он только исполняет приказы. И он придвигает нам две рюмки коньяка. — Мы с тобой пойдем первыми, — говорит он сержанту. — Пей и ложись спать. Сержант лег. Мне освобождают место, и мы, человек двенадцать, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу, свет здесь яркий, и я щурюсь. Пью сладковатый, противный коньяк. У него печальный привкус рассвета. Почти не понимая, что происходит вокруг, допиваю коньяк и закрываю глаза. В сознании возникают домики Карабанчеля цвета морской воды. Справа от меня рассказывают анекдот, в котором я едва улавливаю одно слово из трех, слева играют в шахматы. Где я? Появляется какой-то солдат, он сильно под хмельком. Он покачивается на ногах в этом уже призрачном мире. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех напряженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза, и снова поглядел, и с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда, он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку, в глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава, некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму, в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. И меня поражает эта атмосфера предрассветного бдения, я узнаю время по обросшим за ночь лицам, а снаружи с удвоенной силой грохочет морской прибой. Скоро эти люди омоются — пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, — все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты они затягивают партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь! Но на этажерке возвышается будильник, точно владыка на престоле. Его завели, чтобы он подал сигнал. И я один украдкой поглядываю на него. Как им удается не слышать его тиканье? Ведь стучит он оглушительно! И все-таки будильник прозвенит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи. Когда человеку предстоит встреча со смертью, он почему-то всегда машинально уступает желанию расправить плечи. И вот, расправив плечи, они затянут ремни. Капитан тащит револьвер. Пьяный протрезвеет. И все не спеша двинутся по узкому коридору к бледному прямоугольнику неба и скажут какие-нибудь самые простые слова: «Какая луна!» или «Как тепло!» И устремятся к звездам.
Едва только телефон отменил атаку, в которой все они могли погибнуть, штурмуя бетонную стену, едва только люди почувствовали себя в безопасности, едва к ним вернулась уверенность в том, что они еще целый день могут топтать своими грубыми сапогами нашу старую добрую планету, едва только им вернули мир — все они начинают жаловаться. Жалоб тысячи. — Мы что, бабы? — Воюем мы или валяем дурака? Тысячи язвительных упреков по адресу штабных: они, видите ли, отказываются от лобового удара, им, верно, плевать на то, что Мадрид все время под обстрелом, что каждый день снаряды уничтожают детей; иначе они не отменяли бы атаку как раз в тот момент, когда люди готовы были спихнуть с гор, разгромить эти батареи, чтобы спасти несчастных, которые приносятся в жертву пушкам. Но я хорошо помню, что речь шла всего лишь о захвате трех десятков бетонированных минометных и пулеметных точек. Так что, даже если бы свершилось чудо, этой горсточке людей удалось бы продвинуться в лучшем случае на каких-нибудь восемьдесят метров и из всех мадридских детей спасти лишь тех, кто, сбежав с уроков, имеет обыкновение шляться на окраине в радиусе последних восьмидесяти метров, доступных обстрелу. Мне кажется также — да они и сами этого не скрывали, — что никому из них не улыбалась перспектива окунуться в лунный свет, так что они должны были просто радоваться тому, что могут еще бушевать вволю, пропустив в утешение — и не без удовольствия! — несколько стаканчиков коньяку, вкус которого теперь, после телефонного звонка, странным образом изменился. Но их сетования отнюдь не показались мне смешным бахвальством, ибо я знал, что они на самом деле готовы были этой ночью умереть, умереть без громких слов, и знал я еще кое-что, о чем мне хотелось бы рассказать. Я ведь и сам чувствую в себе подобное противоречие и совсем не стыжусь его. Разумеется, я, простой зритель, подвергавший себя опасности совсем по другим причинам, еще более, чем они, мечтал этой ночью о том, чтобы потопление корабля, на котором я оказался, было отменено. Однако теперь, когда мне нечего бояться, когда впереди долгий день с его обетованными радостями, я тоже смутно сожалею о чем-то, что было связано с этой катастрофой. Лучится день. Я освежаюсь ледяной водой из колодца; в сорока метрах от противника, под перекрытием, пробитым полуночными снарядами, в кружках дымится кофе. Утром наступает передышка, и, умывшись, здесь собираются живые, чтобы прожить этот день сообща, чтобы разделить белый хлеб, сигареты и улыбки. Один за другим — капитан, сержант Р., лейтенант — они поудобнее располагаются у стола перед богатствами, которые послушно были отвергнуты ими в час отречения и которые теперь снова обрели всю свою ценность. И вот уже раздаются возгласы: «Салюд, амиго!» — и они хлопают друг друга по плечу. Я наслаждаюсь ласковым ледяным ветром и солнцем, золотящим нас сквозь лед. Я наслаждаюсь воздухом горных вершин, и мне кажется, что я здесь по-настоящему счастлив. Я наслаждаюсь весельем этих людей, которые, сидя в одних рубахах, подкрепляют себя едой, чтобы, встав из-за стола, начать переделку мира. Где-то лопается созревший стручок. Шальная пуля время от времени щелкает о камень. Да, это бродит смерть, но смерть праздная, чуждая злых намерений. Это не ее час. Под бревенчатым настилом люди празднуют жизнь. Капитан делит хлеб, и если однажды мне довелось познать, насколько он бывает необходим, то здесь я впервые открываю для себя, с каким достоинством можно его вкушать. Я видел, как разгружали машины с продуктами для голодающих детей, и это было волнующее зрелище, но я до сих пор даже не подозревал, каким серьезным событием может стать завтрак. Весь отряд выбрался из глубины мрака, и капитан ломает этот белый хлеб, плотный пшеничный хлеб Испании, и каждый, протянув руку, получает толстый, с кулак, душистый ломоть, который претворится в жизнь. Ибо все они выбрались из глубин мрака. И я разглядываю этих людей, начинающих сейчас новую жизнь. Особенно внимательно смотрю я на сержанта Р., того, которому предстояло выйти первым и который перед атакой прилег поспать. Я видел его пробуждение, пробуждение человека, приговоренного к смерти. Сержант Р. знал, что он первым бросится навстречу пулемету, чтобы протанцевать в лунном свете танец всего из пятнадцати па, от которого умирают. Траншеи Карабанчеля вьются среди маленьких домиков рабочего поселка; в них сохранилась мебель, и сержант Р., растянувшись на железной койке, уснул, не раздеваясь, в нескольких шагах от противника. Когда мы зажгли свечу, воткнув ее в горлышко бутылки, когда мы выхватили из мрака это погребальное ложе, то увидели сперва только башмаки. Огромные, с подковами, подбитые гвоздями башмаки путевого обходчика или ассенизатора. В них была заключена вся нищета мира, потому что в таких башмаках невозможно легко и счастливо шагать по жизни, а приходится брать ее приступом, как докеру, для которого вся жизнь — разгрузка корабля. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением: подсумки, револьвер, пояс, ремни. На нем были шлея, хомут, сбруя ломового коня. В Марокко я видел подземные мельницы, там слепые лошади ходили по кругу, вращая жернова. Вот и здесь, при неверном красноватом огоньке свечи, будили слепую лошадь, чтоб она вращала свой жернов. — Эй, сержант! Послышался вздох, тяжелый, как волна, потом он медленно, словно глыба, повернулся к нам, и я увидел спящее, но печальное лицо. Глаза его были закрыты, а губы, сквозь которые прорывалось тяжелое дыхание, остались приоткрытыми, словно губы утопленника. Мы присели на койку, молча наблюдая его трудное пробуждение; этот человек карабкался из морских глубин, он сжимал кулаки, словно цепляясь за неведомые черные водоросли. Но вот, вздохнув еще раз, он снова ускользнул от нас, упал лицом в воду с отчаянием зверя, который не хочет, ни за что не хочет умирать и упрямо отворачивается от скотобойни. — Эй, сержант! Его опять вызвали из морских глубин, он вернулся к нам, и лицо его снова возникло в мерцании свечи. Но на этот раз мы поймали спящего: теперь-то он от нас не ускользнет. Его веки слипались, рот кривился, он провел ладонью по лицу, еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, непосильным трудом и леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Так колокольчик в коллеже неотвратимо будит наказанного школьника. Он успел забыть парту, классную доску, заданный в наказание урок. Ему снились каникулы, он весело бегал и смеялся вместе с другими детьми… Он пытается как можно дольше сохранить это призрачное счастье, старается окутать себя волнами сна, где он может чувствовать себя счастливым, но колокольчик все звенит и звенит и неумолимо возвращает его в мир человеческой несправедливости. Так и сержант понемногу заново свыкался со своим усталым телом, — оно ему в тягость, и очень скоро, вслед за холодом пробуждения, оно узнает ноющую боль в суставах, и груз снаряжения, а там — тяжкий бег к смерти, липкую кровь, в которой скользишь ладонями, пытаясь подняться, клейкий сироп, застывающий смолой. Ощущаешь не столько самую смерть, сколько муки наказанного ребенка. Один за другим он расправлял свои члены, подобрал локоть, вытянул ногу. Отягощенный ремнями, револьвером, подсумками, тремя гранатами, рядом с которыми спал, он с трудом выплывал из глубины на поверхность. Наконец он медленно открыл глаза, уселся на койке и взглянул на нас. — А! Да… пора… И он протянул руку за карабином. — Атаку отменили. Сержант Р., я свидетельствую: мы даровали тебе жизнь. Именно так. Возвратили ее сполна, словно у подножия электрического стула. И уж не знаю, можно ли описать словами, сколь возвышенно это помилование у подножия электрического стула. Но ведь мы в самом деле даровали его тебе in extremis, потому что в твоем представлении между тобой и смертью осталась лишь тоненькая перегородка. Прости мне теперь мое любопытство: я посмотрел на тебя. И я никогда не забуду твое лицо. Трогательно некрасивое лицо с крупным горбатым носом, лоснящимися скулами и интеллигентским пенсне. Как принимают дар жизни? Сейчас расскажу. Человек сидит на койке, вытаскивает из кармана табак и качает головой, разглядывая пол. Потом говорит: — Ну что ж, тем лучше. Опять качает головой и добавляет: — Вот если бы прислали нам подкрепление, бригады две-три, тогда стоило бы затевать атаку, и тогда бы ты увидел такой энтузиазм… Сержант, сержант… как ты распорядишься дарованной тебе жизнью? Сейчас ты макаешь хлеб в кофе, мирный сержант, ты сворачиваешь цигарки, ты похож на ребенка, которого избавили от наказания. И все же ты готов этой ночью вместе с товарищами снова проделать эти несколько шагов, после которых остается только встать на колени. И у меня из головы не выходит вопрос, который со вчерашнего дня я все хочу тебе задать: «Сержант, почему ты готов умереть?» Но я знаю, этот вопрос невозможно произнести вслух. Он затронул бы твое целомудрие, о котором ты и сам не подозреваешь, но которое было бы оскорблено. Как бы ты ответил? Стал бы говорить громкие слова? Но они показались бы тебе фальшивыми. Они и на самом деле фальшивы. Есть ли у тебя слова, чтобы выразить свою сущность, у тебя, такого застенчивого? Но я решился узнать и преодолею затруднения. Я стану задавать тебе маленькие, ничего не значащие вопросы… — В сущности, почему ты сюда пошел? В сущности, сержант, если я правильно понял твой ответ, ты и сам этого не знаешь. Счетовод где-то в Барселоне, не интересуясь политикой, ты выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала начавшаяся борьба. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, и ты с недоумением ощутил в себе перемену: все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости, твои мечты, твоя работа — все это словно отошло в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей, он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за которого непременно надо было отомстить, но эта весть ворвалась к вам, в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: — Пошли? — Пошли. И вы пошли. Ты даже не удивляешься этому властному зову, толкнувшему тебя сюда. Ты принимаешь истину, которую ты не умел высказать словами, но которая завладела тобой. И пока я слушаю этот простой рассказ, на ум приходит мысль, которую я еще держу про себя. Передо мной возникает образ. Когда наступает пора диким уткам или гусям лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле странная волна. Домашние птицы, словно магнитом притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и беспомощно хлопают крыльями. Клики тех, в вышине, пронзив их стрелой, пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины — ширь материков, очертания морей, и манит ветер вольных просторов. И утка мечется за своей проволочной загородкой, охваченная этой внезапной страстью, не ведая, куда она ее влечет, этой безбрежной любовью, предмет которой она никогда не узнает. Так и человек, захваченный неведомым ему доселе откровением, обнаруживает всю тщету и своей скромной профессии, и своей тихой домашней жизни. Но имени этой высокой истины он не знает. Чтобы объяснить подобные порывы, говорят о потребности бегства или о жажде опасностей, как будто не сама эта жажда опасностей и не эта потребность бегства прежде всего и требуют объяснения. Говорят еще о голосе долга, но почему этот голос становится вдруг таким властным? Что же ты понял, сержант, когда мир твой был нарушен? Призыв, всколыхнувший тебя, несомненно, волнует всех людей. Как бы ни назывался этот голос — жертвенностью, поэзией или приключением, — он все тот же. Но в нашей безмятежной домашней жизни мы оказываемся глухи к этому голосу. Мы только вздрагиваем, беспомощно хлопаем крыльями и остаемся в своем курятнике. Мы рассудительны. Мы боимся выпустить нашу маленькую добычу ради большого неведомого. Но ты, сержант, ты изобличаешь во всем его уродстве это существование лавочников, их ничтожные удовольствия, их ничтожные потребности. Это — не человеческая жизнь. И ты подчиняешься великому зову, не понимая его. Час настал — ты должен вылинять, ты должен распахнуть крылья. Домашняя утка и не подозревала, что в ее крохотной голове могут уместиться океаны, материки, небеса, — и вот она хлопает крыльями: что ей зерно, что ей червяки, — она хочет стать дикой уткой… Когда морским угрям приходит пора вернуться в Саргассово море, их невозможно удержать. Они ползут по полям, повисают на изгородях, разбиваются о камни. Они ищут реку, ведущую к бездне. Так же и ты чувствуешь, что тебя захватил этот внутренний перелет, о котором никто и никогда тебе не говорил. Ты готов к этому неведомому тебе празднеству, и на вопрос: «Пойдем?» — ты отвечаешь: «Пойдем!» — и ты пошел. Пошел на войну, о которой ничего не знал. Ты отправился в путь по внутренней необходимости, как эти серебристые твари, что блещут в полях на пути к морю, подобно черному треугольнику в небе. Чего ты искал? Этой ночью ты был почти у цели. Что ты открыл в себе, что в тебе созрело и готово было родиться? На рассвете твои товарищи жаловались: чего они лишились? Что они открыли в себе и вынуждены теперь оплакивать? Что мне в том, испытывали они этой ночью страх или нет? Что мне в том, надеялись ли они, что потопление корабля будет отменено? Пусть даже они готовы были бежать. Они ведь не убежали. Они ведь согласны ближайшей же ночью начать все вновь. Случается, встречный ветер относит стаю перелетных птиц в океан. И океан становится слишком просторным для их полета, и они уже не знают, достигнут ли противоположного берега. Но образ солнца и теплого песка в их маленьких головках помогает им продолжать полет. Каковы же те образы, сержант, что управляли твоей судьбой, ради которых, по-твоему, стоило рисковать жизнью? Твоей жизнью — единственным твоим богатством? Надо долго жить, чтобы стать человеком. Сеть привязанностей и дружб сплетается медленно. Медленно учишься. Медленно создаешь свое творение. Слишком ранняя смерть равносильна грабежу: чтобы осуществить свое жизненное призвание, надо жить долго. Но внезапно благодаря ночному испытанию, которое освободило тебя от всего лишнего, ты открыл в себе нового, доселе неведомого тебе человека. Ты узнал, что он велик, и теперь ты уже не сможешь его забыть. Но это же ты сам. У тебя внезапно возникает чувство, что свое жизненное призвание ты осуществишь именно теперь и что тебе не так уж необходимо будущее для накопления богатств, ибо распахнул крылья тот, кто не связан больше с преходящими благами, кто согласен умереть за всех людей, кто возвращается в нечто всеобщее. Великое дуновение коснулось его. И вот он свободен от оков, — спавший в тебе властелин — человек. Ты равен творящему музыканту, физику, двигающему вперед познание, всем, кто прокладывает пути нашего освобождения. Теперь ты можешь рисковать жизнью. Что ты потеряешь при этом? Если ты был счастлив в Барселоне, ты вовсе не растрачиваешь попусту свое счастье. Ты достиг той высоты, где все Любови обретают единый смысл. Если же ты страдал, если ты был одинок, если тело твое не имело пристанища, — любовь принимает тебя.
МИР ИЛИ ВОЙНА?
Перевод с французского Юлии Гинзбург
Кто ты, солдат?
Чтобы излечиться от душевного смятения, надо уяснить себе его суть. А мы, конечно же, живем в смятении. Мы сделали выбор: спасти мир. Но, спасая мир, мы отдали на растерзание друзей. Между тем, без сомнения, многие из нас были готовы рисковать жизнью ради долга дружбы. И сейчас им стыдно. Но если бы они пожертвовали миром, им было бы не менее стыдно. Потому что в таком случае они пожертвовали бы человеком — дали бы согласие на непоправимое уничтожение библиотек, соборов, лабораторий Европы. Они дали бы согласие на разрушение ее традиций, на превращение планеты в облако пепла. Вот потому-то мы и метались между двумя решениями. Когда нам казалось, что мир в опасности, мы ощущали весь позор войны. Когда показалось, что война нам не грозит, мы познали позор мира. Не нужно поддаваться отвращению к самим себе: от него мы не были бы избавлены, какой бы выход ни избрали. Нужно взять себя в руки и подумать, в чем причина такого отвращения. Если упираешься в подобное неразрешимое противоречие, значит, сама проблема поставлена неверно. Когда физик обнаруживает, что Земля, вращаясь, увлекает за собой эфир, в котором распространяется свет, и что в то же время эфир этот неподвижен, он не отказывается от науки, он меняет язык и отказывается от идеи эфира. Чтобы понять, гдеже гнездится смятение, надо непременно подняться над событиями. Надо на несколько часов забыть про Судеты. Мы слепы, пока смотрим со слишком близкого расстояния. Нам нужно немного поразмышлять о войне, коль скоро одновременно и отвергаем, и приемлем ее. Я знаю, какие услышу упреки. От газеты читатели ждут предметных репортажей, а не размышлений. Размышления хороши для журналов или книг. Но я другого мнения на этот счет. У меня до сих пор перед глазами впечатления первой моей летней ночи в Аргентине. Тьма кромешная. Но в этой бездне слабо мерцают, словно звезды, людские огни, рассеянные по равнине. Каждая звездочка означала, что среди ночи там, внизу, люди думали, читали, вели разговоры по душам. Каждая звездочка, как сигнальный фонарь, свидетельствовала: здесь бодрствует человеческий разум. Вот там, быть может, размышляли о счастье людей, о справедливости, о мире. А эта звезда, затерянная в стаде других, — звезда пастуха. Тут, может быть, устанавливали связь со светилами, ломали голову, вычисляя туманность Андромеды. А там любили друг друга. Повсюду в долине горели эти огни, и все они нуждались в пище, даже самые скромные. Огонек поэта, учителя, плотника. Но среди этих живых звездочек — сколько затворенных окон, сколько угасших звезд, сколько спящих людей, сколько огней, уже не дарящих свет, потому что им больше нечем питаться. Пусть журналист ошибается в своих размышлениях, неважно — смысл каждой местности придают только те жилища, где не спят. Журналист не знает, какие из них откликнутся, но это неважно; раскидывая хворостинки по ветру, он надеется поддержать хоть несколько огоньков из тех, что горят тут и там по равнине. Это были тяжкие дни — те, что мы прожили перед громкоговорителями. Так ждут найма у железных заводских ворот. Люди, столпившиеся, чтобы слушать речи Гитлера, уже видели мысленно, что они набиваются в товарные вагоны, а потом становятся к стальным орудиям, поступив служить на тот завод, которым обернулась война. Они уже словно подрядились на эту нечеловеческую работу, и ученый прощался с вычислениями, приоткрывавшими ему Вселенную, отец прощался с вечерней миской супа, наполняющей своим ароматом дом и сердце, садовник, положивший жизнь на новую розу, мирился с тем, что не украсит ею землю. Всех нас уже вырвали с корнем, перемешали и бросили как попало под жернова. Тут не дух самопожертвования, а сдача на милость абсурду. Запутавшись в противоречиях, которые мы уже не могли разрешить, растерявшись перед нелепостью событий, которые уже никаким языком нельзя было объяснить, мы в глубине души принимали кровавую драму: она навязала бы нам обязанности вожделенно простые. А между тем мы понимали, что любая война, с тех пор как она стала питаться минами и ипритом, может кончиться только крушением Европы. Но нас мало трогают описания всяких катастроф — гораздо меньше, чем принято думать. Каждую неделю, сидя в креслах кинотеатров, мы присутствуем при бомбежках в Испании или Китае. Мы можем слышать взрывы, от которых города взлетают на воздух, — но нас эти взрывы не потрясают. Мы с изумлением глядим на витые столбы копоти и пепла, неторопливо извергаемые к небу этими вулканическими землями. И все-таки! Ведь это зерно из закромов, домашние сокровища, наследство предков, плоть сгоревших заживо детей стелется дымом и утучняет мало-помалу то черное облако. Я исходил в Мадриде улицы Аргуэльяса, где окна, похожие на пустые глазницы, не отгораживали больше ничего, кроме блеклого неба. Устояли только стены, и за этими призрачными фасадами содержимое шести этажей обратилось в пяти-шестиметровую груду мусора. От кровли до фундамента прочные дубовые полы, на которых многие поколения проживали свою долгую семейную историю, может быть, в ту самую минуту, когда грянул гром, служанка застилала свежими простынями постель для ночного отдыха и любви, мать клала прохладную руку на пылающий лоб больного ребенка, отец обдумывал завтрашнее изобретение, — эти опоры, казавшиеся каждому из нас незыблемыми, в один миг, среди ночи, опрокинулись, как кузов самосвала, и сбросили свой груз в канаву. Но ужас не просачивается сквозь экран, и на наших глазах, при полном равнодушии зрителей, авиационные бомбы скользят бесшумно, как лот, к этим живым домам, чьи внутренности они сейчас выпотрошат. Не стану предаваться негодованию — у нас пока нет языкового ключа ко всему этому. Мы — те же самые люди, которые пошли бы на смертельный риск ради спасения одного-единственного угольщика, погребенного в шахте, или одного ребенка, попавшего в беду. Ужас ничего не доказывает. Я плохо верю в действенность таких животных реакций. Хирург входит в больничную палату, и сердце его не сжимается при виде чужих страданий, как у юной девушки. Его жалость выше, она поднимается над раной, которую он должен лечить. Он ощупывает рану и не слышит стонов. Вот так, когда наступает час родов и раздаются первые жалобные крики, весь дом охватывает лихорадка. Торопливые шаги в передней, хлопоты, распоряжения, и никого не пугают вопли молодой матери. Она и сама их забудет, они подернутся пленкой в ее памяти, значения они не имеют. Но сейчас-то она корчится и истекает кровью. И ее держат узловатые руки, руки палача, которые помогают исторгнуть плод, вырывают плоть из ее плоти. Все меж тем заняты делом; все улыбаются. Слышится шепот: «Все идет хорошо». Готовят колыбельку, готовят теплую ванночку — и вдруг кто-то бросается к двери, распахивает ее настежь и кричит: «Благодарение богу, это сын!» Если мы ограничимся изображением ужасов, то не найдем убедительных доводов против войны. Но мы не получим таких доводов и в том случае, если будем только расписывать радости жизни и боль бессмысленных утрат. Вот уже несколько тысячелетий мы разглагольствуем о слезах матерей. Приходится признать, что этот язык отнюдь не мешает погибать сыновьям. Спасение придет не из рассуждений. Большее или меньшее число смертей… Начиная с какой цифры смерть приемлема? Мир нельзя основать на этой постыдной арифметике. Мы скажем: «Неизбежные жертвы… Величие и трагизм войны…» А скорее всего мы ничего не скажем. У нас нет языка, который позволил бы разобраться в многообразии смерти без сложных рассуждений. А наш инстинкт и опыт велят нам не слишком доверять рассуждениям: доказать можно что угодно. Истина — это не то, что можно доказать; это то, что делает мир проще. Наши терзания стары, как род людской. Они сопутствовали прогрессу человечества. Общество развивается, а люди все пытаются осмыслить сегодняшнюю действительность с помощью устаревшего языка. Мы всегда в плену у языка и рождаемых им образов, независимо от того, годится нам этот язык или нет. Противоречивым мало-помалу становится неподходящий язык, а вовсе не действительность. Человек высвобождается только тогда, когда придумывает новые понятия. Работа ума, дающая толчок прогрессу, состоит отнюдь не в том, чтобы вообразить себе будущее: как можно предугадать противоречия, которые завтра возникнут неожиданно из наших нынешних дел и, властно требуя новых решений, изменят ход истории? Будущее не поддается анализу. Человек движется вперед, придумывая язык для понимания сегодняшнего мира. Ньютон подготовил открытие рентгеновских лучей не тем, что предвидел рентгеновские лучи. Ньютон изобрел простой язык для описания известных ему явлений. И из этого изобретения — через цепь других — родились рентгеновские лучи. Любой иной путь — утопия. Не допытывайтесь, какие меры уберегали человека от войны. Спросите себя: «Почему mЈi ведем войну, хотя знаем, что она нелепа и чудовищна? Где таится противоречие? Где таится истина войны, истина столь всемогущая, что ей покоряются ужас и смерть?» Только найдя разгадку, мы перестанем сдаваться на милость слепой судьбе, как будто она сильнее нас. Только тогда мы убережемся от войны. Конечно, вы можете мне ответить, что вероятность войны заложена в человеческом безумии. Но тем самым вы отрекаетесь от собственной способности понимать. Точно так же вы могли бы сказать: «Земля вращается вокруг Солнца, потому что такова воля божья». Возможно. Но какими уравнениями эта воля описывается? На каком достаточно ясном языке мы можем описать это безумие и тем избавиться от него? Мне все-таки кажется, что «дикие инстинкты», «алчность», «кровожадность» — неподходящие отмычки. Пользоваться ими — значит обходить самое, может быть, существенное. Это значит забывать о лишениях, связанных с войной. О готовности жертвовать жизнью. О дисциплине. О братстве, рожденном опасностью. Это значит, наконец, забывать обо всем, что поражает нас в солдате, в любом солдате, который согласился идти на лишения и смерть. В прошлом году я побывал на мадридском фронте, и, на мой взгляд, соприкосновение с настоящей войной дает больше, чем книги. Думаю, только от солдата можно узнать, что такое война. Но чтобы причаститься вместе с ним к всеобщей истине, надо забыть, что он на чьей-то стороне, и не обсуждать идеологические проблемы. Неумение найти общий язык влечет за собой противоречия, запутанные настолько, что лишают веры в спасение человека. Франко бомбит Барселону потому, что, по его словам, в Барселоне зверски истребили монахов. Следовательно, Франко защищает христианские ценности. Но христианин, во имя христианских ценностей, стоит в разбомбленной Барселоне у костра, в котором горят женщины и дети. И он отказывается понимать. Вы возразите мне, что это печальная необходимость войны… Что война абсурдна, но приходится выбирать, на чьей ты стороне. А я думаю, что абсурден прежде всего язык, заставляющий людей противоречить самим себе. Очевидность ваших истин — тоже не довод. Вы правы. Вы все правы. Прав даже тот, кто вину за все земные беды возлагает на горбунов. Если объявить войну горбунам, если заронить в умы представление о расе горбунов, мы быстро сумеем себя распалить. Мы предъявим горбунам счет за все их мерзости, за все преступления, все грехи. И будем считать, что это справедливо. А когда мы утопим несчастного, ни в чем не повинного горбуна в его собственной крови, то пожмем плечами с сожалением: «Таковы ужасы войны… Он расплачивается за других… Он расплачивается за преступления горбунов…» Ведь горбуны, разумеется, тоже совершают преступления. Забудем же эти различия: если их принять, вслед за ними появится целый свод непререкаемых истин со всем вытекающим из них фанатизмом. Можно поделить людей на правых и левых, на горбунов и негорбунов, на фашистов и демократов, и такие разграничения неуязвимы. Но истина, как мы помним, — это то, что делает мир проще, а не то, что создает хаос. А если задать солдату — любому солдату — вопрос иначе? Если искать смысл его сокровенных устремлений по-другому — не вслушиваясь, какие оправдания он приводит на своем невнятном языке, а всматриваясь, как он живет?Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов
В глубине подземного укрытия несколько человек — лейтенант, сержант, трое солдат — снаряжаются, чтобы пойти в дозор. Один из них, тот, что напяливает шерстяной свитер — холод стоит жестокий, — маячит передо мной в темноте. Он еще не просунул голову в ворот, руки путаются в рукавах, движения медленные и неуклюжие по-медвежьи. Глухие проклятия, ночная щетина, разрывы поодаль… Все это составляет странную смесь из сна, пробуждения и смерти. Долгие сборы бродяг перед тем, как снова взять тяжелый посох и отправиться в путь. Загнанные в землю, вымазанные землей, с руками в земле, как у садовников, эти люди не созданы для наслаждения. Женщины отвернулись бы от них. Но вот они потихоньку выкарабкиваются из грязи к звездам. Под землей, под этими глыбами промерзшей глины, пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час другие люди так же снаряжаются и натягивают на себя такие же шерстяные свитера; они выпачканы той же землей и вылезают из той же глины, из которой и сотворены. Там, напротив, та же земля пробуждается к мысли через людей. Так по ту сторону, лейтенант, твой собственный образ медленно поднимается навстречу гибели от твоей руки. Он от всего отказался, чтобы, как и ты, защищать свою веру. Его вера — это и твоя вера тоже. Кто согласился бы умирать иначе как за истину, справедливость, любовь к людям? Мне скажут: «Кого-то обманули — либо их, либо тех, что напротив». Но мне сейчас плевать на политиков, спекулянтов, мыслителей-надомников из обоих лагерей. Они дергают за веревочки, сыплют громкими словами и полагают, что руководят людьми. Они полагают, что люди настолько наивны. Но если громкие слова и пускают корни, как семена, развеянные по ветру, — это значит только, что ветру на пути встретились тучные земли, пригодные нести груз урожая. И пусть кто-то цинично воображает, что разбросал песок вместо зерен: распознавать хлеб — дело земли. Дозорные готовы, и мы двигаемся через поле. Стерня похрустывает у нас под ногами, и мы то и дело спотыкаемся в темноте о камни. Я провожаю до границы этого мира тех, кто получил приказ зайти в глубь узкой долины, отделяющей нас от противника. Ширина ее — восемьсот метров. Она оказалась под навесным артиллерийским огнем обеих сторон, и крестьяне ее покинули. Долина безлюдна, затоплена водами войны, посреди ее спит затонувшая деревушка. В ней живут теперь только призраки, тут остались одни собаки; днем они, должно быть, рыскают в поисках жалкого пропитания, а по ночам их, изголодавшихся, охватывает ужас. И к четырем часам утра вся деревня в смертельной тоске воет на белую, как кость, луну высоко в небе. «Вы должны узнать, не прячется ли там противник», — приказал командир. Надо думать, противник задает себе тот же вопрос, и такой же дозор отправляется в путь с той стороны. С нами идет комиссар. Я забыл, как его звали, но лица его я никогда не забуду. Он мне сказал: «Ты их услышишь… Когда будем на передовой, попробуем окликнуть неприятеля на том склоне… Иногда они отвечают…» Я его ясно вижу, этого человека: он опирается на суковатую палку (наверно, легкий ревматизм), у него лицо пожилого сознательного рабочего. Вот он-то, могу поклясться, возвысился над политикой и борьбой партий. Он возвысился над враждующими исповеданиями веры. «Жаль, что в нынешних обстоятельствах мы не можем изложить нашу точку зрения…» Он идет с ношей своих убеждений, как евангелист. А на той стороне — я знаю, и вы это знаете — другой евангелист, какой-нибудь верующий, также озаренный светом своих убеждений, вытаскивает тяжелые сапоги из той же грязи и тоже идет на неведомое свидание. И вот мы шагаем к земляному гребню, поднявшемуся над долиной, к самому вытянутому его отрогу, к крайнему уступу, к тому вопрошающему крику, что мы бросим врагу, — так вопрошают самих себя. Ночь, высящаяся, словно собор, — и какая тишина! Ни одного ружейного выстрела. Передышка? Нет, не то. Но нечто похожее на ощущение присутствия. Оба противника слушают один и тот же голос. Братание? Нет, конечно, если подразумевать под этими словами ту усталость, что в один прекрасный день ломает людей, заставляя их обмениваться сигаретами и делить чувство одинакового унижения. Попробуйте же сделать шаг навстречу врагу… Братание, быть может, но на такой высоте, где дух действует неизъяснимым до поры образом, — а здесь, внизу, не спасает нас от бойни. Ибо у нас нет пока языка, способного высказать то, что нас объединяет. Мне кажется, я хорошо его понимаю — комиссара, который идет с нами. Откуда он, с такими глазами, глядящими прямо перед собой, словно он когда-то подолгу ходил за плугом, по борозде? Он родом из крестьян и с ними вместе постигал, как живет земля. Потом он ушел на завод и постигал, как живут люди. «Я металлист… Двадцать лет был металлистом…» Я ни от кого не слышал исповеди более возвышенной, чем от этого человека. «Я человек неотесанный… Мне пришлось крепко над собой потрудиться… Понимаешь, всякие инструменты — с ними я умел обращаться и говорить об этом умел, тут у меня чутье было… Но когда я пробовал изложить что-то такое — идеи, мысли о жизни — для себя или для других… Вы-то привыкли к отвлеченным вещам… Вас ведь с детства приучают разбираться в разных словесных хитростях, и вы не можете вообразить, как это трудно — говорить об отвлеченных вещах! Но я работал, работал… Я чувствовал, как понемногу суставы у меня становятся гибче… Ты не думай, что я не могу посмотреть на себя со стороны… Я еще мужлан, не умею вести себя прилично, а ведь человека, знаешь, судят по тому, как он себя ведет…» Слушая его, я вспоминаю прифронтовую школу, устроенную прямо в камнях, как первобытное поселение. Капрал преподавал там ботанику. Ощипывая лепестки мака, он приобщал своих бородатых учеников к нежным тайнам природы. Но видно было, что солдаты испытывают простодушную тревогу: они так старались понять, — а ведь они уже не слишком молоды и огрубели от прожитой жизни. Им сказали: «Вы дикари, едва из пещеры вылезли, надо догонять человечество…» И они торопливо поспевали за человечеством своими широкими тяжелыми шагами. Я присутствовал здесь при восхождении мысли, подобном движению соков по стволу; рожденная в доисторической тьме из глины, она поднялась понемногу до высочайших вершин — до Декарта, Баха, Паскаля. Как переворачивал душу рассказ комиссара об усилиях пробиться к отвлеченным вещам! Эта потребность расти — так дерево тянется вверх. Вот тут и кроется тайна жизни. Только жизнь извлекает свою сырую породу из почвы и наперекор силе тяжести поднимает ее вверх. Какие воспоминания! Эта соборная ночь… Зрелище человеческой души с ее шпилями и стрельчатыми сводами… Враг, которого мы готовимся окликнуть. И мы сами, словно вереница паломников, бредем по черной, хрустящей земле, усыпанной звездами. Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей. Из-за них пролито слишком много людской крови. Мы шествуем к грозовому Синаю. Вот мы и на месте. Натыкаемся на закоченевшего часового — он дремал, привалившись к низенькой каменной стене. «Да, тут они иногда отвечают… Другой раз сами зовут… А иногда и не отвечают. Это уж смотря с какой ноги станут…» …Так ведут себя и боги. В ста метрах позади нас петляют окопы передовой. Их низкие стены укрывают человека по грудь. Они используются только для ночных постов, днем тут никого нет. Они нависают прямо над бездной, поэтому нам кажется, что мы словно облокачиваемся о парапет или барьер над пустотой и неизвестностью. Я зажигаю сигарету, и могучие руки сразу же валят меня на землю. Рядом со мной все тоже падают. И в эту самую минуту я слышу свист пяти-шести пуль. Впрочем, они пролетают слишком высоко, и больше залпов нет. Это просто призыв к порядку: под носом у противника сигарет не зажигают. К нам подходят трое или четверо людей, закутанных в одеяла. Они стояли на часах поблизости, в таких же укрытиях. — Видно, проснулись те, напротив… — А говорить они будут? Хорошо бы их послушать… — Там есть один… Антонио… Он иногда разговаривает. — Ну попробуй — пусть поговорит… Солдат выпрямляется, набирает полную грудь воздуху, складывает ладони рупором и кричит раскатисто и протяжно: — Ан-то-ни-о… о! Крик растет, стелется, эхом отражается по равнине… — Нагнись, — говорит мне сосед, — иногда они стреляют в ответ, когда их зовут… Мы прижимаемся к камню для безопасности и вслушиваемся. Выстрелов нет. Что же до отклика… Мы не могли бы поклясться, что ничего не слышим: в ночи все гудит, как в раковине. — Эй! Антонио… о! Ты что… И славный здоровенный парень, надсадив грудь, переводит дыхание. — Ты что… спишь?… «Ты спишь…» — повторяет эхо на другом берегу… «Ты спишь…» — повторяет долина… «Ты спишь…» — повторяет ночь. Все вокруг наполнено этим звуком. А мы стоим, охваченные доверчивой надеждой: они не стреляют! Я представляю себе, как они там прислушиваются, и ждут, и ловят человеческий голос. И этот голос не будит в них ненависти — ведь они не нажимают на спусковой крючок. Правда, они молчат, но какое напряженное внимание выдает эта тишина, если единственная зажженная спичка вызывает выстрел! Не знаю, какие невидимые семена, летящие с нашим голосом, падают в черную землю. Они жаждут нашей речи, как мы жаждем речи ответной. Но мы ничего не знаем о нашей жажде, кроме того, что она ясно чувствуется в самом этом внимании. А они все же не снимают пальцев со спусковых крючков, и я вспоминаю диких зверьков в пустыне, которых мы пытались приручить. Они смотрели на нас, прислушивались к нам. Они ждали от нас пищи. И все-таки при малейшем неосторожном движении они вцепились бы нам в горло. Мы надежно укрываемся за стену и, приподняв над ней руки, чиркаем спичкой. Три пули летят на быстро гаснущую звездочку. О спичка-магнит… Это значит: «Мы воюем, не забывайте! Но мы вас слушаем. Такая суровость не мешает любви…» Кто-то отталкивает здоровенного парня: «Тебе его не разговорить, дай-ка я попробую…» Коренастый крестьянин прислоняет ружье к стене, набирает воздуху в легкие и кричит: — Это я, Леон… Антонио… о! И громовой звук удаляется. Я никогда не слышал, чтобы голос разносился так далеко. Будто корабль отплыл в пропасть, которая нас разделяет. Восемьсот метров отсюда до того берега и столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они откликнутся, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пройдет пять секунд тишины, на которых подвешена целая жизнь. Каждый раз это как посольство в пути. И потому, даже если они нам ответят, мы не испытаем чувства единения друг с другом. Между нами встанет инерция невидимого мира, который надо столкнуть с места. Голос отчалил, он плывет, пристает к тому берегу… Секунда… две… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые бросили бутылку в море… Три секунды… Четыре… Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые не знают, откликнутся ли спасители… Пять секунд… — О-о! Голос доносится издалека и замирает на нашем берегу. Фраза растаяла по дороге, от нее осталась только невразумительная весть. Но меня она потрясает. Мы затеряны в темноте, непроницаемой изначала, и вот она внезапно озаряется возгласом гребцов. Нас бьет бессмысленная лихорадка. Мы нашли очевидное доказательство. Напротив — люди! Как это объяснить? Мне кажется, будто внезапно образовалась невидимая расщелина. Представьте себе дом ночью, все двери заперты. И вдруг в темноте вас касается дуновение морозного воздуха. Одно-единственное. Кто-то рядом! Вы когда-нибудь склонялись над пропастью? Я вспоминаю трещину в Шезри, черную щель в чаще леса, шириной в метр или два, длиной метров в тридцать, — пустяк. Ложишься ничком на еловые иголки и подталкиваешь рукой камешек в эту гладкую расщелину. Отзвука нет. Проходит секунда, две, три — целая вечность, и вот наконец слышится слабый гул, волнующий тем больше, чем дольше он шел, чем он слабее там, под тобой. Какая бездна! Так и в эту ночь запоздалое эхо созидает новый мир. Враг, мы сами, жизнь, смерть, война — несколько секунд тишины выражает все это. Снова послан сигнал, корабль тронулся в путь, караван отправился через пустыню, и мы снова ждем. Конечно, на той стороне, так же как и здесь, ловят этот голос, разящий в сердце, словно пуля. Но вот эхо возвращается: — …Пора… пора спать! Фраза доносится до нас изуродованной, разорванной в клочья, как спешное сообщение, перепачканное, размытое, истрепанное морем. Те самые люди, что стреляли по нашим сигаретам, напрягают грудь во всю мочь, чтобы послать нам материнский совет: «Молчите… Ложитесь… Пора спать». Нас охватывает легкая дрожь. Вам, наверно, показалось бы, что это игра. Им, этим простым людям, наверно, тоже кажется, что это игра. Так они в целомудрии своем вам бы и объяснили. Но в игре всегда таится глубокий смысл. Иначе откуда бы взяться тревоге, и наслаждению, и притягательной силе игры? Игра, в которую, казалось, мы играли, слишком хорошо сочеталась с той соборной ночью, с тем шествием к Синаю, она заставляла наши сердца биться слишком сильно, чтобы не отвечать какой-то смутной потребности. Установленная наконец-то связь приводит нас в радостное возбуждение. Так вздрагивает физик, приступая к решающему опыту, готовясь взвесить молекулу. Он определит лишь одну величину из сотен тысяч, добавит как будто только одну песчинку к зданию науки, и все же сердце у него бьется, потому что дело совсем не в этой песчинке. У него в руках ниточка. Ниточка, дернув за которую приближаешь познание Вселенной, ибо все связано между собой. Так вздрагивают спасатели, закидывая трос один раз, другой, двадцатый… и ощутив по едва заметному толчку, что потерпевшие крушение наконец его поймали. Где-то там была горстка людей, затерянных среди рифов в тумане, отрезанных от мира. И вот они связаны волшебной стальной нитью со всеми мужчинами, со всеми женщинами во всех портах. Так и мы перекинули хрупкий мостик через ночь к неизвестности, и вот он связал друг с другом два берега мира. Мы соединяемся с врагом, перед тем как погибнуть от его руки. Но наш мостик такой легкий, такой хрупкий; что можно ему доверить? Слишком тяжелый вопрос или ответ — и он рухнет. У нас так мало времени, что передавать надо только самое важное, истину истин. Я будто снова его слышу — того, кто руководил маневром, кто взял нас под свою команду, как рулевой; того, кто сумел добиться от Антонио ответа и потому стал нашим послом. Я вижу, как он выпрямляется во весь рост над стенкой, опирается широко раскрытыми ладонями о камень и выкрикивает в полный голос главный вопрос: — Антонио! За какой идеал ты сражаешься? Разумеется, они по целомудрию стали бы оправдываться: «Это мы так, в шутку…» Они и сами в это поверят позднее, если попробуют передать на своем скудном языке те чувства, для передачи которых еще нет языка. Чувства человека, который внутри нас и который вот-вот проснется… Но чтобы он появился на свет, требуется усилие. Этот солдат в свой черед ждет потрясения — и я знаю, я видел его глаза: он открыт ответу всей душой, как открываются колодезной воде в пустыне. Вот она наконец, эта изуродованная весть, это признание, обглоданное пятью секундами странствия, как надпись на камне обглодана столетиями: — …Испания! Затем доносится: — …ты… Думаю, это он теперь вопрошает того, кто здесь. Ему отвечают. Я слышу, как отсылают величавый ответ: — …Хлеб для наших братьев! А вслед за тем удивительное: — …Спокойной ночи, amigo![351] На что с той стороны отвечают: — …Спокойной ночи, amigo! И все снова погружается в тишину. Наверно, они там, как и мы, могли расслышать только отдельные слова. Разговор состоялся, и вот он, плод долгой ходьбы, опасностей и усилий… Вот он весь, такой, каким его качало эхо под звездами: «Идеал… Испания… Хлеб для наших братьев…» Но пора, дозор отправляется в путь. Начинается спуск к деревне — месту встречи. Ведь на той стороне такой же дозор, подчиняясь той же необходимости, углубляется в ту же бездну. Разными по видимости словами эти два отряда прокричали одну истину… Но столь возвышенное общение не воспрепятствует им умереть вместе.Надо придать смысл человеческой жизни
Несхожими словами мы выражаем одни и те же стремления. Человеческое достоинство, хлеб для наших братьев. Мы различаемся по способу достижения цели, определяемой логикой наших рассуждений, а не по самой цели. Мы идем на войну друг против друга по направлению к одной и той же земле обетованной. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на нас со стороны. Тогда окажется, что мы воюем против самих себя. А наши споры, распри, обиды — это словно единое тело корчится и раздирается пополам в кровавых родовых муках. В том, что должно появиться на свет, противоречивые представления сольются, но поторопимся ковать новую цельность. Родам надо помочь, иначе исход может оказаться смертельным. Не забудем, что сегодня война питается минами и ипритом. Военная страда теперь уже не препоручается каким-то представителям нации, которые пожинают лавры на границе и более или менее дорогой ценой приумножают (готов признать) духовное достояние народа. Война теперь действует хирургическими приемами насекомого, прокусывающего нервные узлы врага. Как только война будет объявлена, наши вокзалы, мосты, заводы взлетят на воздух. Наши города в судорогах удушья разбросают своих жителей по деревням. И с первого же часа Европа, этот организм из двухсот миллионов человек, лишится своей нервной системы, словно ее сожжет кислотой, своих управляющих центров, регулирующих желез, кровеносных сосудов; она превратится в сплошную раковую опухоль и сразу же начнет гнить. Как прокормить эти двести миллионов человек? Корешков в достаточном количестве им никогда не накопать… Когда противоречия становятся столь остры, нужно спешить их преодолевать. Нет ничего сильнее смутного беспокойства, ищущего для себя выражения. Можно дать на мучащие человека вопросы ответ получше, чем война, но отрицать их бесполезно. Попробуйте прокричать, какие у вас есть основания ненавидеть войну, тому сражавшемуся на юге Марокко офицеру (я его знаю, но имени не назову, чтобы не причинить ему неприятностей). Если вы его не убедите, не считайте его варваром. Послушайте сначала его рассказ. Во время Рифской войны он командовал небольшой заставой, примостившейся между двух мятежных гор. Однажды вечером он принимал парламентеров, спустившихся с западной гряды. Как положено, пили чай, и тут раздалась ружейная стрельба. На заставу напали племена восточной гряды. Когда офицер попросил парламентеров уйти, чтобы не мешать бою, они ответили: «Сегодня мы твои гости, аллах не велит тебя покидать…» Они присоединились к его солдатам, спасли заставу и вернулись к мятежникам. Но накануне того дня, когда пришел их черед нападать на заставу, они появились снова: — В прошлый раз мы тебе помогли. — Верно. — Мы истратили на тебя триста патронов. — Верно. — По справедливости надо их нам вернуть. И офицер-рыцарь не стал извлекать выгоду из благородства. Он отдал им эти патроны, один из которых, может быть, его убьет… Истина для человека — это то, что делает его человеком. Кто познал такую высоту отношений, такую честность в игре, такой дар взаимного уважения, оплачиваемого жизнью, — тот, сравнивая взлет души, что выпал ему на долю, с заурядностью демагога, выражающего чувства братства с теми же арабами звонким похлопыванием по плечу, ласкающего, может быть, самолюбие отдельной личности, но унижающего в ней человека, тот испытает к вам, если вы его осудите, только жалость, смешанную с презрением. И будет прав. Не пытайтесь объяснить Мермозу, когда он, всем сердцем торжествуя победу, летит над чилийским склоном Анд, будто он ошибается, будто письмо какого-нибудь лавочника не стоит того, чтобы из-за него рисковать жизнью. Мермоз посмеется над вами. Истина — это человек, родившийся в нем, когда он пролетал над Андами… Неужели вы не понимаете, что человеческое благородство основано прежде всего на самоотдаче, готовности рисковать, верности до самой смерти? Если вам нужен образец для подражания, вы найдете его в летчике, жертвующем собой ради почты, которую он везет, во враче, погибающем, сражаясь с эпидемией, в арабском воине, который на своем боевом верблюде спешит во главе отряда навстречу лишениям и одиночеству. Кто-то из них погибает каждый год. И даже если их жертвы кажутся бессмысленными, что же, вы думаете, их жизнь пропала даром? Они запечатлели прекрасный образ на первобытной глине, из которой мы сделаны, они посеяли семена даже в сознании малого ребенка, засыпающего под легенды об их подвигах. Ничто не исчезает бесследно, и даже от огороженного стенами монастыря исходит свет. Неужели вы не понимаете, что где-то мы сбились с пути? Человеческий муравейник стал богаче, чем прежде, у нас больше всяких благ и досуга, и все же нам не хватает чего-то существенного, чему трудно подыскать определение. Мы меньше ощущаем себя людьми, мы утратили какие-то таинственные привилегии. Я разводил газелей на мысе Юби. Мы все там разводили газелей. Их держали в загородках на открытом воздухе, потому что газелям нужны потоки свежего ветра; газели — самое хрупкое, что есть на свете. Но если их изловить совсем маленькими, они все же живут в неволе и кормятся из ваших рук. Они дают себя погладить и тычутся влажными мордочками в вашу ладонь. И вы думаете, что приручили их. Вы думаете, что прогнали ту неведомую печаль, от которой газели гаснут и умирают самой ласковой смертью… Но приходит день, когда вы застаете их упершимися рожками в изгородь и глядящими в сторону пустыни. Их влечет магнитом. Они не знают сами, что покидают вас; они пьют молоко, которое вы им приносите, позволяют себя погладить и еще нежнее тычутся мордочками в ваши ладони… Но как только вы отойдете, они, поскакав немного радостным галопом, снова возвращаются к изгороди. Если вы им не помешаете, они так и останутся там, даже не пытаясь сломать ограду, а только упираясь в нее рожками, опустив голову, пока не умрут. Что это — пора любви или просто жажда мчаться вприпрыжку до потери дыхания? Они не знают. Их поймали, когда у них еще глаза не открылись. Они ничего не знают ни о свободе, ни о запахе самца. Но вы много умнее их. Вы знаете, чего они ищут: простора, который даст им возможность осуществиться. Они хотят стать газелями и танцевать свой танец. Они хотят познать бег по прямой со скоростью сто тридцать километров в час, перемежаемый внезапными скачками в сторону, словно из-под песка то тут, то там вырывается пламя. Разве их остановят шакалы, если истина газелей в том, чтобы испытать страх, который один только может заставить их превзойти самих себя, проделать самые невероятные прыжки? Разве остановит их лев, если истина газелей в том, чтобы их раздирали когти под слепящим солнцем? Вы смотрите на них и думаете: они охвачены ностальгией… Ностальгия — это желание неизъяснимого. Предмет желаний существует, нет только слов, чтобы его назвать. А мы — чего не хватает нам? Что это за пространство, куда мы просим нас выпустить? Мы стараемся вырваться за пределы тюремных стен, растущих вокруг нас. Казалось, чтобы возвеличить нас, достаточно нас одеть, накормить, удовлетворить все наши потребности. И понемногу из нас лепили куртелиновского мелкого буржуа, провинциального политикана, узкого специалиста, лишенного всякой внутренней жизни. Вы мне возразите: «Нас учат, просвещают, больше, чем когда-либо, обогащают всеми завоеваниями разума». Но до чего жалкое представление о культуре духа у того, кто полагает, будто она зиждется на знании формул, на запоминании достигнутых результатов. Самый посредственный ученик Политехнической школы, кончивший курс последним, знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Но никогда ему в голову не придет такой поворот мысли, какие приходили в голову Декарту, Паскалю и Ньютону. Ибо у тех сначала воспитывали душу. Паскаль — это прежде всего стиль. Ньютон — это прежде всего человек. Он стал зеркалом Вселенной — слушал, как говорят на одном языке зрелое яблоко, падающее в саду, и звезды июльской ночью. Для него наука была жизнью. И вот мы с удивлением обнаруживаем, что нас обогащают какие-то загадочные обстоятельства. Мы можем дышать только тогда, когда связаны с другими общей и притом надличной целью. Сыновья века комфорта, мы испытываем несказанное блаженство, делясь в пустыне последними крошками. Тем из нас, кто познал великую радость взаимной выручки в Сахаре, все другие наслаждения кажутся пресными. Тут нечему удивляться. Тот, кто не подозревал о существовании незнакомца, дремлющего в его душе, но однажды в кабачке анархистов, в Барселоне, почувствовал, как он пробуждается благодаря самопожертвованию, дружеской помощи, суровому понятию справедливости, — тот будет отныне признавать только одну истину: истину анархистов. А кто однажды постоит на часах, охраняя коленопреклоненных испуганных монашек в испанских монастырях, — тот умрет за испанскую церковь. Мы хотели освобождения. Кто бьет киркой, хочет знать, какой смысл в том, что он бьет киркой. Каторжник бьет киркой совсем не так, как изыскатель, которого удар киркой возвышает. Каторга не там, где бьют киркой. Дело вовсе не в физических трудностях. Каторга там, где бьют киркой бессмысленно, где удар киркой не связывает работающего со всем человечеством. А мы хотим бежать с каторги. В Европе двести миллионов человек, жизнь которых лишена смысла и которые хотели бы родиться на свет. Развитие промышленности оторвало их от наследственного крестьянского языка и заперло в огромных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые составами из черных вагонов. В гуще рабочих предместий эти люди ждут пробуждения. Есть и другие — жертвы всех профессий: им запретны радости Мермоза, радости верующего, ученого; а они тоже хотели бы родиться. Конечно, можно их оживить, нарядив в мундиры. Они станут петь походные песни и делить хлеб по-братски. Они найдут то, чего ищут, — причащение к всеобщему. Но, отведав такого хлеба, они погибнут. Можно откопать деревянных идолов и воскресить старые языки, которые с грехом пополам делали когда-то свое дело; можно воскресить мистику пангерманизма или Римской империи. Можно одурманить немцев хмелем сознания, что они — немцы и соотечественники Бетховена. Таким хмелем можно и кочегару вскружить голову. Это, конечно, гораздо легче, чем пробудить в кочегаре Бетховена. Но демагогические идолы плотоядны. Тот, кто умирает за приумножение познаний или исцеление болезней, даже умирая, служит жизни. Можно умереть и за расширение границ Германии, или Италии, или Японии, но тогда враг — это не уравнение, сопротивляющееся решению, не бацилла, сопротивляющаяся сыворотке; враг — это человек рядом. С ним приходится сражаться, но о победе сегодня речи быть не может. Каждый укрывается за бетонными стенами. Каждый, не придумав ничего лучшего, ночь за ночью посылает эскадрильи бомбить самое нутро другого. Победа достается тому, кто сгинет последним, — поглядите на Испанию… Что помогло нам родиться к жизни? Служение. Мы смутно ощущали, что человек сможет соединиться с человеком, только разделяя одни и те же устремления. Летчики сближаются, если идут на риск ради одной и той же почты. Альпинисты — если карабкаются к одной и той же вершине. Люди соединяются не тогда, когда тесно соприкасаются друг с другом, а когда сливаются в одной вере. В мире, ставшем пустыней, мы испытываем жажду вновь обрести товарищей. Но для того чтобы почувствовать тепло от плеч спутников, с которыми вместе бежишь к одной цели, война не нужна. Война нас обманывает. Ненависть ничего не прибавляет к экстазу бега. Ибо для того чтобы освободить нас, достаточно помочь нам осознать единую цель, связующую нас друг с другом, и искать ее надо в общечеловеческом. Врач во время осмотра не обращает внимания на стоны того, кого выслушивает: помогая этому больному, он надеется исцелить человека. Врач говорит на общем для всех языке. Пилот почтового самолета мускулистой рукой управляется с болтанкой, и это каторжная работа. Но своим трудом он служит связям между людьми. Мощь его руки соединяет тех, кто любит друг друга, кто мечтает о встрече: этот пилот тоже частица всеобщего. И даже простой пастух, стерегущий овец под звездами, осознав свое назначение, обнаруживает, что он больше чем пастух. Он часовой. А каждый часовой в ответе за всю державу. К чему обманывать кочегара, посылая его во имя Бетховена драться с соседом? Какая ложь! Ведь в том же краю Бетховена бросают в концентрационный лагерь, если он думает не так, как кочегар. У кочегара должна быть иная цель — возвыситься до того, чтобы однажды заговорить, как Бетховен, на общем для всех языке. Идя к осознанию Вселенной, мы вернемся к самой сути человеческой судьбы. Не понимают этого только лавочники, удобно устроившиеся на берегу и не замечающие, как течет река. Но мироздание не стоит на месте. Из кипящей лавы, из звездного вещества рождается жизнь. Постепенно мы восходим к тому, чтобы сочинять кантаты и взвешивать галактики. И сержант под снарядами знает, что генезис еще не завершен, что он должен продолжать восхождение. Жизнь движется к сознанию. Звездное вещество неторопливо вскармливает и растит самый благородный свой цветок. Но велик даже тот пастух, что осознал себя часовым. Мы лишь тогда будем счастливы, когда начнем двигаться в нужном направлении — в том, по какому шли с самого начала, только пробудившись из глины. Тогда мы сможем жить в мире, ибо то, что придает смысл жизни, придаст смысл и смерти. Как легка она под сенью провансальского кладбища, когда старый крестьянин в конце своего царствования вручает семейное достояние — коз и маслины — на хранение сыновьям, чтобы те в свой черед передали его сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду умирают лишь наполовину. Жизнь каждого в свой срок лопается, как стручок, и выпускает на волю зерна. Я как-то сидел бок о бок с тремя крестьянами у смертного одра их матери. Конечно, это было горько. Второй раз перерезалась пуповина. Второй раз развязывался узел, соединяющий одно поколение с другим. Трое сыновей понимали, что остались одни, что им надо всему учиться заново, что они лишились семейного стола, за которым собирались по праздникам, той точки, в которой они все сходились. Но я понимал также, что с этим разрывом второй раз дарилась жизнь. Сыновья в свой черед становились предводителями, полюсами притяжения, патриархами — до той поры, пока в свой черед не передадут престол выводку малышей, играющих во дворе. Я смотрел на мать, старую крестьянку, с лицом спокойным и строгим, со сжатыми губами; лицо ее обратилось в каменную маску. И я узнавал в нем лица сыновей. В этой маске они были отлиты. В этом теле были отлиты их тела, прекрасные образцы человеческой породы; они держались прямо, как деревья. Теперь маска лежала разбитая — но так трескается крепкая скорлупа, из которой вылущили плод. Сыновья и дочери в свой черед будут отливать из своей плоти человеческий молодняк. На ферме не умирают. Мать умерла, да здравствует мать! Горькая, да, но такая простая картина: этот род, оставляя на пути одного за другим своих прекрасных седоволосых покойников, шествует через все метаморфозы к неведомой истине.ПИЛОТ И СТИХИИ
Перевод с французского Рида ГрачеваРассказываяо тайфуне, Конрад[352] лишь мимоходом говорит про огромные валы, мрак и ураган. Этот материал его не интересует. Но вот трюм, набитый китайцами-эмигрантами: качка разметала их пожитки, разбила сундучки, перемешала их жалкие сокровища. Золото, которое они всю жизнь собирали по крупице, безделушки, у всех одинаковые, но у каждого свои, — все смешалось в беспорядке, обезличилось, возвратилось к первобытному хаосу. Из всего, что связано с тайфуном, Конрад показывает нам только трагедию людей. Мы все ощутили это бессилие передать увиденное, когда после бури собирались, как у родного очага, в маленьком тулузском ресторанчике под опекой заботливой служанки. Мы даже не пытались говорить про этот ад. Наши рассказы, наши жесты и громкие слова рассмешили бы товарищей, как детская похвальба. И на то есть причины. Циклон, о котором я хочу рассказать, был самым тяжелым, самым жестоким испытанием в моей жизни; и все-таки, переступив некую грань, я могу описать ярость стихий, не иначе как нагромождая превосходные степени, а это не дает ничего, кроме неприятного ощущения преувеличенности. Постепенно я понял истинную причину этой неудачи: рассказчик силится описать трагедию, которой не было. Попытка передать ужас безуспешна потому, что этот ужас придуман потом, пережит в воспоминании. В минуту опасности ужас не возникает. Вот почему, приступая к рассказу о возмущении стихий, я не уверен, что эта трагедия скажет что-либо читателю. С аэродрома Трилью я взял курс на Комодоро-Ривадавия в Патагонии. Земля в тех местах искорежена, как старая кастрюля. Нет другого места, где бы она столь откровенно показывала свою дряхлость. Когда над Тихим океаном повышается давление, оно изгоняет ветры сквозь расщелину в Андийских Кордильерах; ветры сдавливаются и разгоняются в узком стокилометровом коридоре и соскребают все на своем пути. На этой почве, протертой до дыр, ничего не растет: видны только огни нефтяных скважин — словно горящий лес. Кое-где над круглыми холмами, на которых ветры пощадили лишь осадок крупного щебня, поднимаются форштевни заостренных, зазубренных, до кости ободранных гор. В летние месяцы скорость этих ветров на почве доходит до ста шестидесяти километров в час. Мы их хорошо знали. Стоило только кому-нибудь из нас оставить песчаные равнины Трилью, и мы оказывались на кромке зоны, где они хозяйничали, мы узнавали их по какому-то голубовато-серому оттенку и потуже затягивали лямки и пояса, приготовляясь к сильной болтанке. С этого момента полет становился мучительным, на каждом шагу мы проваливались в невидимые пропасти. Это был уже физический труд. На целый час мы превращались в грузчиков и таскали на плечах внезапно обрушивающиеся тяжести. А потом, час спустя, мы снова обретали покой. Наши машины выдерживали. Мы доверяли креплению крыльев. Видимость, в общем, была хорошая и не вызывала затруднений. Эти рейсы были для нас каторжным трудом, а не трагедией. Но в тот день мне не понравился цвет неба. Небо было голубым. Чисто-голубым. Даже чересчур голубым. Беспощадное солнце блистало на истертой земле, вспыхивая порою на гребнях гор, отскобленных до костяка. Ни облачка. Но к этой чистой голубизне примешивался необычайно сильный отсвет наточенного ножа. Сразу же я ощутил смутное отвращение — предвестье физической пытки. Сама эта чистота неба уже смущала меня. Как ни свирепы черные бури, там хоть видишь врага в лицо. Оцениваешь его могущество, готовишься отразить его натиск. Как ни свирепы они, с ними хоть можно схватиться в открытую. Но в ясную погоду и на большой высоте шквалы голубого урагана обрушиваются на пилота лавиной, и он ощущает под собой пустоту. Я заметил еще и другое. Что-то заволокло вершины гор: не туман, не дымка испарений, не песчаная туча, а какой-то длинный пепельный шлейф. Ветер волочил к морю соскобленную землю, и мне это тоже не понравилось. Я затянул потуже кожаные ремни и, удерживая штурвал одной рукой, другой схватился за лонжерон. Нет, я все еще плыл по замечательно спокойному небу. Наконец самолет вздрогнул. Всем нам знакомы эти тайные толчки, предвестники настоящей бури. Еще нет болтанки: ни бортовой, ни килевой. Самолет еще ни разу как следует не тряхнуло. Продолжается прямой горизонтальный полет. Но крылья уже получили первое предупреждение: редкие, едва ощутимые короткие толчки, похожие на взрывы, словно кто-то подмешал к воздуху порох. Затем все вокруг меня взорвалось. О двух последующих минутах ничего не могу сказать. В памяти встают зачатки мыслей, обрывки умозаключений, простые наблюдения. Я не смог бы сейчас открыть в этом трагедию, потому что никакой трагедии не было. Я только могу изложить все более или менее последовательно. Начать с того, что я уже не продвигался. Повернув направо, чтобы устранить внезапный снос, вижу, что ландшафт подо мной постепенно замедляет движение и совсем останавливается. Я не преодолевал пространство. Крылья не вгрызались в земной рельеф. Земля прыгала, вращалась, но на одном месте: самолет буксовал, словно сорвалась зубчатая передача. Тут же возникло нелепое ощущение, будто я вылез из укрытия. Все гребни, все острые углы, все пики гор, рассекающие ветер и стегающие меня своими смерчами и шквалами, показались мне орудиями, которые наводят на меня свои жерла. Во мне медленно созревало решение спуститься и в глубине долины поискать защиты у склона горы. Впрочем, хотел я этого или нет, меня уже придавливало к земле. Тут-то меня и захлестнули первые волны циклона, который, как я определил через двадцать минут, несся над поверхностью земли с фантастической скоростью двести сорок километров в час; но ничего трагического я не испытывал. Если я закрою глаза, если забуду про машину и про полет, чтобы выразить мое переживание в его простой первооснове, я опять испытываю то же неудобство, что и грузчик, который старается сохранить свою поклажу в равновесии: поклажа скользит, резким движением он подхватывает на лету один тюк, а тут валится другой, и он, совершенно растерявшись, вдруг замечает, что хотел было разжать руки и выпустить ношу. В сознании — никакого образа опасности. Есть что-то вроде закона кратчайшего пути возникновения образа. Человек заключает переживание в конкретный символ: я был официантом, который нес посуду, поскользнулся, и вся эта гора фарфора рухнула на паркет. И вот я пленник долины. Я-то рассчитывал найти там укрытие, — куда там! — стало еще хуже. Шквалы, правда, никого еще не убивали. Мы знаем, что выражение «вдавлен шквалами в землю» изобрели газетчики. Ветру понадобилось бы спуститься ниже уровня земли. Но на этот раз, посреди долины, я едва-едва управлял самолетом. А форштевень скалы там, впереди, качнулся справа налево, стремительно взмыл в небо и целую секунду висел надо мной, прежде чем снова исчезнуть за горизонтом. Горизонт… Горизонта, впрочем, как не бывало. Я словно заблудился за кулисами театра, где навалены декорации. Вертикали, косые, горизонтали — все перепуталось. Сто долин пересекается подо мной, и непонятно, какая из них настоящая. Не успеваю осмотреться, а тут новое нападение отшвыривает меня в сторону, а то и совсем разворачивает. И снова мне надо разбираться в обломках ландшафта. У меня возникают две мысли. Первая — это открытие: только сейчас я понял причину аварий в горах, которые случались в ясную погоду. Во время этой карусели пилоты на миг принимают косые склоны гор за линию горизонта. Вторая — навязчивая идея: нужно выбраться к морю. Море плоское. За море я не зацеплюсь. И я поворачиваю, если только можно назвать поворотом этот едва управляемый галоп по долинам, уходящим к востоку. Но и в этом нет еще ничего потрясающего. Я всего лишь борюсь с беспорядком, выбиваюсь из сил, чтобы восстановить порядок, изнемогаю, пытаясь удержать на месте гигантский карточный домик, который все рушится и рушится. Я только смутно испытываю самый обыкновенный страх, когда одна из стен моей тюрьмы вдруг вздымается надо мной, как огромная волна. Разве что сердце у меня чуть щемит, когда живые гребни поддают мне пинка, стоит лишь оказаться в их водоворотах. Когда взлетают невидимые пороховые погреба. Если и есть среди моих смутных чувств хоть одно ясное, так это чувство уважения. Я уважаю этот пик. Уважаю этот отточенный гребень. Уважаю этот купол. Уважаю эту поперечную долину, что впадает в мою и сейчас отпустит мне увесистый шквал, столкнувшись с воздушным потоком, который меня увлекает. Так я открываю, что сражаюсь вовсе не с ветром, а с этим самым гребнем, с этой хребтиной, с этой скалой. С этой скалой, хоть она и далеко. Она собственной персоной наскакивает на меня, протягивая свои невидимые руки, напрягая свои скрытые мышцы. Впереди, справа, узнаю правильный конус — пик Саламанки, — он, я знаю, стоит под морем. Значит, мне удастся выбраться к морю! Да, но прежде нужно пройти под ветром этого пика. Там, где он «колотит» по самолету, как мы говорим. Пик Саламанки — исполин… И я уважаю пик Саламанки. Секунда передышки… две… Что-то начинает клубиться, вспучиваться, сжиматься. Я удивлен, но не более. Таращу глаза. Кажется, вибрирует весь самолет, он расширяется, разбухает. И вдруг в каком-то сумасшедшем порыве его внезапно возносит на пятьсот метров. Сорок минут я тщетно бился, чтобы подняться хотя бы метров на шестьдесят, — и вот противник оказывается подо мной. Самолет сотрясается как в кипящем котле. Моему взору открывается океан. Туда, к океану, к избавлению ведет моя долина… И тут безо всякой передышки я получаю пинок в брюхо от пика Саламанки, хотя до него не меньше километра. У меня потемнело в глазах. И я кубарем скатываюсь к морю.
Держусь на полном газу лицом к берегу. Под прямым углом к берегу. Чего только не стряслось в одну минуту! Во-первых, это не я выбрался к морю: сама долина отхаркнула меня, словно в чудовищном приступе кашля, она исторгла меня, как жерло гаубицы. И мне показалось, что уже в следующий миг, когда я развернулся, чтобы определить расстояние до берега, я едва мог разглядеть его за туманной дымкой километрах в десяти от меня, уже голубой, словно чужая граница. А зубчатые горы, четко проступающие на чистом небе, показались мне крепостью с бойницами. Сильные сбивающие потоки приплюснули меня к самой воде, и я тотчас усвоил, какова скорость вихря, который я попытался преодолеть, слишком поздно осознав свою ошибку. Но даже на полном газу, при двухсот сорока километрах в час (максимальная скорость в те времена), в двадцати метрах от пенистых гребней, я оставался совершенно неподвижен. Когда такой вихрь налетает на тропический лес, он пламенем охватывает ветви, выворачивает их, свивает, выдирает с корнем могучие деревья, как редиску… Здесь, обрушиваясь с гор, он истязал море. Лицом к берегу, напрягая все силы моего мотора, я пытался удержаться в этом вихре, к которому каждый заусенец земли пристегивал длинную змеистую борозду, и мне казалось, что я цепляюсь за кончик гигантской плети, свистящей над морем.
На этой параллели американский материк уже узок, и от Андийских Кордильер рукой подать до берегов Атлантики. Разумеется, я отбивался не только от низвергающихся с берега потоков, но и от всего неба, ринувшегося ко мне с высоты Андийских Кордильер. Впервые за четыре года полетов на линии я опасался за прочность крыльев. К тому же я боялся врезаться в море, не из-за шквалов, швыряющих вниз — они всегда образуют у самой воды горизонтальную подстилку, — а из-за тех непроизвольных акробатических позиций, в которых эти шквалы меня заставали. При каждом новом налете я опасался, что до удара не успею выровнять самолет. Но больше всего я боялся просто свалиться в воду, когда иссякнет бензин, а это казалось неизбежным. С минуты на минуту я ждал, что откажут насосы. В самом деле, толчки были так сильны, что отливы бензина в полупустых баках или бензопроводе вызывали частые перебои мотора, его ровное гудение прерывал стрекот морзянки — точка-тире-точка… И все же я настолько ушел в физическую борьбу, слившись воедино со штурвалом тяжелой транспортной машины, что испытывал лишь самые примитивные чувства и только безучастно смотрел, как ветер пашет море. Я видел, как со скоростью двести сорок километров в час несутся на меня восьмисотметровые белые промоины, возникающие там, где смерчи взрывали воду. Море было одновременно зеленое и белое. Белое, как сахарная пудра, в которой сверкали изумрудно-зеленые пятна. В невообразимой сумятице невозможно было отличить один вал от другого. Над морем низвергались водопады. Вихри рыли в нем огромные проплешины, как свирепые осенние бури в хлебах. Иногда между песчаными отмелями вода неожиданно становилась прозрачной, и сквозь нее проступало чистое черное дно. Затем огромное стекло моря разлеталось тысячами белых осколков. Разумеется, я считал, что мне конец. За всю двадцатиминутную схватку я не отвоевал и сотни метров. Кроме того, лететь в десяти километрах от скал было настолько трудно, что я и представить не мог, как я выдержу ураганные ветры, если даже сумею пробиться к берегу. Я шел прямо на батареи, которые били по мне. Но уж какой там страх! В голове не осталось ничего, кроме одной мысли, одного представления о простом действии: выровнять самолет! Выровнять! И снова — выровнять!
Бывали, однако, и передышки. Правда, эти передышки напоминали самые свирепые штормы, которые мне до тех пор пришлось пережить, но в сравнении с остальными это была разрядка. Все-таки хоть несколько мгновений я мог свободно дышать. Я даже научился предвидеть передышки. Не я пробивался к зонам относительного покоя — эти почти совсем зеленые оазисы, четко обозначенные на поверхности моря, сами текли ко мне. На воде я прочитывал знаки их приближения. И с каждой передышкой ко мне возвращалась способность мыслить и чувствовать. Тогда я думал, что пропал. Тогда подступала тревога. И как только белая вода вновь кидалась в атаку, я ощущал панический страх, пока на грани кипящей пены не упирался в невидимое море. Тут уж я ничего больше не испытывал. Подняться! Мне все же удалось осознать это желание. Случалось, спокойные зоны казались мне почти бесконечными. Тогда появлялась смутная надежда. «Вот наберу высоту… найду попутный ветер… вот сейчас…» Я наспех штурмовал вражескую крепость, пользуясь перемирием. Штурм был тяжел, сбивающие потоки по-прежнему оставались опасным противником. Сто… двести метров… Думаю: «Поднимусь на километр — тогда спасен». Но из-за горизонта выскакивала новая белая свора и мчалась на меня. И я толкал от себя ручку управления, чтоб меня не сшибло, чтоб не смяло в опасном положении. Опоздал. Первый же пинок меня опрокидывает. И небо оказывается вдруг скользким куполом, где не за что уцепиться.
Как повелевают собственными руками? Я только что сделал ужасное открытие. Руки не гнутся. Руки мертвы. Я не чувствую их. Это, конечно, произошло не сейчас, только я не замечал. Но то и опасно, что я уже заметил, что подумал об этом… Случилось вот что: ветер с такой силой выкручивал крылья, что в них затирало тросы управления и штурвал трясло. Сорок минут подряд я изо всех сил удерживал его, чтобы хоть немного смягчить толчки, от которых тросы могли лопнуть. Я перестарался и теперь не чувствую рук. Вот так открытие: у меня чужие руки! Смотрю на них, шевелю пальцем — он слушается. Разглядываю другие. Так и есть: я не владею руками. Не получаю сигналов от пальцев. Как я узнаю, если они сами по себе разожмутся? Кидаю быстрый взгляд: нет, они сжаты по-прежнему, но я уже струхнул. Как же мне теперь, когда мозг и рука не обмениваются сигналами, отличить образ разжимающейся руки от желания ее разжать? Как распознать, где образ и где волевой акт? Нужно изгнать образ разжимающихся рук. Они ведь живут сами по себе. Надо избавить их от этого чудовищного искушения. И я начинаю их заговаривать и продолжаю эти нелепые заклинания вплоть до самой посадки. Единственная мысль. Единственный образ. Единственная фраза. Бормочу: «Сжимаю руки… сжимаю руки… сжимаю руки…» Вкладываю в эту фразу всего себя, и нет больше ни белого моря, ни шквалов, ни зубчатых гор. Есть только одно: я сжимаю руки. Нет ни опасности, ни циклона, ни недосягаемой земли. Есть лишь где-то там резиновые руки, и стоит им отпустить штурвал, они не успеют опомниться, как я окажусь в море.
Ничего не соображаю. Ничего не испытываю, кроме опустошения. Уходят силы, иссякает воля к борьбе. Мотор все хрипит морзянкой: точка-тире-точка — прерывистый треск разрываемой простыни. У меня сердце останавливается, когда он молчит более секунды. Отказали насосы! Конец… нет: еще качают… На термометре крыла тридцать два градуса ниже нуля. А я обливаюсь потом. Пот струится по лицу. Ну и пляска! Я скоро узнаю, что аккумуляторы сорвали стальные крепления и разбились, проломив фюзеляж. Я узнаю, что обшивка крыльев отодралась от нервюр, а несколько тросов перетерлось до последней жилки. А я все опустошаюсь. Того и гляди, подберется безразличие неодолимой усталости и цепенеющая жажда покоя. А что можно об этом рассказать? Да ничего. Болят плечи. Очень болят. Будто я таскал слишком тяжелые мешки. Смотрю вниз. Сквозь прозрачную зелень во всех подробностях вижу близкое дно. Но пинок ветра рассеивает образ.
За час двадцать минут битвы мне удалось подняться на триста метров. Южнее на поверхности моря замечаю какие-то длинные борозды, что-то вроде голубой реки. Надо, чтобы меня туда снесло. Хоть я здесь и не продвигаюсь, меня не отбрасывает. Если я достигну этих неведомых мне воздушных потоков, может, мне и удастся улизнуть к берегу. Пусть меня сносит влево. Да и ветер как будто уже не так силен.
Я угробил час на эти десять километров. Затем, прячась у отвесных скал, пробрался к югу. Теперь надо подняться, чтобы пролететь над землей к аэродрому. Удается сохранить высоту триста метров. Погода премерзкая, но с тем, что было, уже не сравнить. То все позади… На аэродроме я обнаружил роту солдат. Их прислали мне на помощь по случаю циклона. Приземляюсь около них. После часа манипуляций удается ввести самолет в ангар. Выхожу из кабины. Ни о чем не рассказываю товарищам. Хочу спать. Медленно шевелю пальцами — они так и не отошли. Я уж и не помню, что пережил какой-то страх. Разве мне было страшно? Я видел странные вещи! А что я видел? Не знаю. Голубое небо, очень белое море. Надо бы поделиться с друзьями: я ведь побывал так далеко. Но как начать рассказ о том, что я перенес? «Представьте: море белое… белое-белое… еще белее». Ничего не передашь, нагнетая эпитеты. Это беспомощный лепет. Ничего не рассказываю, потому что нечего рассказать. Мысли сверлили мозг, невыносимо болели плечи, — но ведь настоящая трагедия заключалась не в этом. И купол пика Саламанки тут ни при чем. Он был набит взрывчаткой, как пороховой погреб, но скажи я такое — будут смеяться. А я… я уважал пик Саламанки. Только и всего. Это не трагедия. Захватывают и волнуют только дела человеческие. Может быть, завтра, приукрасив мои переживания, я растрогаюсь над собой, вдруг представив, что я, живой, шагающий по планете людей, затерялся в циклоне. Это самообман, ибо тот, кто руками и ногами отбивался от циклона, не сравнивал себя с тем счастливым человеком, каким он станет завтра. Мои трофеи ничтожны, я сделал крохотное открытие. Вот что я узнал: как отличить акт воли от простого представления, если ощущения не передаются в мозг. Вероятно, мне удалось бы вас потрясти, расскажи я про то, как безвинно наказали ребенка. А я приобщил вас к циклону, но вряд ли это вас потрясло. Разве мы не присутствуем каждую неделю, сидя в кино, при бомбежке Шанхая? Мы можем без содрогания смотреть на клубы сажи и пепла, медленно вырастающие над вулканоподобной землей. А ведь они уносят не только запасы зерна, не только ценности культуры и святыни домашнего очага — плоть сожженных детей напитала эти жирные черные тучи. Физическая трагедия волнует нас лишь тогда, когда нам открывают ее духовный смысл.
ПИСЬМО ФРАНЦУЗАМ
Перевод с французского Елены БаевскойНемецкая ночь заволокла всю нашу землю. До сих пор нам еще удавалось узнать что-нибудь о тех, кто нам дорог. Нам еще удавалось напомнить им о нашей любви, хоть мы и не могли разделить с ними их горький хлеб. Нам было слышно издалека их дыхание. С этим покончено. Теперь во Франции царит безмолвие. Она затерялась где-то там, в ночи, словно корабль с погашенными огнями. Все, что в ней есть сознательного, духовного, притаилось в самых ее недрах. Мы не знаем ничего, не знаем даже имен заложников, которые завтра будут расстреляны немцами. В подземельях, среди угнетенных рождаются на свет новые истины. Так давайте не будем бахвалиться. Там — сорок миллионов французов, обращенных в рабство. Нам ли нести духовный огонь тем, кто питает его собственной плотью, словно свеча воском! Они лучше нашего разберутся в том, что нужно Франции. Право на их стороне. Все наши разглагольствования о социологии, политике и даже об искусстве ничего не стоят по сравнению с их мыслью. Они не станут читать наши книги. Они не станут слушать наши речи. От наших идей их, чего доброго, стошнит. Мы должны вести себя бесконечно скромнее. Наши политические дискуссии — это дискуссии призраков, наши притязания просто смешны. Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей. Что бы мы ни делали, у нас нет никакого права на ее благодарность. Открытый бой невозможно сравнить с ночным бандитским налетом. Ремесло солдата невозможно сравнить с ремеслом заложника. Только те, кто там, — истинные святые. Даже если нам вскоре выпадет честь сражаться, все равно мы останемся в долгу. Мы все в долгу, как в шелку. Это первая и незыблемая истина. Давайте же объединимся ради общего служения, французы. Для начала я скажу несколько слов о распрях, разобщивших нас; надо искать против них лекарство. Потому что на Францию напала хворь. Многие из нас, кого мучит больная совесть, нуждаются в исцелении. Пусть же они исцелятся. Благодаря такому чуду, как вступление в войну американцев, самые разные пути сходятся на едином перекрестке. К чему нам вязнуть в старых распрях? Нужно объединять, а не разделять, раскрывать объятия, а не отталкивать. Разве наши распри — причина для ненависти? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что во всем прав? Человек располагает чрезвычайно узким полем зрения. Язык — орудие несовершенное. Жизнь ставит такие проблемы, от которых все формулы трещат по швам. Будем же беспристрастными. Член бюро парижского муниципалитета под давлением острой необходимости был вынужден вступить в переговоры с победителем о том, чтобы Франция получила подачку — немного смазки для наших железнодорожных вагонов (у Франции нет больше ни бензина, ни даже лошадей, а ей нужно кормить свои города!). Позже офицеры из комиссии по перемирию опишут нам этот постоянный свирепый шантаж. Четверть оборота ключа, регулирующего поставки этого продукта, — и за полгода умрет на шесть тысяч детей больше. Когда гибнет расстрелянный заложник — честь ему и слава. Его гибель — цемент, скрепляющий единство Франции. Но когда немцы, просто-напросто задержав поставку смазки, истребляют сто тысяч пятилетних заложников, ничто не искупит этого медленного, безмолвного кровотечения. Кроме того, для нас не секрет, что если бы Франция расторгла соглашение о перемирии, то с юридической точки зрения это было бы равносильно возврату к состоянию войны. А возврат к состоянию войны дает оккупантам право брать в плен всех мужчин, подлежащих мобилизации. Этот шантаж лег на Францию тяжким бременем. Угроза была самая что ни на есть недвусмысленная. С немецким шантажом шутки плохи. Немецкие лагеря — это фабрики, продукция которых — трупы. В сущности, нашей стране грозило полное истребление, под видом законных административных мер, шести миллионов взрослых мужчин. Безоружная Франция не могла голыми руками сопротивляться этой охоте на рабов. И вот наконец союзники в семьдесят шесть часов высаживаются в Северной Африке, и это доказывает, что Германия, несмотря на свой свирепый шантаж, за два года террора не сумела полностью блокировать эту самую Северную Африку. Кое-где во Франции крепко давало о себе знать Сопротивление. Победа в Северной Африке была, быть может, одержана отчасти и нашими пятьюстами тысячами погибших детей. Ах, французы, стоит нам свести наши расхождения к их истинным размерам — и этого достаточно, чтобы всем нам заключить между собой мир. Нас никогда ничего и не разделяло, кроме взглядов на значение нацистского шантажа. Одни думали так: «Если немцы вздумают уничтожить французский народ, они его уничтожат, несмотря ни на что. Шантаж надо презирать. Ничто не влияет ни на решения, ни на высказывания правительства Виши». Другие думали так: «Мы имеем дело не с простым шантажистом; мы имеем дело с таким лютым шантажистом, равного которому не бывало в истории человечества. Франция, не идя на уступки в главном, только и может что хитрить на словах, чтобы отсрочивать со дня на день свое уничтожение». Французы, неужели, по-вашему, эти разные мнения об истинных размерах бывшего правительства — повод для взаимной ненависти? Как бы ни расходились мы во мнении, мы едины в общей ненависти к захватчику. Кроме того, эти расхождения стали менее ощутимы уже тогда, когда дорвавшийся до власти Лаваль[353] выдал нацистам еврейских беженцев. Солидаризируясь со всем французским населением, мы считаем право убежища священным. Итак, теперь существовавшие между нами распри стали беспредметными: режим Виши мертв. Виши унес с собой в могилу свои неразрешимые вопросы, свои противоречия и свою лихость. Давайте заранее уступим роль судей историкам и военным трибуналам, чье время придет после войны. Сейчас важнее служить Франции, а не спорить о ее истории. Тотальная немецкая оккупация разрешила все наши споры и облегчила нам муки совести. Хотите примириться друг с другом, французы? Нет больше ни малейшего повода для раздоров. Давайте откажемся от партийных пристрастий. Во имя чего нам ненавидеть друг друга? Для чего нам завидовать друг другу? Дело ведь не в том, кому какая должность достанется. Дело ведь не в борьбе за должности. Единственные вакантные должности сейчас — солдатские, да еще, может быть, покойные ложа на каком-нибудь скромном кладбище в Северной Африке. По французским законам, человек подлежит призыву в армию до сорока восьми лет. Мы все должны быть призваны, от восемнадцатилетних до сорокавосьмилетних. Речь уже не о том, чтобы нас спрашивали, хотим мы или не хотим принести себя в жертву. Чтобы склонить чашу весов, нужно призвать нас всех вместе усесться на эту чашу, вот и все. И все-таки, даже если признать наши старые распри не более чем распрями историков, нашему единству грозит и другая опасность. Французы, давайте наберемся мужества, чтобы ее превозмочь. Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной. Чтобы восторжествовал именно тот строй, а не этот. Им уже мерещится на горизонте призрак несправедливости. Зачем осложнять себе жизнь? Сейчас не время бояться несправедливости, не время думать о личном. Если каменщик отдает все силы возведению собора, собор не причинит ему зла. От нас требуется только одно: чтобы мы воевали. Я чувствую, что надежно защищен от всякой несправедливости из-за того, что я лелею единственную мечту — вновь обрести в Тунисе товарищей по группе 2/33, с которыми жил вместе девять военных месяцев, а потом было беспощадное наступление немцев, стоившее нам двух третей наших экипажей, а потом бегство в Северную Африку накануне перемирия. Французы, хватит нам спорить о старшинстве, о почестях, о справедливости и о том, кто главнее. Ничего этого нам не предлагают. Нам предлагают винтовки. Их хватит на всех. Я бесконечно спокоен и обязан этим спокойствием тому, что не чувствую ни малейшего призвания играть роль судьи. Общность, к которой я примыкаю, — не партия и не секта: это моя родина. Временное общественное устройство Франции — дело французского правительства. Уж об этом-то позаботятся Англия и Соединенные Штаты. Наша задача — нажимать на гашетку пулемета, а потому не будем беспокоиться о вопросах, которые предстоит решить потом. Истинный наш вождь — Франция, обреченная на молчание. Будь прокляты все партийные, клановые и прочие розни! Мы желаем теперь только одного (и мы вправе высказать это желание, поскольку оно всех нас объединяет) — подчиняться не политическим вождям, а военным, потому что честь, отдаваемая солдатом солдату, возвеличивает не того солдата, кому отдали честь, не партию, а Народ. Мы знаем, что такое власть для генерала де Голля и генерала Жиро: для них это служение. Они первые из тех, кто служит. И этого нам достаточно, потому что все распри, которые еще вчера могли нас остановить, сегодня потеряли значение или вовсе исчезли. Вот, по-моему, итог, к которому мы пришли. Необходимо, чтобы наши друзья в Соединенных Штатах увидели истинное лицо Франции. Сейчас она представляется всему свету каким-то осиным гнездом. Это несправедливо. Слышно одних спорщиков. Молчуны не делают много шума… Я предлагаю всем французам, молчавшим до сих пор, засвидетельствовать г-ну Корделлу Хэллу[354] наше истинное настроение; для этого мы должны один-единственный раз нарушить молчание и отправить ему — каждый от своего имени — такую телеграмму: «Просим оказать нам честь, предоставив любую возможность служить. Желаем военной мобилизации всех французов, находящихся в Соединенных Штатах. Заранее согласны на любую организацию, которая будет признана целесообразной. Поскольку всякий раскол среди французов нам ненавистен, мы хотим, чтобы эта организация оставалась вообще вне политики». Они там, в государственном департаменте, будут поражены тем, как много французов выскажется за единство. Что бы о нас ни думали, большинство из нас в глубине души питают лишь любовь к нашей цивилизации и к нашей родине. Отринем все раздоры, французы. Когда мы на борту бомбардировщика заспорим с пятью или шестью «мессершмитами», наши былые споры покажутся нам смехотворными. Когда в 1940 году я возвращался с задания в изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходное перно в баре нашей эскадрильи. И выигрывал в кости рюмку перно то у товарища-роялиста, то у товарища-социалиста, то у лейтенанта Израэля, еврея, который был отважнее нас всех. И мы пили вместе, чувствуя, как бесконечно дороги друг другу.
ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ X
Перевод с французского Норы ГальВ последние дни я несколько раз летал на «П-38». Прекрасная машина. В двадцать лет я был бы счастлив получить такой подарок. А в сорок три, когда налетал уже 6500 часов над всеми широтами, эта игра, увы, больше не веселит душу. Самолет стал для меня всего лишь средством передвижения, а теперь — орудием войны. И если я, для такого ремесла уже старик, предаю себя во власть скорости и высоты, то вовсе не потому, что надеюсь вновь пережить былые радости: просто я не желаю уклоняться от мерзостей, выпавших на долю моего поколения. Может быть, это печально, а может быть, и нет. Конечно, в двадцать лет я ошибался. Осенью 1940-го я возвратился из Северной Африки, куда перебралась группа 2/33; машина моя безжизненно пылилась в каком-то гараже, бензина не было ни капли — и я открыл для себя повозку и лошадь. А с ними траву вдоль дорог, оливы и овец. И оливы стали не только показателем скорости, мелькающим за окнами при ста тридцати километрах в час. Теперь они представали в своем подлинном ритме, под стать неторопливому созреванию маслин. Овцы существовали уже не только для того, чтобы вынуждать меня сбавить скорость. Они снова стали живыми. Они давали настоящий помет и обрастали настоящей шерстью. Они щипали траву — и трава тоже обрела смысл. В этом краю, единственном на свете, где пыль благоуханна, я снова ожил (я несправедлив, пыль благоухает не только в Провансе, но и в Греции). И мне показалось, что всю жизнь я был дураком… Вот почему это стадное существование на американской базе, где мы наспех, стоя глотаем обед и ужин, снуем взад и вперед между одноместными истребителями в 2600 лошадиных сил, теснимся по трое в комнате в какой-то невнятного вида постройке, — вся эта человеческая пустыня ужасна, тут ничто не согревает душу. И так же, как бессмысленные и бесполезные, без надежды на возвращение, полеты в июне 1940-го, это — болезнь, которую надо перенести. Я «болен» — и неизвестно, на сколько времени. Но уклониться от этой болезни я не вправе. Вот и все. Мне сегодня грустно, очень грустно, беспросветно. Грустно за моих современников, в них осталось слишком мало человеческого. Из всех видов духовной жизни они только и узнали, что бар, математику да гоночные автомобили, а теперь втянуты в деятельность сугубо массовую, стадную, которая в наши дни утратила какую-либо окраску. И даже не замечают этого. Вспомните, какой была война сто лет назад. Сколько усилий отдавалось ради того, чтобы она отвечала Духовным, поэтическим и просто житейским запросам людей. А теперь мы черствее камня, и все это для нас смешной вздор. Мундиры, знамена, песни, оркестры, победы (побед больше нет — ни одной столь весомой и захватывающей, как Аустерлиц. Есть только способность переваривать пищу — медленнее или быстрее). Любое возвышенное чувство вызывает усмешку, и люди не желают пробудиться для какой-либо духовной жизни. Они только добросовестно тянут лямку. Как говорит американская молодежь: мы взялись на совесть выполнить «неблагодарную работу», и пропаганда во всем мире понапрасну лезет вон из кожи. Болезнь этих молодых людей не в том, что им не хватает талантов, — но из страха показаться напыщенными пошляками они не смеют опереться на великие вдохновляющие традиции. От античной трагедии человечество докатилось до театра господина Луи Вернея[355] (дальше ехать некуда). Век рекламы, поточного производства, век тоталитарных режимов и армий без трубачей и знамен, где не отпевают павших… Всеми силами души ненавижу нашу эпоху. Человек в наши дни умирает от жажды. Есть только одна задача, генерал, одна-единственная в целом свете. Возвратить людям духовную жизнь и духовные заботы. Омыть их, как дождем, чем-то вроде григорианского хорала. Будь я верующим, я, когда минет пора «необходимой и неблагодарной работы», мог бы дышать только в Солеме[356]. Поймите, больше невозможно жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Невозможно. Больше невозможно жить без поэзии, без красок, без любви. Стоит послушать крестьянскую песню XV века, чтобы понять всю глубину нашего падения. У нас только и есть что голос робота от пропаганды (прошу меня извинить). Два миллиарда людей слышат только робота, понимают только робота и сами становятся роботами. У всех потрясений, какие знал мир за последние тридцать лет, лишь два источника: экономическая система XIX века, зашедшая в тупик, и духовное отчаяние. Отчего Мермоз пошел за своим болваном-полковником, если не от духовной жажды? Отчего Россия? Отчего Испания? Люди проверили на опыте ценности, которые утверждал Декарт. Если не считать естественных наук, ценности эти ничего им не дали. У нас одна задача, одна-единственная — вновь открыть, что существует духовная жизнь, она выше, чем жизнь разума, и только она может утолить жажду. Это шире, чем проблема веры: религия — лишь одна из форм духовной жизни (хотя, быть может, жизнь духа в конце концов и ведет к вере). И жизнь духа начинается там, где единство человеческого бытия ставится выше, чем все то отдельное, из чего это единство складывается. Любовь к домашнему очагу — в Соединенных Штатах не знают этого чувства — уже есть выражение духовной жизни. И деревенские праздники, и обычай чтить умерших (пишу об этом потому, что после моего приезда тут разбились трое парашютистов, но о них сразу и думать забыли: ведь они выбыли из строя). Дело уже не в Америке, но в эпохе: человек больше ничего не значит. А с людьми говорить необходимо. Что толку выигрывать войну, если потом мы сто лет будем биться в припадках революционной эпилепсии! Когда наконец разрешится немецкий вопрос, перед нами одна за другой встанут подлинно важные для человека задачи. И едва ли после этой войны довольно будет спекулировать американскими товарами, чтобы отвлечь людей от их подлинных забот, как это было в 1919 году. За неимением мощного духовного потока начнут плодиться и поедом есть друг друга десятки партий и сект. Марксизм — и тот, обветшав, распадется на множество противоречивых немарксистских течений. Это было очень наглядно в Испании. Либо какой-нибудь французский Цезарь засадит нас до скончания века в неосоциалистический концлагерь. Какой странный сегодня вечер, как странно все вокруг. Сижу у себя и смотрю, как вспыхивает свет в окнах безликих, одинаковых домов. И слышу, как радио поставляет дешевую музыку праздной толпе, нахлынувшей сюда из-за океана и не способной даже тосковать по родине. Кто-нибудь, пожалуй, примет это покорное примирение с действительностью за самоотречение, за нравственное величие. И сильно ошибется. Нити любви, связующие ныне человека с другими людьми и с вещами, слишком слабы, слишком непрочны, и человек уже не страдает от разлуки, как бывало в старину. Словно в том страшном еврейском анекдоте: «Ты уезжаешь? Как ты будешь далеко!» — «От чего далеко?» То, что они покинули, было для них только суммой привычек. В наш век — век разводов — люди так же легко расстаются и с вещами. Один холодильник ничего не стоит заменить другим. И дом тоже, если он всего лишь набор удобств. А жену? А веру? А партию? Тут даже нельзя быть неверным: чему будешь неверен? От чего далек и чему неверен? Человек стал пустыней. До чего же они благоразумны и невозмутимы, эти люди толпы. А я вспоминаю о бретонских моряках, что причаливали некогда в Магеллановом проливе, о воинах иностранных легионов, в чьи руки отдавали города, о спутанных в тугой узел жадных страстях и нестерпимой тоске, — такими всегда были мужчины, согнанные в кучу, стиснутые суровыми рамками солдатчины. И всегда, чтобы держать их в узде, требовалась крепкая жандармерия, крепкие нравственные устои либо крепкая вера. Но никто из них не отказал бы в уважении простой пастушке. А сегодня человека усмиряют игрой в карты — в белот или в бридж, смотря по тому, из какой он среды. Просто чудо, как нас оскопили. И вот наконец мы свободны. Нам обрубили руки и ноги — теперь мы вольны шагать куда вздумается. Но я ненавижу наш век, когда, под гнетом всеобщего тоталитаризма, человек становится тихой, смирной и послушной скотинкой. А нам внушают, что это — нравственный прогресс… Для марксизма человек — производитель материальных ценностей, а главная задача — их распределение. Совсем как на образцовых фермах. В нацизме я ненавижу тоталитаризм, ибо он тоталитарен по самой сути своей. Рабочим Рура предлагают на выбор Ван Гога, Сезанна и лубочную картинку. Естественно, они выбирают лубок. И это истина народа! Будущих Сезаннов, будущих Ван Гогов, людей крупных, самобытных, чуждых приспособленчества, загоняют в концлагери, а покорное стадо пичкают лубочными картинками. А куда идут в наш век бюрократии Соединенные Штаты, да и мы тоже? Человек становится роботом, термитом, вся его жизнь проходит между работой у конвейера и игрой в белот. Человек оскоплен, лишен творческой мощи, в деревне уже некому создать песню или танец. Человека кормят стандартной культурой массового изготовления, как быка сеном. Таков он, современный человек! А я думаю: и трехсот лет не прошло с тех пор, как писали «Принцессу Клевскую» или до конца жизни затворялись в монастыре из-за несчастной любви — так сильно, так пламенно тогда любили. Разумеется, и сегодня люди кончают самоубийством. Но их страдания сродни зубной боли. Невыносимо. Но ничего общего с любовью. Конечно, это лишь начало. Мне нестерпима мысль, что в жертву германскому Молоху приносят все новые поколения французских детей. Под угрозой сама плоть и кровь страны. Но когда она будет спасена, придется решать важнейшую задачу, коренной вопрос современности. Вопрос о предназначении человека. Ответа ни у кого нет, и, мне кажется, наступают такие беспросветные времена, каких еще не знала история. Мне все равно, если меня убьют. Что уцелеет после войны от всего, что я любил? А мне дороги не только люди, но и обычаи, и неповторимые интонации, и некий духовный свет. Завтрак под оливами на провансальской ферме-и Гендель. Мне плевать, что уцелеют вещи. Важна определенная связь между вещами. Культура — не в вещах, но в незримых узах, которые соединяют их между собой именно так, а не иначе. У нас будет вдоволь отличных музыкальных инструментов массового производства, но что станется с музыкантами? Возможно, меня убьют, наплевать. Возможно, меня разнесет в клочья взбесившаяся летучая торпеда — эти махины уже не имеют ничего общего с настоящим полетом и самого летчика, втиснутого меж кнопками и циферблатами, превращают в какую-то счетную машину (а ведь полет тоже — особая связь и порядок вещей). Но если с этой «необходимой и неблагодарной работы» я вернусь живым, передо мною встанет лишь один вопрос: что можно, что нужно сказать людям? Все меньше понимаю, почему я Вам все это рассказываю. Наверно, просто тянет с кем-то поделиться, хотя никакого права на это у меня нет. Надо беречь чужой покой и не путать совсем разные вопросы. Сейчас очень хорошо, что мы стали живыми счетными машинами на борту военных самолетов. Пока я Вам пишу, двое моих товарищей по комнате уже уснули. Надо и мне лечь, боюсь, что лампа им мешает (очень мне трудно без своего угла). Оба моих товарища на свой лад прекрасные люди. Воплощенная прямота, благородство, чистота, верность. А я почему-то смотрю на них, спящих, с какой-то бессильной жалостью. Они сами не знают, чего им недостает, а я очень это чувствую. Да, они прямые, благородные, чистые, верные, но при этом до ужаса нищие. Им так нужен хоть какой-то бог. Простите, если дрянная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала спать и Вам, и верьте, что я Ваш друг. Антуан де Сент-Экзюпери
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ МИРА
Перевод с английского Анны Таривердиевой
«New-York Times», 22 апреля 1945 г.
Обращение Сент-Экзюпери к американскимчитателям, выражающее надежду на прочный мир с США
Во время вчерашнего эфира на радиоканале «Columbian Broadcasting System network» французский киноактер и патриот Чарльз Боэр поднял тему франко-американского содружества, зачитав отрывок из эссе своего соотечественника Антуана де Сент-Экзюпери. Эссе было написано накануне разведывательного полета, из которого писатель так и не вернулся. Вот отрывок, прочитанный мистером Боэром: «Мои американские друзья, я призываю вас быть в высшей степени справедливыми. Возможно, настанет день, когда между нами встанут серьезные разногласия. Всем нациям свойственно себялюбие, которое они считают священным. Быть может, однажды между нами возникнут крупные споры, и вам придется использовать собственную силу против нас. Но хоть войну и выигрывают солдаты, все же иногда мирный договор диктуют бизнесмены. И даже если когда-нибудь мне придется осуждать решения этих мужей, я никогда не забуду благородства ваших целей на этой войне. Я неизменно отдаю должное глубине ваших чувств. Оглянитесь, друзья, мне кажется, что-то новое зарождается на нашей планете. Современная жизнь соединяет всех нас, образуя подобие нервной системы с бесчисленными контактами и мгновенно возникающими связями. Мы, как клетки, являемся частицами одного тела. Но у этого тела пока еще нет души. Этот организм еще не осознал себя. Бесполезна рука, не принимающая сигналы от глаз. Ваша молодежь гибнет на войне, и впервые в истории эта война может стать для них своеобразным опытом любви. Не предавайте их! Позвольте им продиктовать мирный договор, когда придет его день! Они сделали эту войну благородной. Дайте же им облагородить и мир!»ПРЕДИСЛОВИЯ
Перевод с французского Юлии Гинзбург, Марины Баранович
Предисловие к книге Мориса Бурдэ «Радости и печали ремесла летчика»
Около двух часов ночи, когда самолет с дакарской почтой берет курс на Касабланку, темный кожух мотора располагается среди звезд, названия которых я не знаю, — чуть правее ручки Большой Медведицы. По мере того как эти звезды поднимаются к зениту, заменяешь их другими, чтобы не приходилось слишком запрокидывать голову: меняешь советчиков. И постепенно, производя капитальную чистку видимого мира, выметая из него все, кроме звезд, царящих над черными песками, ночь производит такую же генеральную уборку в сердце. Все мелочные заботы, казавшиеся первостепенными — вражда, неутоленные желания, зависть, — все исчезает, и из глубин поднимаются действительно важные заботы. И тогда, час за часом спускаясь по этой звездной лестнице к рассвету, чувствуешь себя чистым. Со всем присущим ему талантом и душевной тонкостью Морис Бурдэ заставляет читателя пережить радости и печали ремесла летчика. Я же просто хотел бы сказать несколько слов о том, что мне кажется самым главным. Да, летчику ведомы радости: огромная радость приземления после того, как ты благополучно прорвался сквозь ураган; когда, выйдя из кромешного мрака, ты скользишь к залитому солнцем Аликанте или Сантьяго и всего тебя переполняет безмерное счастье возвращения к своему месту в жизни, в этот сказочный сад с деревьями, женщинами и маленькими портовыми кофейнями. Какой пилот почтовой линии не пел в минуту, когда, вырвавшись из плена темных громад, он на малом газу устремлялся к посадочной площадке? Ведомы летчику и печали, но и за них, быть может, он тоже любит свое ремесло. Внезапное пробуждение среди ночи, срочные вылеты в Сенегал, жизнь, полная лишений… Вынужденные посадки в болотах, переходы через пески или снега! Заброшенный судьбою на неведомую планету летчик должен найти выход и проложить пути в мир живых, пробиться через кольцо гор, песков и безмолвия. Да, нашему ремеслу ведомо безмолвие. Если почтовый самолет не приземлился в назначенное время, его ждут час, ждут день, два дня, но безмолвие, отделяющее человека от тех, кто еще надеется, стало уже почти непроницаемым. Многие товарищи, пропавшие без вести, провалились в смерть, как проваливаются в снег. Печали и радости, это верно… Но есть и другое! Пилот, идя ночью на Касабланку в своем темном самолете, тихо балансирующем среди звезд, словно капитанский мостик, погружен в самую суть вещей. Величайшее событие — переход от тьмы к свету — летчик наблюдает в непосредственной близости. Он захватывает день в его зарождении. Ему известно, что восток белеет задолго до того, как взойдет солнце, но только в полете он присутствует при внезапном извержении света. Пусть он тысячу раз встречал зарю: он знал только, что небо светлеет, но он не знал, что свет бьет, как из родника, и заливает небо, он не видел, как вырывается эта артезианская струя света. День, ночь, горы, море, буря… Среди этих стихийных божеств, ведомый простейшей моралью, летчик обретает мудрость пахаря. Старый сельский врач, каждый вечер бредущий от фермы к ферме, чтобы поддержать в чьих-то глазах огонь жизни; садовник в своем саду, знающий, как помочь рождению розы, — все те, чье ремесло ставит человека лицом к лицу с жизнью и смертью, познают ту же мудрость. Есть в нашем ремесле и величие риска. Но как далеки мы от показного героизма, от литературной болтовни, от пресловутого девиза, украшавшего некогда крыло самолета и иносказательно прославлявшего Куртизанку и Смерть. Кто из нас, товарищи мои, не воспринимал это дешевое позерство как оскорбление по отношению к истинному мужеству, к тем, для кого опасность — насущный хлеб и кто жестоко борется, чтобы вернуться? Самое главное? Это, пожалуй, и не высокие радости ремесла, и не его печали, и не опасности, но та точка зрения, до которой они поднимают человека. Когда, убрав газ, на притихшем моторе, летчик скользит к посадочной площадке и смотрит на город — средоточие людских дрязг, денежных забот, низменных страстей, зависти и обид, — он чувствует себя чистым и недосягаемым. И если ночь была трудной, он попросту радуется жизни. Он не каторжник, каждый вечер возвращающийся в свою конуру, — он принц, неторопливым шагом обходящий свои сады. Зеленые леса, синие реки, розовые крыши, — вот они, вновь обретенные им сокровища. И женщина, которая еще растворена в камне, которая только должна родиться, которая вырастет ему вровень, которую он полюбит…Предисловие к книге Энн Морроу-Линдберг «Поднимается ветер»
В связи с этой книгой я вспомнил рассуждения моего друга о замечательном репортаже, сделанном одним американским журналистом. «У журналиста хватило вкуса, — говорил он, — записывать военные происшествия прямо со слов командиров подводных лодок, без всяких комментариев и беллетристики. Нередко он даже ограничивался тем, что воспроизводил сухие записи бортовых журналов. Как он правильно поступил, спрятавшись за этим материалом, приглушив в себе писателя. Ведь такие скупые рассказы и голые документы необыкновенно поэтичны и волнующи. Почему люди так глупы, что вечно стараются приукрасить действительность, которая столь прекрасна сама по себе? Если когда-нибудь эти моряки сами возьмутся за перо, возможно, они будут корпеть над скверными романами и скверными стихами, не подозревая, какие сокровища у них в руках…» Но я другого мнения. Эти моряки, возможно, будут сочинять скверные романы, но, значит, те же самые люди и путевые заметки писали бы неинтересно. Потому что не существует рассказов, есть только рассказчики. Нет приключений, есть искатели приключений. Непосредственной передачи действительности не бывает. Действительность — это груда кирпичей, из которой можно построить что угодно. Пусть этот журналист написал свою книгу телеграфным стилем и представил в ней одни только факты — все равно он неизбежно вклинился между действительностью и ее изображением. Он отобрал материал — ведь он рассказал не все подряд — и навязал ему некий порядок. Свой порядок. Навязав свой порядок исходному материалу, он и возвел здание. Это относится не только к фактам, но и к словам. Предлагаю вам беспорядочную россыпь слов: «мостовая», «камень», «поленья», «стук». Сделайте-ка из них что-нибудь. Вы уклоняетесь. Эти слова не из тех, что могут волновать и трогать. Однако Бодлер докажет вам, что умеет создать сильный образ, пользуясь таким словесным материалом:Предисловиек номеру журнала «Докюман», посвященному летникам-испытателям
Жан-Мари Конти[359] будет говорить здесь о летчиках-испытателях. Конти — выпускник Политехнической школы и верит в уравнения. Он прав. Уравнения раскладывают опыт по полочкам. Но на практике в конце концов машина довольно редко вылупляется из математических расчетов, как птенец из яйца. Математические расчеты иногда предшествуют опыту, но чаще просто систематизируют его, что, впрочем, очень важно. Приблизительные данные показывают, что колебания такого-то явления описываются ветвью такой-то гиперболы. Теоретик закрепляет эти экспериментальные данные в уравнение гиперболы. Но, благоговейно трудясь над расчетами, он доказывает также, что иначе и быть не могло. Когда более строгие данные позволят ему уточнить кривую, которая станет отныне гораздо более похожа на кривую совсем другого уравнения, — тогда он более строго опишет явление новым уравнением. И снова, трудясь не менее благоговейно, докажет, что это было извечно предусмотрено. Теоретик верит в логику. Он верит, что презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не понимает, что эти три феи перерядились, чтобы соблазнить его, как пятнадцатилетнего влюбленного. Он не знает, что обязан им самыми прекрасными своими открытиями. Они явились ему под именем «рабочих гипотез», «произвольных условий», «аналогий». Как мог он, теоретик, заподозрить, что обманывает суровую логику, что, слушая их, внимает голосам муз… Жан-Мари Конти расскажет вам, как прекрасна жизнь летчиков-испытателей. Он учился в Политехнической школе. Он будет утверждать, что летчик-испытатель вскоре станет для инженера чем-то вроде измерительного прибора. И, конечно, я с ним согласен. Я тоже думаю, что настанет день, когда, заболев непонятным недугом, мы обратимся к ученым, которые даже не станут нас расспрашивать, а вытянут у нас шприцем капельку крови, установят по ней несколько величин и перемножат их одна на другую; а потом заглянут в таблицу логарифмов и вылечат нас одной пилюлей. И все-таки, захворав, я пока еще позову старого сельского врача, который посмотрит на меня внимательно краешком глаза, пощупает живот, положит мне на спину старый платок, послушает через него, потом покашляет, раскурит трубку, потрет подбородок — и улыбнется мне, чтобы лучше меня вылечить. Я пока еще верю в Купе, Лана и Детруайя[360], для которых самолет — это не просто сумма параметров, а живой организм, который надо выслушать. Они приземляются. Молча обходят машину кругом. Кончиком пальцев гладят фюзеляж, ощупывают крыло. Они не вычисляют — они размышляют. Потом поворачиваются к инженеру и говорят спокойно: «Так вот… Надо подтянуть стабилизатор». Разумеется, я восхищаюсь Наукой. Но я восхищаюсь и Мудростью.Живительная книга, вновь погружающая нас в мир напряженной и деятельной мысли человека, страстно желавшего осмыслить жизнь и наполнить ее смыслом для всех людей. Клод Реинапь
Ему нужна была жизнь не полная опасностей, а насыщенная деянием и смыслом. Именно потому, что он жаждал такой жизни, он умел превзойти самого себя «Каждый новый долг перед людьми помогает становиться человеком», — писал он. Жорж Пелисье
Над его колыбелью склонились воздухоплавание и поэзия. Жизнь Сент-Экзюпери — вереница побед. Другому хватило бы одной единственной из этих побед, чтобы почить на лаврах Но он не знал успокоения В каждой его победе, в каждом торжестве таился привкус горечи. И легенда о нем, созданная еще при его жизни, не принесла ему душевного покоя и не стала прибежищем его гордости. Леон Верт
Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то. что дает смысл жизни, дает смысл и смерти. А. де Сент-Экзюпери
Сент-Экзюпери Антуан Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов
Антуан де Сент-Экзюпери Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов(1) Перевод: С французского Ю. А. Гинзбург В глубине подземного укрытия несколько человек - лейтенант, сержант, трое солдат - снаряжаются, чтобы пойти в дозор. Один из них, тот, что напяливает шерстяной свитер - холод стоит жестокий, - маячит передо мной в темноте. Он еще не просунул голову в ворот, руки путаются в рукавах, движения медленные и неуклюжие по-медвежьи. Глухие проклятья, ночная щетина, разрывы поодаль... Все это составляет странную смесь из сна, пробуждения и смерти. Долгие сборы бродяг перед тем, как снова взять тяжелый посох и отправиться в путь. Загнанные в землю, вымазанные землей, с руками в земле, как у садовников, эти люди не созданы для наслаждения. Женщины отвернулись бы от них. Но вот они потихоньку выкарабкиваются из грязи к звездам. Под землей, под этими глыбами промерзшей глины пробуждается мысль, и я думаю, что там, напротив, в тот же час другие люди так же снаряжаются и натягивают на себя такие же шерстяные свитера; они выпачканы той же землей и вылезают из той же глины, из которой и сотворены. Там, напротив, та же земля пробуждается к мысли через людей. Так по ту сторону, лейтенант, твой собственный образ медленно поднимается навстречу гибели от твоей руки. Он от всего отказался, чтобы, как и ты, защищать свою веру. Его вера - это и твоя вера тоже. Кто согласился бы умирать иначе, как за истину, справедливость, любовь к людям? Мне скажут: "Кого-то обманули - либо их, либо тех, что напротив". Но мне сейчас плевать на политиков, спекулянтов, мыслителей-надомников из обоих лагерей. Они дергают за веревочки, сыплют громкими словами и полагают, что руководят людьми. Они полагают, что люди настолько наивны. Но если громкие слова и пускают корни, как семена, развеянные по ветру, - это значит только, что ветру на пути встретились тучные земли, пригодные нести груз урожая. И пусть кто-то цинично воображает, что разбрасывал песок вместо зерен: распознавать хлеб - дело земли. Дозорные готовы, и мы двигаемся через поле. Стерня похрустывает у нас под ногами, и мы то и дело спотыкаемся в темноте о камни. Я провожаю до границы этого мира тех, кто получил приказ зайти в глубь узкой долины, отделяющей нас от противника. Ширина ее - восемьсот метров. Она оказалась под навесным артиллерийским огнем обеих сторон, и крестьяне ее покинули. Долина безлюдна, затоплена водами войны, посреди ее спит затонувшая деревушка. В ней живут теперь только призраки, тут остались одни собаки; днем они, должно быть, рыскают в поисках жалкого пропитания, а по ночам их, изголодавшихся, охватывает ужас. И к четырем часам утра вся деревня в смертельной тоске воет на белую, как кость, луну высоко в небе. "Вы должны разузнать, не прячется ли там противник", - приказал командир. Надо думать, противник задает себе тот же вопрос, и такой же дозор отправляется в путь с той стороны. С нами идет комиссар. Я забыл, как его звали, но лица его я никогда не забуду. Он мне сказал: "Ты их услышишь... Когда будем на передовой, попробуем окликнуть неприятеля на том склоне... Иногда они отвечают..." Я его ясно вижу, этого человека: он опирается на суковатую палку (наверно, легкий ревматизм), у него лицо пожилого сознательного рабочего. Вот он-то, могу поклясться, возвысился над политикой и борьбой партий. Он возвысился над враждующими исповеданиями веры. "Жаль, что в нынешних обстоятельствах мы не можем изложить противнику нашу точку зрения..." Он идет с ношей своих убеждений, как евангелист. А на той стороне - я знаю, и вы это знаете - другой евангелист, какой-нибудь верующий, также озаренный светом своих убеждений, вытаскивает тяжелые сапоги из той же грязи и тоже идет на неведомое свидание. И вот мы шагаем к земляному гребню, поднявшемуся над долиной, к самому вытянутому его отрогу, к крайнему уступу, к тому вопрошающему крику, что мы бросим врагу, - так вопрошают самих себя. Ночь, высящаяся, словно собор, - и какая тишина? Ни одного ружейного выстрела. Передышка? Нет, не то. Но нечто похожее на ощущение присутствия. Оба противника слушают один и тот же голос. Братание? Нет, конечно, если подразумевать под этим словом ту усталость, что в один прекрасный день ломает людей, заставляя их обмениваться сигаретами и делить чувство одинакового унижения. Попробуйте же сделать шаг навстречу врагу... Братание, быть может, но на такой высоте, где дух действует неизъяснимым до поры образом, - а здесь, внизу, не спасает нас от бойни. Ибо у нас нет пока языка, способного высказать то, что нас объединяет. Мне кажется, я хорошо его понимаю - комиссара, который идет с нами. Откуда он, с такими глазами, глядящими прямо перед собой, словно он когда-то подолгу ходил за плугом по борозде? Он родом из крестьян и с ними вместе постигал, как живет земля. Потом он ушел на завод и постигал, как живут люди. "Я металлист... Двадцать лет был металлистом..." Я ни от кого не слышал исповеди более возвышенной, чем от этого человека. "Я человек неотесанный... Мне пришлось крепко над собой потрудиться... Понимаешь, всякие инструменты - с ними я умел обращаться и говорить об этом умел, тут у меня чутье было... Но когда я пробовал изложить что-то такое - идеи, мысли о жизни - для себя или для других... Вы-то привыкли к отвлеченным вещам... Вас ведь с детства приучают разбираться в разных словесных хитростях, и вы не можете вообразить, как это трудно - говорить об отвлеченных вещах! Но я работал, работал... Я чувствовал, как понемногу суставы у меня становятся гибче... Ты не думай, что я не могу посмотреть на себя со стороны... Я еще мужлан, не умею вести себя прилично, а ведь человека, знаешь, судят по тому, как он себя ведет..." Слушая его, я вспоминаю прифронтовую школу, устроенную прямо в камнях, как первобытное поселение. Капрал преподавал там ботанику. Ощипывая лепестки мака, он приобщал своих бородатых учеников к нежным тайнам природы. Но видно было, что солдаты испытывают простодушную тревогу: они так старались понять, - а ведь они уже не слишком молоды и огрубели от прожитой жизни. Им сказали: "Вы дикари, едва из пещеры вылезли, надо догонять человечество..." И они торопливо поспевали за человечеством своими широкими тяжелыми шагами. Я присутствовал здесь при восхождении мысли, подобном движению соков по стволу; рожденная в доисторической тьме из глины, она поднялась понемногу до высочайших вершин - до Декарта, Баха, Паскаля. Как переворачивал душу рассказ комиссара об усилиях пробиться к отвлеченным вещам! Эта потребность расти так дерево тянется вверх. Вот тут и кроется тайна жизни. Только жизнь извлекает свою сырую породу из почвы и наперекор силе тяжести поднимает ее ввысь. Какие воспоминания! Эта соборная ночь... Зрелище человеческой души с ее шпилями и стрельчатыми сводами... Враг, которого мы готовимся окликнуть. И мы сами, словно вереница паломников, бредем по черной, хрустящей земле, усыпанной звездами. Сами того не зная, мы ищем новые заповеди, которые оказались бы выше всех наших временных, предварительных заповедей. Из-за них пролито слишком много людской крови. Мы шествуем к грозовому Синаю(2). Вот мы и на месте. Натыкаемся на закоченевшего часового - он дремал, привалившись к низенькой каменной стене. "Да, тут они иногда отвечают... Другой раз сами зовут... А иногда и не отвечают. Это уж смотря с какой ноги встанут..." ...Так ведут себя и боги. В ста метрах позади нас петляют окопы передовой. Их низкие стены укрывают человека по грудь. Они используются только для ночных постов, днем тут никого нет. Они нависают прямо над бездной, поэтому нам кажется, что мы словно облокачиваемся о парапет или барьер над пустотой и неизвестностью. Я зажигаю сигарету, и могучие руки сразу же валят меня на землю. Рядом со мной все тоже падают. В эту самую минуту я слышу свист пяти-шести пуль. Впрочем, они пролетают слишком высоко, и больше залпов нет. Это просто призыв к порядку: под носом у противника сигарет не зажигают. К нам подходят трое или четверо людей, закутанных в одеяла. Они стояли на часах поблизости, в таких же укрытиях. - Видно, проснулись те, напротив... - А говорить они будут? Хорошо бы их послушать... - Там есть один... Антонио... Он иногда разговаривает. - Ну попробуй - пусть поговорит... Солдат выпрямляется, набирает полную грудь воздуху, складывает ладони рупором и кричит раскатисто и протяжно: "ан - то - ни - о...о!" Крик растет, стелется, эхом отражается по равнине... "Нагнись, - говорит мне сосед, - иногда они стреляют в ответ, когда их зовут..." Мы прижимаемся к камню для безопасности и вслушиваемся. Выстрелов нет. Что же до отклика... Мы не могли бы поклясться, что ничего не слышим: в ночи все гудит, как в раковине. "Эй! Антонио...о! Ты что..." И славный здоровенный парень, надсадив грудь, переводит дыхание. "Ты что... спишь?.." Ты спишь... - повторяет эхо на другом берегу... Ты спишь... - повторяет долина... Ты спишь... - повторяет ночь. Все вокруг наполнено этим звуком. А мы стоим, охваченные доверчивой надеждой: они не стреляют! Я представляю себе, как они там прислушиваются, и ждут, и ловят человеческий голос. И этот голос не будит в них ненависти - ведь они не нажимают на спусковой крючок. Правда, они молчат, но какое напряженное внимание выдает эта тишина, если единственная зажженная спичка вызывает выстрел! Не знаю, какие невидимые семена, летящие с нашим голосом, падают в черную землю. Они жаждут нашей речи, как мы жаждем речи ответной. Но мы ничего не знаем о нашей жажде, кроме того, что она ясно чувствуется в самом этом внимании. А они все же не снимают пальцев со спусковых крючков, и я вспоминаю диких зверьков в пустыне, которых мы пытались приручить. Они смотрели на нас, прислушивались к нам. Они ждали от нас пищи. И все-таки при малейшем неосторожном движении они вцепились бы нам в горло. Мы надежно укрываемся за стену и, приподняв над ней руки, чиркаем спичкой. Три пули летят на быстро гаснущую звездочку. О спичка-магнит... Это значит: "Мы воюем, не забывайте! Но мы вас слушаем. Такая суровость не мешает любви..." Кто-то отталкивает здоровенного парня: "Тебе его не разговорить, дай-ка я попробую..." Коренастый крестьянин прислоняет ружье к стене, набирает воздуху в легкие и кричит: "Это я, Леон... Антонио.-.о!" И громовой звук удаляется. Я никогда не слышал, чтобы голос разносился так далеко. Будто корабль отплыл в пропасть, которая нас разделяет. Восемьсот метров отсюда до того берега и столько же обратно: тысяча шестьсот. Если они откликнутся, между вопросом и ответом пройдет секунд пять. Каждый раз пройдет пять секунд тишины, на которых подвешена целая жизнь. Каждый раз это как посольство в пути. И потому, даже если они нам ответят, мы не испытаем чувства единения друг с другом. Между нами встанет инерция невидимого мира, который надо столкнуть с места. Голос отчалил, он плывет, пристает к тому берегу... Секунда... две... Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые бросили бутылку в море... Три секунды... Четыре... Мы словно потерпевшие кораблекрушение, которые не знают, откликнутся ли спасители... Пять секунд... "О-о!" Голос доносится издалека и замирает на нашем берегу. Фраза растаяла по дороге, от нее осталась только невразумительная весть. Но меня она потрясает. Мы затеряны в темноте, непроницаемой изначала, и вот она внезапно озаряется возгласом гребцов. Нас бьет бессмысленная лихорадка. Мы нашли очевидное доказательство. Напротив - люди! Как это объяснить? Мне кажется, будто внезапно образовалась невидимая расщелина. Представьте себе дом ночью, все двери заперты. И вдруг в темноте вас касается дуновение морозного воздуха. Одно-единственное. Кто-то рядом! Вы когда-нибудь склонялись над пропастью? Я вспоминаю трещину в Шезри(3), черную щель в чаще леса, шириной в метр или два, длиной метров в тридцать, пустяк. Ложишься ничком на еловые иголки и подталкиваешь рукой камешек в эту гладкую расщелину. Отзвука нет. Проходит секунда, две, три - целая вечность, и вот наконец слышится слабый гул, волнующий тем больше, чем дольше он шел, чем он слабее там, под тобой. Какая бездна! Так и в эту ночь запоздалое эхо созидает новый мир. Враг, мы сами, жизнь, смерть, война - несколько секунд тишины выражают все это. Снова послан сигнал, корабль тронулся в путь, караван отправился через пустыню, и мы снова ждем. Конечно, на той стороне, так же как и здесь, ловят этот голос, разящий в сердце, словно пуля. Но вот эхо возвращается: "...Пора... пора спать!" Фраза доносится до нас изуродованной, разорванной в клочья, как спешное сообщение, перепачканное, размытое, истрепанное морем. Те самые люди, что стреляли по нашим сигаретам, напрягают грудь во всю мочь, чтобы послать нам материнский совет: "Молчите... Ложитесь... Пора спать". Нас охватывает легкая дрожь. Вам, наверно, показалось бы, что это игра. Им, этим простым людям, наверно, тоже кажется, что это игра. Так они в целомудрии своем вам бы и объяснили. Но в игре всегда таится глубокий смысл. Иначе откуда бы взяться тревоге, и наслаждению, и притягательной силе игры? Игра, в которую, казалось, мы играли, слишком хорошо сочеталась с той соборной ночью, с тем шествием к Синаю, она заставляла наши сердца биться слишком сильно, чтобы не отвечать какой-то смутной потребности. Установленная наконец-то связь приводит нас в радостное возбуждение. Так вздрагивает физик, приступая к решающему опыту, готовясь взвесить молекулу. Он определит лишь одну величину из сотен тысяч, добавит как будто только одну песчинку к зданию науки, и все же сердце у него бьется, потому что дело совсем не в этой песчинке. У него в руках ниточка. Ниточка, дернув за которую, приближаешь познание вселенной, ибо все связано между собой. Так вздрагивают спасатели, закидывая трос один раз, другой, двадцатый... и ощутив по едва заметному толчку, что потерпевшие крушение наконец его поймали. Где-то там была горстка людей, затерянных среди рифов в тумане, отрезанных от мира. И вот они связаны волшебной стальной нитью со всеми мужчинами, со всеми женщинами во всех портах. Так и мы перекинули хрупкий мостик через ночь к неизвестности, и вот он связал друг с другом два берега мира. Мы соединяемся с врагом, перед тем как погибнуть от его руки. Но наш мостик такой легкий, такой хрупкий; что можно ему доверить? Слишком тяжелый вопрос или ответ - и он рухнет. У нас так мало времени, что передавать надо только самое важное, истину истин. Я будто снова его слышу - того, кто руководил маневром, кто взял нас под свою команду, как рулевой; того, кто сумел добиться от Антонио ответа и потому стал нашим послом. Я вижу, как он выпрямляется во весь рост над стенкой, опирается широко раскрытыми ладонями о камень и выкрикивает в полный голос главный вопрос: "Антонио! За какой идеал ты сражаешься?" Разумеется, они по целомудрию стали бы оправдываться: "Это мы так, в шутку..." Они и сами в это поверят позднее, если попробуют передать на своем скудном языке те чувства, для передачи которых еще нет языка. Чувства человека, который внутри нас и который вот-вот проснется... Но чтобы он появился на свет, требуется усилие. Этот солдат в свой черед ждет потрясения - и я знаю, я видел его глаза: он открыт ответу всей душой, как открываются колодезной воде в пустыне. Вот она наконец эта изуродованная весть, это признание, обглоданное пятью секундами странствия, как надпись на камне обглодана столетиями: "...Испания!" Затем доносится: "...ты". Думаю, это он теперь вопрошает того, кто здесь. Ему отвечают. Я слышу, как отсылают величавый ответ: "...Хлеб для наших братьев!" А вслед за тем удивительное: "...Спокойной ночи, amigo!" На что с той стороны отвечают: "Спокойной ночи, amigo!" И все снова погружается в тишину. Наверно, они там, как и мы, могли расслышать только отдельные слова. Разговор состоялся, и вот он, плод долгой ходьбы, опасностей и усилий... Вот он весь, такой, каким его качало эхо под звездами: "Идеал... Испания... Хлеб для наших братьев..." Но пора, дозор отправляется в путь. Начинается спуск к деревне - месту встречи. Ведь на той стороне такой же дозор, подчиняясь той же необходимости, углубляется в ту же бездну. Разными по видимости словами эти два отряда прокричали одну истину... Но столь возвышенное общение не воспрепятствует им умереть вместе. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Среди ночи голоса врагов перекликаются из окопов Статья опубликована в "Пари-суар" 3 октября 1938 г. В основе ее воспоминания об одной из двух журналистских поездок Сент-Экзюпери на фронт гражданской войны в Испании в 1936 и 1937 гг. (2) Мы шествуем к грозовому Синаю. - По библейской легенде (Исход, гл. XXIV), на вершине горы Синай, покрытой огненным облаком, Моисею явился бог. (3) Шезри - поселок в департаменте Эн, на востоке Франции. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Темы 'Цитадели'
Антуан де Сент-Экзюпери Темы "Цитадели"(1) Перевод: С французского Е. Баевской Чтобы твои раны зарубцевались, я велю тебе гулять на вольном [воздухе]... Ты забыл, что никоим образом не дозволено, чтобы ты не был принят. Никоим образом не дозволено, чтобы ты потерял свои путы. [Ты угадываешь это в том, кем ты восхищаешься.] И язва твоя И траур твой И угрызения твоей совести Я беру на себя твои... Были у меня в доме... Басня о козопасе И решил я его спасти Основные направления вступительной части понятие имения понятие дворца его сущность понятие обмена понятие "образцового сотрудничества" понятие грабежа (истощать источник, из которого пьешь) понятие пейзажа, который открываешь для себя, шагая по дороге понятие опорной конструкции (распространить на существо,но не на сущность) понятие отмирающих вопросов понятие ведра, лопаты и горы. Означать, но вовсе не содержать понятие недостойной цели и заблуждений, являющихся ступенями к совершенствованию понятие времени утекающего и наполняющего понятие заговора против общества понятие лавочника и солдата в пустыне (и о чем он пожалеет? Кто, кроме бога, ему судья?) понятие минувшего времени и жизни понятие камней и молчания понятие агентства Кука понятие мира, который есть блаженство, высший синтез, смерть противоречий и непримиримости молчание, которое питает. И медлительность понятие кочевника и оседлого (лицо [власть имущих]) понятие цивилизации, которая ничего не дает ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Темы "Цитадели" Черновик, относящийся к 1941 или 1942 г. Об истории создания книги "Цитадель" см. коммент. к третьему разделу настоящего издания. Сергей ЗенкинСент-Экзюпери Антуан Франция прежде всего
Антуан де Сент-Экзюпери Франция прежде всего(1) Перевод: С французского Е.В. Баевской Немецкая ночь заволокла всю нашу землю(2). До сих пор нам еще удавалось узнать что-нибудь о тех, кто нам дорог. Нам еще удавалось напомнить им о нашей любви, хоть мы и не могли разделить с ними их горький хлеб. Нам было слышно издалека их дыхание. С этим покончено. Теперь во Франции царит безмолвие. Она затерялась где-то там, в ночи, словно корабль с потушенными огнями. Все, что в ней есть сознательного, духовного, притаилось в самых ее недрах. Мы не знаем ничего, не знаем даже имен заложников, которые завтра будут расстреляны немцами. В подземельях, среди угнетенных рождаются на свет новые истины. Так давайте не будем бахвалиться. Там - сорок миллионов французов, обращенных в рабство. Нам ли нести духовный огонь тем, кто питает его собственной плотью, словно свеча воском! Они лучше нашего разберутся в том, что нужно Франции. Право на их стороне. Все наши разглагольствования о социологии, политике и даже об искусстве ничего не стоят по сравнению с их мыслью. Они не станут читать наши книги. Они не станут слушать наши речи. От наших идей их, чего доброго, стошнит. Мы должны вести себя бесконечно скромнее. Наши политические дискуссии - это дискуссии призраков, наши притязания просто смешны.Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей(3). Что бы мы ни сделали, у нас нет никакого права на ее благодарность. Открытый бой невозможно сравнить с ночным бандитским налетом. Ремесло солдата невозможно сравнить с ремеслом заложника. Только те, кто там, - истинные святые. Даже если нам вскоре выпадет честь сражаться, все равно мы останемся в долгу. Мы все в долгу как в шелку. Это первая и незыблемая истина. Давайте же объединимся ради общего служения, французы. Для начала я скажу несколько слов о распрях, разобщивших нас; надо искать против них лекарство. Потому что на Францию напала хворь. Тяжкая хворь. Многие из нас, кого мучит больная совесть, нуждаются в исцелении. Пусть же они исцелятся. Благодаря такому чуду, как вступление в войну американцев, самые разные пути сходятся на едином перекрестке. К чему нам вязнуть в старых распрях? Нужно объединять, а не разделять, раскрывать объятия, а не отталкивать. Разве наши распри - причина для ненависти? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что он во всем прав? Человек располагает чрезвычайно узким полем зрения. Язык - орудие несовершенное. Жизнь ставит такие проблемы, от которых все формулы трещат по швам. Будем же беспристрастны. Член бюро парижского муниципалитета под давлением острой необходимости был вынужден вступить в переговоры с победителем о том, чтобы Франция получила подачку - немного смазки для наших железнодорожных вагонов (у Франции нет больше ни бензина, ни даже лошадей, а ей нужно кормить свои города). Позже офицеры из комиссии по перемирию(4) опишут нам этот постоянный свирепый шантаж. Четверть оборота ключа, регулирующего поставки этого продукта, - и за полгода умрет на шесть тысяч детей больше. Когда гибнет расстрелянный заложник - честь ему и слава. Его гибель - цемент, скрепляющий единство Франции. Но когда немцы, просто-напросто задержав поставку смазки. истребляют сто тысяч пятилетних заложников, ничто не искупит этого медленного, безмолвного кровотечения. Кроме того, для вас не секрет, что если бы Франция расторгла соглашение о перемирии, то с юридической точки зрения это было бы равносильно возврату к состоянию войны А возврат к состоянию войны дает оккупантам право брать в плен всех мужчин, подлежащих мобилизации. Этот шантаж лег на Францию тяжким бременем. Угроза была самая что ни на есть недвусмысленная. С немецким шантажом шутки плохи. Немецкие лагеря - это фабрики, продукция которых трупы. В сущности, нашей стране грозило полное истребление, под видом законных административных мер, шести миллионов взрослых мужчин. Безоружная Франция не могла голыми руками сопротивляться этой охоте на рабов. И вот наконец союзники в семьдесят шесть часов высаживаются в Северной Африке, и это доказывает, что Германия несмотря на самый свирепый шантаж, за два года террора не сумела полностью блокировать эту самую Северную Африку. Кое-где во Франции крепко давало о себе знать Сопротивление. Победа в Северной Африке была, быть может, одержана отчасти и нашими пятьюстами тысячами погибших детей. Ах, французы, стоит нам свести наши расхождения к их истинным размерам - и этого достаточно, чтобы всем нам заключить между собой мир. Нас никогда ничего и не разделяло, кроме взглядов на значение нацистского шантажа. Одни думали так: "Если немцы вздумают уничтожить французский народ, они его уничтожат, несмотря ни на что. Шантаж надо презирать. Ничто не влияет ни на решения, ни на высказывания правительства Виши". Другие думали так: "Мы имеем дело не с простым шантажом; мы имеем дело с таким лютым шантажом, равного которому не бывало в истории человечества. Франция, не идя на уступки в главном, только и может что хитрить на словах, чтобы отсрочивать со дня на день свое уничтожение". Французы, неужели, по-вашему, эти разные мнения об истинных намерениях бывшего правительства - повод для взаимной ненависти? Как бы ни расходились мы во мнениях, мы едины в общей нашей ненависти к захватчику. Кроме того, эта расхождения стали менее ощутимыми уже тогда, когда дорвавшийся до власти Лаваль выдал нацистам еврейских беженцев(5). Солидаризируясь со всем французским населением, мы считаем право убежища священным. Итак, теперь существовавшие между нами распри стали беспредметными: режим Виши мертв. Виши унес с собой в могилу свои неразрешимые вопросы, свои противоречия, свою откровенность и свои хитрости, свои подлости и свою лихость. Давайте заранее уступим роль судей историкам и военным трибуналам, чье время придет после войны. Сейчас важнее служить Франции, а не спорить о ее истории. Тотальная немецкая оккупация разрешила все наши споры и облегчила нам муки совести. Хотите примириться Друг с другом, французы? Нет больше ни малейшего повода для раздоров. Давайте откажемся от партийных пристрастий. Во имя чего нам ненавидеть друг друга? Для чего нам завидовать друг другу? Дело ведь не в том, кому какая должность достанется. Дело ведь не в борьбе за должности. Единственные вакантные должности сейчас - солдатские, да еще, может быть, покойные ложа на каком-нибудь скромном кладбище в Северной Африке. По французским законам, человек подлежит призыву в армию до сорока восьми лет. Мы все должны быть призваны, от восемнадцатилетних до сорокавосьмилетних. Речь уже не о том, чтобы у нас спрашивали, хотим мы или не хотим принести себя в жертву. Чтобы склонить чашу весов, нужно призвать нас всех вместе усесться на эту чашу, вот и все. И все-таки, даже если признать наши старые распри не более чем распрями историков, нашему единству грозит и другая опасность. Французы, давайте наберемся мужества, чтобы ее превозмочь. Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной(6). Чтобы восторжествовал именно тот строй, а не этот. Им уже мерещится на горизонте призрак несправедливости. Зачем осложнять себе жизнь? Сейчас не время бояться несправедливости, не время думать о личном. Если каменщик отдает все силы возведению собора, собор не причинит ему зла. От нас требуется только одно: чтобы мы воевали. Я чувствую, что надежно защищен от всякой несправедливости. Неужели кто-нибудь может обойтись со мной несправедливо из-за того, что я лелею единственную мечту - вновь обрести в Тунисе товарищей по группе 2/33, с которыми жил вместе девять военных месяцев, а потом было беспощадное наступление немцев, стоившее нам двух третей наших экипажей, а потом бегство в Северную Африку накануне перемирия. Французы, хватит нам спорить о старшинстве, о почестях, о справедливости и о том, кто главнее. Ничего этого нам не предлагают. Нам предлагают винтовки. Их хватит на всех. Я бесконечно спокоен и обязан этим спокойствием тому, что не чувствую ни малейшего призвания играть роль судьи. Общность, к которой я примыкаю, - не партия и не секта: это моя родина. временное общественное устройство Франции дело французского государства. Уж об этом-то позаботятся Англия и Соединенные Штаты. Наша задача - нажимать на гашетку пулемета, а потому не будем беспокоиться о вопросах, которые предстоит решить потом. Истинный наш вождь Франция, обреченная на молчание. Будь прокляты все партийные, клановые и прочие розни! Мы желаем теперь только одного (и мы вправе высказать это желание, поскольку оно всех нас объединяет) - подчиняться не политическим вождям, а военным, потому что честь, отдаваемая солдатом солдату, возвеличивает не того солдата, ком) отдали честь, не партию, а Народ. Мы знаем, что такое власть для генерала де Голля и генерала Жиро: для них это служение. Они первые из тех, кто служит. И этого нам достаточно, потому что все распри, которые еще вчера могли нас остановить, сегодня потеряли значение или вовсе исчезли. Вот, по-моему, итог, к которому мы пришли. Необходимо, чтобы наши друзья в Соединенных Штатах увидели истинное лицо Франции. Сейчас она представляется всему свету каким-то осиным гнездом. Это несправедливо. Слышно одних спорщиков. Молчуны не делают много шума... Я предлагаю всем французам, молчавшим до сих пор, засвидетельствовать г-ну Корделлу Хэллу(7) наше истинное настроение; для этого мы должны один-единственный раз нарушить молчание и отправить ему - каждый от своего имени - такую телеграмму: "Просим оказать нам честь, предоставив любую возможность служить. Желаем военной мобилизации всех французов, находящихся в Соединенных Штатах. Заранее согласны на любую организацию, которая будет признана целесообразной. Поскольку всякий раскол среди французов нам ненавистен, мы хотим, чтобы эта организация оставалась вообще вне политики". Они там в государственном департаменте будут поражены тем, как много французов выскажется за единство. Что бы о нас ни думали, большинство из нас в глубине души питает лишь любовь к нашей цивилизации и к нашей родине. Отринем все раздоры, французы. Когда мы на борту бомбардировщика заспорим с пятью или шестью "мессершмиттами", наши былые споры покажутся нам смехотворными. Когда в 1940 году я возвращался с задания в изрешеченном пулями самолете, я с наслаждением пил превосходное перно в баре нашей эскадрильи. И выигрывал в кости рюмку перно то у товарища-роялиста, то у товарища-социалиста, то у лейтенанта Израэля(8), еврея, который был отважнее нас всех. И мы пили вместе, чувствуя, как бесконечно дороги друг другу. ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ (1) Франция прежде всего Статья впервые опубликована (на английском языке и с некоторыми изменениями по сравнению с оригинальным текстом) 29 ноября 1942 г. в журнале "Нью-Йорк таймс мэгэзин" под названием "Французам, где бы они ни находились"; на следующий день она была напечатана на французском языке в газете "Канада" (Монреаль). (2) Немецкая ночь заволокла всю нашу землю. - 8 ноября 1942 г. англо-американские войска высадились в Марокко и Алжире. 200-тысячная французская армия, размещенная там и имевшая приказ правительства Виши не допускать высадки союзников, после непродолжительного сопротивления прекратила огонь, а затем перешла на их сторону. В ответ на это, чтобы предупредить подобный поворот дел в случае высадки в южной зоне Франции, немецкая армия вступила в эту зону, оккупировав тем самым всю территорию страны. Существовавшая до тех пор французская "армия перемирия" была распущена, французские моряки в Тулоне затопили свои корабли, чтобы они не достались немцам. В результате изменилась не только военно-стратегическая, но и политическая обстановка: с одной стороны, коллаборационистское правительство Виши, лишившись вооруженных сил и оказавшись в зоне немецкой оккупации, окончательно утратило всякую видимость самостоятельности, с другой стороны, в Северной Африке, на территории французской колониальной империи, возникли условия для восстановления независимой французской государственности. Обе эти проблемы: политический крах вишизма и вопрос о новой власти, создаваемой в Северной Африке, - и рассматриваются в статье Сент-Экзюпери. (3) Мы не представители Франции. Мы можем только служить ей. - Писатель полемизирует с голлистами, отвергая их намерение создать временное правительство Франции за ее пределами. По его мнению, право на это имеет только французский народ, в данный момент живущий "заложником" у немецких оккупантов. (ср. "Письмо заложнику"). (4) Комиссия по перемирию - немецко-французский орган, созданный в конце июня 1940 г. в городе Висбадене (Германия) для выполнения условий перемирия между двумя странами. (5) ...когда дорвавшийся до власти Лаваль выдал нацистам еврейских беженцев. - Пьер Лаваль (1883-1945), в апреле 1942 г. назначенный (после более чем годичной опалы) премьер-министром в правительстве Виши, в июле осуществил ряд расистских мер, в частности было принято решение об аресте и выдаче немецким властям находившихся во Франции евреев иностранного происхождения. Большинство этих людей было затем уничтожено в гитлеровских лагерях смерти. (6) Многие из нас беспокоятся о том, чтобы нас возглавил именно тот вождь, а не иной.- В момент написания статьи Сент-Экзюпери имел в виду двух конкретных "вождей", боровшихся за власть: во-первых, генерала Шарля де Голля (1890-1970), который с 1940 г. возглавлял базировавшееся в Англии движение "Сражающаяся Франция", и, во-вторых, генерала Анри Жиро (1879-1949), который весной 1942 г. совершил нашумевший побег из немецкого плена и которого англо-американские союзники прочили на пост Главы новой французской администрации в Северной Африке. Оба генерала стояли за продолжение Францией войны в составе антифашистской коалиции, но если де Голль решительно отвергал какие-либо контакты с вишистами, то Жиро, хотя сам и не был запятнан коллаборационизмом, относился к вишистским властям примирительно - сохранял в силе введенные ими законы, привлекал к сотрудничеству их чиновников. Сент-Экзюпери первоначально полагал, что именно Жиро, как деятель более "умеренный" и далекий от партийной борьбы, способен обеспечить национальное единство французов, необходимое для освобождения родины; позднее, встретившись с генералом лично, он быстро разочаровался в нем как в государственном деятеле. Что касается выдвигаемого писателем лозунга бороться за спасение Франции, "отказавшись от партийных пристрастий", то еще до публикации статьи стала очевидна его утопичность: 22 ноября американские представители, продолжавшие политическую игру с Виши, заключили соглашение с адмиралом Франсуа Дарланом (1881-1942), признав его французским верховным комиссаром Северной Африки. Появление этой одиозной фигуры (Дарлан был одним из крупных представителей коллаборационистской администрации, более года возглавлял правительство Виши) в роли "вождя" французских патриотических сил показало иллюзорность упований Сент-Экзюпери на внеполитическое, "чисто военное" руководство этими силами. (7) Хзлл Корделл (1871-1955) - государственный секретарь США в 1933-1944 гг. (8) Израэль Жан - боевой товарищ Сент-Экзюпери по кампании 1940 г., командир эскадрильи; о его героизме говорится в "Военном летчике". Сергей ЗенкинI
...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается, но нас поставили над людьми. Мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. Мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, — они трогают сердца женщин, — отказываю умирающим и мёртвым. И знаю почему. Были времена в моей юности, когда я, видя гнойные язвы нищих, жалел их, нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам с дальних островов. Но потом я увидел, что нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей, — так садовник унавоживает землю, выпрашивая у неё багряный цветок, — и понял: смрад и зловоние — сокровище попрошаек. Нищие гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились выручкой, и тот, кто получал больше других, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили нищие к моему целителю, предвкушая, как поразится он обилию их зловонных язв. Защищая своё место под солнцем, они трясли изъязвлёнными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, — бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И вновь сочась гноем, самодовольные и никчёмные, выстраивались они с плошками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога. Во времена моей юности я сочувствовал и умирающим. Мне казалось, осуждённый мною на смерть в пустыне угасает, изнемогая от безнадёжного одиночества. Я не знал ещё, что в смертный час нет одиноких. Не знал и о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого гроша, собирает в свой последний час домочадцев и с безразличием справедливости оделяет их, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь не о себе — о товарищах. Мы восхищаемся: «Какая самоотверженность!» Но я заметил в ней и затаённое пренебрежение. И догадался, почему иссыхающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голоду отказался от корки хлеба. Они успели отстраниться от телесного и с королевским безразличием отодвинули от себя кость, в которую жадно вгрызутся другие. Я видел женщин, они жалели погибших на поле боя. Жалели, потому что мы слишком много врали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Ещё бы! Они тоже могли погибнуть. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безвыходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришёл в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело незначительная частица обширного имения, вроде осла на привязи во дворе. А потом наступает агония: прилив, отлив, — волны памяти бередят сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов. Дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит к Господу. Все, кто живы, — я знаю, — боятся умереть. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Так за что же мне жалеть его? О чём плакать у его изголовья? Мне известно и преимущество мёртвых. Легка была кончина юной пленницы. Мне было шестнадцать, и её смерть стала для меня откровением. Когда её принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала её, ей хотелось одного — улыбнуться. Улыбка веяла возле её губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась всё явственней, всё драгоценней, и, когда наконец обозначилась, лебедь улетела в небо, оставив след, полумесяц губ. А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная бренная оболочка, прободённая его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, причиной которого сам он сам, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу: он стоял на коленях перед мёртвым царём. Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня затаили дыхание и мы. Даже после того, как мы похоронили его, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нём и, опуская гроб на скрипучих верёвках в землю, знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землёй опору, которой он был и остался для нас. От отца я узнал, что такое смерть. Он рано заставил меня взглянуть ей в лицо, и сам перед ней не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце раздвигало пустыню. На слепящем глаза раскалённом песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребёнок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками. Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолётны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки. Сбившись с тропы, караваны попадали в плен зеркала. Зеркало никогда не выпускало своей добычи, но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не менялось, только жизнь превращалась в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется; переселялся в вечность, но считал, что живёт. Погонщики погоняли верблюдов, но разве сладить им с бесконечностью? Они торопились к колодцу, которого нет, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — только отсрочка, которая ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что долго ждать ночи... Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц. Они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им. Тебе кажется, караван идёт? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..
Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался — песок. — Здесь, — сказал мне отец, — был когда-то колодец. Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нём погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада. К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвождённый к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками — золотые слитки, и всё это припорошил песок.
Я смотрел, отец говорил: — Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви? Подержав в руках и перелистав книгу Пророка, — продолжал отец, — посмотрев на буквицы и золото миниатюр, неграмотный миновал главное. Суть книги не в тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск, который оставит следы, главное в свече — сияние света. Но меня устрашил пиршественный стол Господа Бога с остатками Его жертвенной трапезы. Отец сказал мне: — Прах — это только прах, не ищи в нём сути. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый. — Но где она, эта суть? — закричал я отцу. И отец ответил: — Ты поймёшь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит её, скала — он огибает её. Если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда караван идёт туда, куда идёт. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадёжней, и снова караван идёт туда, куда шёл. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую верёвку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идёт, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.
Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: пусть солнце бичует нежную оболочку её плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне. — Сейчас ты поймёшь, что для человека главное, — сказал мне отец. И я опять у него в седле. Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолётным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на тёмной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, — точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, — виновная взывала к милосердию Господа. — Послушай её, она говорит о главном, — сказал отец. Но я был мал и потому малодушен. — Как она мучается! — сказал я. — Как ей, наверное, страшно... — Мучается и страшится стадо, укрытое в хлеве, — ответил отец. — Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину. Я вслушался в её плач. Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг неё, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребёнка, которого целовала перед сном и который был для неё средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего здесь, на пустынной равнине, славила знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществованье: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы её вымыть, ребёнка, чтобы уложить его спать, её собственного ребёнка, а не чужого. Она взывала к спасительной надёжности дома. Она молилась, и её молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни. Голова осуждённой поникла, и отец посадил меня к себе в седло. Мы помчались. — Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, — сказал он мне. — Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека. Я знал, мой отец добр. И вот что он говорил: — Я хочу, чтобы они любили говорливые родники. Ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славили сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мёд расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева — щедрой оливы. Ветвью, которая ждёт. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведёт их вперёд и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потёмки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам. Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Своё лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление — вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Всё вокруг тебя обретает незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечно сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной, вечна и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим всё прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.
II
С самой высокой башни крепости вижу: не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живее и могущественнее живущего. Вижу смятение живущих и сострадаю им. Их я хочу исцелить от тоски и безнадёжности. Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме и поверил, что кровом ему Божьи звёзды, и догадался вдруг, что он в пути. Я запрещаю расспрашивать его, ибо знаю: нет ответа, который истощил бы любопытство. Вопрошающий отверзает бездну.Глубины сердца ведомы мне, и я знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото сияет, словно звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, всегда тянется к свету, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Сияние завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает чёрную воду пруда, чтобы схватить луну. Вор крадёт и в мимолётное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что так однажды он отыщет то, что утолит его жажду. Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же моя стража, если я пошлю её подстригать деревья, схватит его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны. Но его первого я укрою своей любовью, потому что усердия у него больше, чем у благоразумного в его лавке. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землёй, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры. Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому что такую любовь возможно насытить. Только поэтому я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать томящей её жажды? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, опёрлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность — палач для неё. Как ощутим для меня её трепет; рыбка трепещет на песке и зовёт волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то появится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить её. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи. Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила. Я перечёркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить её заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего нездешнего. Дом откроет для неё Бога. Заплачет ребёнок, прося грудь, шерсть попросится в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Так её приручили, и она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности и леплю вокруг него сосуд. Я — каждодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной...
Долго искал я, в чём суть покоя. Суть его в новорождённых младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершённое. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. И я понял: человек — та же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звёзды смотрят на беспомощные руины. Что обрёл разрушитель, кроме тоски — обитательницы развалин? Так пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец, он углубляется каждый день. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, что изменяла, откликаясь на посулы ночи, — о Боге ведает та, что смиренно копила себя, не видя ничего, кроме прялки. Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.
Да, на всё есть время — есть время выбирать, что будешь сеять, но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоёмов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств... Но я служу Господу и поэтому предпочитаю вечность. Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он — ветка, которой коснулось пламенеющее небесное семя. Она искрится, трещит, и от леса остаётся горстка пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечном. Да, есть время для зачинания нового, но за ним наступает благодатное время традиций. Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я — лужайка над пропастью. Хранилище, где дозревает плод. Паром, что принял из рук Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил, — может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, — но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью, оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудятся, совершенствуя кто корабль, кто щит. Оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню — наследство праотцев, ошибаясь и обогащая её даром своей души. Оберегая беременных и кормящих. Я люблю умножающиеся стада и времена года, которые непременно возвращаются. Прежде всего я — житель. И я спасу тебя, моя крепость, цитадель моя и обитель, от посягательств бесплодного песка. Я развешу звонкие рога по твоим стенам. Трубя, они предупредят нас о варварах.
III
Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А от того, где живут они, зависит смысл их жизни. Дорога, ячменное поле, склон холма говорят по-разному с чужаком и с тем, кто среди них родился. Привычный взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит их, — знакомое с детства ложится ему на сердце. В разных мирах живут не ведающие о царстве Божием и ведающие о нём. Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам реальные, осязаемые. Но радует только неосязаемое. И если кому-то хочется завладеть лишним стадом овец, то хочется из тщеславия. А утехи тщеславия нельзя потрогать. Вот почему не находят сути моего царства те, кто перебирает то, что в нём есть. «У тебя есть овцы, козы, ячмень, — перечисляют они, — жилища, горы и что ещё, кроме этого?» Кроме этого, нет ничего у них самих, они чувствуют себя несчастными, им холодно. И я понял: они — прозекторы в мертвецкой. «Посмотрите, вот она, жизнь, — говорят они, — кости, мускулы, внутренности, кровь — и ничего больше». Жизнью светились глаза, но света нет в мёртвом прахе. И царство моё — вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы, оно — то, что объединяет их, превращая в единое целое. Оно — то, что питает во мне любовь. Те, кто любит его, как я, счастливы, как я, и мы живём с ними в одном доме. Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя по анфиладе покоев в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела своё назначение, каждый шаг в нём был осмыслен. Законы служат стенами моей крепости, они определяют устройство моего царства. Безрассудный пришёл ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз своих запретов, и мы станем великими». Но я знал: вместе со скрепами они потеряют ощущение целостности царства и перестанут его любить; ничего не любя больше, они потеряют самих себя, — и решил обогатить их любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, затосковав по свежему ветру, пожелали разрушить замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла. Велик был замок моего отца, одно крыло его занимали женщины, во внутреннем дворике бормотал родник. (Я повелеваю: пусть в каждом доме бьётся подобие сердца, к нему можно приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома. Небытие не означает, что живёшь на свободе.) Возле замка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев — амбаром. — Амбар должен оставаться амбаром, — говорил отец, — ты не дома, если не знаешь, куда попал. Что мне за дело до выгод и невыгод? Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нём хаос, если, идя по нему, не знаешь, куда придёшь? Был в замке зал, где принимали важные посольства. Солнце заглядывало в него лишь в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамёна на горизонте, как паруса. Но он пустовал, если к нам приезжали мелкие князьки. Был другой зал, где вершилось правосудие, и ещё один, куда приносили усопших. И была в замке пустая комната, назначения которой не знал никто. Возможно, оно и было в том, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что всё познать невозможно. Рабы с подносами, с кувшинами пробегали по коридорам, отодвигали плечом тяжёлые завесы, поднимались наверх, открывали двери, спускались вниз, говорили громко, а приближаясь к роднику — тише, и становились пугливыми тенями, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный, шаг в эту сторону грозил им смертью. А женщины замка? Молчаливые, надменные или боязливые, смотря по тому, кем они в нём были. Я слышу голос безрассудного: «Сколько даром пропавшего места, неиспользованных богатств, неудобства, и всё по вине нерадивости. Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить! Пусть люди почувствуют себя свободными». И отвечаю ему: «Нет, они почувствуют себя овцами на юру и собьются в стадо. Им будет плохо, и с тоски они напридумывают глупых игр. В этих играх тоже будут правила, и жестокие, но в них не будет величия. Замок рождает стихи. Но какие стихи родятся под стук игральных костей? Ещё какое-то время люди будут жить призраком замка, читая о нём стихи, но потом исчезнет и призрак. Стихи станут чужими, непонятными... И что тогда будет этим людям в радость?» Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих одного: чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали смрадное болото, так откуда придёт к ним радость? А я? Я восстанавливаю силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я — воплощённая несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом. Я сгибаю полосу в лук. Но несправедливое сегодня окажется справедливым завтра. Я торю дороги там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я своё царство. Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. «Можно ли притеснять подобное совершенство?» — твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Но человек жив, пока сердце помнит запреты. Мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, гибнет.Вот почему я ненавижу издёвку — оружие циников. Циник говорит: «Каких только обычаев у вас не было! Почему бы не переменить и эти?» И ещё слова циника: «Зачем держать зерно в амбаре, а овец в хлеву? Можно ведь и наоборот...» Он меняет местами слова. Он не знает, что, кроме слов, существует на свете и другое. Ему невдомёк, что человек живёт и нуждается для жизни в доме. Наслушавшись циников, люди теряют из виду дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ — смысл существующего. В праздник гордятся тем, что свободны от обычая, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остаётся святотатством. Люди попирают то, что пока ещё весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг. Тень закона ещё так крепко держит их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади. Исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирать былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячью окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнате, которая придаёт вкус тайны всему жилищу... Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, — замке, который они успели позабыть. Я знаю, что будет, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, и не желаю слушать твердящих мне о благодати естественных склонностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой, истирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредающихся ручейков. Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я, и я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом времени. Время должно было обратить его в прах, но вопреки силе, гнущей ствол к земле, год от года раздвигается гордый храм его кроны. Я — жизнь, я упорядочиваю. Я творю ледники вопреки интересам луж. И пусть лягушки квакают о несправедливости. Я готовлю человека к тому, чтобы он жил. Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к хаосу. Для закоснелости, позабывшей о жизни, болтун прав: отвлечённо и кедр, и пальма одно и то же и одинаково превратятся в прах. Но жизнь не терпит смешения и борется с естественными склонностями. Из праха она созидает кедр. Истинность моих законов — в человеке, который порождён ими. Я не считаю, что смысл вот в этом обычае, законе, наречии моего царства. Я знаю другое: складывая камни, творишь тишину, но ничего о ней не узнаешь, разглядывая камни. Знаю, что живит любовь, а бинты и мази толькоподспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечёт труп и ощупает печень, сердце, кости. Сами по себе что они значат? Что значат чернила и бумага в книге? Значима мудрость книги, но она вне вещественности. Я отвергаю споры, в них ничего не рождается. Язык моего народа, я хочу сберечь и сохранить тебя. Помню умника, который пришёл к моему отцу. — Ты приказал молиться по чёткам из тринадцати бусин. Но что есть число тринадцать? Благодать пребудет благодатью, а вот число бусин хорошо бы переменить... И он стал приводить мудрейшие доводы в пользу чёток из двенадцати бусин. Я был мал, а детство податливо на слова. Я смотрел на отца и боялся, что ответ его не затмит блеска этих доводов. — Так объясни мне, — продолжал гость, — чем так дороги тебе тринадцать бусин? — Дороги платой, за них заплачено не одной головой, — ответил отец. Бог помог умнику, он уверовал.
IV
Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? Кто способен построить тебя как цепочку логических заключений? Ты — реальность, но ты — нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя — разнородность, и для того, чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица — чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека. Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину. Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я — зодчий. Душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Всё вокруг — глина, и я начинаю трудиться, подчиняя её творческому замыслу, рождённому во мне Господом, а не логикой. Я творю своё царство, одержимый духом, который воплотится в нём, творю так же, как пишутся стихи, не давая никому отчёта, почему переставил запятую, почему заменил слово, — дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведёт. Я — правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство, похожее на замок моего отца, где каждый шаг был осмыслен. Как распорядились бы они без меня доставшейся им кучей кирпича? Перетащили бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке? Но я взял в свои руки бразды правления, и я осуществил выбор. Выбрал за всех, и все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворённых мной из бессмысленной кучи кирпичей. Кирпичей, которые я подчинил замыслу, рождённому моим сердцем. Я веду. Я — вождь. Я — мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех других себе на помощь. Потому что я понял: вождь не тот, кто способен хранить ведомых; вождь — тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я и только я — творец картины, собравшей воедино отары и дома, коз и горные кряжи, — картины, в которую мой народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятья, — картины, которой никто ещё и никогда не видал. Моему народу полюбилось царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня — зодчего. В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор — душу ваятеля. Теперь мне хочется, чтобы народ чтил моё царство. Но чтить его он будет только после того, как напитается кровью собственного сердца. Принесёт ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего. Вечера их наполнятся усердием. И отец, как только у сына откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не так-то легко разглядеть среди дробности мира. И если я сумею сделать моё царство таким высоким, что и звёзды найдут в нём своё место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведёт Свои корабли. И если моё царство окажется столь протяжённым, что его хватит на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что будет за дверями, и различая среди дробности мира лик Господа. Царство моё! Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывёшь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром. Корабль людей, без него им не добраться до вечности. Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают всё новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый. Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснётся чувство утраты... Вот почему я забочусь о мидель-шпангоутах[361] моего корабля. Они должны послужить не одному поколению. Никогда не украсить храм, если что ни год возводить новый фундамент.V
Да, я забочусь о мидель-шпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он — творение человеческих рук. А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря. Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется незыблемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря. Оно для них рама, что обрамляет их корабль. Такова особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано для корабля. Но рассудок не прав. Одному ваятелю видится в камне женское лицо, другому — мужское. Каждый видит своё. Ты убедишься в этом, разглядывая созвездия: вот одно из них — лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти звёзды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели её слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь — игра фантазии, но он поймал нас и крепко держит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, чем фокусник. Им ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них — ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглёрством, и моё царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинки его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творения своих рук счёл истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни истории, ни традиций, ни религии. Он соблазняет порядком, которого ещё нет. Мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса. Позабывший о том, что наше царство — корабль посреди безбрежного моря, обречён на гибель. Он увидит, как волны сметут все глупые игры вместе с кораблём. Это сравнение пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился на корабле путешествовать.Вот он, мой народ, — пленник корабля, затерянного посреди моря. Молча и не спеша я обошёл корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали чётки и молились. Мой народ жил. Царством ему стал корабль. Но однажды ночью стихия очнулась. В безмолвии моей любви я пошёл посмотреть, что делает мой народ, и увидел: он занят своей жизнью. По-прежнему куются кольца, прядётся шерсть, ведутся тихие разговоры, — люди без устали трудятся, чтобы не оборвались связующие их нити, чтобы преодолеть отъединённость и стать единым целым, где смерть одного — потеря для каждого. С молчаливой любовью я слушал их голоса. Я не слушал, о чём они говорят, о чайниках или болезнях. Я знаю: смысл вещей не в вещах — в устремлённости. И тот, кто от души улыбнулся, подарил сам себя, а тот, кто томится скукой, тоскует от того, что оставлен Господом. Вот какими я видел их в безмолвии моей любви. А тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, не спеша раскачивало нас на своих плечах. Высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль сотрясался, словно разваливаясь на части. Исчезала реальность, и люди замолкали, переставали молиться, кормить детей, чеканить тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома, треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту. Что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп? И я, опасаясь, как бы они не отчаялись, сказал: — Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин. Повара пусть приготовят еду повкуснее. Здоровые позаботятся о больных. А молящиеся за всех помолятся... И когда я увидел у борта побледневшего как смерть человека, который вслушивался сквозь рёв валов в священную песню моря, я сказал ему: — Спустись в трюм и пересчитай павших овец. Случается, что, перепугавшись, они затаптывают друг друга. Он ответил: — Бог сызнова лепит море. Я слышу треск мидель-шпангоутов. У них не должно быть голоса, они для нас основа основ, наш костяк и опора. Не должно быть голоса и у опор в глубинах земли, которой мы доверили свои дома, аллеи олив, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Господнюю траву. Отрадно растить оливы, растить овец, заниматься едой и любовью у себя в доме. Страшно, когда опасными для тебя становятся собственные стены. Когда завершённое вновь пускают в работу. Вот и сейчас молчаливое обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Я слышал их бормотанье, и мне его не забыть. — Какое бормотанье? — спросил я. — Господин мой, раньше я жил в деревне, раскинувшейся на покойной спине холма, крепко стоящей на своей земле под своим небом, собиравшейся долго жить и прожившей долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложе родника благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах. Мы поняли, что земля ожила у нас под ногами и захотела стать другой. Завершённое вновь поступало в работу. И мы испугались. Не за себя — за плоды многолетних усилий. За то, на что положили жизнь. Я — чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью. Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу. Поверь, никто из нас не боялся умереть, но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи, казалось бы, ничего не значащие и ничтожные. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит. В нашей деревне жил один старик, он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились ещё прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сыновей у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму. Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хлябь. Скажи, на что можно тратить себя, если всё вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если всё пришло в движение? Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассыпались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе. Кроме сказочника, — он пел и рассказывал что-то, потому что утратил рассудок. Зачем ты посадил нас на корабль? Корабль пойдёт ко дну, и с ним вместе всё, над чем мы трудились. Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?
VI
Я смотрел на свой народ и думал: никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук, нет наследия, которое неизменным передавало бы одно поколение другому, время теперь течёт бесплодно, словно песок. Я думал: выстроенный нами дом слишком тесен, а дело, которому человек служит, слишком недолговечно. И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые, плыли пирамиды по океану времени, тихонько истираясь в пыль. Вспомнил девственные пески, караван вступил на них и увидел вдруг древний храм — полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, ещё плывущий, но уже обречённый. И вот о чём я подумал: не так уж и долговечен храм, нагруженный драгоценной утварью и позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни, — храм, собравший мёд множества поколений: золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя и старели ремесленники, расшитые пелены, — день за днём отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока, скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя этот царственный шлейф, вечно цветущий луг. Тот, кто видит его сейчас, шепчет: «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна...» А я знаю, что, вышивая, женщины день за днём преображали в вышивку самих себя. И не догадывались, что так совершенны. Нужен ларец, чтобы хранить их наследство. Нужна повозка, чтобы везти его с собой. Я чту то, что долговременней человека. Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить всё, что в них есть. И опять я смотрю на полузатонувшие корабли, медлящие в волнах пустыни. Всё-таки они плывут. И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм — они долговечнее человека. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, гравёры, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников законам архитектуры. Дом — подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом — средство и ничего больше. «Необходимость» — говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. А в доме заняты накопительством. Копят и умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелён, ни золочёной утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали тратить себя, а они постарались, чтобы тратились на них. Ушли и оставили после себя пустоту.С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером, который всех отпустил на свободу, и смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них — о душистом мёде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них — слепого старика калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло, на вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работой, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев, — уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь всё счастливее, всё неуязвимей. Нетленнее. И, приближаясь к смерти, чувствовал не её леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звёзд у себя в руках. Всю свою жизнь они трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки... малая их часть истратилась на полезное, а всё остальное — на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. На то, что ничему не служит, а только вбирает отданную ему жизнь и живёт дольше человеческой плоти. Медленными шагами шёл я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого снедал бесплодный огонь, а значит, и тоска: за поэта, влюблённого в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюблённую в любовь и не умеющую выбрать, она лишена возможности стать собой. И понял: они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей Вселенной. Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышиванье, понуждая её ткать, — он потворствует небытию, а не созиданию. Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша всё обретает в нём форму и вызревает, и я чувствую вместе с запахом дыма и пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть. Подолгу бродил я по лагерю и понял: не добротная пища облагораживает царство — добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородны ремесленники, о которых я говорил, они не пожалели себя, трудясь денно и нощно, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины: пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любуясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество. Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить, — наступает день, и эти племена завладевают мёртвыми сокровищами мёртвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесёт ему зрелости. Время для него — струйка песка, истирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти? Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо, он истратил жизнь и себя на труды, он ушёл в землю, а на земле благоухают плоды его труда — в земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа, — они умирали молча, задыхаясь, они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнущий в зрачках свет. «У Ибрагима умирает ребёнок», — услышал я. Медленно проскользнул я, никем не замеченный, в дом Ибрагима, зная, что безмолвие любви понятно, и через завесу слов никто не обернулся, все вслушивались в шаги смерти. Если в доме говорили, то шёпотом, если ходили, то бесшумно, словно здесь поселился кто-то очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонёк на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребёнка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко, понял по учащённому дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставили чашку с молоком и, затаив дыхание, ждали: вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока и он напьётся. Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью, лизнувшей ладонь. Но он был по-прежнему невозмутим и серьёзен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звёздах, купавшихся в роднике, но он уже так далеко ушёл, что не услышал. Ушёл и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощанье, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шага... о каком-нибудь знаке признательности. Его поворачивали с боку на бок, вытирали потное личико, уговаривали попить воды, пытаясь во что бы то ни стало разбудить от смерти. Я собрался уходить, а они раскидывали всё новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все силки! Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем, но, когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла её, как отстраняют ветку, если она мешает скачке. Я побыл с ними. Мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупиц жизни моего города. Ребёнка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик. И опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы... Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребёнка, который уходит в смерть. Я шёл вдоль узкой улички. Я слышал, как за дверьми бранят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет бранят их. Я слушал голос усердия. А чуть дальше, у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково погладил мягкие волосы и повернул её к себе личиком, но не спросил, какое у неё горе, понимая, что этого она ещё не знает. Горюют всегда об одном — о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях. Когда плачут о потерянном браслете, плачут о времени, заблудившемся неведомо где; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребёнку, лежащему у груди. Не понимая, что плачет о времени, которое будет течь сквозь неё бесплодно, как песок в песочных часах. Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на неё, и она в ответ улыбнулась ещё счастливее, радуясь, верно, тому, что наконец укачала ребёнка, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или своей свободной минутке. Я прохожу мимо знакомого сапожника-калеки. Он старательно расшивает золотом бархатные туфельки, и, хотя у него давным-давно нет голоса, я понимаю, что он поёт. — Чему ты так рад, сапожник? Но не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибётся, сказав о полученных деньгах, скором ужине или отдыхе. Он не знает, что он счастлив, истратив себя самого на раззолочённые туфельки.
VII
И вот что я ещё понял: ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищённого стенами дома, — любой из домов в опасности. Храм, построенный на вершине горы, обдувает северный ветер, унося песчинку за песчинкой, и вот он уже похож на изношенный форштевень[362] и идёт ко дну. Храм в пустыне осаждают пески и мало-помалу возьмут над ним верх. Рано или поздно ты увидишь пустынную гладь, сомкнувшуюся над остатками твоих построек. Всё, что строишь, — в опасности. В опасности и моё царство. Я построил его своей любовью из домов, овец, гор и коз, но если не будет меня, его средоточия и творца, царство исчезнет и останутся опять только горы, дома, козы и овцы. Дробность вместо целостности, материал, ждущий нового ваятеля. И придут племена из пустыни и построят другое царство. Любя всем сердцем другую картину, они придут и по-новому расположат древние буквы в книге. Ведь и я поступил точно так же. Я не устану славить вас, горделивые ночи моих военных походов. Раскинув на бесплодных песках треугольный лагерь, я поднимался на холм, ждал темноты и смотрел на тёмный треугольник внизу, — треугольник чуть больше деревенской площади, где я разместил своих воинов, верблюдов и оружие, — смотрел и думал о его уязвимости. В самом деле, как жалка эта горстка полуголых людей под голубыми шатрами: им грозит ночной холод, уже заморозивший звёзды, грозит жажда, ибо воды в бурдюках должно хватить на девятидневный путь до колодца, грозят песчаные бури, неистовством похожие на бунт, грозят сабельные удары, от которых плоть, как перезрелый гранат, истекает алым соком. И человек уже ни на что не годен. Как жалки эти голубые полотняные шатры, которые не стали прочнее от спрятанной в них стали, которые стоят без защиты на запретной для них земле! Но что мне до уязвимости? Я связал их всех в один узел и спас от рассеяния и погибели. Построив свой треугольник в ожидании ночи, я уже отъединил их от пустыни. Мой лагерь сжат, как кулак. Я видел: так защищался кедр среди бесплодных скал, спасая от гибели зеленеющие ветви. Кедр не спит. День и ночь он ведёт борьбу, оборачивая себе на пользу в глубинах ствола те самые частички враждебного мира, которые могут послужить и его погибели. Кедр растит себя каждую секунду. И каждую секунду я укрепляю свой дом, заботясь о его долговечности. Из дробности, которую развеяло бы одно дуновение, я сложил треугольник, прочностью равный башне и неизменностью форштевню. Опасаясь, как бы мой лагерь не погрузился в сон и не растворился в забытьи, я поставил по его углам дозорных, чтобы они вслушивались в шорохи пустыни. Словно кедр, уплотняющий свою древесину благодаря скале, мой лагерь укрепляется благодаря грозящим ему со всех сторон опасностям. Благословенны ночные молчаливые вестники, их шагов никто не слышит, они внезапно появляются из темноты и, присев у костра, рассказывают, кто идёт к Северу, а кто к Югу, ища своих украденных верблюдов, о ропоте, поднявшемся из-за убийства, и о замыслах тех, кто молчит в своём шатре, обдумывая, какой из ночей напасть. Как внимательно ты слушал этих вестников, говорящих о молчании молчаливых! Благословенны и те и другие, — они неожиданно возникали у нашего костра и приносили такую страшную весть, что мои воины, не медля, засыпали песком огонь и бросались плашмя с ружьём на землю, венчая лагерь короной порохового дыма. Ибо тьма, едва она только сгустится, чревата необычайным. Каждый вечер смотрел я на свой лагерь, окружённый, словно корабль, бескрайним простором, и знал, что заря вернёт мне его невредимым и все в нём, как бойцовые петухи, будут радостно приветствовать рассвет. Воины мои вьючили верблюдов, голоса их в прохладе утра звучали как трубы. Взбодрённые хмельной свежестью новорождённого дня, они дышали полной грудью, радуясь необъятным просторам. Я вёл своих воинов на завоевание оазиса. Не знающий людей убеждён, что благоговение перед оазисом взращено в оазисе. Нет, живущие в нём не задумываются, где живут. Благоговеет перед оазисом иссушенное песками сердце бродяги. И я учил своих воинов любить оазисы. Я говорил: «Вы увидите там душистую траву, журчащие родники, женщин в цветных покрывалах. Они кинутся бежать от вас толпой испуганных ланей, но сладостной будет ваша охота, ибо создали их, чтобы пленять». Я говорил: «Им покажется, будто они ненавидят вас, и, защищаясь, они будут царапаться и кусаться. Но чтобы покорить их, достаточно погрузить мощную пятерню в их иссиня-чёрные волосы». Я говорил: «Чтобы остановить их, ваша сила должна стать силой нежности. Они закроют глаза, не желая видеть вас, но ваше молчаливое терпенье нависнет над ними, как тень орла. И когда они поднимут на вас глаза, их слёзы будут слёзами о вас. Вы станете для них неизмеримостью, и они не смогут вас позабыть». И ещё я сказал, желая возбудить в них нетерпеливое желание завладеть этим раем: «Вы узнаете там, что такое пальмовые рощи и пёстрые птицы... Оазис покорится вам, ибо вы боготворите его, а те, кого вы изгоните, стали его недостойны. Их женщины, стирая бельё в ручейке, журчащем по круглым белым камням, исполняют тяжкую нерадостную повинность, позабыв, что смеющийся ручей — всегда праздник. Вас выдубили пески, иссушило солнце, просолили жгучие солончаки, и, когда вы возьмёте в жёны этих женщин и, подбоченившись, будете смотреть, как они стирают в голубой воде ручья, вы узнаете сладость победы. В бесплодных песках вы научились жить, как кедр, утверждаясь благодаря врагам, которые окружили вас со всех сторон. Завоевав оазис, вы останетесь в живых, если не превратите его в нору, куда забиваются и обо всём забывают. Помните: оазис — это каждодневная победа над пустыней. Вы одержите победу, потому что жители оазиса закоснели в себялюбии и довольстве накопленным. Пески, осаждающие оазис, кажутся им красивой золотой короной. Они издеваются над докучающими им своим беспокойством. Они не хотят сменить дозорных, задремавших у границы благословенной земли, рождающей родники. Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без рабочего пота и творческих мук. Отказавшись тратить себя и получая пищу из чужих рук, изысканную пищу и утончённую, читая чужие стихи и не желая писать свои, они изнашивают оазис, не продлевая ему жизнь, изнашивают песнопения, которые им достались. Они сами привязали себя к кормушке в хлеву и сделались домашней скотиной. Они приготовили себя к рабству». И вот ещё что я сказал: «Вы завоюете оазис, но суть вещей останется прежней. Оазис — тот же лагерь в пустыне, но только в ином обличье. Со всех сторон опасности грозят моему царству. Оно построено из домов, гор, овец и коз; стоит развязать узелок, связавший их воедино, как не останется ничего, кроме груды строительных материалов — подарка грабителям».VIII
Мне показалось, что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости, чту как Его посланца. Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и калечества, чтимых как божество. Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма, она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажными клубами выползало смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезало из вонючих нор и без гнева и обиды, грязно, сипло перекорялось, как будто хлюпала и лопалась пузырями болотная жижа. Я вгляделся в хохочущих до слёз, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокажённых, — они были низки и ничего больше. Они были довольны собственной низостью. «Сжечь!» — решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах гнойной язвы. — Иначе и быть не может, — сказал мне отец. — Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего. А сброд вопил, защищая своё право гнить. Созданный гниением, он за него боролся. — Расплоди тараканов, — сказал отец, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обречённых на гибель. Быть справедливым... — продолжал отец, — но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль? Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего. Ибо и в нём живёт Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни. Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернётся от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благородству? Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение?— Каждый для меня хранитель сокровища, я чту сокровище в каждом, и в этом моя справедливость, — говорил отец. — Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть в каждом путь и повозку. Моё милосердие в том, чтобы каждый сбылся. Но ползущая к морю грязь? Мне горько смотреть на гниющие отбросы. Как исказился в них облик Господа! Я жду, что они однажды поступят по-человечески, но жду напрасно. — Я видел среди них и тех, кто делился хлебом с голодным, нёс мешок увечному, жалел больного ребёнка, — возразил я отцу. — У них всё общее, — ответил отец, — они свалили всё в общую кучу, так им видится милосердие. Так они его понимают. Они научились делиться и хотят заменить милосердие делёжкой добычи, какой заняты и шакалы. Но милосердие — высокое чувство. А они хотят убедить нас, что делёжка и есть благотворение. Нет. Главное знать, кому творишь благо. Здесь низость домогается низостей. Пьяница домогается водки, ему хочется одного — пить. Конечно, можно потворствовать и болезни. Но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекать болезнь... и она меня ненавидит. Своим милосердием они помогают гниению, — добавил отец. — А что делать, если мне по душе здоровье? Если тебе спасут жизнь, — продолжал отец, — не благодари. Не преувеличивай собственной благодарности. Если твой спаситель ждёт её от тебя, он — низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет, Господу, если ты хоть чего-то стоишь. А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твоё маленькое везенье, а дело, которому ты служишь и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой спаситель трудились над одним, так за что же тебе благодарить его? Его вознаградил собственный труд: он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле. У тебя нет гордости, если ты идёшь на поводу низменных чувств твоего спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаёшься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в твоей благодарности. Меня заботит одно: общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Мне в помощь и ты, и камень. Кто благодарен камню, положенному в основу храма? Обитатели трущоб работают только на себя. Отбросы, сползающие к морю, не тратят себя на песнопения, на статуи из мрамора, на самодисциплину во имя грядущих завоеваний. Единственное их занятие — поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри не споткнись тут. Пища необходима, но она куда опаснее голода. Они поделили всё. Даже жизнь они поделили на две части, и обе эти части лишены всякого смысла: сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растёт дерево. Но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растёт и растёт. Запомни: завоеватель, превратившийся в обывателя, погиб... В сотрудничестве — милосердие моего царства. Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путём по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность, я хочу, чтобы починили повозку. А вожатый и у одного, и у другого — один. Я забочусь о том, о чём заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребёнка они занимаются её тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит и они недомогают. Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина — сосуд, сосуд не благодарят. И сама она, и её помощники служат рождению, так о какой благодарности может идти речь?
* * *
К моему отцу пришёл генерал: — Смешно смотреть на тебя! Ты возвеличиваешь царство и служишь ему. Но я тебе помогу, я заставлю всех чтить прежде всего тебя, а во имя тебя и твоё царство!Я видел и доброту моего отца. Он говорил: — Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя отбирать у царя царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ищу наказания, соразмерного виновнику. Князю, если он оступился, я отрубаю голову, но не превращаю его в раба. Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Её товарки издевались над ней: «Куда подевалось твоё величие, постирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в своё удовольствие. Вот она, справедливость!» Ибо справедливостью они считали возмездие. Принцесса-прачка молчала в ответ. Она чувствовала своё унижение, но ещё больше унижение того, что куда значительнее её. Бледная и прямая, склонялась принцесса над корытом. Сама она вряд ли вызвала бы озлобление: она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял: издеваются не над ней — над её падением. Если вызывающий зависть сравняется с нами, мы его с наслаждением разорвём. Я подозвал к себе принцессу. — Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизнь и смерть твоих товарок в твоей власти. Я возвращаю тебе трон. Царствуй. Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о перенесённых обидах. И прачки больше не злобились, потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь её воцарения и кланялись, когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться её платья. Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство тюремщиков. Нет, под трубные звуки золочёных рогов им на круглой площади по моему приказу отрубают голову. — Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец. — И никогда не позволяй слугам судить хозяина.
IX
Отец говорил мне так: — Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, брось им маковое зерно. И ещё говорил мне отец: — Плоды их трудов — вот моя забота. Жатва их ручейками должна стекаться ко мне в житницу. Житница для них — я. И пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотой пыли. Только так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. И тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идёт с мельницы, поседев от мучной пыли. Тяжёлый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что же до зерна, то, конечно же, они получат его и съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душа жива не тем, что получено от зерна, — тем, что было ему отдано. И я повторяю вновь и вновь: племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом. И не вижу над ними золотящегося ореола пылинок, поднимающихся при молотьбе. Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? Благословен нескончаемый обмен отданного и полученного, благодаря ему можно отдавать всё больше и больше. Полученное укрепляет тело, душу питает отданное. Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал, как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы, хоть нет для них ни закромов, ни житниц. А тех, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варварами. Мой отец говорил: — Человек — это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесёт покоя сделанный им запас. Моему отцу возразили: — Ты говоришь о творчестве, что ты имеешь в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Ты, стало быть, обращаешься к немногим. А остальные? Что делать им? Отец ответил: — Творить — значит оступиться в танце. Неудачно ударить резцом по камню. Дело не в движении. Усилие показалось тебе бесплодным? Слепец, отойди на несколько шагов. Посмотри издалека на суетливый город. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят, и мало-помалу возникают дворцы, водоёмы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому как, подумай, можно ли расчленить человека? И если спасать только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще. Кому достанет безумства избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие ваятели поднимаются на чернозёме плохих. Они для них вместо лестницы. Ступенька за ступенькой стремится лестница вверх. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется, танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что остаётся, если пропадает желание? Мёртвая выучка, бессмысленное зрелище. Историку видны ошибки, он рассматривает прошедшее. Но кто станет упрекать кедр за то, что он ещё семечко, росток или растёт не так, как надо? Его дело расти. Ошибка за ошибкой, и поднимется кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами. Я тебе уже говорил, — добавил отец, — неудача одного, успех другого, — не утруждай себя, не дели. Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведёт к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об руку. Нашедший Бога находит Его для всех. Царство моё подобно храму, я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе, и тот, кто искал и не нашёл, тоже. Потому что замысел позолоты рождён всеобщим усердием. В другой раз отец сказал мне: — Не желай государства, где царило бы совершенство. Безупречный вкус — добродетель хранителя в музее. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь чёрной работы и грязной земли рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о государстве, где всё было бы проникнуто усердием.X
Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. Их командиры пришли ко мне и спросили: — Когда мы вернёмся домой? Наши женщины лучше женщин завоёванного оазиса. Один из них сказал мне: — Господин мой, мне снится та, которой принадлежало моё время и с которой я ссорился. Я хотел бы вернуться к себе и сажать деревья. Я перестал видеть смысл вещей, мой господин. Позволь мне самому пуститься в рост в тишине моей деревни. Я чувствую, для меня настала пора подумать, что же такое моя жизнь. И я понял: они нуждаются в тишине. В тишине каждый найдёт свою истину и укоренится в ней. Но для этого необходимо время, как при вскармливании младенца. Материнская любовь поначалу и есть вскармливание. Кто видел, чтобы ребёнок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребёнок вырос. Его неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть. Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге и смотреть на одно и то же дерево, с теми же самыми ветвями? Чтобы мало-помалу дерево открылось им. Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своём дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, саксаула, карликовых пальм. — Вы даже не представляете себе, что такое дерево, — говорил он. — Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лачуге без окон и отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе — вода, а дереву — свет. Корнями оно уходит в землю, а ветвями к звёздам, оно — путь, соединяющий нас с небом. Дерево, о котором я рассказываю, родилось слепым, но и в темноте оно сумело набраться сил и поползло на ощупь от стены к стене, запечатлевая свою боль искривлениями ствола. Наконец оно добралось до окна в потолке, разбило его и потянулось к солнцу, прямое, как колонна. Я видел его победу со стороны и мог только засвидетельствовать её с бесстрастием историка. Какое великолепное несходство — искорёженный усилиями узловатый ствол, запертый в тёмном гробу, и разросшаяся в тишине и спокойствии мощная крона, вскормленная небесным светом, обильно питаемая богами, похожая на обширный стол, за который садится пировать солнце. Каждое утро я видел, как просыпалось это дерево — всё, от ликующих листьев до искривлённых корней. Крона его была переполнена птицами. С зарёй они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитательниц в небо, дерево-дом, дерево-замок, опустевший до вечерней зари... Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они проросли и в нас. И каждый позавидовал сердцу, отягощённому птицами и листвой. — Когда же, — спрашивали меня воины, — кончится наконец война? Нам тоже есть о чём подумать. Мы тоже хотим найти себя... Случалось, что мои воины ловили лисёнка, и он соглашался брать пищу из рук, и его из рук кормили. Случалось, из рук кормили газель, которая снизошла до жизни в неволе. День ото дня моим воинам становилось дороже их сокровище: как радовала их солнечная шкурка, шалости и голод лисёнка, настоятельно требующего от них усердия. Они жили тщетной иллюзией, веря, что зверёк нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь. Но приходил день, и лисёнок, который любил только свою пустыню, убегал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб, потому что ему не захотелось защищаться. Нам принесли весть о его гибели, и мне вспомнились загадочные слова, какими он ответил на утешения товарищей после бегства его лисёнка, — ему советовали поймать другого, а он ответил: «Нужно слишком много терпения не для того, чтобы поймать, для того, чтобы любить его». Они устали от лисят и газелей, когда поняли, что тратиться на них бесполезно, потому что лисёнок любит пустыню, но ни пустыня, ни лисёнок не нуждаются в человеке. — У меня три сына, — говорил мне один из них, — они растут, а я ничему не научил их. Ничего им не передал. Что останется от меня после смерти?* * *
Укрывая всех моей молчаливой любовью, я смотрел, как моя армия истаивает среди песков, подобно потоку, рождённому грозой. У такого потока нет надёжного русла, и он умирает бесплодным, не перевоплотившись дорогой в дерево, траву, хлеб для деревень. Ради блага моего царства мои воины хотели стать оазисом, украсить мой замок новым отдалённым владением, чтобы с законной гордостью говорить: — Сколько прелести придают нашему царству зеленеющие на юге пальмы, наши новые пальмовые рощи и деревня, где режут слоновую кость... Да, мы завоевали оазис, но ни для кого он не сделался домом, и каждый теперь мечтал об одном: вернуться. Исчезло единое царство, оно разделилось, дробность мира затуманила его облик. — Для чего нам нужен чужой оазис? Что он нам прибавит? Чем обогатит? — роптали они. — Для чего он нам в деревне, куда мы вернёмся и где проживём до старости? Он для тех, кто поселится в нём, будет собирать инжир и стирать бельё в торопливом ручье...XI
Они не правы, но я ничего не могу поделать. Угасает вера, и умирает Бог. Он кажется никому не нужным. Истощилось рвение, распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Нет, оно не было обманом. Дорога под оливами и дом, который любят от всего сердца и берегут, — вот моё царство, но если оливы точно такие же, как сотни других, а дом под ними защищает только от дождя, то где оно, моё царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы останутся оливами, а дом домом. Посмотрите на князя, хозяина здешних мест, — одинокий шагает он по дороге, и плащ его влажен от утренней росы. Где богатства его? Что в них толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, — как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбинку и потерял из виду все свои владения. Но, несмотря ни на что, он — князь. Ты встретишь его, он на тебя посмотрит, и это будет взгляд князя. Он спокоен, он уверен в себе, опорой ему всё, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и не утратил. Его владения: пастбища, ячменные поля, пальмовые рощи — прочная опора. Поля отдыхают. Дремлют житницы. Молотильщики не вздымают цепами золотого ореола пылинок. Но всё это живёт в сердце князя. И не кто-нибудь, а хозяин шагает по своей люцерне... Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или достижениям. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду: на прогулке в руке у князя пучок колосьев или сорванное дорогой яблоко. Воин, что ушёл со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть её, обнять, коснуться — её как бы и не существует; в ранний, предрассветный час она и не помнит о нём, шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что её как бы и нет на свете, потому что она крепко спит. Но для мужчины она живёт и бодрствует, и он несёт в себе, словно зерно в житнице, груз нежности, сейчас бесполезной, и которая тоже спит, несёт ароматы, которые не вдыхает, журчанье родника — сердце своего дома, — он не слышит его, но несёт с собой всё своё царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей.Вот твой друг, ты повстречал его, а у него болен ребёнок, и тяжесть его болезни он повсюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячей ручки, не слышит плача, жизнь его течёт привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжкая забота о малыше, который живёт в его сердце. Они похожи: князь, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что они есть, и всегда остаётся властелином; отец больного ребёнка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений. Смысл, которым окрашено происходящее, — вот что значимо для человека.
Бывает и по-другому, я знаю. Кузнец из моей деревни пришёл ко мне и сказал: — Какое мне дело до чужих и далёких? У меня есть сахар и чай, мой осёл сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня всё хорошо, и большего мне не нужно. Что мне до каких-то страданий? Но хорошо ли в доме, одиноко стоящем посреди Вселенной? Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне? Я заставил поправиться кузнеца. — Хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству, если есть о чём потолковать и есть новости о пустыне... Я же видел вас, не забывайте об этом! Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка, слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях: один растёт, а другой болеет; говорили, конечно, и о доме, но без особого воодушевления. Зато как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах: о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чьё имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час, о ненависти к вам или, напротив, участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатёр, любимый и ненавистный, уязвимый и надёжный, становился вам во сто крат дороже. Вас ловила волшебная сеть, и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе... Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово. Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селенье на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр: давал чай, сахар и полотно на одежду. Он не требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость. Кому ещё жилось беззаботнее, и каждый из них мог сказать: — Какое мне дело до чужих и далёких? У меня есть сахар и чай, мой осёл сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня всё хорошо, и большего мне не нужно... Но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец меня учил. — Смотри, — говорил он, — они сделались домашним скотом и потихоньку гниют... не плотью, а сердцем... Ибо мир для них обессмыслился. Даже если ты не поставил на кон состояния, игра в кости для тебя мечта об отарах, земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет. Но они есть у других. Однако приходит день, и ты перестаёшь мечтать при помощи игры в кости. И бросаешь игру. А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить. Истёрлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих, как две капли воды, они всё рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. «Одолжи мне таганок», — просил один. «Где мой сын?» — спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Их кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свободны до беспредельности. Они захлёбывались от своей безграничной свободы, и у богатых от неё пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было врагов. Отец говорил: — Ты можешь прийти к ним один, пройти по всему селенью, хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, попятятся, огрызаясь и желая укусить, но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, скрестишь руки на груди и почувствуешь оскомину от презрения... Он говорил: — На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому, в спину, — воры тоже бывают опасны, — взгляда в глаза они не выдержат. А берберы тем временем занемогли враждой. Не той, что делит людей на два лагеря, — бестолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства. — Толпа, — говорил отец, — ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и расползается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил толпу. Но это ещё не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека. И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиняя ночь трупами. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова: «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось им маковое зерно». Мы заметили, что берберы, пользуясь словами всё реже и реже, отвыкают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчанье и догадывались, что приближается час кормёжки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал: — Я должен разбудить ангела, что задыхается под этим гноищем. Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже...
XII
— Вот одна из великих загадок человеческой души, — сказал отец. — Утратив главное, человек даже не подозревает об утрате. Разве знают об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них? На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что всё вокруг обессмыслилось. На взгляд, всё осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешёвой стекляшкой. Твой ребёнок, он больше не подарок царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается. Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас всё те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти? Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты её любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл всё, что с тобой происходит. Ты не слышишь её тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и, пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце. И вот что ещё загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее... или милее...», и уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радует рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Всё потускнело. Одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе — свободе небытия. Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. «Моё усердие — наваждение идиота!» — восклицает он. И прав. Потому что видит вокруг коз, овец, дома и горы. Царство было творением его влюблённого сердца. Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? Где царство, если никто ему не служит? Влюблённый в чудесную картину хранит её в своём сердце, живёт и питается ею, как младенец материнским молоком, она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять её, влюблённый погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсечённым корнем. Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днём сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает её. Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе. Не вещественность питает, а узел, благодаря которому дробный мир обрёл целостность. Не алмаз, но желание им любоваться. Не песок, а любовь к нему племени, рождённого в пустыне. Не слова в книге, но любовь, поэзия и Господня мудрость, запечатлевшиеся в словах. Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает, если я замкнул вас крепостью моей любви, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слёзы. Я взял звёзды, родник сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени божественной гармонии, которой не обладали по отдельности и которая теперь овевает их.Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки, сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучия, напоминая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюблённого была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды — молитвой, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел: «Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жаждой улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит — зной солнца или зной любви?» Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая кулаками, они закричали моему отцу: «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она — жертва во имя любви!» Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мёртвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чьё могущество окружило бы их, словно море. В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки — забытые, заржавленные, зазубренные, — но клинки для них были вновь обретённой мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти. Берберы умерли людьми.
XIII
Вспомнив о берберах, мы решили лечить моё умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо — поэты оказались бессильными, солдаты над ними потешались. — Лучше бы пели о всамделишном, — говорили они, — о колодце в нашем дворе и как вкусно за ужином пахнет похлёбка. А всякая ерунда нам неинтересна. Так я понял ещё одну истину: утраченное могущество невозвратимо. Моё царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истощив возможность завораживать, они превращаются в пепел и удобряют другие деревья. Я отошёл в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Да, видно, не существует в мире большей или меньшей подлинности. Существует большая или меньшая действенность. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то сливший дробный мир воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь моё царство распадается будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховей иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что песок стал сильнее, — потому, что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варварам. Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалась отжившей и старомодной. «Неужто он и в самом деле влюблён до потери сознания во всю эту чепуху — в коз, овец, дома и пригорки? — интересовались мои солдаты. — Он что, всерьёз обожает речную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови!» Ничего не поделать, и мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побасёнки, а дети смеялись над ними... Мои генералы, дотошные и недалёкие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» — кричали генералы. Но я знал, почему фальшивят сказители: они воспевали бога, который умер. А мои генералы, дотошные и недалёкие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» — спросили они, обижаясь за своё ремесло, как могли бы спросить: «Почему жнецы не хотят жать хлеб?» Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И с безмолвной моей любвью я спросил по-другому: «Почему мои солдаты отказываются умирать?» И моя мудрость стала искать ответа. Нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор. Всё вещественное существует, и ему не нужны жертвы. Умирают ради спасения незримого узла, который объединил всё воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо и смерть укрепляет её. Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, — на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, — тоже согласится на смерть, если дробный мир покажется ему прекрасным замком и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви. Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий — значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монетой. Их лишили возможности умереть во имя любви. Так зачем тогда умирать? А тот, кто всё-таки шёл на смерть, повинуясь долгу, который стал непонятен, умирал в тоске: вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжёлым взглядом, от отвращения став жестоким. И я стал искать в своём сердце слова для нового поучения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял: человека ведёт не логика и не мудрость, мне нужна новая картина, а картины творят художники и ваятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества, и я стал молиться Господу, чтобы он мне открыл новую картину.Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая барханы. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал её. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и так пусты были их громкие безнадёжные голоса. Я сказал Господу: «Нет у них больше крова... Слова истёрлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство. У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом, и теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот, бессмысленным, словно проказа. Как мне собрать их снова?»
Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие — пусть их было немного — воодушевлялись и во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение не противоположность истины, оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце моё кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу: «Открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыла бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинок я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудничества и цветение под солнцем. Неужели у меня недостанет сердца, чтобы приютить их всех?»
И настало время торжества торгашей. Время издевательств над добродетелями. Всё продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощились, потому что умерло царство. — Господи! — просил я. — Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Вот тогда у них появятся добродетели.
XIV
В безмолвии моей любви я казнил многих. И каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным. Но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет ещё и этот. И тогда Божьей мудростью мне было дано поучение о власти. Внятность языка правит лучше, чем принуждение. Принуждение помогает обучить языку, который ничем не обусловлен извне, который не истинней и не лживей других, но просто говорит об ином. Однако если благодаря принуждению люди выучили язык, а он разобщил их, то никаким насилием ты не заставишь их жить вместе. Много насилия в моём произволе. Многое я спрямляю. Я принуждаю человека стать иным — более раскованным, просветлённым, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях. Когда он становится таким, ему не нравится та личинка, какой он был. Он удивляется свету в себе и, обрадованный, становится моим союзником и защитником моей суровости. Оправдание моей суровости — в действенности. Она — ворота, и удары бича понуждают стадо пройти через них, чтобы избавиться от кокона и преобразиться. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращёнными. Но что толку в суровости, если, пройдя через ворота и потеряв былого себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он — жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечившую его суровость? Нет, он с тоской повернётся к берегу, который покинул. Как горестно бесполезна тогда алая кровь, переполнившая реку! И казни мои — знак того, что я не могу обратить казнимых в свою веру, знак, что я заблудился. И вот с какой молитвой обратился я к Господу: — Господи! Плащ мой короток, я — дурной пастух, и народ мой остался без крова. Я насыщаю одних, но другие обижены мною... Господи! Я знаю, что любая любовь — благо. Любовь к свободе и любовь к порядку. Любовь к достатку в семье и любовь к нищете и жертвенности. Любовь к науке, которая хочет всё рассмотреть, и любовь к вере, которая укрепляет слепотой. Любовь к иерархии, которая учит обожествлять, и любовь к равенству, которое учит делить всё на всех. К досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга. К духовности, бичующей плоть и возвышающей душу, и к жалости, пеленающей израненную плоть. Любовь к созидаемому будущему и любовь к прошлому, нуждающемуся в спасении. Любовь к войне, сеющей семена, и любовь к миру, собирающему жатву. Я знаю: противостоят друг другу только слова, а человек, поднимаясь ступенька за ступенькой вверх, видит всякий раз новую картину, и нет для него никаких противоречий. Господи! Я хочу преисполнить моих воинов благородством, а храм, на который люди тратят себя и который для них смысл их жизни, переполнить красотой. Но сегодня вечером, когда я шёл с пустыней моей любви, я увидел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул её к себе и посмотрел в глаза. Горе её ослепило меня. Если, Господи, я пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и творение моё не будет завершено. Я не отворачиваюсь от великих целей, но не хочу, чтобы плакала и малышка. Только тогда мир будет в порядке. Маленькая девочка — тоже крупица Вселенной.XV
Трудное дело война, если она не неизбежность и не страсть. Мои генералы, дотошные и недалёкие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не воодушевлял их, они были только трудолюбивы и добросовестны. И конечно, их ожидало поражение. Я собрал их и стал учить: — Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам ещё и ещё раз: башня, город и царство подобны дереву. Они — живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное — правильный расчёт. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город, он хранит его в своём сердце, как дерево — семечко. Вычисления, расчёты — оболочка его желания. Контур. Не объяснишь дерева, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившие его своей силой. Не объяснишь города, сказав: «Своды будут стоять потому, что... вот расчёты строителей». Если город должен родиться, всегда найдутся расчётчики, которые правильно сделают расчёт. Но они только помощники. Если считать их главными и верить, что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. Они знают, как строятся города, но не знают почему. Отправь неграмотного вождя вместе с его племенем покорять скудный и каменистый край, а потом навести — новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь город с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть нашёл столько расчётчиков, сколько нужно. Вы ничего не хотите, вы проиграете вашу войну, — сказал я моим генералам. — В вас нет одержимости. Вы утонули в разноголосице разумных решений. Посмотрите: увлекаемый собственной тяжестью, камень катится вниз по склону. Остановится он, только достигнув дна. Все пылинки и все песчинки, благодаря которым он обрёл свою тяжесть, стремятся вниз и только вниз. Посмотрите на воду в копани[363]. Напирая на земляные стенки, вода ждёт благоприятной случайности. Потому что случайность неизбежно возникнет. Не уставая, днём и ночью давит и давит на стенки вода. Она кажется спящей, но она живёт. И стоит возникнуть узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в неё, обогнула, если получилось, препятствие и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода. И неведомыми путями, какие не вычислит ни один вычислитель, утечёт просто потому, что весома, и вы останетесь без воды. Ваша армия — вода, не перегороженная плотиной. А сами вы — тесто без закваски. Земля без семени. Толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы — несведущие свидетели. А тёмные силы, что напирают, да, напирают на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений, — захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши ещё более бестолковые историки объяснят вам причины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благодаря лучшей выучке, расчёту и военной науке. Но говорю вам: нет выучки, расчёта и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей. Я занимаюсь будущим, как ваятель: он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая своё творение. Отлетает осколок за осколком, за которыми пряталось лицо бога. Кто-то скажет: «В мраморе уже был этот бог. Ваятель нашёл его. Нашёл, умея работать резцом». А я говорю вам: ваятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем. Не капли пота, не блеск мелькающего резца заставили улыбнуться мрамор. Улыбаться умел ваятель. Освободи человека, и ему захочется творить.XVI
Собрались мои генералы, дотошные и недалёкие. «Нужно разобраться, — сказали они, — почему у нас люди враждуют и ненавидят друг друга?» И генералы устроили судилище. Они выслушивали одних, выслушивали других, вникали в притязания тяжущихся и восстанавливали справедливость, возвращая положенное по закону одним и лишая других незаконного обладания. Но вот причиной раздора стала ревность. Генералы пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. И ничего не могли понять, так безнадёжно запутывалось дело. Один и тот же поступок выглядел благородным в глазах одного и низким в глазах другого, великодушным и одновременно жестоким. Генералы засиживались до глубокой ночи, и чем меньше спали, тем больше тупели. Наконец они явились ко мне. «Всё это безобразие, — сказали они, — заслушивает одного — потопа!» А я вспомнил слова моего отца: «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зёрен, поменяй амбар. Если люди ненавидят друг друга, не вникай в дурацкие причины, какие они нашли для ненависти. У них найдутся другие и для любви, и для безразличия, но они о них позабыли. Я не обращаю внимания на слова, я знаю: они — вывеска, и прочесть её трудно. Не умеют же камни передать тишину и прохладу храма; вода и минеральные соли — тень и листву дерева, так зачем мне знать, из чего выросла их ненависть? Она выросла, словно храм, и сложили её из тех же камней, из каких можно было сложить любовь». Они отягощали свою ненависть всяческими причинами, а я смотрел и не помышлял лечить их тщетным лекарством справедливости. Поиск справедливости только укрепил бы весомость причин, подтвердив правоту одних и вину других. Он укрепил бы озлобление наказанных и самодовольство оправданных. И вырыл бы между ними пропасть. Мой отец был мудр, и вот какую историю я вспомнил. В давние времена отец завоевал новые земли и, не вполне доверяя жителям, оставил в помощь губернатору ещё и генерала. Побывав в новых провинциях, путешественники поспешили к моему отцу. — В такой-то области, — сказали они, — генерал оскорбил губернатора. Они больше не разговаривают. Приехал путешественник из другой провинции: — Государь, губернатор возненавидел генерала. Приехали из третьей: — Государь, тебя умоляют разобрать великую тяжбу — судятся генерал с губернатором. Поначалу отец выслушивал причины ссор. И причины всегда были. Одного обидели, и он решил отомстить. Другого постыдно предали. Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления. И разумеется, всегда были правые и виноватые. Но пересуды и россказни утомили моего отца. — У меня есть дела поважнее, — сказал он, — мне недосуг разбирать их дурацкие ссоры. Они вспыхивают во всех концах страны, всякий раз новые и всегда одинаковые. Каким чудом я ухитрился набрать столько генералов и губернаторов, которые не могут ужиться друг с другом? Когда у тебя падает скот, не копайся в падали, отыскивая причину зла, — сожги хлев. Отец позвал к себе гонца: — Я не определил права генерала и права губернатора. Они не знают, кто из них возглавляет торжества. Они ревнуют друг друга. Плечом к плечу идут к столу, но во главе садится либо тот, кто толще, либо тот, кто умнее, а второй его ненавидит. И клянётся быть в следующий раз проворнее, поторопиться и усесться первым. Конечно, потом они будут сманивать друг у друга жён, красть овец и браниться. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Но я не вслушиваюсь в бестолковый шум. Если хочешь, чтобы они любили друг друга, не бросай им зёрна власти, которое пришлось бы делить. Пусть один служит другому, а другой — царству. Тогда они будут помогать друг другу и строить вместе. Отец жестоко наказал губернаторов и генералов за гвалт бессмысленных ссор. — Царству нет дела до ваших распрей! — сказал им отец. — Я приказываю генералу подчиняться губернатору. С губернатора взыщу за неумение приказывать, с генерала — за неумение повиноваться. И обоим советую замолчать. Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жён простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчинённого, и жизнь у него стала намного приятнее. А начальника радовала власть, и своей властью он возвышал подчинённого: пропускал его вперёд и сажал во главе стола на торжествах. — Дело не в чьей-то глупости, — говорил отец. — Дело в словах, которые передают пустяки, не достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проницателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях? Вот я и не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть в проступки людей, отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчаливой любовью обошёл мой лагерь и ещё раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу: — Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство не строится больше оттого, что они принялись враждовать. Научи меня, Господи, какой должна быть башня, чтобы они, несмотря на все свои несогласия, захотели потратить себя на неё. Башня, которая нуждалась бы в каждом из них и каждого бы насытила, понудив достигнуть предела своих возможностей и обогатив ощущением величия. Я — дурной пастух, у меня короткий плащ, и я не умею сплотить их так, чтобы все они укрылись его полой. Они ненавидят друг друга, оттого что замёрзли. Ненависть — всегда неудовлетворённость. У всякой ненависти есть глубинный смысл, но она его прячет. Былинки, враждуя между собой, иссушают друг друга. Дерево, растя каждую из ветвей, становится мощнее. Дай мне, Господи, край Твоего плаща, чтобы укрыть им воина и землепашца, учёного мужа и просто мужа, и жену, и плачущего младенца — всех, всех до единого.Речь зашла и о добродетели. Мои генералы, дотошные и недалёкие, пришли ко мне поговорить о ней. — Все наши беды, — сказали они, — от того, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказания. Нужно рубить головы тем, кто провинился. А я? Я размышлял: — Может, и впрямь пора рубить головы. Но добродетель всегда только следствие. Испорченность моего народа говорит о порче царства, которое требует для себя людей под стать. Здоровое царство питает в людях благородство. И я вспомнил, что говорил мне отец: — Добродетель — не беспорочность, она — поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собрал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собственной силы. Я одарил их упоением, не похожим на жалкий запой краж, взломов и насилия. Их жилистые руки созидают. Их гордыня становится башнями, храмом, крепостной стеной. Жестокость — величием и суровой дисциплиной. Посмотри, они стали слугами города, рождённого их руками. Города, в который вложили душу. Спасая свой город, они умрут у его стен. Посмотри, они — воплощённая добродетель. — Воротить нос от навоза — этой мощи земли — из-за червей и вони — значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты изничтожишь и людскую силу. Во главе царства поставишь кастратов. Кастраты уничтожат пороки, которые свидетельствуют о силе — силе без доброго применения. Кастраты уничтожат силу и вместе с ней жизнь. Став хранителями музея, они будут блюсти мёртвое царство. — Кедр, — говорил отец, — питается брением[364], но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце. — Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очистившаяся до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти своё царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его. А я добавлю: — Стоит закончить строительство, город умрёт. Люди живут отдавая, а не получая. Деля накопленное, люди превращаются в волков. Усмирив их жестокостью, ты получишь скотину в хлеве. Но разве возможно закончить строительство? Утверждая, что завершил своё творение, я сообщаю только одно: во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным — значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость...
Поэтому я не уверен, что мне помогут отрубленные головы. Конечно, дурную голову лучше отсечь, чтобы не портила остальные, — гнилое яблоко выбрасывают из подпола и больную корову выводят из хлева. Но лучше поменять подпол и хлев, они в первую очередь в ответе за гниение и болезни. И зачем карать, если можно обратить в свою веру? И я помолился Господу: — Господи! Дай мне край Твоего плаща, чтобы я укрыл всех, кого тяготят несбыточные желания. Я устал карать в страхе за своё царство тех, кому не сумел дать приют. Я знаю, они — соблазн для других и угроза моей несовершенной истине. Но я знаю, истина есть и у них, и знаю, они тоже полны благородства.
XVII
Ветер слов — тщета, я всегда презирал его. Я не верю в пользу словесных ухищрений. И когда мои генералы, дотошные и недалёкие, говорят мне: «Народ возмущён, но вот какой фокус мы предлагаем...» — я гоню их прочь. На словах можно фокусничать как угодно, но что создашь с помощью фокусов? Что ты делаешь, то и получаешь. То, над чем трудишься, ничуть не больше. И если, добиваясь одного, твердишь, что стремишься к другому, прямо противоположному, то только дурак сочтёт тебя ловкачом. Осуществится то, к чему ты стремился делом. Над чем работаешь, то и создаёшь. Даже если работаешь ради уничтожения чего-то. Объявив войну, я создаю врагов. Выковываю их и ожесточаю. И напрасно я стану уверять, что сегодняшнее насилие создаст завтра свободу, — я внедряю только насилие. С жизнью не слукавишь. Не обманешь дерево, оно потянется туда, куда его направят. Прочее — ветер слов. И если мне кажется, что я жертвую вот этим поколением во имя счастья последующих, я просто-напросто жертвую людьми. Не этими и не теми, а всеми разом. Всех людей я обрекаю на злосчастье. Прочее — ветер слов. И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну. С помощью войны не установить мира. Довериться миру, который держится на оружии, и разоружиться — значит погибнуть. Я могу установить мир только с помощью мира. Иными словами, готовностью принимать и вбирать, желанием, чтобы каждый человек обрёл в моём царстве воплощение своей мечты. Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах Вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветёт на свободе, другой — что человек возвеличится благодаря принуждению, но оба они мечтают о величии человека. Этот верит во всеобъединяющее милосердие, тот презирает его, видя в нём потакание зловонным язвам, и понуждает людей строить башню, чтобы они почувствовали необходимость друг в друге, но оба они пекутся о любви. Один верит, что важнее всего благоденствие: избавленный от забот и тягот человек будет развивать ум, думать о душе и сердце.Другой не верит, что совершенство души зависит от пищи и досуга, считая, что душа возрастает, неустанно даря себя. Он считает прекрасным лишь тот храм, который стоит многих усилий и возводится из бескорыстного угождения Господу. Но оба они хотят облагородить сердце, душу и ум. И все по-своему правы: кого облагородят рабство, жестокость и отупение от тяжких трудов? Но не облагородят и распущенность, расхлябанность, потакание гниющим язвам и мелочная суета, рождённая желанием хоть как-то занять себя. Но смотри, люди уже взяли в руки оружие, чтобы защитить общую для всех любовь, которую эфемерные слова сделали такой различной. Идёт война, идёт поиск, борьба, и пусть беспорядочно, но люди всё-таки движутся в направлении, которое так властно управляет ими, они похожи на дерево, о котором пел мой поэт: слепое, оно оплетало стены своей темницы, пока не вышибло наконец чердачное окно и, прямое и торжествующее, не потянулось к солнцу. Я не навязываю мира. Принудить к миру — значит создать себе врагов и растить недовольство. Действенно лишь умение обратить в свою веру, а обратить означает и приютить. Протянуть каждому удобную одежду по росту, укрыть всех одним плащом. Обилие противоречий говорит лишь об отсутствии гениальности. И я повторяю мою молитву: — Просвети меня, Господи! Дай возвыситься мудростью и примирить всех, никого не принуждая отказаться от рождённых усердием желаний. Примирить, подарив новую мечту, которая покажется им старинной, знакомой. Вот и на корабле, разве не так, Господи?! Те, кто натягивает паруса у левого борта, спорят с теми, кто натягивает их у правого. Они ненавидят друг друга, потому что не умеют понять. Но если научить их видеть целое, они станут помогать друг другу и служить ветру. Медленно растёт древо мира. Словно кедру, нужно ему вобрать и переработать множество песчинок, чтобы создать из них единство... Хотеть мира — значит строить хлев, где могло бы уснуть всё стадо. Строить дворец, где хватило бы места всем и не надо было бы оставлять свою кладь у двери. Не надо ничего отрезать и калечить ради того, чтобы войти и разместиться. Печься о мире — значит просить у Господа плащ пастуха, чтобы укрыть каждого, как бы далеко ни простирались его желания. Хватает же у матери любви на всех её сыновей, и на застенчивого и робкого, и на жадного к жизни, и на тщедушного никчёмного горбуна. Что ей до непохожести? Каждый трогает её сердце. И каждый, по-своему её любя, служит её славе. Но как медленно растёт древо мира. И света ему нужно куда больше, чем есть у меня. Мне ещё ничего не ясно. Я выбираю и потом отказываюсь. Легко было бы жить мирно, если бы все люди были одинаковы.Нет, ничему не помогут уловки моих генералов, а они, дотошные и недалёкие, пришли ко мне и принялись рассуждать. Мне опять вспомнился мой отец. «Искусство рассуждать — это искусство обманывать самого себя», — говаривал он. А генералы рассуждали: «Нежелание воинов служить царству означает, что они одрябли. Мы будем посылать их в засады, они закалятся, и царство будет спасено». Так мог бы рассуждать профессор, выводя из одного умозаключения другое. Но жизнь — она просто есть. Как есть дерево. И росток вовсе не средство, которое отыскало семечко, чтобы превратиться в ветку. Семя, росток и ветка — это совместность возрастания. Я поправил моих генералов: «Воины одрябли, потому что царство перестало снабжать их жизненной силой, и они его разлюбили. Когда кедр истощает жизненную силу, он перестаёт превращать песок в древесину и сам потихоньку превращается в песок. Нашим воинам нужна вера, тогда они воодушевятся». Но генералы не поняли меня, они сочли мои слова преступным попустительством. Я не стал им возражать. И они довели свою игру до конца, послав людей умирать за сухой колодец, где по случайности расположился враг. Нет слов, схватка из-за колодца была прекрасна. Она была танцем вокруг вожделенного цветка, и отвоёванная земля становилась наградой победителю, вместе с давно забытым желанием побеждать. Испугавшись нас, враг взметнулся беспорядочной стаей воронья, ища себе места то здесь, то там, где он был бы в безопасности. Песок барханов, что прятали его где-то там, впереди, пропах порохом. Каждый, играя жизнью и смертью, чувствовал себя мужчиной. Каждый, то приближаясь, то удаляясь от колодца, участвовал в танце. Но будь в колодце вода, игра была бы другой. Лишённый воды и смысла, колодец был игральной костью, на которую не поставили состояния. Но генералы видели, как, играя в кости, один игрок смошенничал, а другой застрелился, и поверили во всемогущество игральных костей. Они поставили на кон сухой колодец. Но кто станет стреляться, даже если партнёр смошенничал, когда на кону пусто? Мои генералы никогда хорошенько не понимали, что значит для жизни любовь. Они видели, как радуется заре влюблённый, потому что вместе с солнцем в нём проснулось счастье. Видели, как радуются заре воины, потому что солнце приближает их победу. Победу, которая поутру потягивается в них и заставляет смеяться. И генералы поверили во всемогущество зари. Но я говорю: если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело. Если не верить, что осуществится твоя мечта, скучно играть в кости. Скучной будет заря, вернувшая тебя к собственной опустошённости. И со скукой в душе ты отправишься воевать ради бестолкового колодца. Но когда ты влюблён, ради своей любви ты готов на самый изнурительный труд, и чем он изнурительней, тем больше твоё воодушевление. Ты тратишь себя, ты растёшь. Но нужен тот, кто примет отданное. Дарить себя и тратиться попусту — разные вещи. Мои генералы, видя радость, с какой отдают себя влюблённые, не догадались, что есть тот, кому они себя отдают. Им не пришло в голову, что для воодушевления мало обобрать и ограбить человека. Я увидел, с какой горечью умирал наш раненый. Он сказал мне: — Государь, я умираю... Я отдал свою жизнь. А мне ничего не дали. Я уложил врага пулей в живот, и, пока мне за него не отомстили, я смотрел на убитого. Мне показалось, что он был счастлив, потому что отныне нераздельно принадлежал тому, во что верил и чему служил. Смерть стала его богатством. А я, я умираю, служа капралу, моя смерть ничего ему не прибавит, а умирая зазря, трудно чувствовать себя счастливым. Я умираю достойно, но меня тошнит... Остальные? Они разбежались.
XVIII
В тот же вечер, поднявшись на чёрную скалу, я смотрел на чёрные точки в треугольнике моего лагеря. Да, он был по-прежнему треугольным, в нём по-прежнему стояли дозорные, и было много пуль, пороха и ружей, но, несмотря на это, он готов был рассыпаться и исчезнуть, как сухое мёртвое дерево. Я простил моих воинов. Я понял: гусеница, приготовив кокон, умирает. Дожив до семян, засыхает цветок. Кто бы ни перерождался, он мучается тоской и отчаянием. Ведь нежданно он сделался ненужным. Кто бы ни перерождался, он — тоска о былом и могила. Мой лагерь приготовился к перерождению. Он износил былое царство, которое никто не сумел бы омолодить. Нельзя вылечить гусеницу, цветок, ребёнка. Ребёнок переродился, но, желая быть по-прежнему счастливым, требует, чтобы его вернули в детство, вернули занимательность наскучившим играм, сладость — материнским поцелуям, вкус — молоку. Но игры скучны, материнские поцелуи досаждают, молоко отвратительно, и подросток тоскует и мучается. Износив былое царство, люди, сами того не подозревая, требуют нового. Ребёнок, став мужчиной, вырос из материнских объятий и будет страдать от неприкаянности до тех пор, пока не найдёт себе жену. Только жена вновь примирит его с самим собой и даст покой. Но кто в силах показать людям новое царство? Кто из дробности мира может мощью своего гения создать новую картину и заставить людей всмотреться в неё? Всмотреться и полюбить? Нет, не логик, а художник, ваятель. Ваятелю не нужны словесные ухищрения, он наделяет камень силой будить любовь.XIX
Я позвал к себе зодчих и сказал: — Вы в ответе за будущий город, — не за душу — за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен быть удобным, чтобы силы в нём не тратились понапрасну. Но имейте в виду и никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб — насущен, человек должен быть накормлен: голодный — недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Меня не заботит, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен. Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен. Лавочнику, распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаю номада[365], он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и дал его номаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча. Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал — сержанта, начальник — подчинённого только потому, что они богаты. Живущие за каменной стеной не кажутся мне хуже тех, кто построил для себя земляной вал. Я не разрушаю иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься всё выше и выше. Но никогда не спутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. Необходимо, чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься всё выше. Однако жизнь — только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, душа и есть самое главное. Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, но значим только дворец, а кухня его обслуживает. Вот я созвал вас и спросил: — Зодчие! Что главное в вашей работе? Вы стояли передо мной и молчали. Наконец вы ответили: — Мы служим людям. Даём им кров. Так служат скоту, строя ему хлев, привязывая в стойле. Да, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор, хотя ни звёзды, ни море никак ему не служат. Но что это значит — служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъёма, торопясь встретить рассвет на вершине и утолить свою жажду голубой глубиной долины, как утоляют её водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. В сердце у них билась радость, они нашли лекарство против усталости от жизни. Я видел, как стрёмили люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая сгустившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь моря с собой не унесёшь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может, с отвращением и тоской, как на решётки тюрьмы, смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, — на пелену обыденности, которая может быть любимой картиной, таящей сокровенную суть мира, а порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не даёт вздохнуть. Они запасались простором и приносили в дом покой и счастье, которым надышались. Дом становился другим от того, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Всё тянется к большему, чем оно само. Всё хочет стать дорогой в неведомый мир, окном в него. Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звёзд и в вашей власти выстроить для них Млечный Путь с небывалыми пролётами и арками, потратив на строительство целое состояние, неужели вы сочтёте, что выбросили деньги на ветер? Ещё и ещё раз повторяю вам: если вы построили храм — бесполезный, потому что он не служит для стряпни, отдыха, заседаний именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость, если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств и справедливость без обездоленности, если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть — тихой пристанью среди безбурных вод, — неужели вы сочтёте, что усилия ваши пропали даром? Если ты в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто, не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от солёной ласки моря превратился в кровоточащую рану, привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ратоборство, где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут ты сочтёшь свои труды бесполезными? А как сладостна для усталых тихая вода залива после мятущейся гривы морских бурунов... Вот чем ваш талант может одарить человека. Сложив камни по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани. Ваш храм своей тишиной зовёт их погрузиться в себя. И они открывают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки. И они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие. Никогда не узнать им, как они пространственны. Я знаю, вы скажете: толстяк лавочник и так всем доволен, ему ничего больше не нужно. Когда у человека мало сердца, удовольствовать его не трудно. Глупый язык именует ваши творения бесполезными. Но сами люди опровергают словесное суждение. Вы же видите, со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строительства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая своё существование, но они ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствие они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их соблазняет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора, вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который один и может увезти куда-то. Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами. Потому что этот корабль увозит от небытия. Но храмы не берут больше странников, не ведут их и не перерождают, как куколка из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей, у них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получат вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истёртым до блеска каменным плитам и, заблудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал, из нефа[366] в неф, они ищут вожатого; что, озябнув сердцем, собрались здесь, взывая о помощи, которой неоткуда ждать, что жаждут перерождения, в котором им отказано. Они погребены сами в себе, потому что храмы мертвы и засыпаны песком, потому что здесь лишь корабли, получившие пробоину и потерявшие драгоценный груз полумрака и тишины; голубая вода неба хлещет в обвалившиеся купола, и тихо шуршит песок, всыпаясь сквозь трещины стен. А голод, которым голодны люди, не утолён... Так вот что вы будете строить, говорю я вам. Да, человеку нужны непроходимые леса, Млечный Путь и равнина в голубой дымке, на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность Млечного Пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретёте величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придётся вырасти. Вы превзойдёте самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы. Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, если эти камни станут ступенями, ведущими к престолу Господа.XX
Я устал от рассуждений моих генералов, дотошных и недалёких. А они обсуждали будущее, как обсуждают закон в парламенте. И полагали, что очень предусмотрительны. Лучше всего мои генералы знали историю, даты моих побед, даты моих поражений. Даты рождений и смертей они знали наизусть. Они не сомневались, что события вытекают одно из другого. История человечества представлялась им длинной цепочкой причин и следствий, начиналась она с первой строки исторического учебника и продолжалась до той главы, где до сведения грядущих поколений доводилось, что пройденный путь благополучно привёл к рождению целого созвездия генералов. Теперь генералы от следствия к следствию усердно выстраивали будущее и со своими тяжеловесными конструкциями шли ко мне. «Вот так ты должен поступать, чтобы народ был счастлив... так, чтобы установить мир... так, чтобы царство процветало. Всё у нас по науке, мы изучили историю». Но я-то знаю, что наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко кедра, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадёт. Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И не важно, что камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмётся предсказать судьбу этого кедра? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет себе подобий. Этот кедр существует впервые, он растёт по-своему, он — таков, каких ещё не бывало. И я не знаю, каким он вырастет. Не знаю я, и куда движется мой народ. Да, причины того, что произошло, генералы отыскали с помощью логики. «Ибо всё имеет свои причины, — объяснили они мне, — и всё — свои последствия». Двигаясь от причин к последствиям, они велеречиво вышли на ложный путь. Потому что случившемуся можно отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно. После схватки с врагом я могу прочитать на твёрдом, мелком песке всё, что с ним было. Потому что и мне известно, что одному шагу непременно предшествовал другой, что цепочка вытягивается звено за звеном, не потеряв ни единого. Если только не было ветра, что пренебрежительно смахнул все письмена, словно вытер ребячью грифельную доску. А без ветра след за следом я доберусь до истока пути и вновь возвращусь к ложбине, где остановился наш враг, сочтя себя в безопасности, и где мы застигли его врасплох. Я прочитал его историю, но у меня нет и намёка на то, что случится с ним в будущем. То, что ведёт караван, не имеет ничего общего с песком, которым располагаю я. Следы начертили мне контур, но он пуст, он ничего не знает о ненависти, страхе и любви, которые правят людьми. — Ну что ж, — сказали мне генералы, увязшие в своей безнадёжной тупости, — нам всё ясно. Мы узнаем, что управляет ими: ненависть, любовь или страх, и поймём, чего ждать в будущем. Будущее укоренено в настоящем... Я ответил им: да, мы можем предвидеть следующий шаг каравана. Он должен повторить предыдущий и быть точно таким же, как он. Повторяемость — вот основа нашей науки. Но караван в ту же секунду свернёт с пути, предначертанного моей логикой, потому что ему захотелось чего-то совсем иного... Генералы не поняли меня, и я рассказал им историю о великом бегстве. Случилось это на соляных копях. Песок и голые камни не слишком пригодны для жизни, но люди кое-как приспособились. В небе палило белое солнце, а в глубине узких штолен сверкала не вода, а глыбы соли. Соль убила бы любую воду, если б колодцы не высохли сами. Солнце и каменная соль ждали людей, которые приходили сюда с водой в бурдюках и кирками, чтобы крошить прозрачные глыбы, которые были для них и жизнью, и смертью. А поработав, они возвращались на благодатную, щедрую водой землю, привязанные к ней, словно дети к матери. Жестоким и жгучим, как голод, было здешнее солнце. Вокруг соляных копей гладь песка пропороли чёрные скалы, твёрдостью превосходящие алмаз, и ветер с тщетной злобой вгрызался в них. Веками ничего не менялось в незыблемом порядке пустыни, и скалам этим было предназначено стоять ещё много-много веков. Веками будет стачивать гору тончайшее лезвие ветра, веками будут добывать соль люди, а верблюды подвозить припасы и воду и отвозить домой этих каторжных... Но однажды на заре люди взглянули на гору, и явлено им было то, чего они никогда не видали. Волей ветра, точившего скалу вот уже много веков подряд, на ней показался гигантский лик, и был он гневен. На пустыню, на копи, горстку людей, прижившихся на окаменевшей соли, куда более жестокой, чем солёная гладь океана, смотрел из пропасти ясного неба чёрный разгневанный лик, и рот его приготовился изрыгать проклятия. Ужас обуял людей, и в панике они обратились в бегство. Весть достигла работавших в глубине копей, они выбрались наверх, взглянули на гору и со смятенным сердцем заторопились к палаткам, наскоро собрали пожитки, браня жён, детей и рабов, двинулись на север, палимые жестоким солнцем. У них не было воды. Они все погибли. Бессмыслицей оказались предсказания логиков, которые видели, как медленно выветривается гора, как жадно люди цепляются за жизнь. Откуда было знать логикам, что нежданно возникнет?Когда я обращаю взгляд к истокам, я вижу вместо храма кучу кирпичей и камня. Мне не трудно их увидеть. Как не трудно расчленить труп и увидеть кости и мускулы, расчленить дом и получить кучу щебня, расчленить царство и получить горы, дома, коз и овец... Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы. Это новое исчезает и рассеивается, стоит только попробовать его расчленить. Если сложить камни, родится новое — тишина, но она исчезнет, если их разобрать. Лицо возникает как новое для мрамора и исчезает, если мрамор разобьётся. Для губ, носа и глаз лицо тоже что-то новое и исчезает, если смотреть только на губы или нос. Что-то новое и царство для домов, гор, овец и коз... Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут дробные черты моего времени и то, чего я хочу, осуществится. Но я скажу неправду, утверждая, что сумел предугадать будущее. Я сумел его сотворить. Дробные черты окружающего я превратил в картину, заставил полюбить её, и она стала управлять людьми. Так управляет подданными царство, требуя иной раз заплатить за своё существование жизнью. Вот я постиг и ещё одну истину: попечение о будущем — тщета и самообман. Проявлять уже присутствующее — вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить — значит из дробности создать целостность, которая преодолеет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать тишину. Остальные притязания — ветер слов...
XXI
Все мы знаем: в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощрённы были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не стронулись с места. «Да, конечно, ты прав, — услышал я в ответ, — но всё-таки мы думаем по-другому». — «Тупицы!» — можно сказать о них. «Нет, мудрецы!» — не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах. А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир, что человеческое слово исчерпывает Вселенную, что слово вмещает в себя и звёзды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину... Но я знаю, человек стоит перед огромной горой и горсть за горстью делает её своим достоянием. Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту возможно её построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена — это плотина? Поймёшь, что она — кора кедра, укрывающая живую плоть города? Откуда узнаешь, что она — ограда для усердия, что она — помощь и что ограждённые незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена — расчёты, кирпич и цемент. Так оно и есть, стена — расчёты, кирпич и цемент. Но она и мидель-шпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная вовсе на означает ограниченная, скудная. Она — цветок, она — окно, раскрытое, чтобы понять весну. Она — весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна. Может, и не важна та любовь, с какой жена ждёт возвращения мужа. Не важен и прощальный взмах руки. Но этот взмах — примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе — светит маленький фонарик на корабле, — но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить её важность, смысл и значение. Стены — кора, кокон. Город — личинка, город — дерево. Светящееся окно — цветок на его ветке. И, возможно, за этим окном бледный малыш пьёт молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые города и обнесёт их крепостными стенами. Он — семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко — откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил: не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его. Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен: его расчёты — основа и суть любой стены, подкрепи их кирпичом и цементом, и встанет стена — укрепление города. Но смысл стены несводим к чертежу и расчёту, и если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя и год за годом вы будете учиться постигать её, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, которое исчерпало бы её смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками. Только знак — расчёты строителей. И кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, — тоже только знак. Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем. Но разве словом справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Слово — это попытка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал «гора» и забрал её вместе с гиенами, шакалами, затишками, тропой к звёздам, выветренным гребнем... Но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал: «Крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. Каждый по-своему, наполняют его строители, поэты, завоеватели, бледный малыш и его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что её потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке моих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык не в силах вместить их целиком? Если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого? Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», — сказали мне. И я залюбовался чётким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей, — подумал я, — в котором уснули пчёлы. Ранним утром они разлетятся по полям за мёдом. Люди трудятся и пожинают плоды. Вереница осликов повезёт в житницы, амбары и на рынки плоды их дневных трудов... Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом припасов на зиму. Человек — это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике». Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались тёмные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города, ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот, — сказал я, — горделивая поступь завоевания. Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым». И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом. Третьи, желая, чтобы я полюбовался их городом, увлекли меня в глубь крепости и привели в храм. Я вошёл, и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался. И размышление показалось мне драгоценней и побед, и пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, — сказал я, — истинная сущность человека, душа живит его. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им расцветут души». И эти слова не были ложью, но не были и истиной, они опять были о другом. Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логических рассуждений, словом «город» я обозначаю всё, что легло мне на сердце, всё, что я узнал и пережил: моё одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасный чёткий рисунок с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в эту минуту. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?..XXII
Мне показалось, что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение... Не спеша я иду по моему городу, смотрю на него с молчаливой любовью и вижу: вот невеста говорит с наречённым и улыбается ему с робкой нежностью, вот жена, она ждёт с войны мужа, вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанке, вот оратор, он проповедует смирение, а может быть, необходимость справедливости, вот прохожий, он возмутился, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого, вот резчик, он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызнова, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нём совершенству. Я смотрю, как засыпает мой город, слушаю молкнущий шум, похожий на замирающее гуденье потревоженных цимбал, и мне кажется, что звенеть его заставило солнце, как заставляет оно звенеть летящих пчёл, а вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подёргиваются пеплом, укрыв своё достояние — кто зерно в амбар, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет... Город мой затихает, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намеренья, рвение, страхи, сердечные желания, да и нет, нерешённые вопросы, ждущие разрешения, ненависть, ожидающая зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте, мольбы, обращённые к Господу, оставлены и не нужны, словно лестницы в закрытом магазине, всё отложено, всё кажется мёртвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, оделит им каждого, и разберут: кто — свои поиски, кто — счастье, кто — горе, ненависть или гордыню, и когда мои пчёлы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь: «Что же они такое, эти люди — хранилища множества картин?» Я знаю: если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений ещё неодушевлённого человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком слишком узким. Да, мы способны что-то сообщить, но наши книги хранят лишь ничтожную часть общеродового наследия. Если я соберу детей, устрою кучу малу и буду каждого учить чему попало, я пущу на ветер немалую часть нашего наследства. Дурная участь ждёт и моё войско, если я не буду поддерживать в нём преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времён. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, новобранцы всегда будут подчиняться генералам. Но слова капралов и генералов слишком малы, чтобы передать весь необъятный накопленный жизнью опыт, не сводимый ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями, образом мыслей, способом действий... Но если бы я попробовал всё это растолковать, то не осталось бы вообще ничего. Моя любовь создала царство, но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передаётся не словом, а приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрёт. Если старшие в моём войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме, он рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына, улетит душа мельницы, исчезнет уклад, усердие, тысяча неприметных умений и навыков, объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме умозрительных схем, пустых и неплодотворных по сравнению с живым опытом жизни. Человек показался вам нехитро устроенной беспамятной скотинкой, но вы позабыли, что человечество живёт подобно дереву, живёт потому, что один человек важен для другого, узловатый ствол, ветки, листья — всё это одно и то же дерево. Вот оно, моё огромное дерево, и откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город: там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, и густота кроны неизменна. Частные неблагополучия не вредят живоносной сердцевине: смотри — храм продолжает строиться, житница одарять и полниться, песня украшаться, а родник сверкать всё ярче. Но вот ты порвал связь времён, отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл всё, что узнал, постиг, перечувствовал, чего хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, — в людях осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, — твоих людей перестала питать жизнь. И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание. Ещё и ещё раз мне показали: логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста... Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень и объёмное золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной, полной птиц, — ветер слов слаб, ему не выдюжить тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением. И я понял, не нужно и вредно избегать противоречий. И сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая всё расставляет по местам, с упорядоченностью музея. Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке — гнездо, на другой — нет. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них — единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святые книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребёнку ясно, что они перемешались... В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга наконец будет упорядочена. Специальная книга для генералов. Генералам невмоготу терпеть то, что никак не укладывается в формулу, что ещё в пути, что вступило в противоречие с какой-нибудь из общеизвестных истин. Откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины могут противоречить друг другу? Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моём. Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, то будут рубить головы поэтам, которые славят лес. Одно дело — противостоять и другое — противоречить. Жизнь — единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня. Мой порядок — это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык — это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, — порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворённого животворящими божествами, которые я вырастил в нём, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство. Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных усилий. Раз я знаю: человека растит творчество, а не воспроизведение готового. Воспроизведение по образцам губительно для живого. Даже корабль нужно изменить и расширить, если плыть ему по жизни дальше. Уцепившись за неизменность формы, создаёшь экспонаты для музея, цепляешься за смерть, за рутину. Я различаю: вот преемственность, а вот повторение. Вот устойчивость, а вот косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. «Ну наконец-то! — обрадовались генералы. — Мы обрели истину, и она останется незыблемой». А я? Я ненавижу оседлых и обывателей. Завершённый город — некрополь.XXIII
Плохо, если сердце возобладало над душой. Плохо, если чувство возобладало над духом. Вглядываясь в моё царство, я понял: легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее. Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу, чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ — желудок, полученную пищу он должен переработать в свет и благодать. Соседний государь создал царство, выносив его в своём сердце. Народ его стал величальной песней созданному царству. Но этот народ не доверял одиноким, боялся горных троп, вьющихся, словно плащ пророка, бесед со звёздами и их ледяных вопросов, тишины и голоса, звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто в одиночестве поднялся на горную вершину, вернулся, причастившись Божественной пищи. Он спустился спокойный и величавый, пряча неведомый мёд под своим плащом. Мёд приносит лишь тот, кто уединился. И мёд его всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, нет радостных перерождений. Я ращу вас и, значит, словно нож из ножен, извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из припевки родится псалом, от искры займётся лес. Но человек, отвернувшийся от псалма, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья.XXIV
Я размышлял о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж, он лжёт, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию его слово действенно. Благодаря доверию действенна его ложь. Но, воспользовавшись моим оружием так, я притупил его. Сегодня я победил противника ложью, но завтра у меня не найдётся против него оружия. Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведёт к успеху. Но он — браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджёг лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обессмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намёки — всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно отрабатывали, научившись говорить с их помощью о самом тайном, самом сокровенном. Я выразил себя тем, что сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем. Не люблю издёвок, насмехаются всегда циники. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но, издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Со временем осёл сольётся с правителем, такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался. Ограбил житницу и зёрна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чём моё предательство, моё преступление. Мне предоставили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил все возможности. И предал всех. Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость её и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу.XXV
Вот почему я созвал воспитателей и сказал им: — Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьёв, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нём человеческого. Не моя забота — счастье людей. Кто из людей будет счастлив — вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство — мне не интересно. Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы — пустота, обогатите их образами и картинками, на которых видны связующие нити. Не отягощайте детей мёртвым грузом фактов, обучите ихприёмам и способам, которые помогут им постигать. Не судите о способностях по лёгкости усвоения. Успешнее и дальше идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило. Не учите их, что польза — главное. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску. Научите их почтению, потому что насмехаться любят циники, для них не существует целостной картины. Боритесь против жадности к вещам. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостеневает. Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе — противоположность любви. Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и на первый взгляд в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье. Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу и завершает его только смерть. Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятые, обе эти добродетели обернутся потаканием нечести и гниению. Научите их благому сотрудничеству — общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к каменотёсу с разбитой коленкой. Потому что речь идёт об исправности повозки. Вожатый у них один.XXVI
Я задумался о великом таинстве перерождения и изменения самого себя. Жил когда-то в нашем городе прокажённый. — Я хочу показать тебе бездну, — сказал отец. И он повёл меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокажённого от остального мира. — Ты, верно, думаешь, что он в отчаянии? Присмотрись, он сидит на пороге и зевает. В нём умерла любовь, только и всего. Его сгноило изгойство, всего-навсего. Запомни, изгойство не терзает болью, оно изнашивает тебя день за днём. В изгнании питаются снами и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он — король царства теней. Наше спасение в необходимости, — продолжал отец. — Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадёжен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому всё, что сопротивляется и противится. Не болезнь беда прокажённого — податливость жизни. У него нет необходимости идти, он осел у своей кормушки.Горожане приходили поглядеть на него. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжёлого подъёма в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было. — Не тешь себя иллюзиями, — сказал отец, — не выдумывай прокажённому бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессильной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он — неучастие, и с каждым днём он от нас всё дальше и дальше. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетьми. Городской шум для него — шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь — не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мёртвым грузом. Мог бы жить и прокажённый, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем. Со временем вошло в обычай навещать прокажённого каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И всё же он оставался нищим. Он нуждался во всех и не был нужен никому. Ему давали всё, но ему отдать было нечего. — Ты видел деревянных идолов, — сказал отец, — они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преображаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные каменья, — деревянный идол пребывает деревом. Он не может переродиться. Дерево живёт, преображая землю в цветы.
Я смотрел на прокажённого, он вышел из лачуги и обвёл толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он был для нас недосягаем. Нас ничего не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокажённого туманился презрением... Изгой. Его воротило от игры, где всё понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь для нас как живой, настоящий он не существовал. И когда вдруг в нём просыпалось что-то древнее, инстинктивное, когда он вдруг загорался яростью, не желая больше служить ярмарочной забавой, — яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, а чем-то вроде детей у пруда, где едва шевелится одинокий карп, — ярость его не задевала нас. Ярость, неспособная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы ограбили его. Я вспомнил прокажённых Юга, они взирали на оазисы с высоты своего коня, с которого, по закону о проказе, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плошкой и смотрели вокруг тяжёлым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них — лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далёкое, вроде незаметной возни полёвок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжёлым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на верёвке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник наполнит её. Не по себе становилось от их тяжёлого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать, — заброшенным пустырём, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания. Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.
— Смотри, — сказал мне отец, — он больше не зевает. Он разучился скучать, скука — тоже тоска по людям.
XXVII
Я понял, что все несчастны. Ночь — вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им кормчего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что же такое счастье.Я ударил в колокол. «Придите ко мне, счастливые», — позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел — женщины, наклонившись вперёд, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.
«Придите, несчастные!» — позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», — сказал я им. И, разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»
Я не верю в арифметику Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве. А радость? Когда замуж выходит принцесса, танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево — это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.
XXVIII
Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа. И вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я — я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарованье, если любовь не становилась большим, чем просто любовь... Свет в окне говорил о болезни. Два-три неизлечимо больных — негасимые свечи в ночи. А вот и ещё одна мерцающая внизу звёздочка — кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснёт, пока не вплетёт в венок ещё одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадёжной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой. Но были в моём городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи — так бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, — сказал я, — они блюдут жизнь перед лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звёзды. Нас мало стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звёзд, словно ледяной плащ». Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь — это нескончаемые перемены, напряжение до стона древесины и мука перерождения. Нас мало, мы за всех несём общий груз, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устаёт верить, что любимая возвратится... И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность — их пространство, бесконечность времени — их пища. — Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, — сказал я. — Остальные пусть спят. Они трудятся днём, и не их призвание — пограничье...Но этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью своё преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу как магнит. А я? Я думал: «Один мученик разжёг пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя». И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме — глухим квадратом чернела она на звёздном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешечённые окна — тяжело от них. Чёрные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моём пути, словно ночные хищные птицы... Всюду спёртый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону обронённого ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим — гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?» Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него. «Он — душа тюрьмы, — сказал я себе, размышляя об узнике. — Он её смысл, суть и оправдание. И он же — кучка тряпья, сваленная за решёткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение». Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, подумал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Но каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому что тогда не построить крепости». Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей. Он и я — на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужна только справедливость. Но умрёт всё-таки он. Мне стало больно. Прежде чем желание станет деянием, дерево — веткой, женщина — матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих обречёт на отчаяние. Сущему не до справедливости. И я понял — творчество прежде всего жестоко.
* * *
Я затворил дверь и долго шёл коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней? Я проходил мимо стражников, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и были похожи на руины замка, они что-то значили лишь благодаря спрятанному в них сокровищу. Я ещё раз обернулся и посмотрел на тюрьму. Башня в зубчатой короне тянулась к звёздам — сторожевой корабль шёл с важным грузом... «Куда он его везёт?» — спросил я у самого себя. А потом, когда я уже был далеко, ружейный залп в ночи... Я подумал о своих горожанах: «Они будут плакать о нём». «Хорошо, что они будут плакать», — подумал я.Я вспомнил, о чём поёт мой народ, на что ропщет, о чём думает. Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю даёт всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды он окажется правее меня. Я обрёк его на позорную казнь. Придёт день, я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я? Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, — к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвения. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая — нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая своё бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее его.
XXIX
Я задумался, разглядывая маску плясуньи, — её лицо своенравной балованной упрямицы. «Во времена величия царства, — подумал я, — она выбрала себе такую маску. Теперь эта маска — крышка пустой коробки. В человеке исчезла страсть. Исчезли и пристрастия. Никто не хочет выстрадать своего. А если своего не выстрадать, то откуда ему взяться?» Человек желал добиться. Добился. Но стал ли он счастливее? Счастье в служении желанному. Смотри, стебель трудится над цветком. Счастлив ли он, когда цветок распустился? Нет, наступил конец работы, растение приготовилось умереть. Я знаю, что такое хотеть. Жаждать дела. Желать достигнуть, преуспеть. И отдохнуть. Но кто жив отдыхом? Отдых не питает нас. Не перепутайте: питающая среда и достигнутая цель — разное. Бегун бежал быстрее всех. Он победил. Но не получится жить победой. Не может моряк жить побеждённой бурей. Побеждённая буря — взмах руки в долгом-предолгом плавании. Следующий взмах неминуем. Радость трудиться над цветком, бороться с бурей, строить храм не похожа на радость сорвать цветок, вспоминать о буре, любоваться храмом. Надежда, что в старости насладишься тем, в чём отказывал себе всю жизнь, — иллюзия. Напрасно надеется воин, что в радость ему будет жизнь обывателя. Хотя на первый взгляд кажется, что воюет он за возможность им стать. Но вот он стал обывателем, и тоскует, и снова не прав. Не прав тот, кто, тоскуя, твердит: «Человеческие желания неутолимы»... Он просто не знает, чего хочет. «Я иду по следам своего счастья, а оно никак не даётся в руки», — жалуется он. Могло бы пожаловаться и дерево: как я трудилось над цветком, зачем он засох и стал семечком, которое зачем-то станет деревом, а на нём будут ещё какие-то цветы?! Одолев бурю, ты отдыхаешь, но, пока ты отдыхаешь, собирается новая буря. Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие — это Бог. Он вернёт тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу сбудешься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно. Скудеют те, кто поверил, будто чего-то добился, будто чем-то владеет, кто встал посреди дороги, желая наслаждаться полученным — или достигнутым, как принято говорить. Нет достигнутого, нет полученного, нет запаса, который можно тратить. Об этом знаю я, — я, который не раз позволял завлечь себя в женские сети и вдруг узнал, что в чужедальних краях живёт красавица, источающая аромат совершенства, и она может стать моей. Опьянение восторга я счёл любовью. Мне показалось, что я умру, если она не станет моей. Пышно и радостно праздновалась свадьба, всех в моём царстве словно бы закружил хмель любви. Цветы рассыпали корзинами, курили драгоценные благовония, не жалели сверкающих бриллиантов; цена им — людские пот, страдание и кровь; множество роз губится ради капли масла, множество людей губится ради капли света, — но кто сейчас вспоминал об этом: каждый расточал себя в любви. И вот моя нежная пленница, принесённая ветром любви на парусах своих покрывал, рядом со мной на террасе. Я — мужчина, я — воин, я — победитель держу наконец долгожданную награду в этой войне. Но, оказавшись с ней рядом, не знаю, что делать... — Голубка моя, горлица, — шепчу я, — длинноногая газель... — Я придумываю слова, чтобы дотянуться до неё, и не нахожу слов. Её всё меньше, она тает, будто утренний снег. Я ждал себе другого подарка. Я кричу: «Где вы?» Потому что никак не могу её найти. «Как мне выйти хотя бы на пограничье?» Я превратился в дозорную башню, в крепостной вал. Мой город славил любовь фейерверками. А я, одинокий в своей иссушающей пустыне, смотрел на неё — обнажённую, спящую. «Я охотился не на ту дичь, шёл не в ту сторону. Она бежала так быстро, я схватил её, желая сделать своей... Держу, но со мной её нет...» И я понял, что я ошибся. Думал жить, одержав победу в беге. Стал похож на безумца, который запирает кувшин с водой в шкаф, потому что любит журчанье родника... Я не прикасаюсь к тебе, я творю тебя, словно храм. Творю в сиянии света. Твоя тишина одевает поля, леса. Я учусь любить тебя больше, чем люблю тебя, себя. Я пою хвалебный гимн твоему царству. Ты закрыла глаза — глаза мира. Ты устала, я держу тебя в кольце своих рук, словно город. Ты — ступень на пути моём к Господу. Тебя создали, чтобы воспламенять, испепелять, — не для того, чтобы сберегать впрок... Прошло несколько дней, город облачился в траур, в моём дворце все рыдали, потому что я с тысячью воинов вышел из городских ворот; я шёл в пустыню, я томился, и жажда гнала меня туда. Я уже говорил тебе об этом, боль одного — не меньше боли целого мира. И любовь одного — какой бы несуразной она ни была — раскачивает звёзды Млечного Пути. Округлый корпус корабля обхватили мои руки, обнимая тебя. Мы выходим сегодня в открытое море, в грозную стихию любви... Вот так, мало-помалу, я нащупываю границы моего царства. Ограничения всегда говорят о сути, и я люблю то, что умеет противостоять. Противостоят и человек, и дерево. Барельефы, изображающие своенравных плясуний, я сравнил с крышками пустых коробок, но когда-то они были масками, а под маской и впрямь таились упрямство, коварство и поэзия строптивых капризниц. Я люблю выявляющих себя в противостоянии, люблю замкнутых и молчаливых, укрепляющих свою твёрдость, тех, кто сжимает зубы под пыткой, кто выдерживает пытку любви. Тех, кто несправедливо предпочитает вообще не любить. Вас, уподобляющих себя грозным башням, которые невозможно взять приступом... Ненавижу податливость. Нет человека, если он не противостоит. Нет противостояния в муравейнике, нет в нём и Бога, нет образа и подобия Божия. Податливый человек — человек, в котором нет всхожести. И я вспомнил чудо, увиденное мной в тюрьме. Слабый узник был сильнее тебя, меня, нас всех, вместе взятых, сильнее моих тюремщиков, подъёмных мостов, стен. Та же загадка мучила меня и тогда, когда я размышлял о любви, держа её в своих объятиях, обнажённую и покорную. Мне трудно сладить с тем, что человек одновременно велик и ничтожен, велик своей верой, ничтожен гордыней бунта.XXX
И ещё я понял: человек без стержня, без внутренней формы — ничто. Если он слился с толпой, послушен ей, живёт по её законам, он никогда не пожертвует собой, не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь, слон и человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедру. Он пришёл ко мне, он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребёнком. С совком и ведёрком подошёл малыш к Атласским горам в безмятежной уверенности, что возьмёт их и передвинет. Человек — прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медленен, извилист. Не стоит забывать: существует и то, чего мы не можем выразить, оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть. Как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера, я солгал бы себе, сказав: «То, чего я передать не в силах, не стоит и внимания». Гору я тоже только назвал. Я путаю понятия «назвать» и «выразить». Называют для знающего. Но если человек не видел гор, как передать ему ущелья, камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звёздном небе? Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или лёгкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно; знание — та же жизнь, в нём есть нежданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения, есть своё безмолвие, столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер. И вот я в разладе с самим собой: меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующее о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но её не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов, они послушны, их вымуштровала суровая дисциплина, по взмаху моей руки они пойдут на смерть, повиновение вошло у них в плоть и кровь, я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми... но в нежданной схватке с врагом они будут твёрже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти. Я понял: твёрдость и послушание — две стороны одной медали. «Твёрдый орешек» — говорим мы с одобрением об одном, «сама себе хозяйка» — о другой, — я обнял её, но она была далека от меня, словно яхта на морском горизонте, — их я и называю людьми: они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются, не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, сладострастия, усталости, сердце их твёрже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масла тайны, и я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны на веру и на жертву, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели... А те, кого принято называть свободными, кто решает всё по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное несогласие — бестолковый каприз, не более. Поэтому я, ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины, я — правитель, я — мастер, не желающий кастрировать свой народ и превращать его в слепых исполнительных муравьёв, — вижу: моё принуждение не калечит — оно служит духу жизни. Смирение в храме, послушание и готовность прийти на помощь — добродетели, не любимые лицедеями, но для моего царства добродетели эти — краеугольный камень. Много ли хорошего дождёшься от самого себя? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника. Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной усмешкой. Сильным его сделала вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость — обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже: сложив на коленях руки, он сидит и слушает с ясной улыбкой, он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка, — она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решёткой клетки — невозможно приручить её, принудить к словам любви. Она другого племени, другой страны, в ней иной огонь, иная вера. Не обратив её в свою, мне её не дозваться. Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны, потому что свободно меняют мнения и предают. (Откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи...) Им свободно лукавить, передёргивать, оговаривать; и если они голодны, то свободно переметнутся ко мне, стоит мне указать им на кормушку.Была свадебная ночь, была ночь перед казнью. Благодаря им я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой, станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить, — так и только так поступает кедр. Я — контур, стержень, усилие творца, благодаря которым вы рождаетесь, но, родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви — собственные, а не чужеродные, — свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться...
Я зову негодяями тех, кто живёт за счёт чужих усилий, как хамелеон меняет цвет, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ; нет крепости, которая бы их хранила, нет весомых слов для детей, они не растили их — дети выросли, как трава под забором.
XXXI
Они пришли и сказали мне, что для жизни нужны удобства. А я? Я вспомнил своих воинов в пустыне. Я знаю, сколько тратится сил на достижение житейского благополучия, но, когда оно наступает, жизнь уходит. Поэтому я любил войну, мир с ней так ощутимо сладок. Военный поход по безмятежно-тихой знойной пустыне, — пустыне, кишащей змеями, пустыне девственных песков, засад и укрытий. Я вспомнил, как играют дети, они строят полки из белых камешков. «Это солдаты, — говорят они, — они спрятались в засаде». Но прохожий видит только кучку белой гальки, он не видит сокровищ, таящихся в детской душе. Вспомнил человека-жаворонка, он наслаждается зарёй, под ледяным солнцем плещется в ледяной воде и греется потом в лучах разгорающегося дня. А жаждущий? Он хочет пить, он идёт к колодцу, скрипит ворот, гремит цепь, ползёт вверх ведро, вот он вытянул полное ведро на край колодца, — вода для него стала песней, он запомнил все её переливы. Благодаря жажде он ощутил крепость своих рук, ног, зоркость глаз, жажда возвысила его, словно поэзия. Другой подозвал раба, тот поднёс к его губам воду, но песни он не слышал. Удобство — это чаще всего пустота и безмолвие. Люди не верят в необходимость напряжения и боли, поэтому живут так безрадостно. С пустотой встречаются и те, кто слушает музыку, не пожелав потратить усилий на музыкальную грамоту. Они повелели внести себя в музыку на носилках, не пожелав добраться до неё самостоятельно. Отказались от апельсина, потому что нужно очистить кожуру. Но я-то знаю: нет кожуры — нет и мякоти. Почему-то вам кажется счастьем несуществование. Вы не правы. Богачи не наслаждаются своим богатством, для них оно пропадает втуне. Нет пейзажа, если никто не вскарабкался в гору, пейзаж не зрелище, он — преодоление. Но если принести тебя на вершину на носилках, ты увидишь что-то туманное, невразумительное, да и почему, собственно, это должно для тебя что-то значить? Тот, кто с удовлетворением скрестил на груди руки и любуется после трудного подъёма открывшимся пейзажем, украшает сладостью отдохновения голубизну угасающего дня. Ему нравится композиция пейзажа, каждым своим шагом он расставлял по местам реки, холмы, отодвигал вдаль деревню. Он — автор этого пейзажа и рад, как ребёнок, который выложил из камушков город и любуется творением своих рук. Но попробуй заставь ребёнка залюбоваться кучкой камней — зрелищем, доставшимся даром... Я видел жаждущих — жажда сродни ревности, она мучительнее болезни: тело знает целительное снадобье и требует его, как требовало бы женщину, оно видит во сне, как другие приникли к воде. Ревнивцы тоже видят женщин, которые улыбаются не им. Неоплаченное душевно и телесно — не ощущается как значимое. Не существует случайности, если я не попал в случай. Из ночи в ночь смотрят на Млечный Путь мои астрологи. Благодаря ночам, проведённым в бдении, он стал для них книгой премудрости, страницы её переворачиваются с едва слышным шелестом, и астрологов переполняет благоговейная любовь к Господу, насытившему Вселенную такой мучительно сладкой для сердца существенностью. Повторяю вам: право не сделать усилие даётся вам лишь ради другого усилия, потому что вы должны расти.XXXII
Умер князь, он властвовал от меня на востоке. Князь, с которым мы так жестоко воевали и кто после множества войн стал мне надёжной опорой. Я вспомнил, как мы встречались. В пустыне раскладывали пурпурный шатёр, и мы — я и он — входили в его пустоту. Наши воины стояли поодаль — не годится, чтобы войска, смешавшись, сбились в толпу. Толпа — стадо, в ней никогда не будет благородства. Положившись про себя на мощь своих копий, воины ревниво следили за нами, не размякая от дешёвого умиления. Тысячу раз прав был мой отец, повторяя: «Не суди о человеке по тому, что увидал на поверхности, встреться с ним в глубинах его души, ума, сердца. Если придавать значение каждому движению, сколько крови прольётся понапрасну...» В глубинах души искал я встречи с моим врагом, когда оба мы, безоружные, защищённые лишь своим одиночеством, входили в шатёр и садились напротив друг друга на песок. Не знаю, кто из нас — он или я — был сильнее. В нашем священном одиночестве от силы требовалась сдержанность. Малейшее движение потрясло бы мир, и двигались мы с величайшей осторожностью. Спор у нас был тогда о пастбищах. «У меня двадцать пять тысяч голов скота, — сказал он, — скот гибнет. У тебя он бы прокормился». Но как пустить к себе целое воинство пастухов с чуждыми нам обычаями? Они посеют в моих людях сомнение, а сомнение — начало порчи. Как принять на своей земле пастухов из чужой вселенной? Я ответил: «У меня двадцать пять тысяч человеческих детей, они должны научиться молиться по-нашему, иначе останутся без лица и стержня». Правоту каждого из нас отстаивало оружие. Как прилив и отлив, надвигались мы и отступали. Всей силой давили мы друг на друга, но никто не мог взять верх — от взаимных поражений сила наша сравнялась. «Ты победил — значит, сделал меня сильнее». Нет, не было во мне презрительного высокомерия, когда я взирал на величие моего соседа. На висячие сады его столицы. На благовония, привозимые его купцами. На прекрасные кувшины его чеканщиков. На мощные его плотины. Презрительность — помощница неполноценных, только их истине мешают все остальные. Но мы из тех, кто знает, что истин на свете много, нас не унижает признание добротности чужой истины, хотя мне она всё равно будет казаться заблуждением, но ни яблоня к виноградной лозе, ни пальма к кедру не относятся с презрением. Каждое дерево стремится стать как можно выше и не сплетает своих корней с чужими. Каждое хранит свой облик и естество — сокровища, которые не должны расточиться. — Если хочешь поговорить с соседом по существу, — говорил отец, — пришли ему ларчик с благовониями, пряности или спелый лимон, пусть в его доме запахнет твоим домом. Твой воинственный клич в горах — тоже подлинный разговор. И привезённое тебе послом объявление войны тоже. Посланника долго обучали, воспитывали, закаляли, он — твой противник, и он — твой друг. Ему чужд твой обиход, но вы встречаетесь как друзья там, где человек в долгу лишь перед самим собой, где он возвысился над ненавистью. Уважение врага — одно-единственное чего-то стоит. Уважение друзей стоит чего-то только тогда, когда они отрешились от признательности, благодарности и прочей пошлости. Если ты отдаёшь за друга жизнь, обойдись без дешёвого умиления. Я не солгу, сказав, что соседний князь был моим другом. Наши встречи были радостью. Я поставил слово «радость» и направил расхожее мнение по ложному следу. Радостью не для нас — для Господа. К Нему мы искали дорогу. Наши встречи замыкали ключом свод. Но сказать друг другу нам было нечего. Господь простит мне, что, когда он умер, я заплакал. Кому, как не мне, знать о собственном несовершенстве. «Если я плачу, — думал я, — значит, я не очистился ещё от своекорыстия». Я знаю, мой сосед узнал бы о моей смерти, как узнал бы, что на западе его земли уже ночь. На потрясённый моей смертью мир он смотрел бы, как смотрят на спустившиеся сумерки. На гладь озера, потревоженную пловцом. «Господи, — сказал бы он своему Богу, — день сменяется ночью по Твоей воле. Что потерялось, если увязали сноп, если кончилось наше время? Я уже был». Он приобщил бы меня к своему незыблемому покою. Но я ещё не чист, я ещё не проникся вечностью. Я по-женски томлюсь легковесной тоской, видя, как от вечернего ветра вянут розы в моём живом саду. Вяну и я с увядающей розой. Я чувствую: я умираю вместе с ней. Жизнь шла и шла, я хоронил моих полководцев, смещал министров, терял женщин. Позади, словно сотня змеиных выползков[367], сотня разных былых моих «я». Но неизменно, как неизменно возвращается солнце — мера и маятник дня, как возвращается лето — мера и равновесие года, — мои воины опять и опять, от встречи к встрече, от договора к новому договору, ставили в пустыне пустой шатёр. И мы входили в него. Наша встреча была торжественным обрядом, улыбкой сурового пергамента, покоем перед смертным часом. Тишиной, творимой не человеком, а Господом. И вот я остался один, один отвечаю за прошлое, и нет возле меня свидетеля, который видел, как я жил. Мои поступки, которые я не снисходил объяснять моему народу, понимал мой восточный сосед; томления мои и порывы, которые я никогда не выставлял напоказ, он постигал своей внутренней тишиной. Тяжесть долгов и обязанностей, которые угнетали меня и о которых не подозревал мой народ, веря, что я действую лишь по своему произволу, взвешивал мой сосед, не ведающий пустого сочувствия, почитая не меня, а то, что меня превосходит, и вот он уснул, одетый багряницей пустыни, сочтя песок достойной для себя гробницей, замолчал, улыбаясь той печальной улыбкой, обращённой только к Господу, означающей согласие, что пора унести срезанный сноп, пора хранить под сомкнутыми веками пережитое. Как себялюбиво моё отчаяние! Как я слаб, если столько значения придаю своим жизненным перипетиям, а они так ничтожны, если меряю собой царство, а не растворился в нём, если чувствую, что жизнь моя, будто странствие, может кончиться на этой вершине. Эта ночь, будто горный хребет, изменила течение моей жизни: медленно взбиралась она по склону вверх и вот заструилась вниз по противоположному склону. Всё вокруг незнакомо. Я понял, что стал стариком: вокруг незнакомые лица, чужие люди, ко всем к ним я равнодушен так же, как к самому себе; за хребтом остались мои капитаны, мои женщины, мои враги и единственный, может быть, друг — я один в этом чуждом мире, заселённом чужими мне племенами. И тогда я обрёл новые силы. «Меня лишили последней кожи, — подумал я, — может быть, теперь я очищусь?» Не было во мне величия, раз я так почитал себя. Я одряб, и мне послали испытание. Размяк от дешёвых сердечных сантиментов. Но я сумею возвыситься, я не оскорблю слезами величие друга. Он уже был. Пустыня покажется мне богаче, ибо в ней он мне улыбался. Все улыбки станут мне ближе благодаря его улыбке. Его улыбка обогатит все остальные. В каждом я увижу набросок человека, — никакому резчику не отделить его от целиковой породы, — но в породе я лучше разгляжу человеческое лицо, потому что одному человеку смотрел прямо в глаза. Да, я начал спускаться с горы, но, народ мой, не пугайся, я связал оборванную нить. Плохо, что я так нуждался в человеческом. Рука, что лечила и сшивала меня, рассыпалась, но сшитое осталось. Я спускаюсь с горы, я встречаю овец, ягнят. Я глажу их. В мире я одинок перед ликом Господа, но погладил ягнёнка и ожил сердцем: не ягнёнок — уязвимость живого в нём напомнила мне о человеке, и я опять заодно с людьми. Для моего друга я тоже нашёл царство, нигде не царствовалось ему лучше, — царство смерти. Каждый год раскидывается шатёр в пустыне, и мой народ молится. Воины опираются на заряженные ружья, кружат всадники, оберегая порядок в пустыне, они отсекут голову всякому, кто отважится проникнуть сюда. Я иду один. Приподымаю полотно шатра, вхожу и сажусь. На земле становится тихо.XXXIII
Что ж, пусть ноют и ноют у меня кости и никакой лекарь не уймёт мою боль, пусть я похож на дерево, которое подсёк дровосек, и Господь скоро уберёт меня с лица земли, как обветшавшую башню. Пусть я только вспоминаю, как просыпаются в двадцать лет: освежённые сном, готовые воспарить душой, — мне дано утешение: мою душу не огорчают вести тела, я не занят своими болестями, они — моё личное, маленькое, ничего не значащее дело, они касаются только меня, историки не посвятят им и строчки в хрониках: кому интересно, что у меня шатался зуб и его выдернули, с моей стороны было бы низостью искать сочувствия. Не жалость к себе, а гнев поднимается во мне, когда я чувствую боль. Трещины бегут по сосуду, содержимое неизменно. Мне рассказали, когда моего соседа с востока разбил удар и половина его тела, заледенев, омертвела, когда ему повсюду сопутствовал этот сиамский близнец, разучившийся улыбаться, достоинство его не пострадало, напротив, несчастье послужило его величию. А тем, кто восхищался твёрдостью его духа, он не без презрительности отвечал: «Вы ошиблись, принимая меня за лавочника, для них поберегите свои восторги. Правитель, не властный в собственном теле, — смешной самозванец. Не потерю — чудесную радость высвобождения чувствую я».Да-а, человеческая старость... Неудивительно, что я ничего не узнаю на противоположном склоне моей горы. Сердце моё переполнено утратой друга. Я смотрю на деревни глазами, сухими от горя, и жду, когда, будто прилив, увлажнит их любовь.
XXXIV
И вновь я смотрю на город, зажигающий в сумерках огни, светящийся приглушённым голубовато-белым светом горящих в домах окон. Смотрю на рисунок улиц. Смотрю на тишину, потому что город рождает тишину, и она достигает прибрежных скал. Но, любуясь рисунком улиц и площадей, высящимися там и здесь храмами — житницами духа, тёмным кольцом холмов вокруг, я невольно думаю, что мой город, несмотря на ощутимость его присутствия, — высохшее дерево с подсечённым корнем, пустой амбар. Нет в нём общей жизни, что течёт сама по себе и животворит каждого, нет общего сердца, питающего кровью каждую клеточку плоти, нет общей плоти, радующейся общему празднику и поющей один псалом. Здесь в чужих раковинах живут нахлебники, праздные в своих тюрьмах, не желающие трудиться со всеми вместе. Нет города, есть видимость, есть некрополь, не сомневающийся, что по-прежнему жив. И я сказал себе: «Вот оно, дерево, что вот-вот засохнет. Яблоко, источенное червём. Мёртвая черепаха в панцире». Я понял: мой город нуждается в животворящем соке. Ветви нужно приживить к питающему стволу. Житницы и амбары наполнить тишиной. Сделать это должен я. Больше некому любить людей.XXXV
Я слышу музыку, а они не понимают её. И опять я перед неразрешимым противоречием: если играть для них только доступное, они не сдвинутся с места, если учить только понятному, они не получат ничего лишнего. Можно ограничить их укладом, в котором живут они уже не одну сотню лет, и умертвить дерево, которое растёт, трудясь над новым цветком, новым плодом, но получить взамен тишину молитвы, мудрость и почивание в Господе. Можно, напротив, торопить их в будущее, толкать и расшевеливать, понуждать забыть тяжкое бремя традиций, но увидеть вскоре, что ведёшь вперёд стадо нищих переселенцев без роду и племени, войско в походе, которое умеет быстро раскинуть лагерь, но никогда не построит дом. Всякое восхождение мучительно. Преображение болезненно. Не измучившись, мне не услышать музыки. Страдания, усилия помогают музыке зазвучать. Я не верю в тех, кто наслаждается чужим мёдом. Не верю, что одаришь детей благодатным хмелем любви, послушав с ними концерт, прочитав стихи, поговорив. Да, конечно, в человеке заложена способность любить, но заложена и способность страдать. И скучать. И погружаться в безнадёжную тоску, сродни осенним дождям. Ведь и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда в радость, иначе бы они никогда не грустили, они бы читали стихи и ликовали. Всё человечество читало бы стихи и ликовало, и больше ему ничего не было бы нужно. Но в радость человеку только то, над чем он хорошенько потрудился, — так уж он устроен. Чтобы насладиться поэзией, нужно дотянуться до неё и её преодолеть. Доступные стихи быстро изнашиваются сердцем, так же быстро, как открывшийся с вершины пейзаж. Усталость и желание отдохнуть придали ему столько прелести, но вот ты отдохнул, тебе хочется идти дальше, и ты зевнул, глядя на пейзаж, которому больше нечего тебе предложить. Чужие стихи — тоже плод твоих усилий, твоё внутреннее восхождение. Запасы радуют обывателя, но обыватель — недочеловек. Нет любви про запас, которую можно было тратить себе и тратить, любовь — труд сердца. Меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре, и говорят: «Вокруг — сплошной хаос. Он недостоин того, чтобы служить ему и подчиняться». Они верят в свой здравый смысл, они скептики и насмешники, но издёвка в помощь бездельнику — не человеку. Любовь не подарок от прелестного личика, безмятежность не подарок от прелестного пейзажа, любовь — итог преодолённой тобой высоты. Ты превозмог гору и живёшь теперь в небесах. Любовь — то же восхождение. Не думай, что достаточно знать о любви, чтобы её узнать. Обманывается тот, кто, блуждая по жизни, мечтает сдаться в плен; краткие вспышки страсти научили его любить волнение сердца, он ищет великую страсть, которая зажжёт его на всю жизнь. Но скуден его дух, мал пригорок, на который он взбирается, жалка победа, так откуда взяться великой страсти? Если не изменяться день ото дня, словно в материнстве, не догнать любви. А ты хочешь усесться в гондолу и всю жизнь звучать песней — ты не прав. Вне пути и восхождения ничего не существует. Стоит остановиться, как тебя одолевает скука, потому что пейзажу больше нечего тебе рассказать, и тогда ты бросаешь женщину, хотя надо было бы выбросить тебя.Логики и неверы просят: «Покажи нам царство, покажи нам Бога, вот я трогаю камень, трогаю землю итогда верю, что есть и земля, и камень, которые я потрогал». Но что мне до их просьб. Таинства, о которых я говорю, не так скудны, что их можно исчерпать логической формулой. Не могу я доставить невера на вершину горы и подарить ему радость открывшегося пейзажа, ведь он не его победа. Не могу помочь насладиться музыкой человеку, который её не преодолел. Одни пришли ко мне, желая получить всё без усилий, другие так ищут женщину, которая вложит в них любовь. Но это не в моей власти. Я беру человека, запираю его, истязаю ученьем, потому что слишком хорошо знаю: лёгкое и доступное — бесплодно, потому что оно — легко и доступно. Напряжение и пот — вот чем мерится польза от работы. Я собираю учителей и говорю им: «Не ошибитесь. Я доверил вам человеческих детей не с тем, чтобы взвешивать потом груз их познаний, — с тем, чтобы порадоваться высоте их восхождения. Мне не нужен ученик, который оглядел из носилок тысячу гор и тысячу пейзажей; тысяча гор — пылинка в бесконечной Вселенной, — по-настоящему он не видел ни одной. Мне нужен тот, кто напряжётся и одолеет подъём, пусть это будет невысокая горка, в будущем он поймёт все другие куда лучше, чем мнимый знаток, с чужих слов рассуждающий о доброй сотне гор. Если я хочу, чтобы они узнали, что такое любовь, я буду помогать им любить, уча молиться». Умеющий любить непременно встретит красавицу, которая воспламенит его сердце, но, видя, как он пламенеет, люди убеждаются в могуществе прекрасных лиц — и ошибаются. Преодолевший стихотворение воспламенён им, и все верят в могущество стихов. Но повторяю: сказав «гора», я обозначил её для тебя, а тебя колола ежевика на склоне, у тебя кружилась голова над пропастью, ты потел, взбираясь на скалу, рвал цветы, дышал на вершине полной грудью. Я назвал, но не донёс ни полноты понятия, ни его сути. Я сказал «гора» толстому лавочнику и оставил пустым его сердце. Исчезает поэзия не потому, что исчерпали силу стихи. Исчезает любовь не потому, что красота исчерпала силу. Отдаляется Господь, но не потому, что человеческое сердце уже не девственная земля в ночной тьме, которая так нуждалась когда-то в плуге ради цветов и кедров.
Я внимательно всматривался в отношения людей и понял: ум опасен — ум, который верит, что слово передаёт суть, что в споре рождается истина. Нет, не язык передаёт меня. Я не знаю таких слов, которые бы меня высказали. Я лишь обозначаю что-то в себе, и ты меня понимаешь в той мере, в какой для тебя открыты иные пути постижения. Например, нас открыло друг другу чудо любви, или мы — дети одного и того же Бога. Если этого нет, я напрасно пытаюсь извлечь на поверхность таящийся во мне мир и неуклюже выговариваю то одно, то другое, — так о горе, например, я сказал, что она высока, но хотел сказать о холоде близких звёзд и могуществе ночи.
XXXVI
Ты пишешь, ты обращаешься к людям, ты словно бы снаряжаешь корабль. Немногие из кораблей достигнут гавани. Большинство затеряется в море. Не так уж много значимых слов продолжает плыть по реке истории. Может, я многое обозначил, но немного выразил сущностного. Вот и ещё одна сложность: людей нужно научить постигать, а не обозначать. Научить, как ставить всевозможные ловушки. Ты привёл ко мне человека, что мне до его учёности? Учёности много и в словарях. Что это за человек — вот что важно. Поэт написал стихи, они согреты его рвением, но ловил он на мелководье, нам ничего не досталось из глубины. Он обозначил весну, но не разбудил весну в моём сердце, я не насытился ею. Историки, логики, критики совершили открытие: мощное творение всегда хорошо построено. Значит, сила в продуманном плане, обрадовались они. Да, когда город построен, я отчётливо вижу его планировку, но не планировке обязан город своим рождением.XXXVII
Я смотрю на танцовщиц, певичек и куртизанок моего города. Они заказали себе серебряные носилки и, отправляясь на прогулку, посылают вперёд слуг, которые кричат об этом, собирая толпу. Когда рукоплескания толпы, развеяв лёгкую задумчивость красавицы, вконец измучат её, она чуть-чуть отодвинет шёлковую занавесь и, снисходя до страстного желания обожателей, наклонит к ним своё белоснежное личико, стыдливо улыбнувшись. А слуги будут кричать во всю глотку. Вечером их ждёт порка, если любовь тиранов-обожателей не вынудит красавицу нарушить свою стыдливость. Ванны у красавиц из золота, и толпу приглашают взглянуть, как готовится молоко для купанья. Доят сотню ослиц, добавляют благовония и цветочное молочко, стоит оно бешеных денег, а аромат его так скромен, что его и не почувствуешь. Я не возмущаюсь цветочному молочку. Немного тратится на него сил в моём царстве, и безумная его цена — иллюзорна. Я не против того, чтобы тратили себя и на роскошества, дорога мне не польза, а рвение. И коль скоро такое молочко существует, то что мне в том, умащаются им мои куртизанки или нет. Логики осуждают меня, но рвение — единственный закон моего царства. Я вмешаюсь, если народ мой увлечётся изготовлением позолоты в ущерб хлебу, но я не против самой позолоты, она золотит их труды, хоть и не нужна насущному. Предназначение её меня не заботит, но мне кажется, что лучше золотить волосы красавицы, чем дурацкий памятник. Ты возражаешь, что памятник — достояние всех горожан? Но горожане любуются и красавицами. Беда памятников — будь они даже Господни храмы — в том, что они радуют взгляд позолотой, но не требуют взамен никаких даров. Красавица пробуждает желание одарять и жертвовать, ты блаженен возможностью дарить. Дарить, а не получать. Пусть купаются мои красавицы в цветочном молочке. Пусть воплощают собой красоту. Пусть наслаждаются изысканными вредоносными яствами и умирают, поперхнувшись рыбьей косточкой. Они ходят в жемчуге и теряют его. Пусть теряют, жемчуг должен быть эфемерен. Они слушают сказителей и лишаются чувств от переживаний, не забывая грациозно опуститься на ту из подушек, которая лучше всего подходит к их шарфу. Иногда они позволяют себе и другую роскошь — роскошь любить. Они продают свои жемчуга и гуляют по городу с юным солдатиком: пусть все видят, что он — самый красивый, самый умный, самый стройный, самый мужественный... Доверчивый мальчик от признательности теряет голову, он не сомневается в щедрости дара, хотя служит лишь тщеславию красавицы, — в городе о ней должны говорить.XXXVIII
Ах, как жаловалась на обидчика эта женщина: — Разбойник, — кричала она, — тварь продажная! Греховодник! Бесстыжий лгун! Мерзавец!.. — Ты в грязи, — сказал я ей, — пойди умойся.Жаловался и другой на несправедливость и клевету. Никогда не заботься, чтобы твои поступки правильно поняли. Их не поймут, но какая тут несправедливость? Справедливость — химера и чревата несправедливостью. Ты видел в пустыне моих полководцев? Они — благородны; благородны, бедны и выдублены постоянной жаждой. Они спят на голом песке в глухой тени царства. Они добры и готовы повиноваться, хватаясь за оружие при малейшем шорохе. Такими хотел их видеть мой отец, когда позвал: «Встаньте, готовые к смерти, уместившие всё своё добро в заплечном мешке! Умеющие подчиняться, великодушные в сражении, великодушные сердцем! Встаньте, я вручу вам ключи своего царства». И вот они встали вокруг моей крепости, словно бдительные архангелы. Их достоинство отлично от достоинства министерской прислуги и самих министров тоже. И вот их позвали в столицу, но не посадили во главе праздничного стола, — теперь они обивают пороги в приёмных и жалуются: их, воистину достойных, унизили, отведя место слуг. «Горька участь тех, кого не ценят по достоинству», — твердят они. Я ответил им: «Горька участь тех, кто оценён, возвышен, отблагодарён, кто оказался в чести и разбогател». Он раздулся от дешёвых амбиций, променял звёздные часы на магазинные покупки. Он был богаче других, достойнее, удивительнее. Для чего же король-одиночка покорился мечтам обывателя? Старого плотника отблагодарит идеальная гладкость его доски. Полководца — идеальный покой в его пустыне. Но в людском водовороте незаметны твои заслуги. Если тебя это обижает, значит, ты не очистился от своекорыстия. Я уже говорил: «Каковы люди, таково и царство. Каждый — частичка царства». И от каждого зависит великолепие кроны. Если этого ты видишь купцом с барышами, отправь его за барышом в пустыню и жди, набравшись терпения. Пройдёт несколько лет, и купец твой станет хозяином, ровней ему будет ветер, а другой останется жалким лавочником в своей лавке. Я покровительствую достойным. Покровительство уже не несправедливость. Не обижайся на слова. Как уродливы на песке длинные голубые рыбы с вуалевыми плавниками, как это несправедливо! Несправедливо наше суждение: рыбы созданы для воды. Они прекрасны там, где кончается песчаный берег. Полководцы пустыни прекрасны там, где утих шум города, крик рыночных зазывал, тщеславие и суета. У них в пустыне нет суетности. Так пусть они утешатся. Стоит им захотеть, и они вновь вернутся в своё царство, я не уничтожал его и не хочу, чтобы они страдали.
Ко мне пришла женщина. — Я — верная жена своему мужу, — сказала она, — я послушна ему и недурна собой. Я дышу только им одним. Шью ему плащи, перевязываю раны. Все его тяготы я делила с ним. А теперь он проводит время с той, что обворовывает его и над ним смеётся. Я ответил ей: — Ты судишь и ошибаешься. Кто знает самого себя? Каждый идёт к истине, но путь души похож на горное восхождение. Вершина близка, кажется, ты добрался, но с неё видны новые вершины, новые тропы и новые пропасти. Кто может знать, что утолит его жажду? Один не может жить без плеска реки, чтобы услышать его, он готов пожертвовать жизнью. Другого греет лисёнок на плече, он пойдёт за ним во вражеские владенья. Может, та, о которой ты говоришь, обязана ему своим рожденьем. И он за неё в ответе. Ты всегда в долгу перед тем, кого создал. Он идёт к ней для того, чтобы она его обокрала. Идёт, чтобы она утолила свою жажду. Его не вознаградит нежность, но не ударит и упрёк. Наградой ему собственная жертвенность. И ещё те слова, которым он её научил. Он похож на тех, кто возвращается из пустыни: ордена для них не награда, но и неблагодарность не обида. Ты же знаешь, дело не в том, чтобы нажить и пользоваться нажитым, — в том, чтобы нажить самого себя и умереть полным собственной сущности. Пойми, единственная наша награда — смерть, в ней тонет корабль. И счастье, если он полон сокровищ. На что ты жалуешься? На то, что не в силах его догнать? Так я понял, что существует брачный союз и существует общность двоих. «Как беден язык, — думал я, — им кажется, что они себя выразили, а они едва-едва что-то обозначили. И как тщательно они всё взвешивают, мерят, мерятся. Всё разумней, точнее, правильней. Правильней некуда. И когда каждый остаётся со своей правотой — они в тупике. И превращают друг друга в мишень для взаимной стрельбы. Да, мы в союзе, но всё-таки я постараюсь тебя ранить.
XXXIX
Не поддавайся шантажу. Если тебя сегодня зацепили одним, и ты уступил, то завтра зацепят другим, и ты уступишь снова, а значит, сегодняшняя жертва пропала зря.Нужно чувствовать себя собой, только тогда ты будешь доверять собственному разумению. Поэтому так горд верующий. Чужие сомнения не смущают его, они от тех, кто не способен «понять». Умей отличать соглашательство от любви. Тот, кто смотрит мне в рот, ожидая, когда я заговорю, мне не нужен. Я иду и ищу в людях свет, подобный моему. Петь хором — одно. Придумать песню — другое. Кто тебе в помощь, когда ты творишь? Вот и ещё одна сложность, над которой придётся задуматься: для созидания, творчества плодотворно сотрудничество и совместные поиски. Если ствол дерева пронизывают токи любви, и творчество расцветает. Но это не значит, что человека нужно растворить в сообществе, нет, — речь идёт лишь об общем направлении питающих соков, — благодаря им ветви дотягиваются до неба и превращаются в храм. Ошибка здесь та же, что и у логиков: выявив в произведении план, они считают, что план создал произведение, — нет, так оно себя овеществило. План — это обозначившееся лицо. Не нужно каждого подчинять обществу, пусть каждый подчинится своему делу и понуждает всех остальных расти, хотя бы из чувства противоречия. Я побуждаю всех к созиданию и творчеству. Если они будут жить только полученным от меня, они оскудеют и обнищают. Но я тот, кто готов принять их творения, и они возвеличатся в собственных глазах, глядя на мою мощь, созданную их усилиями. Я оградил своими объятьями их коз, овец, зерно и даже дома, я присвоил их и вернул им обратно, как дар моей любви к ним. Я подарил им и храмы, которые они сами построили... Но как свобода — не своеволие, так и порядок — не неволя. (О свободе речь ещё впереди.) Славить я буду тишину — музу плодов, жительницу полных житниц, изобильных подвалов и погребов. Восковые соты медвяного проворства пчёл, умиротворённое собственной полнотой море. Глядя с вершины, я погружаю в тебя — о тишина! — свой город. В нём остановились повозки, смолкла уличная разноголосица и звон наковален. Всё бережно сложено в чашу вечера. Бдит Господь над усердными, укрыты Его плащом встревоженные и обеспокоенные. Тишина в женщине, вынашивающей дитя. Тишина налитых молоком сонных грудей. Тишина в женщине — молчание дневных сует, умиротворение жизни, собирающей дни в сноп. Тишина в женщине — святыня и продолжение. В тишине женщины зачинается единственный путь, который непременно куда-то поведёт. Она ждёт ребёнка, он раздвигает ей живот. Тишина — хранилище, куда я поместил свою кровь и свою честь. Тишина в мужчине — он облокотился на стол, он задумался, он питает и питается соком мысли. Тишина позволяет ему знать и не знать. Как благотворно иной раз незнание. Тишина — это отметание вредоносных паразитов и сорняков. Тишина — хранительница и русло его мыслей. Тишина самих мыслей. Отдых пчёл, они собрали мёд, мёд — сокровище, его нужно хранить. Ему нужно созреть. Тишина мысли, растящей крылья, как она не любит тревог ума и сердца!.. Тишина сердца. Чувств. Слов в тебе, ибо хорошо, когда ты становишься ближе к Господу, а Он — тишина вечности. В ней всё уже высказано, всё уже сделано. Тишина Господа — сон пастуха, нет его слаще, хотя овцы и ягнята всегда в опасности, но как отделить пастуха от овец, когда есть только сон при свете звёзд, когда только и есть что руно снов? Ах, Господи! Перейдут времена, Ты станешь складывать в житницу сотворённое. Ты отворишь дверь болтливому человеческому роду, чтобы навек поместить его у Себя в хлеву, и, как от болезни, разрешишь нас от всех вопросов. Ибо я понял: продвинуться вперёд — значит узнать, что вопрос, который тебя мучил, потерял смысл. Я спросил своих учёных, а они — нет, не то чтобы они ответили на свои прошлогодние вопросы, они — о Господи! — рассмеялись, потому что истина явилась перед ними как ненужность этих вопросов. Я ведь знаю, Господи, что мудрость не умение отвечать, а избавление нашей речи от превратностей. Вот влюблённые сидят на низкой ограде апельсинового сада, они сидят рядышком и болтают ногами, они не нашли ответов на вопросы, которые задавали вчера. Но я знаю любовь, — им не о чем больше спрашивать. Я перерастаю одно противоречие за другим, и всё меньше у меня вопросов, и всё ближе я к благости тишины. Болтуны! Сколько вреда они принесли людям! Только безумец может уповать на ответ от Господа. Если Он примет тебя, Он избавит тебя от лихорадки вопросов, отведя их Своей рукой как головную боль. Вот так. Собирая в житницу сотворённое, открой нам, Господи, створки Твоих ворот, позволь войти туда, где не понадобятся ответы, где вместо ответов будет блаженная безмятежность, которая и есть конец всех вопросов и полнота удовлетворения, — ключ свода, прекрасное лицо. Вошедшему откроется чистейшая гладь воды, куда просторнее морских гладей, он смутно догадывался о ней, когда, болтая ногами, сидел с любимой на ограде сада, и любимая его была похожа на газель, остановленную на бегу, и слегка задыхалась. Тишина — гавань для корабля. Тишина Господня — гавань всех кораблей.
ХL
Бог послал мне обворожительную лгунью, как просто, мелодично и жестоко она лгала! Я заинтересовался ею, словно ветром, прилетевшим с далёкого моря. — Почему ты лжёшь? — спросил я. А она заплакала и спряталась за своими слезами. Я задумался: почему она плачет? «Она плачет, — подумал я, — потому что я не поверил её выдумкам. Я не подыгрываю людям в их пьесах. Не вижу в этом смысла. Она хочет представиться мне другой. Я не вижу тут трагедии. Трагедию переживает женщина, которой так не хочется быть собой. Я совсем не о добродетели, её устои чтут чаще всего ханжи, а не поистине добродетельные. Добродетельной, как дурнушкой, нужно родиться. А всем остальным — им так хочется быть добродетельными, но и любимыми тоже, они не в силах сладить с собой, а вернее, с окружающими. Они постоянно бунтуют и восстают. И лгут, чтоб оставаться хорошими». Причина, высказанная словами, никогда не бывает подлинной. Я упрекаю мою лгунью только в том, что она всё перевернула с ног на голову. Я не слушаю её историй, не слушаю шума слов — с молчаливой моей любовью я вглядываюсь в её усилия. Она рвётся и мечется, как лисица в капкане. Птица, окровавившая грудь о прутья клетки. И я обратился к Господу и спросил Его: — Господи! Почему Ты не дал нам языка, чтобы высказать себя? Слушай я её не любя, я бы её повесил. А ведь её можно и пожалеть: окровавленной птицей мечется она во тьме своего сердца и боится меня. Она похожа на лисицу, которая дрожит, скалится и кусает, пока не вырвет наконец у меня из рук кусочек мяса и не потащит его к себе в нору. — Повелитель! — обратилась она ко мне. — Они не знают, что я ни в чём не повинна. Но я-то знал, сколько смуты она внесла в мой дом. Но жестокость Господа терзала мне сердце. — Помоги ей заплакать, Господи! Пусть она устанет от самой себя и затихнет у меня на плече: она ещё не знает, что такое усталость. Она не понимает, что мечется в ловушке, и мне хочется освободить её. Да, Господи, я нарушил свой долг, я её пожалел. Но разве можно пренебречь одной маленькой девочкой в слезах? Она не вся Вселенная, но она — частичка Вселенной. Она мучается, потому что не в силах сбыться. Потому что вспыхивает и рассеивается дымком. Её лодку перевернула река, она тащит её, и ей не справиться с течением. Но вот прихожу я, я — ваш берег, кров, суть. Я — новый язык, дом, границы, внутренний стержень. — Послушай меня, — говорю я ей. Нужно принять и её. И других человеческих детей тоже. Особенно тех, кто не узнает, что в силах знать... Я хочу взять вас за руку и повести к воплощению... Я — время цветения человека.XLI
Я видел людей счастливых без очевидной радости свадьбы или здоровья, видел несчастных без очевидного горя смерти или болезни. Больного можно поднять на ноги, сообщив ему необыкновенно важную новость, например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском, — все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: «А почему бы, собственно, не поддерживать в них счастье вечно гремящими победными фанфарами?» Я отвечу: «Потому что победа — тот же пейзаж, его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа — переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли её, и она уже не живит, наступает лень, скука, нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить надо, переходя от богатства к бедности и от бедности к богатству? Нет, потому что всю свою жизнь ты можешь бороться с лишениями, с нищетой и накопить только усталость; должник, преследуемый заимодавцами, вешается: мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ему ночей, изношенных бессонницей. Как не живит человека богатство или победа, так не живят его и мелкие радости, которые подбрасывают ему, будто охапки сена корове. Я хочу видеть в мужчинах пылкость и благородство, а у женщин сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня, нет их и для себя самих тоже. Я отвечу: они становятся такими, когда картина мира наполняется смыслом и связями, когда ты повёл солдат в военный поход, начал строить храм или одержал победу. Правда, победа — пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать её плоды, но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться со всеми вместе. Вчера в горе, своём или своих детей, ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвёл победой — и с тобой множество людей. На строительство храма нужен век, целых сто лет богато сердце зодчего. Вкладывая, растёшь и растишь возможность выкладываться. Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошёл круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Помни о празднике, ты дарил и дарил и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один-единственный раз. И в детей мы вкладываем себя, дети нам тоже в радость. В радость и наши гружёные корабли в открытом море, им грозят опасности, они их преодолевают и вплывают вместе с командой в новый рассвет. Вокруг меня возрастает рвение, растёт оно от успешных трудов. И писатель — графоманам такое не в помощь, — чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль. Но мне не по нраву усердие, которое во что бы то ни стало хочет преуспеть. Чем больше я узнаю́, тем больше хочу знать и тем больше потребляю чужого, тем больше обираю других и, пожирая их, жирею. Тем скуднее у меня душа.Одержав победу, человек хочет насладиться её плодами и видит вдруг, что обманулся: он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которая его не греет. Конечно, завоёванным пользуются, но желательно пользоваться им, приготовляясь к новой победе, чтобы воспользоваться вновь завоёванным. Одно должно подстёгивать другое. Так танцуется танец, поётся песня, так молятся, молитвы рождают рвение, а рвение приводит к молитве. И точно так же живёт любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.
XLII
Я сказал им: «Не стыдитесь ненавидеть». И они приговорили к смерти сто тысяч человек. Смертники сидели по тюрьмам с досками на груди, словно меченый скот в стаде. Я обошёл тюрьмы, я смотрел на узников. Люди как люди. Я не нашёл отличий. Я вслушивался, наблюдал, смотрел. Видел, что в тюрьме, как на свободе, делятся хлебом, суетятся вокруг больного ребёнка, укачивают его, не спят ночей. Видел, что и в тюрьмах, как на свободе, мучаются одиночеством, если остались одни. Плачут, когда в толще стен вдруг узнали любовь. Я вспомнил рассказы моих тюремщиков. И попросил привести ко мне преступника, чей нож ещё вчера обагряла кровь. Я допрашивал его сам. Я вглядывался, но не в него, он уже обречён смерти, — в непостижимое в человеке. Жизнь берёт своё где только может. В трещине скалы вырос мох. Первый суховей пустыни уничтожит его. Но мох спрячет свои семена, они будут жить. Кто скажет, что он здесь вырос напрасно? Смертник объяснил, что над ним смеялись, что уязвляли его гордость, его самолюбие... Самолюбие обречённого смерти...Я видел: озябнув, узники жались друг к другу. Те же овцы, такие же, что и повсюду на земле.
Тогда я решил посмотреть на судей, созвал их и спросил: — Почему вы отделили вот этих от всех остальных? Почему у них на груди доски смертников? — Такова справедливость, — отвечали они. Я размышлял: да, такова справедливость. Справедливость для судей — это уничтожение того, кто посягнул на общепринятое. Но и негр — посягательство на общепринятое, если он среди белых. И принцесса среди чернорабочих. И художник среди чуждых художеству... Я сказал судьям: — Мне хотелось бы, чтобы вам показалось справедливым отпустить их всех на свободу. Попробуйте понять меня. Представьте: узники захватили власть в тюрьме и, значит, они вынуждены посадить в тюрьму вас, а потом, может быть, и уничтожить. Я не думаю, что от таких мер царство улучшится. Так я въяве увидел кровавое безумие, причина которого — образ мыслей, и стал молиться Господу: — Безумие владело и Тобой, Господи, когда Ты позволил им довериться своему жалкому лепету. Кто научит их, нет, не словам, — тому, как ими пользоваться. Ветер слов, перепутавший всё на свете, убедил их в необходимости пыток. От неловких, неумелых, бессильных слов родилась умелая, ловкая сила пыток.
Но в тот же миг мои рассуждения показались мне жалким лепетом и вместе с тем желанием кого-то рассудить.
XLIII
Всё, что не живётся тобой и сейчас, — выдумка. Слава — выдумка. И наше восхищение вот этим победителем тоже выдумка.Выдумка и новости, потому что завтра от них ничего не уцелеет.
Учись, ощупывая форму, нащупывая структуру. Наполнение, содержание — всегда чьи-то выдумки. Я выявлю тебя в тебе как пространный пейзаж, над которым мало-помалу рассеивается туманная пелена, — из близи, часть за частью, тебя не разглядишь. Так обнимает истину ваятель. Он не лепит отдельно нос, потом подбородок, потом ухо. Творчество — всегда созидание целостности, а не последовательное присоединение одной детали к другой. Творят все, кого вдохновила рождённая картина, кто сгрудился вокруг неё, спорит, строит, трудится.
XLIV
Наступил вечер и для меня, я спускаюсь с моей горы по склону нового поколения, — лица его я не знаю. Я заранее устал от слов; в скрипе повозок, в звоне наковален я не слышу биения его сердца, — я безразличен к этим незнакомцам, как если бы не знал их языка, равнодушен к будущему, которого для меня не будет, — меня ждёт земля. Но мне стало горько: как крепко я замурован в крепости эгоизма. «Господи! — воскликнул я. — Ты оставил меня, а я оставил людей!» И я задумался, что же меня в них так разочаровало. Ведь мне ничего, совсем ничего от них не нужно. Моим пальмовым рощам не нужна новая отара. Моему замку не нужны новые башни — плащ мой тянется из залы в залу и кажется мне кораблём, преодолевающим морской простор. Мне не нужны слуги, я и так кормлю тех, что по семь или восемь человек выстроились у каждой двери, словно колонны, и вжимаются в стены, заслышав шорох моего плаща на галерее. Мне не нужны новые женщины, я укрыл их всех моей молчаливой любовью и не слушаю больше ни одной, чтобы лучше услышать... Я уже видел, как они засыпают, сомкнув ресницы и погрузив глаза в бархат сна... Я оставил их и поднялся на самую высокую из башен, купающуюся в звёздах, я хотел узнать у Господа, что же такое сон. Вот они спят, и нет больше дрязг, мелочности, жалких уловок, тщеславия и суетности, но настанет утро, и всё это проснётся вместе с ними, и для каждой не будет важнее заботы, чем унизить свою товарку и занять её место в моём сердце. (Но если позабыть их слова, останется щебетанье птиц и трогательность слёз...)XLV
Вечером, когда я стал спускаться с моей горы по склону, где никого не знал, чувствуя себя погребённым в ангельской немоте покойником, меня утешили за то, что я состарился, за то, что стал раскидистым деревом с узловатым стволом и морщинистой корой, которую так трудно поранить, за то, что от пергамента моих пальцев веет запахом времени, будто я успел сбыться. Вот оно моё утешение: я подумал, нет больше тирана, который устрашил бы меня, старика, запахом пытки — у пыток запах кислого молока, — ничего не изменить тирану в том, что уже состоялось, какова бы ни была моя жизнь, она уже есть у меня, она позади, словно плащ, и держится на тонкой тесёмке. Люди уже запомнили меня, и отрекайся не отрекайся — ничего уже не изменишь. Утешало меня и то, что вскоре я избавлюсь от своих тягостных пут, мне казалось, что я уже обменял заскорузлую плоть на лёгкие неосязаемые крылья. Будто разрешился от бремени самим собой и гуляю наконец подле ангела, которого искал так долго. Словно сбросил старую оболочку и снова стал юнцом. Но не порывы, не желания сопутствуют моей юности — безмятежная ясность. Моя юность тяготеет к вечности, а не к сумятице жизни. Новая моя юность была пространством и временем. Мне показалось, я стал вечным.Я напоминал себе путника, который подобрал на дороге раненную ножом девушку. Он поднял её и несёт, словно охапку роз, а она без сил, без сознания, усыплённая стальной молнией, улыбается, отдыхая на крылатом плече смерти, но несёт он её к поляне, где собрались те, кто могут её исцелить. Задремавшее чудо, я наполню тебя своей жизнью, я простился с суетностью, вспышками гнева, гордыней и притязаниями, свойственными людям; с радостями, которые выпали на мою долю, с горестями, которые меня мучили, — есть только ты, которой становлюсь я; и пока я несу тебя к целителям на поляне, я превращаюсь в сияние глаз, в прядь волос, упавшую на чистый лоб, ты поправишься, и я научу тебя молиться, чтобы совершенство души помогло тебе выпрямиться, словно стебель цветка с прочными корнями...
Я больше моего тела, оно треснуло, как скорлупа перезрелого ореха. Не спеша спускаюсь я с моей горы, и плащом за мной тянутся склоны и поляны с разбросанными там и сям золотыми звёздочками — огоньками моих домов. Я клонюсь под тяжестью моих даров, словно дерево.
Спящий народ мой, благословляю тебя — спи. Пусть помедлит солнце лишать тебя ласкового крова ночи! Пусть мой город как следует выспится перед тем, как расправить пчелиные крылья и приняться с зарёй за работу. Пусть те, кого постигло вчера горе и кому Господь дал сейчас отсрочку, не спешат вернуться к трауру, нищете, смертному приговору или смертельной болезни. Пусть помедлят они на груди Господа, прощённые и обогретые. Я тебе охрана. Я не сплю, так поспи ещё ты, мой народ.
XLVI
Сердцу моему так тяжело от тяжести мира, словно я взял весь этот мир на себя. Я стою один, опёршись спиной на моё дерево, я скрестил на груди руки, чувствуя холод ночного ветра, и как заложников принимаю тех, кто ищет с моей помощью утраченный смысл своей жизни, своё в ней место. Нет места у той, что была только матерью и потеряла ребёнка. Она стоит перед бездной как никому не нужное прошлое. Она была лесом лиан, обвивая цветущее дерево, и вот дерева больше нет. «Куда деть мне нежность? — думает она. — И молоко, когда оно прибывает?..» Нет места у прокажённого. Медленным огнём тлеет в нём болезнь, он обречён людьми на изгойство, он не знает, зачем ему желания сердца, которые просыпаются у него в груди. Нет места у твоего друга, он узнал, что болен раком, а у него множество работ в начале, им нужны десятилетия, чтобы осуществиться, — он похож на дерево, оно терпеливо тянуло корни, и они дотянулись до пустоты, висят над бездной. Что делать хозяину — у него сгорели амбары? Чеканщику, потерявшему правую руку? Человеку, который ослеп? На сердце у меня тяжесть всех, кому не на кого опереться. Того, от кого отвернулись близкие, и того, кто сам от них отвернулся. Того, кто мучается на смертном ложе и со стоном ворочается с боку на бок: тело его бесполезнее сломанной повозки, он призывает смерть, а она не идёт за ним. Он кричит: «За что же, Господи? За что?!»Все они — солдаты разбитой армии. Но я соберу их и помогу одержать победу. Нет разбитых армий, каждая побеждает, но по-своему. Ведь в каждом продолжает свой путь жизнь. Цветок вянет, оставляя семечко, сгнивает семечко, пуская росток, и из каждой треснувшей куколки показываются крылья. Да, все вы — земля, пища и повозки прекрасного шествия Господа!
XLVII
Я спросил: «Не стыдно ли вам своей ненависти, гнева, распрь, ссор?» Не сжимайте кулаков из-за пролитой вчера крови, благодаря ей в вас родилось что-то новое, ребёнок рассасывает до кровавых трещин материнскую грудь, бабочка платит за крылья обломками куколки. Чем вы обогатитесь, ратуя за вчерашний день? Он отошёл, нет в нём ни истины, ни подлинности. Опыт учит меня, что палач и жертва — любовники первого кровавого часа любви. Плод будущего рождается от них обоих. И плод этот значимей тех, кто его породил. В нём они примиряются друг с другом до того дня, когда новое поколение проживёт свой кровавый час любви. Да, роды болезненны, человек страдает и мучается. Но вот отпустила боль, и стало радостно. Человек обретает себя в народившемся. Знаете, когда каждого из вас укрывает ночь и вы засыпаете, вы все так похожи друг на друга. Все, все, и тот тоже, кто спит в тюрьме с доской смертника на груди, и он тоже ничуть не отличается от всех остальных. Важно одно — отдать себя своей любви. Язык, он не подпустит меня к сути, поэтому я прощу всех убийц. Этот убил из любви к своему гнезду, ибо не жалеют жизни только ради любимого. И другой убил из любви к своему гнезду. Постарайтесь понять это — это главное — и не считайте заблуждением ценности, отличные от ваших. Не считайте истиной то, что, по вашему мнению, безошибочно. Мы во власти очевидности, и тебе, например, очевидна необходимость подниматься вот на эту гору, но помни: твой сосед тоже во власти очевидности, когда старательно карабкается на свою. Очевидная для тебя необходимость лишила тебя сна, и такая же очевидность заставила вскочить раньше всех соседа. Очевидно для вас разное, но настоятельность очевидного одинакова и для тебя, и для него. Однако тебе кажется, что сосед каждым своим шагом попирает тебя. А соседу кажется, что ты попираешь его всеми твоими делами и поступками. Каждый из вас знает: кроме холода недоброжелательства или откровенной ненависти, в вас живёт ещё и такая очевидная, такая чистая и ясная картина мира, за которую не жалко отдать и жизнь. Но друг друга вы ненавидите, воображая, что у соседа пустое сердце и лживый неправильный, грубый язык. Я смотрю на вас со своей вершины и говорю: «Вы любите одну и ту же картину, хотя, может быть, она не слишком отчётлива». Очиститесь от пролитой крови, освободитесь от плена прошлого: рабство рождает только бунт. Если нет стремления уверовать, чему поможет насилие? Если старая вера умерла и люди ищут новую, чему поможет принуждение? Так для чего вам, едва начнёт светать, хвататься за оружие? Что завоюете вы в кровавых схватках, убивая и не зная даже, кого убиваете? Мне претит голос крови, он взращивает только одно братство — братство тюремщиков.Я не советую тебе спорить. Спор лишён смысла. Твой противник, исходя из очевидной для него картины, отвергает твои истины — он не прав. Не прав и ты — ты, исходя из своей очевидности, отвергаешь его истины. Прими самих людей. Возьми за руку и веди. Скажи им: «Конечно, вы правы, но прежде нам придётся подняться на эту гору». Только так ты установишь в мире порядок, и люди вздохнут полной грудью, завоевав простор.
Когда один скажет: «В городе тридцать тысяч жителей», а другой возразит: «Нет, только двадцать пять», — они договорятся: цифры для всех одни, кто-то из них и впрямь ошибся. Другое дело, когда один говорит: «Город — творение архитектора. Город вечен. Он — корабль и везёт людей». А другой отвечает: «Город — чудесный гимн множества людей, объединённых общей работой...» Один: «Благотворны свобода и противоречия, они питают новое в человеке, помогая ему родиться». Другой: «Свобода развращает. Кедр вырастает по принуждению внутренней необходимости». И вот они проливают кровь друг друга. Не огорчайся, это родовые схватки, поиски себя и вопль, обращённый к Господу. Скажи каждому из них: «Ты прав. Потому что прав каждый». И веди их дальше, к вершине. Сами они ленятся карабкаться вверх: то у них сердцебиение, то ломит ноги. Но, перестрадав страдание, они откроют в себе мужество. Если боишься хищников, ищешь места повыше. Если ты — дерево, ищешь в вышине солнце. И враги помогают тебе, потому что нет на свете врагов. Враги обозначают твои границы, формируют тебя, уплотняют. Да будет ведомо всем: свобода и принуждение — две стороны единой необходимости, необходимости быть таким и не быть иным. Ты свободен поступать так и принуждён так не делать. Свободно говоришь на своём языке и принуждён не устраивать мешанину из разных. Свободен играть в кости, но принуждён соблюдать правила игры, не портя их новыми условиями. Свободен строить новое, но принуждён охранять и беречь старое. Писатель, добившийся скандальной славы нарочитым нарушением всех привычных норм, закрывает путь к успеху всем другим писателям да и самому себе тоже. Утратив чувство стиля, читатель не найдёт вкуса и в нарушениях. Издёвка — та же кража: я назвал короля ослом, все хихикают, потому что привыкли чтить короля. Но почтение мало-помалу изнашивается, король и осёл сливаются воедино, слова мои уже сама очевидность. Никому больше не смешно. О том, что свобода и принуждение — одно целое, знают все: ревнители свободы всегда ратуют за мораль, признавая тем самым необходимость принуждения. «Полицейский надзор должен осуществляться изнутри» — вот что, по сути, заявляют они. Поборники принуждения настаивают, что главное для человека — свобода духа; сколько простора в твоём тесном доме, ты волен переходить из комнаты в комнату, можешь спуститься в прихожую, открыть и закрыть дверь, ходить вверх и вниз по лестницам. Чем больше стен, порогов, засовов, тем ты свободнее. Незыблемость каменных стен обязывает тебя ко многому, навязывая свободу выбора между множеством путей. Беспорядочная жизнь сообща не свобода, а разврат. На деле все мечтают об одном и том же городе. Но один требует дать возможность действовать каждому. Другой требует воспитать каждого, прежде чем тот начнёт действовать. Оба пекутся о человеке. Оба правы. Первый считает, что человек неизменен и независим. Он забыл о тех двадцати годах обучения, принуждения, тренировки, которые так или иначе сформировали этого человека. Забыл, что умение любить приходит от молитвенного состояния души, наученной молиться, а не от отсутствия внутренних обязательств перед чем бы то ни было. Если не освоить музыкальный инструмент, как играть? Если не выучиться грамоте, как писать стихи? Но не прав и второй, он полагается на поддержку стен, а не на самого человека. На храм, а не на молитву. Но не камни главное в храме — тишина, ради которой их сложили. В храме и в человеческом сердце. Сердце, исполненное тишины. Мой храм — сердце. А кто-то обожествил камень и молится ему, для того чтобы камень... Точно так же я молюсь царству. Я обожествил его для того, чтобы оно помогало людям. Я не жертвую людьми царству. Я создаю царство, чтобы заполнить и одухотворить человека. Главное для меня — человек. Я подчиняю человека царству, чтобы он нашёл себя и своё место в жизни. Я не ищу для своего царства рабов. Давай оставим свойственный нам язык, он не передаёт сути, разделяет причину и следствие, слугу и хозяина. Но в жизни осязаемы и реальны только связи, взаимосвязи и внутренние зависимости. Я — царь, я подчинён моему народу жёстче, чем мне любой из моих подданных. Я выхожу на террасу дворца и вслушиваюсь, как они ночью жалуются, бормочут, стонут и всхлипывают от боли, радостно смеются. Их жизнь я превращаю в гимн Господу. Такова суть моего им служения. Я — вестник, я собрал их и помогаю переправиться. Я — раб и подставил плечо носилкам. Я — толмач.
Я — узел, увязавший их в одно целое, ключ свода, преобразивший их в храм. На что роптать им? Разве унизительно для камней поддерживать свод?
Так не спорь же о путях — спор лишён смысла.
Бессмысленно спорить и о людях. Мы всегда путаем следствие с причиной. Откуда узнать людям, что проницает их, если не существует слов, чтобы выразить это ощущение? Как капле почувствовать себя рекой? Но течёт всё-таки река. Как клетке дерева почувствовать себя деревом? Но растёт всё-таки дерево. Как камню ощутить себя храмом? Но всё-таки храм сберегает тишину, словно житница. Откуда знать людям, что они делают, — никогда не поднимались они на гору, никогда не пытались обрести себя в одиночестве и тишине. Одному Господу ведомо, каким вырастет дерево. Люди знают другое: этот тянет вправо, а этот влево. И каждый мечтает уничтожить соперника. Но никто из них не знает, куда же они все вместе плывут. Точно так же враждуют деревья в тропиках. Они теснят друг друга и крадут друг у друга солнце. А лес тем временем разрастается и одевает густым мехом гору, одаряя зарю птицами. Неужели ты веришь, что их слова уместили в себе всю жизнь? Что ни год поют сказители о невозможности войн. Разве есть на свете люди, которые хотят страдать, оставлять жён и детей, воевать за землю, на которой они никогда не поселятся? Никто не хочет лежать под палящим солнцем с вывороченными вражеским снарядом кишками. Спроси любого, хочет ли он воевать, и каждый ответит: «Нет!» Но проходит год, и царство вооружается. Все, кто не признавал войны, — ибо суть её не исчерпать скудным человеческим словом, — проникаются общим для всех духом, который никак не выразишь, и идут на войну, что не имеет ни малейшего смысла для каждого по отдельности. Дерево растёт и ничего не знает о себе. Постичь его может лишь поднявшийся на вершину пророк. Нарождающееся, отмирающее всегда больше, чем люди, оно проходит сквозь них, но они не в силах уловить его словом. Чувство безнадёжности — вот знак наступивших перемен; царство при смерти, ты узнал об этом, потому что жители его изверились в нём. Но ты будешь не прав, если призовёшь неверов к ответу, обвиняя их в близкой смерти царства. Неверие — свидетельство неблагополучия. Но как узнать, что причина, а что следствие? О том, что морали больше нет, ты узнаешь, увидев министров-взяточников. Можно отрубить министрам головы, но они — только свидетельство общего разложения. Закопать покойника не значит бороться против смерти. Но покойников нужно закапывать, и я их закапываю. Министры развращаются, я уничтожаю их. Хотя хочу сохранить им достоинство и запрещаю обсуждать их дела публично. Мне претят слепцы, укоряющие друг друга за слепоту. Я не вправе терять своё время на их пререкания. Мои солдаты дали стрекача, генерал обвинил их в трусости, они стали винить во всём генерала. И сообща, генерал и солдаты, стали ругать вооружение. Армия винит поставщиков. Поставщики ругают армию. И те и другие вместе честят систему. Я объясняю им: сухие ветки нужно обрубить, потому что они свидетельствуют о смерти, но считать их причиной смерти дерева — глупо. Дерево при смерти, поэтому ветки сохнут. Сухаяветка — знак близкой смерти. Видя безнравственность, я караю её, но не провинившиеся занимают меня — другое. Плохи не люди, плохо то, что в людях сгнил человек. Меня заботит занемогший ангел...
Я знаю, объяснения не лечат, — излечивает поэзия. Кого спасли объяснения врача? Врач определил: «Причина смерти в...» Да, действительно, причина ясна: человек умер из-за больных почек. Но почки ещё не вся жизнь. Мы так логично всё выстроили, так аккуратно собрали керосиновую лампу, заправили её, но света нет: не поднесли огня. Любишь потому, что любишь. Нет доводов, на основании которых вспыхивает любовь. Средство одно — творчество; если сердца забьются в унисон, значит, люди вместе, ты помог им объединиться. И мало-помалу музыка, завладевшая их душой, станет мотивом их деятельности. Спустя какое-то время музыка обрастёт доводами, причинами, станет силой, потом догмой. Вокруг твоей статуи соберутся логики и перечислят все основания, по которым твоя статуя прекрасна. И не ошибутся. Она прекрасна. Но не логика открыла им это.
XLVIII
Я знаю: нам не о чем жалеть, и это величайшее из утешений. Ни о чём не стоит жалеть и ни от чего не нужно отказываться. — Прошлое — тот же пейзаж, — говорил мне отец, — здесь у тебя гора, там речка, по прихоти памяти ты расставляешь между ними города, которые любишь навещать. Если тебе чего-то недостало, ты строишь воздушный замок. Построить его легко: ничем не помешаешь нашему мечтанью, потому-то оно так летуче, податливо, ненадёжно, потому-то оно всегда во власти случая. Но не сожалей, твердя, что лучше бы помнить другое. Воспоминания хороши тем, что они есть. В наличии — главное достоинство моего замка, его дверей и стен. Какой завоеватель, завладев землями, сожалел, что гора поднимается здесь, а река течёт там? Для вышивки необходима ткань, для пения и танцев — правила, для человеческих трудов — выучка.Сожалеть о полученных ранах — всё равно что сожалеть о том, что родился на свет или родился не в то время. Прошлое — это то, что сплело твоё настоящее. С ним уже ничего не поделать. Прими его и не двигай в нём горы. Их всё равно не сдвинуть с места.
XLIX
Главное — идти. Дорога не кончается, а цель — всегда обман зрения: странник поднялся на вершину, и ему уже видится другая цель. А достигнутая перестала ощущаться целью. Но ты не сдвинешься с места, если не примешь того, что существует вокруг тебя. Путь для того, чтобы вечно уходить от существующего. Я не верю в отдых. Если мучает противоречие, недостойно закрыть на него глаза и постараться поскорей успокоиться, согласившись с какой-нибудь из сторон. Кто видел, чтобы кедр прятался от ветра? Ветер раскачивает его и укрепляет. Умудрится тот, кто из дурного извлечёт благо. Ты ищешь смысла в жизни, но единственный её смысл в том, чтобы ты наконец сбылся, а совсем не в ничтожном покое, позволившем позабыть о противоречиях. Если что-то сопротивляется тебе и причиняет боль, не утешай, пусть растёт — значит, ты пускаешь корни, ты выбираешься из кокона. Благословенны муки, рождающие тебя, нет подлинности, нет истины, которые явились бы как очевидность. А то расхожее решение, что тебе обычно предлагается, — удобная сделка, снотворное при бессоннице. Я презираю тех, кто валяет дурака, лишь бы позабыть о сложностях, кто ради спокойной жизни душит порывы сердца и тупеет. Запомни: неразрешимая проблема, непримиримое противоречие вынуждают тебя превозмочь себя, а значит, вырасти — иначе с ними не справишься. Искривляя корни, ты пробиваешь безликую каменистую землю, и питаешься ею, и творишь во славу Божию кедр. Истинна слава лишь того храма, который вытерпел износ не от одного десятка поколений. И ты, если хочешь вырасти, позволь противоречиям изнашивать тебя, они — твой путь к Господу. Нет в этом мире другого пути. Согласись, прими страдание, и оно поможет тебе подняться. Но есть слабые деревья, они не выдерживают песчаных бурь. Есть слабые люди, они не в силах себя превозмочь. Убив в себе величие, они кроят себе счастье из посредственности. И согласны вековать на постоялом дворе. Они согласились на выкидыш, они скинули самих себя. Мне нет дела до того, что с ними станется. Они плесневеют среди скудости готового и верят, что счастливы. Они не пожелали видеть врагов в себе и вокруг себя. Они отвернулись от необходимости, неудовлетворённости и неутолимой жажды, через которые говорит с ними Господь. Они не тянутся к свету, как тянутся к нему в гуще леса деревья, — солнце не может сделаться запасом, они всегда будут гнаться за ним сквозь густую тень соседних, будут вытягиваться и расти, пока не станут ровными стройными колоннами, их породила земля, но они возвеличились, потому что искали своего Бога. Бог никого не ловит. Он существует, и человек может взрастить себя на Его просторе, как дерево с могучей кроной. Не снисходи до общепринятых мнений. Люди сосредоточат тебя на тебе самом и помешают расти. Они привыкли считать заблуждением всё, что противоположно их истине, твои метания и противоречия для них легки и разрешимы, и, как плод заблуждения, они отбросят семя твоего будущего роста. Они хотят, чтобы ты обобрал сам себя, стал потребителем, довольствовался готовым и делал вид, будто сбылся. Для чего тебе тогда искать Господа, слагать гимн, карабкаться на горную вершину, чтобы упорядочить пейзаж, который клубится сейчас перед тобой хаосом? Для чего спасать в себе свет? Ведь его не поймать раз и навсегда, его нужно ловить каждый день. Не мешай, пусть они говорят. Советуют тебе легковесные души, они хотят, чтобы ты был счастлив. Прежде времени хотят успокоить тебя, но покой обретаешь ты только в смерти. После смерти послужит тебе накопленное. Копишь ты не запас на жизнь, а мёд на зиму вечности. Если ты спросишь меня: «Так будить ли мне спящего или оставить спать, не мешая его счастью?» — я отвечу, что ничего не знаю о счастье. Но если на рассвете заморозки, неужели ты не разбудишь друга? Неужели оставишь его без восходящего солнца? Многие любят спать и не хотят просыпаться, но всё же высвободи их из блаженных объятий сна, выгони из дома, они должны сбыться.L
Женщина обирает тебя ради дома. Кому не желанна любовь — запах жилого, журчание во дворе родника и едва слышный звон кувшинов, — любовь, благословлённая детьми, следующими один за другим, и в глазах их покой вечера? Но не пытайся выразить благо словесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. Отделили одно от другого слова. Всерьёз любит воин, он узнал безбрежность пустыни, всерьёз бьётся за колодец влюблённый — он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюет не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда — чудовищная возня муравьёв. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлева? Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребёнка, если муж-защитник отправился на войну.* * *
Я не о том, что одно должно сменять другое, что значима то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать. Но женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя: «Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?» И ты согласно улыбаешься в ответ. «Так оставайся со мной, оберегай меня, — продолжает она. — Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, и я склонюсь к тебе апельсиновой веткой, полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдёт в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами». Но ты-то успел узнать, как безудержно влечёт тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина... Ты убеждён: война отняла у тебя чудесную возможность любить. Но поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Только так наполнишься ты, не изнашиваясь, не расплескав полноту в потоке дней, и она останется с тобой, когда дни твои кончатся и тебе позволено будет быть, ибо ты сбылся.Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовёт в ночи любимую и верит, что время течёт для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутолённой жажде любви, забыв, что суть любви — жажда. Знают об этом танцующие, танец сложен из приближений, а кто мешал бы им приникнуть друг к другу? Повторяю: драгоценна неосуществлённая возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва благодатна молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь.
Так не смешивай рвение с потреблением готового. Рвение, урывающее частичку и для себя, не рвение. Дерево усердствует ради плодов, но на что плоды дереву? Так и я с моим народом. Я усердно возделываю сад, но плоды его не для меня. Не замыкай и ты себя в женщине. Не ищи то, что уже нашёл. Будь с нею время от времени, житель гор по временам нуждается в ласковом море.
LI
Как несправедлив тот, кто показывает на тесный домик и говорит: «Он построен для истинных моих друзей...» Что он думает о людях, этот брюзгливый подагрик? Если бы я решил выстроить дом для истинных моих друзей, я бы не справился: так он должен быть огромен; нет человека, который не был бы мне другом, хотя бы одной своей малоприметной чёрточкой. Тот, кому по моему приказу рубят голову, тоже мне друг, и в нём есть согласие со мной, но расчленить человека невозможно. Друг мне и тот, кто считает, что ненавидит меня, и с удовольствием отрубил бы голову мне. Не подумай, что я говорю из дешёвого прекраснодушия, снисходительности или пошлого желания понравиться, — нет, я по-прежнему твёрд, суров и молчалив. Но дружественное мне и в самом деле обильно, оно рассеяно повсюду и быстро наполнило бы мой дом, помоги я ему сдвинуться с места. А ты? Кого ты называешь своим истинным другом? Если того, кому доверяешь без опаски деньги, значит, дружба для тебя — честность слуги. Если того, к кому обращаешься за помощью и получаешь её, значит, дружба для тебя — выгода, которую можно извлечь из других. Если того, кто в нужный момент встанет на твою защиту, значит, дружба — долг чести. Но я презираю арифметику и называю другом того, кого вижу внутри каждого из нас, он может спать в глубинах естества, но при моём приближении проснётся, узнает и улыбнётся мне, хотя, возможно, завтра этот человек предаст меня. А ты зовёшь в друзья только тех, кто выпьет вместо тебя цикуту[368]. На такую будущность и впрямь немного охотников. Слывущие добряками ничего не смыслят в дружбе. Мои отец был жесток, но у него были друзья, он умел любить их и не знал разочарований. Разочарование в дружбе — это обманувшееся корыстолюбие. Разочарование низко, куда же подевалось в человеке всё то, что ты полюбил? Ведь и вначале в нём было то, что тебе не нравилось. Но и любимого тобой, и любящего тебя ты превращаешь в раба и, если он не выдерживает тягот рабства, казнишь его. Друг подарил тебе любовь, а ты вменил ему любовь в обязанность. Свободный дар любви стал долговым обязательством жить в рабстве и пить цикуту. Но друг почему-то не рад цикуте. Ты разочарован, но в разочаровании твоём нет благородства. Ты разочарован рабом, который плохо служит тебе.LII
Я расскажу тебе об усердии. Потому что со всех сторон ты будешь слышать укоры. Например, от жены за то, что не принадлежишь ей одной. Жёны убеждены: вне дома ты отдаёшь украденное в доме. Мы забыли о Господе и выучились торговаться. Мы забыли, что, отдавая, не истощаешь, а расширяешь возможность отдавать. Любящий в людях Господа любит любого из людей щедрее, чем тот, кто сосредоточился на любви к единственному и поселил любимого в тесном садике своего «я». Воин, преодолевающий вдали опасности, щедрее одаряет любовью любимую, хотя, наверно, она не задумывается об этом, чем тот, кто день и ночь при своей жене, но сам не сбылся. Не экономь на душе. Не наготовить припасов там, где должно трудиться сердце. Отдать — значит перебросить мост через бездну своего одиночества. Отдавая, не старайся узнать кому. К тебе и так придут и скажут: «Он не стоит такого подарка». Как будто ты открыл лавочку и вознамерился торговать. Знай: взявший без отдачи подарил тебе возможность бескорыстно послужить Господу. И служит Ему не тот, кто охает над раной ближнего, — тот, кто пустился не медля в далёкий путь по горным тропам, чтобы вылечить рану слуги своего слуги. Но если ты ждёшь благодарности, ты низок, ты — лакей больше, чем все лакеи, вместе взятые, ведь за твою заботу не расплатиться и вырванным из груди куском мяса. Через нуждающегося в твоей помощи ты послужил Господу, так поклонись ему до земли за то, что он согласился взять у тебя.LIII
Я был молод, я ждал прибытия наречённой, что была предназначена мне в жёны. Караван вёз мне её из такого дальнего далека, что дорогой успел состариться. Ты видел когда-нибудь состарившийся в пути караван? Караванщики, что стояли перед моими дозорными на границе, не знали своей родины. За время странствия умерли те, кто ещё помнил её и мог о ней рассказать. Они умерли один за другим, и их похоронили в песках. Пришедшие к нам хранили воспоминания о воспоминаниях. Песни, которые они переняли от стариков, были легендами о легендах. Ты видел чудо чудеснее, чем приближение корабля, который построили и оснастили в открытом море? Юная девушка, что вышла из золотого с серебром ковчега, выговорила слово «родник». Она знала: когда-то давным-давно в счастливые времена существовали родники, и выговорила это слово, будто молитву, но не ждала ответа, ибо и Господу молятся по памяти других людей. Ещё удивительнее было её умение танцевать, танцам её научили среди гранитных скал пустыни, она знала, что танец — тоже мольба и молитва, что на эту мольбу может ответить царь, но в пустыне и на неё не ждала ответа. Безответно молишься и ты до самой смерти, танцуя свой танец перед Господом. И ещё одно чудо: жизнь будто и не прикасалась к ней, будто только сейчас вылепили её тёплые, словно голубки, груди, её гладкий живот, чтобы рожала царству сыновей. Да, казалось, она родилась совершенной — безупречное зёрнышко, принесённое из заморских стран, прекрасное, переполненное дарами, которые самому ему не нужны, — мы станем такими после смерти, собрав все свои дела, заслуги, усвоенные уроки, как доказательство, что мы сбылись. Жизнь не посягала на её приданое, девственным было её тело, девственными — танцы без зрителей, девственным оставался родник, которого не касались её губы, цветы, которых она никогда не видела, но из которых её научили составлять букеты. Совершенство моей наречённой не нуждалось в свершениях, ей оставалось одно — умереть.LIV
Я уже говорил: благодаря молчанию Господа, молясь, ты нарабатываешь в своём сердце умение любить. Если Господь тебе откроется, ты истаешь в Нём и сбудешься. Зачем тебе тогда расти и возвышаться? И вот тот, кто отыскал Господа, видит женщину, огородившуюся гордыней, подобно моему треугольному военному лагерю, — как спасти её? В безнадёжности он печалится о человеческом жребии. «Господи! — говорит он. — Я обо всём догадался и думал, она расплачется. Слёзы — дождь, отводящий грозу, они умягчают гордость, молят о прощении. Если бы она почувствовала себя слабой и заплакала, я простил бы её. Но она стала хищной куницей, кусается и царапается, защищаясь от несправедливостей Твоей Вселенной, она больше не умеет не лгать». Он пожалел её, потому что ей так страшно. И стал рассказывать Господу о людях: «Ты внушил им страх перед клыками, когтями, шипами, ядами, острыми ракушками и скалами Твоей Вселенной. Пройдёт немало времени, прежде чем они успокоятся и вернутся опять к Тебе». Он ведь знает, в каких далях плутает эта лгунья и как долго ей придётся идти, чтобы вернуться! Он жалеет людей, видя пустое пространство в их душах, отделяющее их от Господа, а они о нём и не подозревают. Кое-кто удивлён его откровенному потаканью отвратительной распущенности. Но он-то знает, что ничему не потакает. Он молится: «Господи! Я не судья им. Бывают времена судилищ, тогда любого — и меня тоже — могут сделать судьёй. Но лгунью я взял с собой, потому что она боится, а совсем не для того, чтобы наказать её. Видано ли, чтобы спаситель, сочтя спасённого недостойным, столкнул его обратно в воду? Спасаешь, и всё. Спасаешь не человека, а Господа в нём. А когда спасёшь, человека можно и наказать. Ведь и смертника, если он болен, лечат, прежде чем повесить. Нет права пренебрегать человеческим телом, хотя тело — возможность осуществить кару».Тем, кто мне скажет: «Ради чего ты суетишься, надежда спасти её так ничтожна!» — я отвечу: «Царство очеловечивается не результатом поиска — усердием в поиске. Никто не требует от врача оправдания за то, что он вмешивался в жизнь больного. Необходимо предпринять попытку, пуститься в путь, цель всегда приблизительна, на дороге множество случайностей, ты не можешь знать, куда придёшь. С одной вершины горы видна другая. Кроме человека, ты спасаешь и ещё что-то, если воодушевлён чистой верой в спасение. Но если ты стараешься ради платы, если работаешь за вознаграждение, словно нанятый по контракту, ты — лавочник, а не человек. Что ты можешь знать о превратностях пути? Всё, что о них говорится, — слова и ничего больше. Значимо только направление пути. Важно идти, а не прийти куда-то, ибо приходим мы только в смерть».
* * *
Беспутна она от тоски и безнадёжности. Руки опускаются, когда ничего не хотят удержать. Беспутность — тоже отчаяние: сокровища, к какому ни прикоснись, рассыпаются одно за другим в прах. Цветок увял и оставил семечко, но ты-то думал, что он будет цвести вечно, и теперь ты в безнадёжности и тоске. Я уже говорил, что зову оседлым не того, кто в молодости любил девушек, потом завёл дом, женился, качал детей, учил их, растил и на старости лет оделял житейской мудростью, — этот человек всю жизнь шёл и шёл вперёд. Оседлому хочется стоять возле женщины и восхищаться ею, как прекраснейшим из стихотворений, черпать сокровища, будто из сокровищницы, но вскоре он видит: усилия его тщетны, нет на земле неисчерпаемых источников — пейзаж, увиденный с вершины горы, радует, пока сохраняет вкус победы. Мужчина тогда бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути, в этом всё дело. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей, любить с её помощью. Любить благодаря стихам, но не сами стихи. Любить благодаря пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Беспутство порождено тоской, человеку никак не удаётся сбыться. Так мучаются от бессонницы, ворочаясь с боку на бок, ища у подушки щеки попрохладнее. Но стоит прилечь, подушка опять горячая, её отшвыривают прочь и снова ищут прохлады. Но откуда ей взяться? Она исчезает от прикосновения. Меняют возлюбленных и те, кто видит пустоту в людях; люди и впрямь пусты, если не стали окном, смотрящим на Господа. Вот почему посредственность любит только то, что не даётся в руки: стоит насытиться — и становится тошно. Лучше всех знают об этом танцовщицы, которые танцевали передо мной танец любви. Я хотел бы помочь стать цельной той, что обирает мир и кормится репьями, — истинные плоды протягивают нам из-за предела ощутимого, а здесь каждый играет свою игру, и стоит её разглядеть, как остывает сердце. Но она просыпается, когда от человеческого существа повеет на тебя безнадёжностью. Когда ты не чувствуешь в нём жизненности и видишь его заблудшей овцой, слабым ребёнком или обезумевшей от ужаса лисицей, что вцепляется тебе в руку, если ты её кормишь. Разве обидят тебя её страх, её ненависть? Неужели ты оскорбишься злобным словом или укусом? Стоит отвлечься от слов с их бессмысленным смыслом, как сразу ты ощутишь близость Господа. Я первый за то, чтобы отрубить обидчику голову, если этого требует моё чувство справедливости, если мне нанесено оскорбление. Но я неизмеримо больше лисицы, мечущейся в ловушке, и могу — нет, не простить, меня не достигают обиды на вершине моей горы, где я всегда одинок, — я могу расслышать в её бессмысленных воплях глухую безнадёжность.С самой прекрасной, благородной и совершенной из девушек ты можешь оказаться вдали от Господа. Её не нужно утешать, собирать, укреплять. И если она просит тебя позаботиться о ней и целиком принадлежать любви, она призывает тебя к эгоизму на двоих, который по ошибке зовут светом любви, — нет, это бесплодный пожар, грабёж житниц. Я коплю себя не для того, чтобы замкнуть себя женщиной и успокоиться.
Зато распутная, лживая, неверная требует от меня столько сердца, чтобы её любить, столько терпения и молчаливости, которые так красноречиво говорят о подлинной любви, что благодаря ей я начинаю ощущать вкус вечности.
Есть время судить, но есть время сбываться...
А теперь я расскажу тебе, что означает принять человека. Если ты открыл дверь бродяге, он вошёл и сел, — не распекай его за бродяжничество. Не суди. Больше всего он нуждается в приюте — наконец-то пришёл и принёс кому-то груз своей усталости, воспоминаний, свою одышку, наконец-то поставил свою палку в угол. Ему нужно тихонько посидеть, он глядит на твоё спокойное участливое лицо, не вороша прошлого, своих явных изъянов и бед, потому что ты его не осуждаешь. Он позабыл даже о костыле, потому что ты не просишь его станцевать. Мало-помалу он успокаивается, ты наливаешь ему молока, и он пьёт, отламываешь хлеб, и он ест, и твоя улыбка, обращённая к нему, становится тёплым плащом, словно солнце слепому. Почему ты решил, что он низок и недостоин твоей улыбки? Почему решил, что дал ему что-то, если не дал главного — не принял его? Вот ты принял смертельного врага, и как благородны теперь ваши отношения! Ты хочешь выжать из него благодарность тяжестью своих даров? Он возненавидит тебя, если уйдёт обременённый долгами.
LV
Не смешивай любовь с жаждой завладеть. Эта жажда приносит только мучения. Вопреки общепринятому мнению любовь не причиняет мук. Мучает инстинкт собственности, а он противоположен любви. Любя Господа, я, хромой, ковыляю по каменистой дороге, чтобы поделиться своей любовью с людьми. Мой Бог не раб мне. Я сыт тем, чем Он оделяет других. Истинную любовь я распознаю по неуязвимости. Умирающий во имя царства не обижается на него. Можно жаловаться на неблагодарность одного человека, другого, но можно ли говорить о неблагодарности царства? Царство создано твоими дарами, и как жалка будет арифметика, если ты потребуешь от царства возмещения почестями. Положивший жизнь на возведение храма — переливает себя в него, он любит свой храм и не видит от него ни в чём обиды. Настоящая любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Чтобы научить человека любить людей, нужно научить его молиться, потому что молитва безответна. Под личиной любви вы прячете ненависть, вы сделали стойку возле женщины или мужчины, вы превратили их в свою добычу и, стоя как собака над костью, ненавидите всех, кто косится на ваше пиршество. Эгоизм насыщения вы зовёте любовью. Как только вам дарят любовь, вы так же, как в ваших фальшивых дружбах, обращаете свободного и любящего в слугу и раба, присвоив себе право обижаться. И чтобы заставить его лучше служить себе, казните ежечасным зрелищем своих страданий. Да, конечно, вы всерьёз страдаете. Но именно ваше страдание и не нравится мне. А что в нём, скажите мне, хорошего? В юности и я мерил шагами террасу под полыхающими звёздами: сбежала рабыня, которая казалась мне единственным моим лекарством. Я поднял на ноги всех моих воинов и послал за ней вдогонку. Добиваясь её, я бросил к её ногам не одну провинцию, я заплатил бы ей и собственной жизнью, но, Бог мне свидетель, никогда не называл любовью охоту.* * *
Дружбу я узнаю по отсутствию разочарований, истинную любовь по невозможности быть обиженным.Когда приходят к тебе и говорят: «Брось эту женщину, она тебя обижает...», выслушай их со снисхождением и люби её по-прежнему, ибо кто в силах тебя обидеть? Тебе скажут: «Брось её, ты же видишь, старания твои бесполезны». Выслушай их со снисхождением и люби её по-прежнему: ты уже сделал свой выбор. И если можно украсть полученное тобой, то кто в силах отнять у тебя тобой отданное? Тебе скажут: «Здесь ты в долгах. Там у тебя их нет. Здесь смеются над твоими заслугами. Там почитают их». Заткни уши, зачем тебе арифметика?
Всем ты можешь ответить: «Любить меня — значит вместе со мной трудиться».
Вот и в храм вошли только друзья, и несть им числа.
LVI
Я открыл тебе этот секрет и повторяю ещё раз: твоё прошлое — это медленное рождение тебя, точно так же, как всё происходящее в царстве, вплоть до сегодняшнего дня, — рождение царства. Сожалеть о прожитом так же нелепо, как мечтать родиться в другом времени, в другом месте, мечтать остаться навсегда ребёнком, и этими нелепыми желаниями отравлять себе жизнь. Только безумец может метаться и скрипеть зубами, глядя в прошлое; прошлое — гранит: оно было. Прими этот день, он дан тебе, чтобы ты не боролся с непоправимым. Непоправимое не имеет никакого значения, прошлое никогда ничего не значит. Ведь не существует цели, которая может быть достигнута, периода, который завершился бы, эпохи, которая кончилась, — делят и обозначают границы только историки, — так откуда нам знать, о чём стоит жалеть на этом пути, — пути, который не кончен и никогда не кончится? Смысл не в том, чтобы нажить запасы, сесть и не спеша ими пользоваться, смысл в неостывающих стремлениях, пути и переменах. Путь побеждённого, что копит силы под сапогом победителя, удачливее, чем у хозяина, который потребляет припас вчерашней победы и близится к смерти. Ты спросишь меня, к чему же тогда стремиться, если нет никакого смысла в цели? Я открою тебе тайну, которую прячут нехитрые, заурядные слова, которую мало-помалу открывала мне мудрость жизни, знай: приуготовлять будущее — значит всерьёз заниматься настоящим. Тот, кто устремлён к будущему, а оно не более чем его собственная фантазия, истает в дыме утопических иллюзий. Подлинное творчество — это разгадывание настоящего в разноречивых словах и несхожих обликах дня. Но если ты пренебрегаешь сегодняшним из-за пустых и вздорных фантазий о будущем, ты — прожектёр, который поверил, будто храм и колоннада возникнут из завитушек его пера. В мире вымысла нет врагов, но, не встречая сопротивления, как обрести форму? Вопреки чему потянется вверх колоннада? Одно поколение за другим выстраивает колоннаду, противясь изнашиванию жизни. Нельзя сочинить форму, можно её нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет всё сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства. Приводить в порядок нужно всегда настоящее. Что толку обсуждать качество наследства? Ты не можешь предвидеть будущего, ты можешь позволить ему быть. Конечно, у тебя будет немало работы, если сегодняшнее станет для тебя материалом для творчества. Вот и я, например, называю ячменные поля, дома, горы, коз и овец — в общем, всё, что вижу вокруг, — обителью, крепостью, царством. Я превращаю их в то, чем они не были, ощущаю как единство и целостность, хотя коснись этой целостности разум, он разрушит её, потому что бесчувственен, — так я укрепляю настоящее, так, не жалея сил, поднимаюсь на гору и складываю пейзаж: в нежной голубой дымке лежат на зелёном полотне полей, словно пасхальные яички, пёстрые города. Моя картина не истинней и не лживее городов-кораблей, городов-храмов, она просто другая. В моей власти сделать так, чтобы людская жизнь помогала моей безмятежной ясности. Знай, подлинное творчество вовсе не предвосхищение будущего, не ловля химер и утопий, оно — новая картина настоящего, а настоящее — всегда беспорядочная куча самых разнородных вещей и предметов, доставшихся тебе по наследству, доставшихся не для радости, не для горя, они — точно такие, как ты, и они и ты — есть. Будущее? Пусть оно, как дерево, тянет вверх одну за другой свои ветви от настоящего к настоящему, дерево станет сильным и мощным, достигнет зрелости и примет смерть. Не беспокойся о моём царстве. С тех пор как вместо дробного мира люди увидели целостную картину, с тех пор как я взял на себя труд ваятеля и стал тесать камень, мощь моего творчества подхлестнула их судьбы. С этих пор они начнут побеждать, и мои сказители найдут о чём слагать песни: вместо мёртвых богов они будут славить жизнь. Взгляни на мои сады: с рассветом в них приходят садовники растить весну, они не спорят о пестиках и тычинках, они сажают семена. Так вот, отчаявшиеся, несчастные, побеждённые, я говорю вам: вы — армия победителей, вы выступаете в поход только сегодня, и как радостно быть настолько юным. Однако не подумай, что обдумать настоящее легко. Оно противится, когда ты его обживаешь, противится так, как никогда не будут противиться твои вымыслы о будущем. Упавший на песок возле высохшего колодца изнемогает от жгучего зноя и так легко шагает в своих мечтах. Без усилий, огромными шагами торопится он к избавлению от жажды. Сладостно пить в мечтах, где шаги не потребовали усилий и одарили тебя водой, словно гибкие податливые рабыни, ты не встретил ни одного шипа, который вцепился бы в твою одежду. Но покорное завтра не наступает, наступает агония, скрипит на зубах песок, колыхание пальм, полноводная река и пение прачек медленно уносят тебя в смерть. Путник идёт по земле, сбивает о камни ноги, кровавится о шипы, карабкаясь по склону. Ему выданы все трудности восхождения, и он должен преодолеть их одну за другой. Он создаёт воду напряжением собственного тела: мускулами, мозолями на ладонях, ранами на ногах. Вмешавшись в разброд противящейся действительности, он силой своих собственных рук выжимает воду из камней пустыни. Пекарь так месит тесто, он чувствует, как оно уплотнилось, противясь усилиям его рук, сбилось в тугой ком, который он должен разминать и разминать, но этот ком говорит: хлеб будет. Точно так же работает поэт и ваятель; как свободны они перед наплывающими строками, перед глыбой мрамора, они могут всё — создать трагедию или комедию, наклонить голову вправо или влево, но до тех пор, пока у них столько возможностей, ничего не рождается. Но вот рыбка клюнула, удочка согнулась дугой. Ты не можешь сказать то, что тебе хотелось бы: поставленное слово мешает новому, но ты не хочешь вычеркнуть первое, оно тоже важно, а оба вместе не даются тебе в руки. Ты тасуешь слова то так, то этак, ты месишь глину, стараясь поймать улыбку, которая от тебя убегает. Не логика тебе в помощь, она отсечёт одно в пользу другого, ты ищешь ключ свода, он объединит твои противоречивые истины, ибо ни одна из них не должна потеряться, и вдруг чувствуешь: стихотворение вот-вот появится, мрамор вот-вот улыбнётся, потому что тебя стеснили возлюбленные враги. Никогда не слушайся тех, кто, желая тебе помочь, советует отбросить хоть одно из твоих исканий. Ты угадаешь своё призвание по той неотвязности, с какой оно тебе сопутствует. Предать его — значит покалечить себя, но знай: твоя правда будет обозначаться очень медленно, её не сведёшь к внезапно найденной формуле, она будет вырастать, как дерево, и работать на неё будет только время. А ты? Тебе надо сбыться, подняться вверх по крутому склону. Рождённая дробным миром целостность, которую ты обретёшь, будет не разгадкой ребуса, а преодолением противоречий и исцелением кровоточащих ран. Обретая эту целостность, ты ощутишь и её могущество. Вот почему я так настаиваю, чтобы ты почитал тишину и неспешность — богов, о которых успели позабыть.LVII
Хорошо быть такими юными и неискушёнными, как вы, — обделённые, несчастные, побеждённые, — вы, которые из своего богатого наследства взяли себе лишь дурноту вчерашнего дня. Но если я выстрою храм, вы придёте в него и я зароню в вас зёрна своей веры, а вы, укрытые могущественным покровом тишины, начнёте неторопливо расти, чтобы стать великолепной жатвой, то найдётся ли у вас время отчаиваться? Кто из вас не помнит утро победы: умирающие на одре болезни, изъеденные заживо метастазами, калеки на костылях, должники и судебные исполнители, узники и тюремщики превратились из врагов, потерпевших, страдальцев в народ, радующийся победе. Победа стала ключом свода, а многоликая разобщённая толпа — часовней в её честь. Кто из нас не видел, как ветвилась, передаваясь от сердца к сердцу, любовь, — любовь, которую пробудило, возможно, величайшее несчастье, ставшее ключом свода и повернувшее людей друг к другу, радуя их возможностью поделиться хлебом, потесниться у очага? Даже ты, недовольный ворчун-подагрик, в своём тесном домишке, который оказался всё же слишком просторен для немногих твоих друзей, вдруг понял, что распахнулись двери храма и входят туда лишь друзья, которым несть числа. Так есть ли место отчаянию? Вечное рождение — вот что есть. Есть и непоправимое, оно — знак свершившегося, а не причина для грусти или веселья. Непоправим факт моего рождения, раз я есть. Непоправимо прошедшее, но настоящее ждёт строителя, валяясь под ногами грудой самого разнообразного материала, вы должны сложить его, чтобы у нас было будущее.LVIII
Друг тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяге на костыле и с палкой, друг поставит палку и костыль в угол и не попросит бродягу станцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадуется весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг — это та частица в человеке, которая отдана тебе, тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг, всё, что он говорит тебе, чистая правда, он любит тебя, даже если в другом доме он тебя ненавидит. В храме мне друг каждый, кого я благодаря Господу встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освещённое светом нашего Господа, здесь мы одно, хотя, выйдя из храма, он — лавочник, а я — военачальник, он — садовник, а я — матрос. Я встретил его, поднявшись над тем, что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты — мне друг, ты дождёшься посланцев моего внутреннего царства и обойдёшься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь. И обоим нам хорошо. А я? Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошёлся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысяче дней пути от меня, едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых распрей повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен. Знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и дородству, как почувствую себя в доме друга, если он, заметив мои костыли, попросит станцевать, чтобы высказать своё мнение? В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся, бури неплохо помогают кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришёл к Нему в храм, Он тебя принял.LIX
Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счётам, а значит, и к взаимной неприязни, — ты ведь помнишь: брось им зерно и узнаешь, как они ненавидят, — то постарайся вернуть им чувство уважения, невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит, видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники. Говоря тебе всё это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. В другое время ты будешь судьёй. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обречённого, если он болен. Не страшись этих противоречий, недостаточен наш язык, когда речь идёт о человеке. Противоречат друг другу слова, которыми мы изъясняем суть. В осуждённом есть тот, кого ты отдал палачу, но есть в нём и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого — неправильно: одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства, от несовершенства слов он так труден для понимания. Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь.LX
Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы: на людях у неё меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты, щёки у неё розовеют, если кто-то на неё взглянул, — уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь. Но для неё ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворённого тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями. Скудная, жалкая радость сродни калечеству. Сродни чесотке: кожа зудит, и её с наслаждением расчёсывают. Нежность и ласка совсем другое, они — кров, они — надёжность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щёчке — знак, что его оберегают. Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств. Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается. Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка, отважный воин, я не считаю, что в нём заговорило тщеславие. Что волнует одного? Что трогает другую? В чём их отличие? Тщеславная, когда она засыпает... Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру своё семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось. Не понять дерева, которое отдаёт плоды и ничего не получает взамен. Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно. Не понять стараний танцовщицы: она станцевала танец и осталась ни с чем. Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: «Жертвенность — самое человечное в человеке». И он горд, но не за себя — за человека. Тщеславные всё превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников, мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов. Скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой в его глазах значительнее, чем он сам. Я хочу, чтобы животворило вас отданное, а не полученное, ибо возвышаешься — отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печётся о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах. Чем одарит тебя твой плод? Возможностью отдавать безвозмездно.Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы: «Я одаряю красотой, изяществом, величавой поступью, жизнь моя волей жребия прекрасный храм, мужчины молятся на меня. Я есть, и это моё дарение». У тщеславия и дары подложные. Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод — преображённая земля. Танец — преображённое умение ходить. Кровь воина преображается в храм и царство. Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбежались и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Свои радости она украла у природы. Не прилагая усилий, расходуется она на кобелей. А как наслаждается тщеславица чужой завистью! Как ей лестны завистники! И вот ещё одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и кажется — дерево, отягощённое плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвёшь с них? Однако всегда найдётся глупец, который верит, что сорвал с ветки плод, он польщён умом говорящего. Раз нашёлся облагодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу.
Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности. Король одарил улыбкой подданного. «Видите, король меня знает», — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. «Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь», — вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облёкся королевским величием. «И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него подданных». Но тщеславный завидует королю. Король улыбнулся ему, и, нацепив его улыбку, как орден, он разгуливает теперь пародией на короля, чтобы позавидовали и ему. Король одел его на полчаса в свой пурпур. А под пурпуром — ужимки и душа обезьяны.
LXI
Торговцы озабочены судьбой товаров, и для нас товары стали главной ценностью. Мы уверились: нет большей радости, чем покупки. Да и откуда нам быть иными, если потрачено столько усилий, чтобы укрепить нашу привязанность к вещам? Да, конечно, любая вещь, если жертвовать для неё собой без остатка, обретёт величие. Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет. Камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, за нетленный жемчуг она платила бренным телом. Я не презираю религии камня. Но недостойно кадить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно каждения. Но вот я протянул малышу игрушку, он забился в угол, боясь, как бы я её не отнял. Здесь другое — малыш обрёл божество и готов стоять за него, не щадя себя.LXII
Я размышлял о безусловности власти. Мне жаль, что неосязаема пирамида, вершина которой — Бог, а основание — люди. Но возьмём короля и предположим, что власть его и впрямь безусловна, что властьего для тебя — неоспоримая данность, вроде пути из залы совета в гостиную в замке моего отца: к нему ведёт вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя, и тебе незачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот. Ты следуешь установленным путём свободно, ты подчинён ему не из трусости, низости или искательства, и точно так же без трусости, низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловна, а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя, а для государя власть не исконная данность, а случайность политической интриги, спорный результат частных мнений или успех хитрости — ты будешь ему завидовать. Завидуют только тому, на чьём месте возможно оказаться. Негр не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью, которая жаждет уничтожить для того, чтобы воспользоваться самому. Пойми, я осуждаю не честолюбие, честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти родятся только интриги, а интриги — гибель для творчества, которое в первую очередь чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего небезусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твоё положение становится для тебя невыносимым. Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унизить, у него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит, чем тут наслаждаться, чему радоваться? Вот я пришёл и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как равные. Только такое равенство я признаю исполненным долга. И если я расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желания польстить ему и расположить к себе — мне не нужны избиратели, — я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ. Я пришёл в гости просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел. Моя власть безусловна, поступки мои не диктуются низкой корыстью, я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я — гость, он — хозяин, и, кроме других разных чувств, мы испытываем друг к другу просто человеческое тепло. Дары гостеприимства, будто стрелы, вонзаются в моё сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолётную мысль: нищий вздохнул о Нём в раскалённой пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князёк с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны, по изобилию даров судит он о собственной значимости. Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе, он идёт под жарким солнцем в тень, в тени возле стены стою я, он наливает мне свежей воды, и сердце моё освежается любовью.LXIII
На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Вещь ты счёл безусловным и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъём, вот и любовь питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе, — нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельной вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка, второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом, необходима игра мускулов, связующая их воедино. Кулак, который держит. Звёзды, число девять, родник ещё не стихи, но они появились, когда я завязал всё одним узелком, заставив девять звёзд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали. Но не вещи главное. В ловушке для лисиц главное не верёвка, не палка, не защёлка — творческое усилие, которой соединило их, и вот ты слышишь тявканье пойманной лисицы. Я — поэт, ваятель, танцовщик, я сумею поймать тебя в свою ловушку. А любовь такое же творчество. Чего ждут от куртизанки? Телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоёван оазис. Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела, и, преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой. Разница не в доступности: раскрой объятия, и любимая прильнёт к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку, всё, что ни принесёшь ей, она сочтёт заслуженной мздой. Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Так расставлены фигуры в танце, который танцуется с куртизанками. Солдаты с тощими кошельками в сумерках разбрелись по весёлому кварталу, они торгуются и покупают любовь, как хлеб. И, как хлеб, покупная любовь даёт им силы шагать по пустыне дальше, усмирив тело и сделав радостным одиночество. Но, покупая любовь, они примерили фартук лавочника, они не почувствовали, что означает усердие. Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что её одарили, — но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золото тысяч и тысяч караванов и всё-таки ничего не подаришь. Нет того, кто принял бы от тебя дары. Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут за ухом маленького лисёнка. Что-то похожее на любовь сжимает им сердце, когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом, они хмелеют от благодарности, если лисёнок нечаянно к ним прижмётся. Но в каком из весёлых кварталов куртизанка прижмётся к тебе, потому что ты ей нужен? Случается, однако, что кто-то из моих солдат, не богаче и не беднее прочих, тратит свои деньги не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру, он — солдат, он презирает деньги. Он заходит в один притон, в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю. Мой солдат расстаётся со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя, он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснётся любовь и в куртизанках, потому что сейчас танцуется другой танец, и этот танец в радость и им. Повторяю: принимать и брать не одно и то же, ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймёшь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвёл и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена. А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате.LXIV
Растратчиками — вот кем стали жители моего царства. Никто в нём больше не пестует человека. Одухотворённое лицо в нём уже не маска, оно — крышка пустой коробки. Только и знали они, что разорять Сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. А значит, и жизни. Потому что живёшь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека. И уничтожили человека. Ища радость, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало ощущение прочности быта, устоев, неизменности обрядов. Устоями поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и всё перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих связей, им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. Тщетная надежда. Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят: принуждения сковывают возможности человека. Так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься. Часто верят, что радует готовое. Что можно просто-напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждёшь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе, только если ты сам мучительно расставался, если неумолимая судьба казалась тебе галерой. Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймёт песню галерника; тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймёт песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пуст, и дать тебе что-то невозможно. Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлёбкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот? Если он не напоминает тебе, как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти — любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак безнадёжности? Всё вокруг для тебя молчит, и счастья у тебя не больше, чем у коровы. Но если ты сживёшься с деревенской жизнью, то мало-помалу поймёшь, что же такое деревня, — и это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами и обычаями, твоими лишениями и обязанностями, неизбежными вспышками гнева и раскаяния, и ты сменил привычное тебе на иное, — в тот давний вечер ты восторгался призраком деревни, теперь ты узнал её подлинную мелодию, ты учил её долго-долго и так не хотел учиться вначале, но теперь она тебя не покинет, так запомни: нелегко становиться человеком. Но если ты пришёл в деревню и всё, чем она живёт, для тебя — игра и забава, — ты ограбил её; кто относится всерьёз к забавам? И от деревни ничего не останется. Ни тебе, ни её жителям...LXV
— И мне нужен порядок, — говорил отец, — но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно только презрения. Какой человек процветает — вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не пожалеет времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто чуток к поэзии, — о таком человеке я забочусь. Если не строить храмов и кораблей, снаряжённых в неведомое, если не корпеть над стихами, которые разбередят человеку душу, конечно, сбережётся немало времени, но стоит ли тратить его на утучнение человечества — не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы и кропотливо отделываю стихи. Сколько времени уходит на похороны! Сколько сил тратится на копание могилы! А они пригодились бы на пахоту, на жатву... Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем меньше чтить мёртвых. Кладбище — лучшая память об ушедших, медленно идут люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них — корень в земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых мощей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп — опустевшая сокровищница, но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ! Когда-то я приказал строить дома для усопших — да, это дорого, да, бесполезно, — но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а въяве, что живые и мёртвые живут вместе, что они — единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблём и украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится. Глядя из близи, как смотрят близорукие, человек быстротечен, но никак не износится тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над надгробиями, я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями: пусть жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу, рост вверх кажется мне достойнее роста вширь, и вот, хорошенько всё обдумав, я трачу сэкономленное время на погребения и труды над надгробиями. — Да, я чту порядок, — говорил отец, — порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нём разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья; упорядочен человек, хотя живёт он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только пахать землю или только совершенствоваться, нет, он копает землю и молится, любит и выстаивает перед соблазном любви, работает и бездельничает, и вслушивается в мелодию вечера. Но отдельные мои сограждане прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушные логики, историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава — плод совместного усердия. Чтобы всё упорядочилось, нужна картина, которую любили бы все. А для этих порядок самоценен, они обсуждают его, совершенствуют и в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не умещается в слова. Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звёзд. Они сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в слове. Кто обзовёт тебя обманщиком, если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один? Но мне кажется, я дам людям что-то лучше овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звёзд. Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Соразмерность стихов — свидетельство их завершённости. Но не с соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: «Вглядитесь, это — великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она — залог величия». Послушавшись их, вы создадите мёртвый скелет или мумию для музея. Я взращиваю любовь к царству, и благодаря ей всё упорядочивается, на своём месте оказываются землепашец, пастух, жнец, и над ними зиждитель, оплодотворяющий их любовью. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить славе Господа. Их порядок рождён любовью зодчего. Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и всё упорядочится. Служить порядку — значит сеять смерть. Порядок ради порядка — это уродование жизни.LXVI
Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, в соседней — некрасиво. И понял: нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, почётные дипломы не в помощь красоте. Больше того, можно трудиться день и ночь напролёт, но если тебя занимает не роспись, а что-то ещё, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишала не миска, а жадность, тщеславие, честолюбие. Ты занят собой, ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой, самозабвенно претворяясь в вещь. Он дал её тебе вместо алтаря, и она вместила бы всё: твои морщины, тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие, утомлённые вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твоё усердие. Благодатна только молитва, а молитва — это самозабвенное дарение себя, чтобы наконец сбыться. Ты же птица, она вьёт гнездо, и в нём тепло; ты же пчела, она собирает мёд, и он сладок; ты же человек, он лепит вазу, любя только вазу, только любя, а значит, молитвенно. Ты влюблялся в стихи, написанные ради денег? В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твоё тщеславие, корысть и притязания невысокого полёта.LXVII
И вот они все пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей. Но я знаю: слово только обозначает, оно не в силах выразить суть, и любая речь даёт лишь представление об образе мыслей и только. Поэтому бессмысленно возражать ей или её поддерживать. Я посмеялся над ними. — Твой генерал, он не прислушался к моим советам, — сказал один, — а всё вышло так, как я говорил. Да, конечно, бывает, что ветер слов и им принесёт картинку, до которой снизойдёт будущее и уподобится ей, но на следующий день тот же ветер принесёт другую картинку, потому что каждый может сказать и говорит всё, что угодно. И если генерал, который продумал, как ему расположить своё войско, взвесил шансы, прощупал обстановку, послушал, как спит его враг, и прикинул, каково будет пробуждение, если вдруг этот генерал меняет все свои планы, перемещает военачальников, разворачивает войска и импровизирует сражение только потому, что праздный прохожий пять минут обдувал его ветром слов и они повисли в воздухе изящной цепочкой доводов, — я лишаю такого генерала погон, сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить. Мне по нраву другой воитель, он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь, и говорит: — Я чувствую: надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке, и они дадут дёру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, они чувствительны на ухо. Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают... Я люблю танцоров, которые понимают толк в танцах, они хорошо танцуют. Танец — вот она, истина. Чтобы соблазнить, нужно сблизиться. И чтобы убить, тоже нужно сблизиться. Ты скрестил клинок с клинком, сталь танцует напротив стали. Ты видел когда-нибудь, чтобы человек сражался и размышлял? Где в бою время на размышление? А ваятель? Погляди, его руки мнут и мнут глину, и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностные, потому что только слова обозначают и разделяют, на словах и существуют противоречия. А в жизни? Нет, она не простая и не сложная, не понятная, не загадочная, не противоречивая, не целостная. Она есть, и всё. Язык упорядочивает её, усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что существуют две истины, — она одна: истина встречи. И только танец сближает нас с жизнью. Тот, кто понадеялся в жизни на разум, а не на богатство сердца, и продумывает, как разумнее всего действовать, никогда не примется за дело: на его разумное решение предложат ещё более разумное, он поразмыслит и найдёт третье, ещё умнее. Веские доводы одного адвоката, ещё более веские другого — нет этому конца. Очевидна только вчерашняя истина, да и истинного в ней только то, что нечто стало данностью. И если ты хочешь разумно объяснить, чем это творение замечательно, ты объяснишь. Потому что заранее знаешь, что тебе придётся объяснять. Но творчество не работает с готовым, оно по другой епархии. Бухгалтер, даже если ты дашь ему камни, не построит храма. Но вот мои разумные инженеры обдумывают каждый свой шаг, словно ход в шахматах. И я готов согласиться, что в конце концов они выберут правильно. (Хотя сомневаюсь: шахматные задачи одномерны — проблемы жизни не решить взвешиванием. Вот, например, тщеславный скупец, скупость спорит в нём с тщеславием, и какой расчёт, какое взвешивание определит, что возьмёт верх?) Но предположим, что они вычислили самый верный шаг. Но они забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты снизойдёшь и сделаешь свой ход. Всё происходит вне времени, которое только и питает дерево, торопя его расти. Но время не в помощь шахматам. Только жизнь органично связана со временем, она развивается, она растёт, как растёт живое существо, а не как механическое сцепление причин и следствий, — хотя задним числом ты сможешь показать своим ученикам и эти причины, и эти следствия, удивив их стройностью. Причины и следствия лишь знаки совсем иной силы — силы всепреодолевающего творчества. В жизни противник не ждёт. Он сделает двадцать ходов, пока ты размышляешь над своим. И твой ход окажется страшной нелепостью. А чего, собственно, ему ждать? Ты видел, чтобы ждал танцор? Он танцует в паре и таким образом ведёт партнёра. Те, кто действуют, положившись на разум, всегда опаздывают. Поэтому я приглашаю править моим царством тех, в чьих руках кипит работа, и видно, что их руки вымесят хлеб. Работник будет работать и работать, а логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику.LXVIII
Ошеломило меня и ещё одно открытие — счастье ровно ничего не значит для человека, равно как и корысть. Единственное, в чём он всерьёз заинтересован, — это в том, чтобы неустанно жить. Если он богач — обогащаться, если моряк — плавать на корабле, если грабитель — сторожить в засаде при свете звёзд. Но если счастье — это беззаботность и безопасность, то я видел не однажды, как легко от него отказывались. Мой отец озаботился судьбой проституток в том смрадном квартале, что, словно отбросы, сползал по откосу к морю. Они протухали в нём, как сало, и заражали гниением путешественников. Он отправил отряд солдат за проститутками — так отправляют экспедицию за редкостными насекомыми, желая изучить их нравы. И вот отряд не спеша шагает меж отсыревших стен прогнившего квартала. Он видит: за окнами жалких лачуг, жирно пахнущих прогорклой стряпнёй, сидят под лампами, которые им вместо вывесок, оплывшие женщины, бледные, как тусклый фонарь под дождём, их красные, как кровь, губы на тупых коровьих лицах сложены в мёртвую улыбку — девушки ждут клиентов. По обычаю, чтобы привлечь внимание прохожих, они тянут заунывную песню, — бесформенные медузы распространяют вокруг себя слизь. Обезнадёживающая жалоба оплетает улочку. Мужчина поддался ей, за ним захлопнулась дверь на полчаса, и в горькой скудости совершается обряд любви, заунывная мелодия сменяется учащённым дыханием мертвенно-бледного чудовища и каменным молчанием солдата, который купил у призрака право больше не думать о любви. Он пришёл вытравить цвет у мучительных снов, потому что родился, возможно, среди пальм и улыбающихся девушек. Понемногу в дальнем странствии густая зелень пальм отяготила его сердце невыносимой тяжестью. Мучительно зазвенело серебро ручья, и улыбчивые девушки с гибкими, грациозными телами, с угадываемыми под лёгкой тканью нежными тёплыми грудями всё больнее и больнее касались сердца. Он принёс своё жалкое жалованье в весёлый квартал, прося избавить его от снов. И когда дверь открылась вновь, он твёрдо стоял на земле, самодостаточный, жёсткий, высокомерный, он погасил свет, в лучах которого играло и переливалось единственное его сокровище. Посланный отряд вернулся, отъединив несколько полипов, ослепив их стальным блеском собственной неуязвимости. Отец показал мне на бледные растения. — Благодаря им, — сказал он, — ты узнаешь, что правит всеми нами. Он приказал их одеть в новые платья, поселил каждую в чистеньком домике с журчащим ручьём у порога и приказал плести для него кружева. Платил он им вдвое против того, что они могли бы когда-нибудь заработать. Следить за ними он не велел. — Жалкая болотная цвель теперь счастлива, — сказал он. — Если счастье в чистоте, покое и обеспеченности... Но одна за другой они сбежали и вернулись в свою клоаку. — Им нужна была нищета, — сказал мне отец. — Не потому, что они глупы и предпочитают нищету благополучию, а потому, что важнее всего для человека напряжение сил и жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой и бездельем. Всё это не казалось им настоящей жизнью, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свету, в чистоте и плести кружева, чтобы всё это перестало быть радующим глаз зрелищем, а стало обязанностью, необходимостью, которые выручают тебя и поддерживают. Они получили, но ничего не отдали. И поэтому стали сожалеть о тяжких часах ожидания — не оттого, что они горьки, а вопреки их горечи, — часах, когда они сидели и смотрели на чёрный прямоугольник двери, в котором время от времени появлялся ночной гость, жёсткий и полный ненависти. С тоской вспоминали они, как перехватывало у них дыхание, будто от глотка отравы, если солдат, прежде чем войти, смотрел тяжёлым взглядом, словно собираясь вести на бойню, и щупал глазами грудь... Ведь бывало и так: какой-нибудь из гостей протыкал какую-нибудь из хозяек кинжалом, словно бурдюк, чтобы не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберёт весь её капитал — несколько серебряных монет. Они тосковали по своей грязной трущобе, где жили своим мирком, пили чай, если кому-то приходило в голову прикрыть весёлый квартал, подсчитывали барыши, ругались и гадали друг другу по грязным ладоням. И, быть может, нагадывали уютный, увитый цветами домик, где жили те, что почище их. В построенных мечтами домиках они и жили такими, какими видели себя в мечтах. Но ведь не меняют же нас путешествия. Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нём свои огорчения, недовольства, мании, ты идёшь по нему, прихрамывая, если ты хром, потому что нет заклинания, которое вмиг бы тебя переменило. Мало-помалу, при помощи принуждений и страданий, я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец сбылся. Но с чего перерождаться той, что проснулась вдруг в чистоте и уюте, — она зевает, и, хотя ей не грозят больше трёпки, заслышав стук в дверь, невольно втягивает голову в плечи, и, если продолжают стучать, невольно надеется на что-то, — невольно, потому что знает: ночь больше не пошлёт ей гостей. Она не устаёт больше от гнусностей ночи, но и не рада свободе утра. Судьбе её можно теперь позавидовать, но она лишилась ежевечерней игры судьбы, она переселилась в будущее и живёт жизнью, какой никогда не жила. Она не знает, как ей справиться с внезапными вспышками гнева, они достались ей от той мрачной, нечистой жизни и мучают, как мучает животных, которые долго прожили возле моря, страх перед приливом, хотя теперь они живут на равнине. Гнев возвращается, но нет несправедливой судьбы, против которой так хочется кричать и жаловаться в голос, — они похожи на мать, потерявшую ребёнка, — прибывает молоко, но оно никому не нужно. — Человек ищет напряжения сил и жизни, а вовсе не счастья, — повторил отец.LXIX
Мне опять говорят: время нужно экономить. «Для чего?» — спросил я. И мне ответили: «Чтобы его хватало и на культуру». Можно подумать, что культура — какое-то особое занятие. Хорошо, возьмём, к примеру, мать семейства, она кормит детей, убирает дом, штопает бельё, и вот её избавили от её обязанностей, без неё накормлены дети, вымыт дом, зашито бельё. У неё освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и вскармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая её, — всё это уже не её дело. Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал только на носилках, если не обдирал руки о шипы на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо. Ничего не говорит ей и слово «дом», если дом никогда не требовал от неё ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда поутру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего. Если никогда она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь, — жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли и в углу мокрые пелёнки уснувшего малыша, потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре, сама, без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, — так поутру охорашивается птица на ветке, приглаживая клювом пёрышки; если никогда не возвращала вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей, возвращением с работы мужа, сминая этот порядок, словно воск. Если она не знает, что дом поутру — податливое тесто, а вечером — книга, полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежной страницы, что ты ей скажешь словом «дом», когда нет в нём для неё никакого смысла? Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси её отчистить до блеска потускневший медный кувшин, и что-то от его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для неё дом, который нужно обновлять на заре... А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но какой в нём прок? Только безумец делит: вот это культура, а вот это работа. Человек тогда возненавидит работу — мёртвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Играют не в кости — в стада, пастбища, в собственное золото. Ребёнок играет в песок, но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль. Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт. Видел, как воин пьёт чай с куртизанками. Видел, как тёплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И конечно, все они счастливы. Но повторяю: им было от чего устать, они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт, валяясь на траве, мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Существом их жизни была работа. Возьмём, к примеру, зодчего: вот у него возник замысел, он загорелся им, но значим зодчий только тогда, когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это будет правдой для каждого. Если ты экономишь время на работе — я не имею в виду отдых, расслабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, — ты получаешь мёртвое время. Если ты разрываешь жизнь на две, несовместимые друг с другом жизни: на работу и на досуг, работа становится ярмом, для которого жаль души, а досуг — пустотой небытия. Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религией чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души; только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека, — культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготовляла бы культуру. И я — я настаиваю: для чеканщиков существует единственная культура — культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлётах и тяготах их работы. Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком, которая для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей; и она же твоё воздаяние, ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя — только пародия. Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятиях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, — что тебе остаётся, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты всё-таки существуешь? Но не ошибись, игра мало чего стоит, она вне принуждения необходимостью, и в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же: лежать днём в своей, пусть пустой, пусть тёмной — ради отдыха глаз — комнате и лежать в тёмной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и так же пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником. Навести одного и другого на закате первого дня. Свободный в восторге от необычной игры, узник поседел. Узник не в силах рассказать, что пережил, у него нет подходящих слов, он похож на путника, тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире, всё для него изменилось, изменился и он сам, но какими словами расскажешь о перемене? Только дети втыкают в песок ветку, обращаются к ней «ваше величество» и всерьёз благоговеют перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придётся сделать из своей ветки божка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы. Жертва уже не игра, и ветка принесёт плоды: в человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутёмной комнаты, он переживёт такое, о чём и не подозревал, и от нежданных видений у него побелеют волосы. Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждёт дождя или, напротив, машет на дождь рукой, он в общении, он распространился, он познаёт. Ни одно из его движений не остаётся без ответа. Всякая религия тоже общение, она предуказует праведный путь, один верен ему, другой ловчит, один узнаёт, что такое душевный покой, другой — что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, а не иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нём был осмыслен. Отец не любил бестолкового топтания скотины в хлеве.LXX
Да, она была прекрасна, эта танцовщица, которую наконец схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живёт, в моём царстве откроются неведомые доселе земли, пространные равнины, тёмные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам. «И у неё есть дом», — говорил я. Но видно было, что она нездешняя и живёт среди нас как посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить её молчание, но её прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой. Прежде всего я чту в человеке то, что неподвластно огню. Оболочка человека, ты пьяна от тщеславия, ты — само тщеславие, когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и впрямь кто-то есть. Но палач поднёс поближе к тебе горящие угли, и нутро твоё растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор, не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота, он выдал мне всех заговорщиков, он исповедался, признавшись во всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях, он вывернулся передо мной наизнанку — те, кто носит картонные доспехи, не таят про себя ничего. После того как он оплевал и отрёкся от своих союзников, я спросил у него: — Как ты устроен? Для чего важно выставляешь вперёд живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное упасаешь ты свои дряблые телеса, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты — бурдюк, урчащий ветром дурацких слов... Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть и ещё более отвратительно слушать. Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне. — Я сожалею, государь... Я смотрел на неё, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела ещё более плавно. — Я сожалею, государь... Она думала, какие страшные её ждут муки. — Ты же знаешь, — сказал я ей, — твоя жизнь в моей власти. — Я чту вашу власть, государь... Тайна, которую она хранила, и готовность умереть за неё исполняли её необычайной значимостью. Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри. Но я должен был исполнить свой долг перед царством. — Твои поступки заслуживают смерти. — Увы, государь... — Она стала ещё бледнее, будто призналась мне в любви. — Это будет справедливо... Я знаю людей и понял невысказанное: «Справедлива, наверно, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны...» — Ты таишь про себя то, что для тебя дороже юности, прекрасного тела, сияющих глаз, — продолжал я. — Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрёшь. Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа. — Может, вы и правы, государь... Я чувствовал, моя правота существует для неё только в царстве слов, где она не умеет защититься. — Итак, ты покоряешься. — Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить... Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобой. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распахивает ветер слов. — Я не умею говорить, государь, и покоряюсь... Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остаётся неизменным, как мидель-шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо следует за своей звездой. По звезде я определяю и его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача. Долго и пристально смотрел я на неё. — Кто выковал тебя? Ты откуда? — спросил я. Она улыбнулась и не ответила. — Станцуй. И она начала танцевать.Необычаен был её танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама. Ты смотрел на реку с вершины горы? Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через неё, река её огибает, извивается по равнине, следуя понижениям почвы, медлит в излучинах, потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая её к морю. Вот задремала, разлившись озером, и вновь торопливо устремилась вперёд, разрезав равнину, будто клинок. И танцовщица считалась с силовыми линиями, и это мне больше всего понравилось, она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром, то скользит с лёгкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу карабкаясь вверх. Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной. И как радовалась преодолению. И то, что смерть оборвала её танец. Мне понравилось, что она торила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные. Что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное. Что она сопротивлялась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она, плавно кружась, текла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева, оно не свободно, занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка. Танец — судьба, танец — жизненный путь. Я хочу понять, каков ты и к чему стремишься, только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь, тебе нужно на другую сторону, ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую, соперник встал на дороге, и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился, — паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра. Для танца необходим противник, но какой противник удостоит тебя танцем клинка, если ты — пустое место?
Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце моё защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый, — это не маска, это крышка пустой коробки. Ты — пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранительницу наследия многих поколений. Увидел прочность семечка, которое устоит и перед палачом, — нет жернова, который выжал бы из него масло тайны. Оно — залог, и во имя него идут на смерть, благодаря ему умеют танцевать. Упражняя душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и становишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймёшь, что для него главное и как он станцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она — необитаемая пустошь? Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится о камни, где знойное лето иссушает ниву, где человек противостоит варварству, где варварски уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец — это борьба в ночи с ангелом. Танец — и война, и совращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождёшься от раскормленной скотины в хлеве?
LXXI
Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают видеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатились вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит: хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится мусорницей для вещей.LXXII
Мой отец говорил: — Созидать — вот главное. Если в тебе мощь созидателя, не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать — значит создавать жизнеспособное, в творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принёс любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков. Не выдумывай вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его, где культуру будет нарабатывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки ваятеля или музыка. Выводи как можно отчётливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом, заглушай пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг, которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, — пой и пой и не заботься о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдутся толкователи и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит, потечёт вода, а река установит свой порядок, и правда твоя восторжествует. Главное — изменить уровень почвы,направление, устремление к... В перепадах сила приливов и отливов, мало-помалу без помощи всякой логики подтачивают они скалы и расширяют морскую империю. Повторяю тебе: если в картине есть мощь, она воплотится. Не пытайся начать с расчётов, свода законов и всяческих нововведений. Не придумывай, каким будет будущий город, город, который будет, не сможет на него походить. Внуши любовь к башням, вздымающимся над песком. И рабы рабов твоих зодчих лучше тебя разберутся, как доставить камни. Ведь и вода своим неуклонным стремлением к морю находит способ обмануть бдительность копани. — Потому и не может быть зримым созидание, — говорил мне отец, — незрима и любовь, объединяющая дробность мира в царство. Бороться с созиданием так же нелепо, как пытаться его показать. От невиданного ты заслонишься удивлением, и на всё, что бы тебе ни показали, будешь предлагать другое, ещё лучшее. Но скажи, как показать царство? Если, рассказывая, ты начнёшь дотрагиваться до каждой вещи, то перед тобой окажется груда вещей. Представь, ты рассказываешь о тишине в полумраке храма и при этом разбираешь храм по камешку — что подтвердит твоя куча камней? Она так далека от тишины. Но вот я беру тебя за руку, и мы идём с тобой вместе. Дорогу нам преграждает гора, и мы взбираемся на неё. Мы усаживаемся на вершине, я говорю с тобой, и мой голос кажется тебе голосом твоих собственных мыслей. Гора, которую я выбрал, расположила всё именно так, а не иначе. Отвлечённый образ превратился в картину. Она реальна. Ты сам её часть. С чем тебе спорить? Если я поселил тебя в доме, ты живёшь в нём и судишь обо всём с точки зрения домовладельца. Если я оставил тебя наедине с красавицей, жаждущей любви, ты влюбишься в неё. Разве сможешь ты не влюбиться только потому, что мой произвол вынудил тебя встретить её здесь и сейчас, а не в другое время и в другом месте? Самое важное — чтобы ты был где-то. И созидаю я только тем, что выбрал день и час без обсуждений, и вот они существуют. Тебе смешон такой произвол. Но слышал ли ты когда-нибудь, что влюблённый перестал любить, рассудив, что встреча — это чистая случайность, что женщина, которая томит ему душу, могла бы уже умереть, или ещё не родиться, или жить неведомо где? Выбрав час и место, я создал в тебе любовь; знаешь ты или нет о моём участии — что изменит твоё знание? Оно не защитит тебя — и вот ты у меня в плену. Если я хочу видеть тебя горцем, шагающим ночь напролёт к звёздной вершине, я создаю картину, и для тебя становится очевидным, что только молочный свет горних звёзд утолит твою жажду. Я для тебя буду только случайностью, высветившей твою собственную внутреннюю необходимость, вроде стихов, которые бередят твои чувства. Знаешь ты или нет о моём участии — что это меняет? Почему твоё знание должно помешать тебе пуститься в путь? Может ли быть, что, толкнув дверь и увидев впотьмах сияние бриллианта, ты не пленился им только потому, что дверь открылась случайно и могла привести тебя совсем в другую комнату? Если я уложил тебя в постель с помощью снотворного, то и сон, и снотворное подлинные. Сотворить, создать — значит поместить человека туда, где мир явится ему как желанное, и совсем не значит предложить ему новый мир. Если я не сдвинул тебя с места и хочу показать тебе новую, придуманную мной вселенную, ты ничего не увидишь. И будешь прав. С твоей точки зрения, моя выдумка — ложь, и ты справедливо защищаешь свою истину. Я ничего не добьюсь красноречием, блеском остроумия, парадоксами, потому что речь красна и остроумие сверкает, когда на них смотрят со стороны. Ты в восхищении от меня, но я ничего не создал, я — жонглёр, фокусник, мнимый поэт. Но если я иду по дороге, которая не праведна и не лжива, а просто есть, то как можно отрицать её? И если я привожу тебя этой дорогой туда, откуда тебе открывается новая истина, ты не видишь, что сотворил эту истину я, не замечаешь ни моего красноречия, ни блеска остроумия, ни парадоксов, просто мы шли с тобой шаг за шагом; и можно ли в чём-то упрекнуть меня, если от распахнувшейся шири у тебя захолонуло сердце, если эта женщина и впрямь сделалась красивее, а равнина просторнее. Я господствую, но моё господство не оставляет следов, отпечатков, знаков, ты не видишь их, против чего тебе протестовать? Только так я воистину творец, воистину поэт. Поэт и творец ничего не выдумывают, ничего не показывают, они вынуждают быть. Суть творчества в преодолении противоречий. Свет, тьма, гармония, дисгармония, простота, сложность — всё внутри человека Всё это — есть, есть — всё. И когда ты хочешь с этим «всем» справиться при помощи своих неуклюжих слов и заранее продумать свои действия, то, за что бы ты ни схватился, всё оказывается сплошными противоречиями. Но вот прихожу я, обладающий властью, и не собираюсь ничего тебе объяснять при помощи слов, потому что твои противоречия и впрямь неразрешимы. Я не собираюсь упрекать язык в лживости, он совсем не лжив, он просто неудобен. Я собираюсь позвать тебя на прогулку, и шаг за шагом мы придём с тобой и усядемся на вершине; оглядевшись, ты не увидишь своих противоречий, и я оставлю тебя постигать твою новую истину.LXXIII
Смерть показалась мне сладкой. — Дай мне, Господи, покой хлева, — взмолился я, — порядок среди вещей и собранную жатву. Дай мне побыть, не требуй от меня становления. Я устал хоронить своё сердце. Я слишком стар, чтобы опять и опять растить молодые ветки. Одного за другим потерял я друзей, врагов, и печальный свет пустоты засветил мне на дороге. Я ушёл, вернулся и вижу: люди толпятся вокруг золотого тельца, не так уж они и корыстны, просто глупы. И дети, что родились сегодня, дальше от меня, чем не знающие о Боге варвары на заре веков. Во мне тяжесть сокровища, но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно. Я начал трудиться с топором дровосека в руках и хмелел от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне. Но я подошёл к людям слишком близко и устал. Яви мне Себя, Господи, всё невмоготу, когда отдаляешься от Тебя.После упоения торжеством мне приснился сон. Да, тогда я был победителем и вошёл в город. Осенённая цветением знамён толпа запрудила улицы, славя меня гимнами и восторженными криками. Цветы устилали путь нашей славы. Но Господь послал мне одно только чувство — горечь. Я чувствовал себя пленником немощной толпы. Толпа — плоть твоей славы, но как ты в ней одинок! Всё, что льнёт к тебе, не может с тобой соединиться, близость приходит лишь на дороге к Господу. В том, кто уповает вместе со мной, обрёл я себе близкого. Мы — зёрна одного колоса, ссыпанные в один мешок, и предназначены для испечения хлеба. Обожанием толпа иссушила меня, как пустыню. Мне не за что чтить её, она заблуждается, я не нахожу в себе того, кого можно было бы обожать. Я не чувствую чужого чувства о себе, я тягощусь собой и устал волочить себя за собой повсюду, я хочу избавиться от себя, чтобы наконец слиться с Господом. Они курят мне фимиам, наполняя меня тоской и печалью, я чувствую себя пустым колодцем, к которому, ощущая жажду, приник мой народ. Мне нечем утолить её, но и они, уповая на меня, не могут мне дать и капли воды. Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской. В этой толпе только мёртвые, которых оставила суетность, кажутся мне достойными. И когда говор толпы отдалился, как ничтожный шум, в который незачем вслушиваться, мне привиделся сон.
Скользкая отвесная гора вздымалась над морем. Гром грянул, будто треснул бурдюк, и растеклась тьма. Я упрямо карабкался к Господу, чтобы спросить Его о смысле всех вещей, чтобы понять, куда поведёт путь преображений, который так настоятельно Он вменил мне. Но на вершине горы я увидел лишь большой чёрный камень — это и был Господь. «Это Он, — сказал я себе, — неизменный и вечный». Сказал, потому что не хотел оставаться в одиночестве. — Господи, научи меня, — взмолился я. — Мои друзья, сотоварищи, слуги — всего лишь говорящие марионетки. Я держу их в руке и передвигаю по своей воле. Но не их послушливость мучительна для меня — я рад, если моя мудрость становится их достоянием. Мучает меня то, что они сделались моим отражением, и теперь я одинок, словно прокажённый. Я смеюсь, и они смеются. Я молчу, и они затихают. Моими словами, каждое из которых мне знакомо, говорят они, будто деревья шумом ветра. Только я наполняю их. Нет для меня благодетельного обмена, в ответ я всегда слышу лишь собственный голос, он возвращается ко мне леденящим эхом пустого храма. Почему их любовь повергает меня в ужас, чего мне ждать от любви, которая множит лишь меня самого? Мокрый, блестящий гранит каменно молчал. — Господи, — молил я, — в Твоей воле молчать. Но мне так нужен знак от Тебя. На соседней ветке сидит ворон, сделай так, чтобы он улетел, когда я кончу молиться. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Тёмный, неясный, но пусть у нас будет с Тобой разговор. Подай мне знак, что дашь мне понять всё со временем. Я не прошу большего. Я перевёл глаза на ворона. Он сидел неподвижно. Я упал ниц перед камнем. — Господи, — сказал я, — Ты прав во всём. Не Твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Если бы ворон улетел, мне стало бы ещё горше. Такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя, он был бы опять отражением — отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим одиночеством. Я поднялся с колен и пустился в обратный путь. И случилось так, что темнота отчаяния сменилась безмятежно-ясным покоем. Я увязал в грязи, обдирал руки о колючки, превозмогал бешеные порывы ветра и нёс в себе ясный, безмятежный свет. Я ничего не узнал, но и не хотел ничего узнать, любое знание было бы тягостно мне и не нужно. Я не коснулся Господа, но Бог, Который позволяет дотронуться до Себя, уже не Бог. Не Бог Он, если слушается твоей молитвы. Впервые я понял, что значимость молитвы в безответности, что эту беседу не исказить уродством торгашества. Что упражнение в молитве есть упражнение во внутренней тишине. Что любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Любовь — это упражнение в молитвенном состоянии души, а молитвенное состояние души — укрепление во внутреннем покое. Я вернулся к моему народу и впервые обнял его молчанием моей любви, понуждая своим молчанием приносить мне дары всю их жизнь. Опьяняя тишиной сомкнутых губ. Я стал для них пастухом, дарохранительницей песнопений, хранилищем судеб, хозяином добра и жизней и был беднее всех и смиренней в своей гордыне, которой больше не позволял сгибаться. Я знал, что не мне брать у них. Во мне они должны были сбыться, и душа их должна была зазвучать в моём молчании. С моей помощью все мы вместе становились молитвой, которую рождало молчание Господа.
LXXIV
Ибо я видел, как мяли они свою глину. Приходили жёны, трогали их за плечо: наступил час обеда. Но они отсылали жён обратно к горшкам, не в силах оторваться от глины. Наступала ночь, и ты видел: при тусклом свете керосиновой лампы они ищут для своей глины формы — какой? Они не сумели бы сказать. Охваченные усердием, люди не выпускают из рук своего дела, они срослись с ним, как яблоня с яблоком. Они — ствол, наливающий его соком. Они не оставят его, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадёт от них. И когда они трудятся, не щадя сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе их творения? Работая, они работают не на купца и не на самого себя, они работают на глиняный кувшин, на изгиб его ручки. Не спя ночей, они вынашивают его форму, и мало-помалу она наполняет радостью их сердце, как наполняет женщину радость материнства по мере того, как тело её заполняется младенцем и он мягко толкается в нём. Но если я собираю вас всех вместе, чтобы вы лепили огромный кувшин, который, по моему замыслу, должен быть в сердце каждого города хранилищем священной тишины, то этот кувшин, обретая форму, должен вбирать что-то от каждого из вас для того, чтобы вы его полюбили, и тогда он будет для вас благом. Хорошо будет, если я соберу вас всех вместе строить морской фрегат, вы сладите ему стройный корпус, палубы, мачты, и наконец в день, прекрасный, словно день свадьбы, вы благодаря мне оденете его белоснежными парусами и подарите морскому простору. Стук ваших молотков будет звенеть тогда как песня, ваш пот и крики «Эх, взяли!» станут усердием, чудом будет спуск корабля — вода расцветёт цветком.LXXV
Вот поэтому-то единство любви мне видится как разнообразие колонн, сводов, выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к нескончаемому разнообразию. Не пугайся его. Значима лишь безоглядность, присущая вере, усердию, страсти. Едино стремление вперёд фрегата, но двигают его и тот, кто заточил стамеску, и тот, кто отмыл палубу, и тот, кто поднялся на мачту, и тот, кто смазал втулку. Вас смущает неупорядоченность? Вам кажется, что мощь людей возрастает, если все они двигаются в одном направлении и делают одно и то же? Но повторяю: если речь идёт о человеке, свод замыкается совсем не на очевидном. Нужно подняться, чтобы понять, где находится ключ свода. Не упрекаете же вы скульптора за то, что, ища выражение чему-то очень сущностному, он, пусть предельно всё упростив, передал его с помощью глаз, губ, морщин, пряди волос, он должен был сплести нити для той ловушки, которая сможет ловить добычу, — ловушки, благодаря которой, если только ты не слеп и не воротишь заранее носа, ты узнаешь такую несказанную тоску, что в тебе откроется что-то новое. Не упрекай и меня за неупорядоченность моего царства. Единство людей — ствол, выбрасывающий разные ветви, — вот цельность, к которой я стремлюсь и которая и есть суть моего царства, она очевидна, когда отдалишься. А вблизи видишь суету матросов, каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат, плывущий по морю. Скажу больше: если я воодушевлю мой народ любовью к морским странствиям, если их отягощённые любовью сердца подтолкнут их всех к единому руслу, ты увидишь, как по-разному каждый из них будет действовать в зависимости от склада своей натуры. Один будет ткать паруса, другой блестящим топором валить сосны. Один ковать гвозди, другой наблюдать за звёздами, чтобы научиться управлять кораблём. И всё-таки они будут единым целым. Корабль строится не потому, что ты научил их шить паруса, ковать гвозди, читать по звёздам; корабль строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю, и все противоречия тонут в свете общей для всех любви. Поэтому все на свете союзники мне и я открываю объятия моим врагам, чтобы они укрепляли меня и возвышали. Я знаю: есть ступень, с которой наша схватка покажется мне любовным борением. Я создаю корабль совсем не тем, что продумываю его во всех деталях. Если я примусь в одиночку чертить чертежи, я упущу главное. Когда дело дойдёт до строительства, чертежи мои не понадобятся, их сделают другие. Не мне знать каждый гвоздь корабля. Мой долг разбудить в людях стремление к морю. Я расту, словно дерево, и чем я выше, тем больше у меня корней. И мой храм — он целен, но строит его и тот, кто полон раскаяния и ваяет лик совести, и тот, кто умеет наслаждаться и ваяет улыбку. Строит тот, кто, противостоя мне, сопротивляется, и тот, кто предан мне и пребывает верным. Не упрекайте меня за неупорядоченность и отсутствие дисциплины, я признаю одну дисциплину — дисциплину жаждущего сердца, и, когда вы войдёте в мой храм, вас покорит его цельность и величие тишины. Увидев, что молятся в нём преданный и непокорный, ваятель и каменотёс, учёный и неграмотный, весёлый и грустный, не говорите мне о чужеродности: всех их питает один корень, благодаря их общим усилиям возник храм, благодаря храму каждый из них отыскал собственный путь, чтобы сбыться. Не прав тот, кто печётся о внешней упорядоченности, он печётся о ней потому, что не может подняться на ту высоту, откуда виден храм, корабль и любовь. Вместо подлинного порядка он устанавливает полицейский режим, при котором все должны одинаково тянуть ногу и идти в одну сторону. Но если все твои подданные стали одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства среди тысячи одинаковых колонн, ты не в храме — в зеркальной комнате. Совершенная упорядоченность в твоём понимании предполагает уничтожение всех твоих подданных, кроме одного. Храм — вот подлинный порядок. Любовь зодчего, будто корень, питает и соединяет воедино строителей и строительные материалы, она создаёт цельность, длит и придаёт силу всему, что разнообразно. Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний и устремлений, несхожестью языка, — радуйся этому, потому что ты — творец, ты — зодчий, и тебе придётся строить огромный храм, чтобы в нём поместились все. Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию.LXXVI
Ты будешь говорить и в ответ услышишь возмущённые крики — не обращай внимания: новая истина — это всегда новизна нежданных связей (в ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию). Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что именно ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить. И тогда ты попросишь: «Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и вглядывайтесь, не противясь, в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты». Ни истина, ни статуя, которую я ваяю, не открываются деталь за деталью, частность за частностью. Это — целое, и судить о них можно, когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно её обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей. Представь себе, что я решил отправить тебя в монастырь, желая, чтобы ты изменился. А ты просишь, чтобы монастырской стеной я окружил твою суетную жизнь, житейские заботы, ты желаешь понять, что такое монастырь здесь. Я не стану даже отвечать тебе, я промолчу в ответ на твою просьбу. Что такое монастырь, поймёт иной, чем ты, и его я должен извлечь из тебя. Я должен принудить тебя к становлению. Многих возмутят и твои принуждения. Не обращай внимания. Крикуны были бы правы, если бы ты насиловал главное в них и лишал их возможности расти. Чтить в человеке можно только благородство. Но они видят справедливость в том, чтобы жить без изменений, пусть даже в гниющих язвах, потому что с ними они появились на свет. Если ты вылечишь их, ты не оскорбишь Господа.LXXVII
Вот почему я могу утверждать, что не отвергаю, но и не соглашаюсь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человека, но к человеку я требователен. Противник для меня не шпион и не виновник наших зол, которого я хочу публично унизить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком, и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. Хороша и желанна холодная вода. Хорошо и желанно вино. Но, мешая воду с вином, я готовлю питьё для кастратов. Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, которые выводят заключения, доказывают, аргументируют: они в плену бессодержательного языка логики и не могут ни ошибиться, ни обрести правоты. Они просто шумят, но если возгордятся своим шумом, то из-за него может долго литься человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева. Прав только тот, кто согласен пожертвовать своим телесным сосудом, чтобы спасти хранимое в нём. Я тебе уже говорил об этом. Покровительствовать слабым или помогать сильным — вот вопрос, который тебя мучает. Ты поддерживаешь сильных, а твой противник — он противостоит тебе, — он покровительствует слабым. И вы принуждены сражаться, один — желая предохранить свои земли от демагогической гнили, воспевающей язвы ради язв, другой — чтобы избавить свою землю от жестокости рабовладельцев, которые действуют бичом и принуждением и не дают возможности человеку стать самим собой. В жизни это противоречие так настоятельно, что приходится решать его оружием. Все идеи нужны, потому что, когда остаётся только одна идея (и заполоняет всё, как трава) и нет противоположной ей, которая бы её уравновешивала, идея станет ложью и пожрёт жизнь. Идею взрастило поле твоего разума, но какое оно крошечное, это поле, — посмотри! И вот ещё о чём вспомни: представь, на тебя напал бандит, ты же не сможешь разом чувствовать боль ударов и продумывать тактику борьбы; в открытом море ты не сможешь разом бояться кораблекрушения и травить от качки, боится тот, кого не тошнит, а тот, кого тошнит, не боится. Если нет возможности объясниться по-новому, то как мучительно проживать одно и по привычке думать другое.LXXVIII
Пришли ко мне с упрёками — нет, даже не геометры моего царства, да и был он у меня один и уже умер, — пришли представители от толкователей моих геометров, а было этих толкователей десять тысяч. Когда надобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах, досках для палубы, он запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с бичом, и корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который тщеславился бы тем, что одержал победу над морем. И когда надобится наука расчётов, учёный не разрабатывает её сам, идя от следствия к следствию, потому что на этот труд у него не хватит ни сил, ни времени, он собирает десять тысяч помощников, которые оттачивают теоремы, разрабатывают плодотворные находки и пользуются плодами растущего дерева. Они уже не рабы, их не подгоняет бич надсмотрщика, и многие из них мнят себя равными единственно истинному геометру, во-первых, потому, что они его понимают, во-вторых, потому, что обогатили его творение. Но я, зная, что работа их драгоценна, — ибо прекрасно, когда умножается жатва разума, — и зная вместе с тем, как далека она от подлинного творчества, которое рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно, не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшаяся гордыня не сочла и меня равным им. И слышал, как, жалуясь на это, они переговаривались между собой. И вот что они говорили. — Мы протестуем во имя разума, — говорили они. — Мы — пастыри истины. Законы царства установлены божеством куда менее надёжным, чем наше. За них стоят твои воины, и тяжесть их мускулов способна нас раздавить. Но разум, которым мы владеем даже в тюремных подземельях, будет против тебя. Они говорили так, понимая, что им не грозит мой гнев. И переглядывались, довольные собственным мужеством. А я? Я размышлял. Единственно подлинного геометра я приглашал каждый день обедать. Ночами, томясь бессонницей, я приходил к нему в шатёр и, благоговейно разувшись у порога, пил с ним чай, вкушая мёд его мудрости. — Ты — геометр, — говорил я ему. — Я в первую очередь не геометр, а человек. Человек, который время от времени размышляет о геометрии, если не занят чем-то более существенным, например, едой, сном или любовью. Но теперь я состарился и ты, конечно же, прав: теперь я только геометр. — Тебе открывается истина... — Я бреду на ощупь и, как малый ребёнок, осваиваю язык. Я не нашёл истины, но мой язык доступен людям, как твоя гора, и с его помощью они создают свои истины. — Слова твои горьки, геометр. — Мне бы хотелось отыскать во Вселенной след Божественного плаща и прикоснуться к истине, которая существует вне меня, словно к Богу, что так долго прятался от людей. Мне хотелось бы ухватить эту истину за край одежды и откинуть покрывало с её лица, чтобы показать всем. Но мне было дано открыть истину только о самом себе... Так говорил геометр. А эти грозили мне гневом своего божества, вознося его над собой. — Говорите тише, — попросил я. — Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо. И, умерив голоса, они продолжали перешёптываться. Наконец один из них заговорил со мной. Они подтолкнули его вперёд, потому что он уже начал сожалеть о взятой на себя смелости. — Мы воздвигли перед тобой твердыню истины, — начал он. — Где ты видишь в ней произвол творчества, руку ваятеля или поэта? Наши теоремы вытекают одна из другой по законам строжайшей логики, в нашем творении нет ничего от человека. Итак, с одной стороны, они притязали на владение безусловной истиной — вроде племён, утверждающих, что вот этот раскрашенный деревянный божок насылает молнии, и, с другой стороны, равняли себя с единственно подлинным геометром, потому что с большим или меньшим успехом разрабатывали или открывали, но никак не творили. — Посмотри, мы покажем тебе, как соотносятся элементы в различных фигурах. Твои законы мы можем нарушить, но преодолеть наши ты не в силах. Ты должен сделать министрами нас, ибо мы знаем. Я молчал, размышляя о глупости. Моё молчание обеспокоило их, твёрдость их поколебалась. — Прежде всего мы хотим служить тебе, — добавили они. И я им ответил: — Вы настаиваете, что обошлись без творчества, и это прекрасно. Кривые творят кривых. Надутые мехи способны сотворить только ветер. Если вы займётесь царством, то почтение к логике, которая хороша для свершившегося события, законченной статуи и покойника, поведёт к тому, что всё в нём будет готово сдаться мечам варваров. Однажды ранним утром вышел человек из шатра и направился к морю, поднялся на отвесную скалу и упал с неё. С нами были логики; вглядываясь в следы, они установили истину. Потому что ни одно звено не выпало из цепочки; шаг следовал за шагом, и не было ни единого, который бы не возникал из предыдущего. Следуя шаг за шагом, от следствия к следствию, была определена причина смерти, и мёртвое тело принесли к шатру. Проделав обратный путь от причины смерти к её возникновению, мы подтвердили неизбежность смерти. — Теперь всё ясно! — вскричали логики и поздравили друг друга. А мне-то казалось, что понять — значит ощутить, как иной раз доводилось и мне, какой-то неуловимо счастливый проблеск, что пугливее замершей водной глади, потому довольно и промелькнувшей мысли, чтобы он исчез, — он мелькнул и словно бы не существует, он тронул лицо спящего — спящего чужака в шатре за сто дней пути от меня. Потому что творческое озарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук, оно исчезает безвозвратно, и никакие следы не помогут тебе его восстановить. Следы, отпечатки, знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая одно из другого. Логика и есть та тень, которую отбросило творческое озарение на стену реальности. Но эта очевидность не очевидна ещё человеческой близорукости. И поскольку мои логики ничего не поняли, я, по доброте своей, стал наставлять их дальше. — Жил на свете один алхимик, — заговорил я, — он хотел раскрыть тайну жизни. И случилось так, что при помощи реторт, перегонных кубов, всяческих порошков и растворов ему удалось получить крошечный комочек живого теста. Набежали логики. Они повторили опыт, смешали порошки и растворы, зажгли огонь под ретортой и получили ещё один живой комочек. Ушли они, громко крича, что тайна жизни больше не тайна. Что жизнь — естественная последовательность причин и следствий, взаимодействие при нагревании элементов, не обладающих жизнью. Логики, как всегда, всё великолепно поняли. Они не поняли, что природа созданного и природа творчества не похожи друг на друга. Творческая сила, исчерпавшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда покидает своё творение, и творение поступает в распоряжение логики. И я смиренно отправился за разъяснениями к моему другу геометру. «Где увидел ты новое? — спросил он. — Жизнь породила жизнь. Новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхимик, насколько я знаю, жив. О нём забыли, так оно и положено, творец растворяется и оставляет нам творение. Ты довёл своего спутника до вершины горы, и он увидел примирёнными все противоречия, гора для него — реальность, существующая помимо тебя, он на ней — в одиночестве. Никто не задумается, почему ты выбрал именно эту гору, она есть, и человек стоит на ней, потому что естественно, чтобы человек находился где-то». Но мои логики не перестали перешёптываться. На деле логики совсем не логичны. — Вы самонадеянны, — сказал я им, — вы изучили танец теней на стене и уверились, что обладаете знанием. Шаг за шагом прослеживаете вы ход теоремы, забывая о том, кто положил свою жизнь на то, чтобы её создать. Вы читаете следы на песке, не понимая, что прошёл человек, которого разлучили с его любовью. Вы изучаете, как из мёртвых элементов возникает жизнь, забывая о живом человеке, который подбирал эти элементы, ища и отказываясь. Не подходите ко мне, рабы, — в руках у вас жалкие молотки, но вы возомнили, что создали и пустили в плавание корабль! Истинным геометром был тот, кто уже умер; если бы он захотел, я посадил бы его рядом с собой, и он направлял бы людей. В нём дышало дыхание Господа. Язык, которым он говорил, делал ощутимым присутствие далёкой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой поэтому невозможно ничего узнать. Из множества возможных вариантов он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удачи, но был единственным, который открывал путь дальше. Нет путеводной нити в лабиринте гор, логик тебе не в помощь, если кончилась вдруг торная дорога, если перед тобой пропасть, если ни один человек не ступал на противоположный склон; тогда на помощь тебе посылается проводник — он словно бы уже побывал там, впереди, и намечает тебе дорогу. Пройденная дорога — очевидность. Ты забываешь о чуде, когда вёл тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник.LXXIX
Пришёл противник моего отца. — Счастье людей... — начал он. Отец прервал его: — Не приноси в мой дом шелухи. Я принимаю лишь те слова, в которых ощутима внутренняя весомость, скорлупу я отбрасываю. — И всё же, — продолжал тот, — если правитель царства не озабочен в первую очередь счастьем подданных... — Я не бегу со всех ног, стараясь припасти как можно больше ветра, — отвечал отец, — ведь стоит остановиться, ветер стихнет. — Если бы я был государем, — настаивал тот, — мне хотелось бы, чтобы подданные мои были счастливы... — Вот теперь, — отвечал отец, — я слышу тебя лучше. Слова твои не пусты. В самом деле, я видал людей счастливых и несчастных, видал толстяков и худышек, калек и здоровяков, живых и покойников, и мне нравятся счастливые люди, нравится, когда они живут, а не умирают. И ещё мне нравится, когда одно поколение перетекает в другое. — Стало быть, мы думаем одинаково! — вскричал тот. — Нет, — ответил отец. И продолжил: — Ты сказал — «счастье». Объясни, что ты имеешь в виду — душевное состояние, когда человек чувствует себя счастливым, как иногда чувствует себя здоровым? Но какое я имею отношение к усердию чужих чувств? Или счастье кажется тебе достижимым состоянием общества и я должен хотеть достигнуть его? Но каково оно, это состояние? Один счастлив в покое, другой — в сражении, одного погружает в экстаз одиночество, другого — шумный и пышный праздник, один наслаждается научными изысканиями, ища ответы на вопросы, другой обрёл благодать в вере, для которой не существует вопросов. И если я начну объяснять, что такое счастье, то получится: для кузнеца счастье — ковать, для моряка — уходить в плавание, для богатого — богатеть, но, сказав так, я ничего не объяснил. К тому же для богача счастьем может быть море, для кузнеца деньги, а для моряка безделье. Вот и ускользнул от тебя бесплотный призрак, который ты вознамерился поймать. Не старайся во что бы то ни стало постичь смысл слова, подлинный смысл не в словах, но как вознаграждение он открывается тебе и в словах тоже. Такая же награда тебе красота, я ценю красоту, но не верю, что красоту можно создать целенаправленно. Разве говорит ваятель: «Из этого мрамора я высеку что-то необыкновенно красивое»? Изготовители безделушек тешат себя такой чувствительной чепухой. Настоящий ваятель говорит: «Что-то мучает меня, и я бьюсь над мраморной глыбой, чтобы это что-то выразить. У меня нет другого способа высказать это и избавиться от мучений». Пусть мраморное лицо будет обрюзглым и старым, пусть будет бесформенной маской, пусть будет сонным и юным, — если скульптор велик, оно покажется тебе прекрасным. Красота не цель, она — вознаграждение. И когда я сказал тебе, что для богатого счастье богатеть, я солгал. Счастьем называют упоение, венчающее победу, блаженство, вознаграждающее за усилия и труды. Если богач вдруг чувствует, что раскинувшаяся перед ним жизнь упоительна, то это будет та же радость, которой одарит тебя пейзаж, созданный твоим тяжким подъёмом в гору. И если я скажу тебе, что счастье грабителя — сидеть в засаде при свете звёзд и в нём что-то можно спасти, это «что-то» и вознаграждает его счастьем. Как-никак он принял холод, опасность и одиночество. И уверяю тебя, от золота, которого он дожидается, он ждёт внезапного преображения: в один миг преображается он в ангела, у него, телесного и уязвимого, вырастают крылья, когда, прижав золото к груди, он мчится в тучный изобильный город. В молчании моей любви я подолгу наблюдал за теми, кто лучился счастьем. И видел: счастье озаряло их, будто красота статую, — тогда, когда его не искали. Я убедился, счастье всегда знак того, что перед тобой хороший человек с добротным сердцем. Только той, что способна сказать: «Я так счастлива!» — открой свой дом на всю жизнь, потому что у неё благородное сердце. Так не требуй от меня, государя, счастья для моего народа. Не требуй от меня, ваятеля, красоты, — иначе я застыну на месте, не зная, где её искать. Красота прилагается, как прилагается и счастье. Требуй, чтобы я вложил в мой народ такую душу, которую мог бы озарить свет счастья.LXXX
Я вспомнил давние слова моего отца. «Чтобы созрел апельсин, — говорил он, — мне нужны удобрения, навоз, лопата, чтобы выкопать яму, нож, чтобы отсечь ненужные ветки; тогда вырастет дерево, способное расцвести. Но я — садовник, я занят землёй, я не забочусь ни о цветах, ни о счастье, потому что прежде цветов должно быть дерево и прежде счастья должен быть человек, способный стать счастливым». Но собеседник продолжал спрашивать: — Но если не к счастью — к чему тогда стремятся люди? — Об этом я расскажу чуть позже, — отвечал отец. — Но вот что произошло: ты усвоил, что ощущение счастья сопутствует трудно доставшейся победе, и с присущей логике недальновидностью заключил, что люди борются, стремясь обрести счастье. А я, пользуясь той же самой логикой, скажу тебе: поскольку жизнь завершается смертью, всю жизнь люди стремятся к смерти. И так мы будем перебрасываться словами, словно бесформенными медузами. Но я скажу тебе другое: случается, что счастливые отказываются от своего счастья и идут воевать. — Только потому, что исполнение долга для них — высшее счастье. — Мы не сможем разговаривать, если твоё слово будет медузой, то и дело меняющей форму. Нагрузи слово смыслом, с которым можно согласиться или отвергнуть. Если счастье в одно и то же время и откровение первой любви, и предсмертная рвота, когда пуля, войдя в живот, открывает бездонный тёмный колодец, то как соотнести мне твоё слово с жизнью? По существу, ты утверждаешь одно: люди ищут то, что ищут, и стремятся к тому, к чему стремятся. Возразить тебе невозможно, и мне нечего делать с твоей неоспоримой истиной. Ты жонглируешь словами. Но если ты откажешься от своей чепухи и согласишься, что человек уходит на войну не за счастьем, и всё-таки будешь настаивать, что все действия человека обусловлены стремлением к счастью, тебе придётся признать, что уход на войну — сумасшествие. Тогда я попрошу тебя объяснить, что такое сумасшествие. И если сумасшедший — это тот, кто, бессмысленно глядя, пускает слюни или ходит на руках, то при виде марширующих солдат твоё истолкование не покажется мне убедительным. Но, возможно, язык, на котором ты говоришь, мешает тебе увидеть, к чему всё-таки стремятся люди. И к чему стремлюсь привести их я. Ты взял слишком маленькие сосуды, вроде «счастья» или «сумасшествия», и попытался вместить в них жизнь. Ты похож на малыша с совком и ведёрком, который собрался переместить Атласские горы. — Так научи же меня, — попросил тот.LXXXI
Если, живя жизнь, ты послушен не велениям души или сердца, но руководствуешься соображениями, которые возможно выразить словами и которые умещаются в них целиком, нам не о чем с тобой говорить. Значит, ты не знаешь, что слова не более чем знак. Возьми, например, имя твоей жены, оно только знак и само по себе ничего не содержит. Ты не можешь что-то постичь из имени, потому что не в нём суть. Тебе не придёт в голову сказать: «Её зовут Мари, поэтому она такая красивая». Так что, сколько бы ты ни рассуждал о жизни, жизнь остаётся жизнью, а слова словами. С чего же ты решил, что слова о жизни равны самой жизни? Слово обеспечено неким залогом, и случается, что залог надёжней там, где слово менее искусно. Выигрыш на словах мало что значит. Жизнь — это то, что есть. Если язык, которым ты говоришь со мной, объясняя, почему поступил так, а не иначе, не иносказание, как это бывает в поэзии, если я не чувствую сквозь него твоей глубинной сущности и стремления высказать несказанное, что мне в твоих доводах? Я отметаю их, как пустой сор. Если распорядилась тобой не любовь, внезапно настигшая тебя благодаря чудесно явленной картине, а бестолковый ветер слов, шуршащий бесплодной логикой, я отстраняюсь от тебя. Не жертвуют жизнью знаку — умирают за то, что он обозначил. Но если ты попытаешься выразить, что же он обозначил, тебе не хватит книг всех библиотек мира. Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живёшь на степном берегу у моря? Как рассказать, что такое родник, если тебе никогда не хотелось пить, ты не складывал руки ковшиком и не зачерпывал ледяной воды? Я могу сколько угодно воспевать родники, но где память о трудной дороге, о ноющих от усталости ногах? Я знаю, главное не родник, главное — Бог. Но для того чтобы мои слова задели за живое, чтобы и для тебя, и для меня они стали врачующим скальпелем, они должны отыскать в тебе это живое место. Да, я хочу открыть тебе Господа, но сперва заставлю вскарабкаться на вершину горы, чтобы с тобой заговорили звёзды. Отправлю умирать от жажды в пустыню, чтобы родник заворожил тебя. Полгода ты будешь ломать камень в каменоломне, и каждый день тебя будет палить нещадное солнце. А потом скажу: «Истомлённый нещадным зноем, поднялся он в сумерках на вершину горы и под сияющими звёздами в тишине напился из Господнего родника и больше не жаждал». Ты поверишь в Бога. Против чего тебе возражать? Ты ощутил, что такое Бог, и Он просто будет, как будет печальным лицо, если я его изваяю печальным. Нет языка вне деяний твоих и поступков, Бог един. Поэтому я называю трудом молитву и молитвой труд.LXXXII
Необходимость постоянства — вот что я ощутил как великую истину. На что опереться, если всё кончается вместе с тобой? Я вспомнил народ, который чтил как богов своих мёртвых. Родовой склеп принимал одного за другим тех, кому пришёл черёд умереть. Склеп олицетворял постоянство. — Вы счастливы? — спросил я. — Мы знаем, как мирен ожидающий нас сон, и как же не быть нам счастливыми?LXXXIII
Я устал. Изнемог. И, наверное, был бы честнее, если б сказал: чувствую, что оставлен Господом. Больше не было надо мной ключа свода, смолкло во мне эхо. Смолк тот голос, что говорил со мной в тишине. Я поднялся на самую высокую из башен и подумал: «Для чего они, эти звёзды?» Оглядел мои земли и вопросил: «Для чего они, эти земли?» Услышал жалобу сонного города и не понял: «Откуда она, эта жалоба?» Я был иноземцем, отчуждённым от разноликой чужеязычной толпы. Был платьем, брошенным на спинку стула. Был бессильным и одиноким. Опустелым, нежилым, как дом, и как мне не хватало ключа свода! Всё распалось во мне, ничто ничему не служило. «Однако я всё тот же, — думал я. — Всё то же знаю, всё то же помню, всё то же вижу и, несмотря на это, тону в бессмысленном дробном мире». Самая прекрасная из часовен — мёртвый камень и ничего больше, если перед ней никто не благоговеет, не вкушает её тишины и, сподобившись благодати, не молится от всего сердца. Что толку в моей мудрости, чувствах, памяти? Я сухая колючка, а не травинка. И мне скучно, как бывает скучно оставшимся без Господа. Я не мучаюсь, мучается человек, а я — пустое место. Мне так скучно, что хоть разоряй от скуки сад, по которому я слоняюсь взад и вперёд, словно жду кого-то. Жду и жду среди расплывающейся Вселенной. Я молился Господу, но молится человек, а я — оболочка, свеча, которую не зажгли. «Вернись ко мне, моё рвение, моё усердие», — просил я. Я знаю: свяжи всё воедино, и возникнет рвение. Оно есть, когда у корабля есть капитан. Когда есть паломники в часовне. Но что остаётся, кроме бессмысленного камня, если невнятен замысел ваятеля? И тогда я понял: тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа. Он миновал вещь и потянулся за смыслом, отстранил слова, вслушиваясь в мелодию, отвёл ночь и звёзды, притрагиваясь к вечности. Господь и есть смысл твоих слов, и, напитавшись смыслом, слова открывают тебе Господа. Слёзы малыша ножом полоснули сердце, и распахнулось окно на солёный океан. В тебе зазвенел не его плач — все плачи. Малыш взял тебя за руку и научил слышать. — Для чего, Господи, заставляешь меня идти по пустыне? Я весь в шипах и колючках. По одному твоему знаку пустыня бы преобразилась — жёлтый песок, дальний горизонт, жгучий ветер не жили бы по отдельности, стали бы царством, я воспрял бы духом и проникся Твоей близостью. Но я понял: если Бог отдалился, Он подаёт о Себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла. Для мужа исполнена смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, эта любовь?» Как им тоскливо, уныло. Всё при них по-прежнему, нет Божественного узла, связующего всё воедино. И у них нет больше ничего. «Если Господь оставит и мой народ, как оставил меня, — думал я, — у меня будет муравейник с муравьями, потому что в душе ихугаснет рвение. Не играют в кости, если кости — костяшки и ничего больше». И я понял, что ум мне не в помощь. Да, конечно, можно продумать кладку храма, но кладка не главное, — главное не в камнях. Да, конечно, можно продумать, какими будут нос, уши, губы статуи, но они не главное, — главное не в глине. Главное — залучить Божественный свет. Он осеняет расставленные нами ловушки, чуждые его природе.Я — ваятель, я высек статую, статуя есть принуждение. Образ всегда принуждение. Я что-то уловил и сжал кулак, желая не упустить. Не говори мне о свободе поэтического слова. Я подчинил слова друг другу, следуя своему внутреннему порядку. Может случиться, что мой храм разберут и сложат из камней другой. Есть смерть, есть рождение. Но не говори, что у камней есть свобода, — есть храм. Я не вижу, в чём принуждение противоречит свободе. Чем больше я проторил дорог, тем свободнее ты в выборе. Хотя каждая из дорог — принуждение, потому что я оградил её дорожными столбами. И что ты имеешь в виду, говоря «свобода» и не видя перед собой ни одной дороги? Или ты называешь свободой блуждание наугад в пустоте? Поверь, принуждение новой дороги увеличит твою свободу. Без пианино, гитары сможешь ли ты свободно отдаться музыке? Твоей статуе необходимы уши и нос, вот тогда ты свободно ищешь улыбку. Запреты, ограничения, правила шлифуют, оттачивают культуру, благодаря им так утончённо-изысканны её плоды. За толстыми стенами моего замка душевная жизнь богаче, чем у подонков на пустыре. Добровольно ты принял обязательства или не добровольно, в этом отличие свободы от принуждения, с любовью или без любви, но мы обязаны поклониться королю. Желающий подняться повыше или собрать духовное сокровище согласен на принуждения. Ты следуешь обряду, он стеснил тебя и устремил вверх. Глядя со стороны, как самозабвенно играют другие дети, огорчённый ребёнок требует, чтобы и его научили правилам игры, он тоже хочет играть, а значит, жить. Грустно тому, кого не зовёт в храм вечерний благовест. Поёт рожок, но не для тебя побудка, а твой счастливый приятель кричит: «Слышишь? Меня зовут!» Глухое раздражение и скука — спутники тех, для кого нет ни благовеста, ни пения рожка. Они свободны, они вне жизни.
LXXXIV
Не стоит смешивать слова разных языков, хотя, верю, тебе так недостаёт прилагательного, чтобы передать яркую зелень ячменного поля, а у твоего соседа оно есть. Но слово только знак. «Жена у меня красивая», — сказал ты, но разве кто-то понял, как ты её любишь? «Мой друг так скромен», — сказал я, но разве кто-то узнал, как я к нему привязан? Мы не передали и малой толики того, что живит нас. Мы определили, как определили бы неодушевлённый предмет. Есть на свете народы, которые как качественное ценят иные, чем мы, качества, которые ищут имя совсем иной картине, что увиделась им сквозь общую для нас всех вещность мира. И они нашли имя своей картине. Можно найти особое слово и для беспричинной тоски, что щемит вдруг сердце на пороге дома, когда садится солнце, меркнет свет и впереди лишь потёмки с тусклой луной, тоска эта сродни страху перед смертью: как быстро сонное детское дыхание становится прерывистым дыханием болезни, похожим на последние усилия усталости, карабкающейся в гору; слыша его, тебе становится так же страшно: а что, если твой малыш не захочет карабкаться дальше? — и тебе так хочется взять его за руку и помочь. И вот ты это своё нажитое умещаешь в одно слово, им начинают пользоваться, и оно становится родовым наследием твоего народа. Но передал ты всем нам уже известное. Мой язык не стремится передать цветущую полноту качества, в нём нет слова, обозначающего «розовый цветок», зато он умеет сплетать слова и ловить тебя их сетью. Слова моего языка не представляют воочию женского лица, но красоту его ты угадаешь по тому, как у тебя вдруг захолонёт сердце, будто от глотка ледяной воды в зной. Так дорожи возможностями, которыми одарила тебя душа твоего народа, дорожи умением сплетать слова, как плетут ивовые корзины и рыболовные сети. Смешивая слова разных языков, ты не обогатишь человека — опустошишь. Человек, желая выразить переживаемое, отыскивает новые средства, но ты предложил ему готовое, стёртое, и он успокоился; он стремился передать нового себя, себя прозревшего: вернувшись из пустыни, он понял, как ярок зелёный ячмень, но ты предложил ему чужой запас, он перестал вглядываться в себя, он им походя воспользовался.Ты занялся бестолковой работой, решив дать названия всем на свете цветам и оттенкам, собирая названия повсюду, где они только есть; решив поименовать все оттенки чувств и обращаясь за именами во все края, где переживают и чувствуют, заимствуя из тех языков, которые по воле случая запечатлели в слове опыт поколений или личный опыт души, например, ощущение щемящей тоски сумерек. Тебе кажется, всемирная тарабарщина обогатит людей. Но не словарный запас — Божественное достояние человека, — изъяснение самого себя, своей сокровенной сущности, которой не исчерпать никаким словом. В наших силах дать её только почувствовать, но слов, будь их как песчинок в пустыне, как капель в море, всё равно окажется мало. Какое имеет отношение то глубинное, что ищет сказаться в тебе, к куче наворованных слов, что засорили твой язык и мешаются?
Именовать стоит лишь горные пики, отличные от уже известных, благодаря которым ты по-новому увидел мир. Я создал произведение и, возможно, с его помощью сотворил в тебе новую истину, — назови её, и она останется божеством в святилище твоего сердца. Только божество по-иному связывает для нас знакомое, заставляет по-новому увидеть давно известное. Так пойми же, я постиг. И рад коснуться раскалённым железом твоего сердца, оставив клеймо, которое поможет тебе расти. Рад, потому что не хочу, чтобы ты блуждал впотьмах. Но имей в виду, словом ты только обозначаешь ключ свода, постигаю я его не словесно, невозможно обозначить ни собственную суть, ни жизнь. Я не умилюсь, не растрогаюсь, если ты раскрасишь небо алым, а море синим, — не задаром ли ты хочешь получить доступ к моей душе? Связующие нити твоего языка — вот путь ко мне, стиль — это путы Бога, говорю я. С ним ты передал мне устойчивость твоего костяка, ритм твоей жизни, ни у кого другого таких не сыскать. А если со всех сторон только и твердят что о звёздах, да о горах, да о родниках, кому придёт в голову подниматься на вершину, чтобы из звёздного родника утолить нестерпимую жажду светящимся молоком? Даже если в чужом языке уже есть слово для того, что я ищу выразить, и, выразив это, я ничего не создам и не обогащу мир, не отягощай этим чужим словом свой язык, если оно не надобно тебе каждый день. Бог, которому молятся изредка, не настоящий. Но если моя картина озарила тебя иным пониманием вещей, уподобилась вершине, что упорядочила пейзаж, став подарком тебе от Господа, дай ей имя, придумай слово, чтобы она не забылась.
LXXXV
Тоска по жизни, питающей душу, истомила меня. И я почувствовал — ненавижу приверженцев насущного. Они твердят о своей любви к реальности, но что, кроме хлеба, обещают они человеку? Хлеба, чей вкус так мало изменила цивилизация. Я и до сих пор говорю о воде, преобразившейся в поэзию. Ты счастлив, сделавшись губернатором моей провинции. Счастлив, потому что я, зодчий, создал царство, которым ты восхищаешься. Ощущением счастья ты обязан мне, хотя меня нет с тобой рядом и я тебе не в помощь. Тешит тебя не реальность — утехи тщеславия неосязаемы, — тешит та значимость, какую обрела реальность, сделавшись царством. До пятнадцати лет умащали юницу благовонными маслами, она знает, что такое поэзия, изящество, тишина. От нежного лица её веет покоем, и сколько в нём глубины и значимости, покой её сродни освежающей воде родника, — так неужели ты мне скажешь, что твою ночную жажду утолят одинаково и она, и купленная тобой девка только потому, что тела их схожи? Тебе кажется, ты стал богаче оттого, что не отличаешь одну от другой, не тратишь времени на ухаживание, — и, конечно, девкой делаются куда скорей, чем принцессой, но поверь мне, ты обеднел. Может быть, тебе не понравится принцесса, стихи тоже не даются задаром как нежданное наследство от дядюшки, они — твоё собственное восхождение вверх; может быть, тебе не по вкусу будет её утончённость, ведь есть музыка, которой тебе никогда не услышать, потому что ты не пожелал учиться, — но это вовсе не значит, что принцессы плохи, это значит, что тебя ещё нет. В безмолвии моей любви я слушал, как двое беседуют. Беседа перешла в крик. Засверкали ножи. Ими решают спор подонки, осевшие в грязных лачугах. Они жадны только до жратвы и дерут глотки только из-за того, что уместилось в десяток скудных слов. Но не за женскую плоть ты готов пришить соперника, эта женщина для тебя — кров, без неё ты беспризорный изгой. И вечерний чай не в чай тебе, потому что её нет рядом. Но если, увидев, как дорожат люди вечерним чаем, ты, из присущей людям близорукости, возвеличишь чаепитие и заставишь всех поклоняться чайнику, они разлюбят чай и у тебя не будет ни вечерних чаепитий, ни любви. Если ты проникся значительностью материнства и радостью иметь детей, видя, каким благоговением окружена роженица — возле её постели тишина, словно у алтаря, — ты снова не видишь целого. И вот ты стараешься, чтобы рожали как можно больше, строишь повсюду больницы, огромные, как хлев или конюшня, и размещаешь в них стада беременных женщин. Ты убиваешь то, ради чего старался, — никому не интересны чувства коровы, когда идёт массовое разведение скота. Я взращиваю в человеке душу, поэтому ставлю перед ним преграды и границы, загораживаю от каждого сад: я хочу благоговения перед детьми, и поэтому требую, чтобы детей было как можно меньше, на словах, только на словах, — потому что они должны стать дорогими сердцу. Я не доверяю логике, я верю только в перепады почвы, поощряющие прилив любви. Если ты есть, ты растишь своё дерево, но если дерево задумываю и создаю я — я протягиваю тебе только зёрнышко. Оно — возможность, в нём таятся самые разные цветы и плоды. И если ты принимаешь его и начинаешь расти, то вырастешь моим, но непредсказуемым деревом, потому что предсказаниями я не занимаюсь. Я дал тебе возможность жить, жить самим собой. Но твоя любовь будет плодом моей любви.LXXXVI
Я споткнулся о порог — бывают времена, когда распадается язык и при помощи слов ничего не улавливается, ничего не предсказывается. Эти люди пришли ко мне, предложили вместо ребуса мир и потребовали разгадки. Нет у мира разгадки, потому что нет в мире смысла. — Скажи, что нам делать — покоряться или бороться, — спрашивают они. Нужно покориться, чтобы выжить, нужно бороться, чтобы продолжать быть. Предоставь всё жизни. Правда жизни едина, но открывается всегда как противоречие, это и есть злоба дня. Но не тешь себя иллюзиями: сегодняшний ты всегда уже мёртв. Твоя противоречивость — противоречивость преображения, ты меняешь кожу, поэтому тебе так больно, поэтому ты страдаешь. Кожа трескается, лопается. Твоё молчание — молчание зерна в земле, оно должно прозябнуть, прежде чем пуститься в рост. Твоё бесплодие — бесплодие куколки. Но когда ты переродишься, у тебя появятся крылья. И, глядя с вершины горы, откуда ты увидишь разрешёнными все свои проблемы, ты удивишься: «Как же я сразу не понял?» Словно существовало то, что возможно было понять.LXXXVII
Тебя не ободрят; знамение, которого ты так ждёшь, — молчание. Камни не знают и не могут ничего знать о храме, который сложен ими. Ничего не знает нарост коры обо всём дереве, одетом и этим кусочком, и всеми остальными. А дерево и дом ничего не знают о царстве, которое они совместно составляют. Ты не знаешь о Боге. Чтобы узнать, камню должен явиться храм, кусочку коры — дерево, но и это бессмысленно, у них нет языка, чтобы вместить огромность, столь их превосходящую. Язык — это иерархия, которую представляет собой дерево. И понял я это после паломничества к Господу. Всегда один, замкнут в себе, один на один с собой. Собственными усилиями мне не разомкнуть одиночества. Камню перестать ли быть камнем? Но в работе он объединяется с другими камнями и становится частичкой храма. Я уже не жду появления ангела — может быть, он незрим, а может быть, его нет. Дожидающиеся от Господа знака уподобляют Его себе и остаются опять наедине с собой. Но вот я слился с моим народом, любовь обняла меня своим теплом и преобразила. Она и есть знак близости Господа. Потому что наступившая тишина тиха для каждого камня. Ведь сам по себе, вне других людей, я ничто, и ничто мне не будет в радость. Так будьте же зёрнами, они сложены на зиму в житницу и пока спят.LXXXVIII
Ох уж это нежелание выйти за пределы самих себя... «Я! — говорят они. — Я!» И похлопывают себя по животу. Будто там кто-то есть, будто кто-то жив благодаря им. Так могли бы кричать камни храма: «Я! Я!» Так кричали и те, кого я отрядил добывать алмазы. Пот, катящийся градом, отупение усталости преображались в сверкающие бриллианты. Алмазы обеспечивали людям жизнь, алмазы делали людей значимыми. Но однажды люди взбунтовались. «Я! Я! Я!» — закричали они. Они не желали больше служить алмазам. Не желали нарабатывать себя. Они требовали почтения к себе — к таким, каковы они есть. Вместо алмаза они предложили себя как перл созданья. Но сами по себе они мало чего стоили, облагораживали их алмазы. Так храм облагораживает камни. Отчее гнездо — дерево. Река — принадлежность к царству. Реку царства воспевают: «Мать наших стад, неспешная кровь полей, водительница стругов...» Но бунтари сочли, что они цель и венец творения, они стали заботиться, чтобы им служили, отказавшись служить тому, что превосходило их. Они перерезали князей, стёрли в порошок алмазы, чтобы всем досталось понемножку, засадили в тюрьму ищущих другую правду, чтобы никто не взял однажды над ними верх. «Настало время храму служить камням», — сказали они. Им казалось, они стали богаче, когда каждый потащил к себе кусочек храма; лишились они святилища, приобрели кучу щебня.LXXXIX
А ты всё спрашиваешь и спрашиваешь: — Скажи, что такое рабство, где начало его и где конец? И что такое общность, где начинается она и где кончается? И человек — на что он имеет право? Я знаю только права храма, который придаёт смысл существованию камней, права царства, которое наполняет смыслом человеческую жизнь, права стихотворения, которое обогащает смыслом слова. Я не признаю за камнями права восставать на храм, за словами права разрушать стихотворение, за людьми права бунтовать против царства. В эгоизме нет истины, эгоизм — уродство. Тот, кто идёт один, твердя: «Я, я, я...», изгнал себя из царства. Он — камень, откатившийся от стены храма, слово-пустышка, не ставшее стихотворением, — отнятая рука. Но отцу возразили: — А почему бы не уничтожить все царства и не собрать всех под сенью одного храма, чтобы жизнь стала ещё полнее смыслом? — Ты говоришь так потому, что ничего не понимаешь, — отвечал отец. — Посмотри, вот камни, из них изваяна рука, смысл существования этих камней в этой руке. Смысл существования других — в торсе, третьих — в крыльях. Но торс, руки, крылья вместе — это ангел. Одни камни сложили стрелку свода, другие — колонну. А из ангелов, стрелки, колонн сложился храм. Храмы, собранные в одном месте, стали святым городом, который управляет твоим путём, потому что ты в пустыне и стремишься к нему. Так неужели ты думаешь, что камень лучше послужит святому городу, если вместо того чтобы служить руке, а благодаря руке — ангелу, а благодаря ангелу — храму, а благодаря храму — святому городу, — он встанет в ряд с другими, точно такими же камнями? Единство города так ослепительно оттого, что составляет его богатство разнообразия. Колонна прекрасна благодаря капители, стволу, плинту, она едина, но состоит из разных частей. Чем сущностней истина, тем выше ты должен подняться, чтобы обозреть её и постигнуть. Жизнь едина, как един и уровень моря, но, наполняя жизненной силой существо за существом, она становится похожей на лестницу с самыми разнообразными ступеньками. Един парусник, но составлен из разного. Подойди поближе — и увидишь паруса, мачты, нос, корпус, якорь. Подойди ещё ближе — и различишь канаты, скрепы, доски, гвозди. И каждый гвоздь, каждый канат ты можешь делить и делить. Если я сложу моё царство из ровных рядов камней, оно обессмыслится, в нём не останется жизни, в нём не будет ни городской сутолоки, ни парадно стоящих по стойке «смирно» солдат. Мне нужен очаг. Очаг собирает семью. Семьи складываются в род. Роды — в племя. Племена становятся царством. И вот ты видишь: в моём царстве — на западе и на востоке, на севере и на юге — кипит усердие, царство моё похоже на парусник в открытом море, его гонит ветер, гонит только в нужную сторону благодаря разнообразию парусов, которые ловят изменчивый ветер. Царство построено, теперь продолжай свою работу, улучшай, собирай из разных царств более обширный корабль, который устремит их в одну сторону, который благодаря разнообразным парусам поставит себе на службу любой ветер и не изменит ведущей его звезде. Собрать воедино — значит связать крепко-накрепко всё разнообразие, все особенности каждого, а вовсе не уничтожить их ради бесплодного порядка. (На самом деле в жизни нет ступенек. Ты назвал ступенькой эту группу людей. И следующей — ту группу, которая включила в себя первую. Но и то и другое — условность.)XC
Но вот пришло время тебе встревожиться: ты видишь — жестокий тиран уничтожает людей. Ростовщик держит их в рабстве. Строитель храма служит не Господу, а себе, выжимая себе на потребу из людей пот. И не заметно, чтобы людей это облагородило. Значит, ты плохо вёл их в гору. Ведь дело не в том, чтобы, подымаясь, во что бы то ни стало сложить из сопутствующих тебе камней руку, из руки и крыльев — ангела, из ангелов, колонн и стрелки — храм. Тогда каждый своевольно остановится там, где пожелал. Плохо, если ты насильственно принудишь людей служить рукой, и ничуть не лучше, если принудишь их стать храмом. Ни тирану, ни ростовщику, ни руке, ни храму не дано пустить в рост людей и, обогатившись, сделать богачами и их тоже. Не почвенные соли, объединившись по воле случая, начинают восхождение вверх, чтобы стать деревом, — чтобы вырастить дерево, ты должен бросить в землю семечко. Деревья приходят сверху, а не снизу. Что за смысл в возводимой тобой пирамиде, если не венчает её Господь? Он преображает людей и открывается преображённым. Ты вправе беззаветно служить князю, если сам он беззаветно служит Господу. Добро твоё вернётся тебе, но иным будет его вкус, иными смысл и полнота. Ты не увидишь вокруг себя: вот ростовщик, вот рука, вот храм, вот статуя. Откуда взяться руке, как не от тела? А тело — вовсе не механическое соединение различных частей. Суть парусника не в том, что объединилось разнородное, а в том, что единое стремление к морю проявилось так разнообразно и даже противоречиво; вот и в теле множество непохожих частей, но оно не сумма их — каждый, кто знаком с творчеством, любой садовник и любой поэт, скажет тебе: не от частности к частности возникает целое, оно рождается сразу и осуществляется в частностях. Мне достаточно воспламенить людей любовью к башням, что оживят плоскую пустыню, и рабы рабов моих зодчих изобретут тележку для перевозки камня и ещё множество полезных приспособлений.XCI
С помощью правил мы делаем значимыми те или иные понятия, они не пустая условность, и если ты не знаешь об этом, то впадаешь в ошибки. Упорядочив правилами любовь, я утверждаю определённый тип любви. О том, какова она, говорят те принуждения, которые я ей навязал. Принуждать может обычай, но может и жандарм.XCII
Темна была эта ночь, я смотрел на неё с высоты моей крепости — крепости, что утверждала мою власть над городом, — городом, что благодаря моим гарнизонам утверждал мою власть над всеми другими городами царства, передавая вести сигнальными огнями с холма на холм: так перекликаются порой скучающие дозорные, прохаживаясь взад и вперёд по крепостной стене. (Они узнают потом, что их ночные прогулки были исполнены смысла, но пока он невнятен дозорным, у них нет языка, благодаря которому на каждый шаг откликалось бы сердце, они не знают, чем заняты на самом деле, им кажется, что они скучают и ждут ужина. Но я-то знаю: не стоит вслушиваться в людскую болтовню; знаю: мои зевающие в ожидании ужина дозорные ошибаются. За ужином мои дозорные едят, смеются и шутят, у них просторно внутри — а позволь я им сидеть всё время вокруг котла, они стали бы домашней скотиной.) Так вот, эта ночь была так темна потому, что царство моё дало трещину, потому, что в ночи ощутимо недоставало сигнальных огней на холмах и ночь могла преуспеть и погасить один за другим оставшиеся, а это значило бы, что царство моё погибло. Гибель царства коснётся каждого, переменится вкус вечерней похлёбки и материнский поцелуй малышу перед сном. Если твой ребёнок не частичка царства, он совсем другой ребёнок, целуя его, ты не приникаешь к Господу. От пожара обороняются встречным огнём. Я расставил кругом преданных мне воинов и уничтожил всё, что попало внутрь железного круга. Я испепелил тебя, преходящее поколение, но что мне в этом пепле? Я спасал святыню осмысленного мира. Жизнь научила меня: не калечество причиняет страдание и не смерть. Благодаря храму человеческая жизнь осмыслялась, и его величие наделило величием людей. Вскормленный царством и отторгнутый от него чувствует себя изгоем и узником в тюремной камере, он трясёт решётку и отказывается от воды, язык, на котором он привык говорить, утратил смысл. Кому, как не ему, рвать волосы, обдирать на руках кожу? Отец переполнен ответственностью отцовства, и вдруг у него на глазах его сын тонет в реке — разве удержать отца на берегу? — с криком он вырвется из твоих рук и кинется в воду, иначе язык, которым он привык говорить, лишится смысла. Ты увидишь горделивое торжество подданного в день, когда восторжествует царство; ты увидишь счастье отца в день рождения сына. Горькие муки, великое счастье ты черпаешь из одного источника. Муками и радостями плодоносит твоя привязанность. Я сумел привязать тебя к царству. И теперь хочу спасти в тебе человека, пусть даже угрожая жизни, пусть даже толкая на путь страданий, посадив отца семейства в тюрьму и отлучив его от семьи, изгнав верного слугу царства, отлучив его от царства, потому что люблю семью, люблю царство, ты клянёшь меня за страдания, но я говорю тебе: ты не прав, я спасаю в тебе то, что живит тебя. Преходящее поколение, дарохранительница, куда спрятан храм, ты о нём, возможно, не подозреваешь, ты от него отвернулось, но ему и только ему ты обязано простором своего сердца, смыслом слов, сиянием глубинной радости. Я спасаю храм. Так значим ли железный круг моих воинов? Меня назвали справедливым. Да, я справедлив. И если проливал кровь, то не для того, чтобы утвердиться в жестокости, — чтобы обрести возможность являть милосердие. Теперь мне дано благословить того, кто коленопреклонённо целует мне руку. Благословение моё для него настоящее богатство. Он уходит с миром в душе. Но если не верить в моё право на власть, что толку в моём благословении? Я сложил пальцы, умягчил уста мёдом улыбки, но неверу некуда принять даруемое благо. Он уходит нищим. Одиночество, кричащее: «Я, я, я!..» — не обогащает, нечем ответить на этот крик. Если меня сбросят с крепостных стен, тосковать они будут не обо мне. А о сладостном чувстве сыновства. Умиротворении после полученного благословения. Об облегчённом прощением сердце. Им будет недоставать надёжного крова, осмысленности каждого дня, тёплого плаща пастуха. Так пусть они лучше преклонят колени и почувствуют себя одарёнными моей добротой, пусть воздают мне почести, и я возвеличу их. И разве о себе я сейчас говорю? Не собственной славе принуждаю я служить людей, я смиренно преклонён перед Господом, Господа они славят, и Он укрывает их всех Своею славою. Не ищу я и величия царства, сделав людей его подножием. Царство — подножие человеку, его хочу возвысить и облагородить. И если я присваиваю плоды их трудов и усилий, то отдаю их Господу, чтобы вернулись обратно благословенным дарением. И вот как воздаяние течёт к ним из моих житниц зерно. Оно — пища им, но ещё и свет, и песнопение, и душевный покой. Вещь должна исполниться для человека смыслом. Обручение наполняет смыслом кольцо, свирепые кочевники — военный лагерь, Бог — Свой храм, царство — реку. А иначе чем владели бы люди? Царство состоит из вещественности и невещественного. Царство вбирает в себя окружающее вещество.XCIII
Существуют люди, существует преданность. Преданностью я называю твою связь с людьми через твою мукомольню, храм или сад. Преданность саду придаёт тебе вес, ты — садовник. Но вот приходит человек, который не понимает, что значимо на самом деле. Наука, что познаёт, разлагая на части, внушила ему ложные представления о сущем. (Разложить — значит утратить содержимое, забыть о главном: о тебе в деле. Перемешай в книге буквы — уничтожишь поэта. И если сад — это сорок яблонь, то нет и садовника.) Беспонятным всё смешно, они не знают дела, они только насмехаются. Насмешники не читают книг, они перемешивают в них буквы. «Почему, — спрашивают они, — нужно жертвовать собой ради храма, ради упорядоченной кучи мёртвых камней?» Тебе нечего им ответить. Они спрашивают: «Зачем умирать ради сада, ради всяких там былинок и травинок?» Тебе нечего им ответить. «Зачем умирать ради букв в алфавите?» Незачем. И тебе не хочется умирать. Но на деле они обокрали тебя, сделали нищим. Ты не хочешь умирать, значит, ты ничего больше не любишь. Тебе кажется, ты поумнел, — нет, по глупости растратил силы и разрушил уже построенное; ты расточил своё сокровище — смысл вещей. Насмешник тешит своё тщеславие, он — грабитель, кому он помог своей насмешкой? Помог тот, кто шлифовал каждое слово, оттачивал способ выражения, стиль, а значит, совершенствовал инструмент, который позволит ему работать дальше. Насмешник работает на эффекте неожиданности, он грохнул о землю статую и позабавил всех бессмыслицей обломков, взорвал храм, который был для тебя прибежищем тишины и молитвенного раздумья, теперь перед тобой куча мусора, и, конечно, ради неё не стоит умирать. Тебе показали, как легко убивать богов, но тебе больше нечем дышать, жить. Любая вещь драгоценна ореолом света, пучком нажитых связей, эти связи мы именуем культурой, они — наш язык. Очаг для нас обозначает любовь, звёзды — свет горнего мира, дело, которое я тебе доверил, — царскую почесть, я приобщил тебя к своему царскому клану. Но что тебе делать с камнями, делами, цифрами, если они только камни, дела, цифры? Разрушили одно, разбили другое, что у тебя осталось? Только ты сам — единственный источник света, способный расцветить черепки, которым нечем больше тебя напитать. Вот ты и завяз в болоте тщеславия. Раз все вещи вокруг обессмыслились, ты сам наполняешь их смыслом. Ты остался в одиночестве и оделяешь всё вокруг собственным скудным светом. Вот новое платье, оно твоё. Вот стадо, оно твоё. И вот эта земля, что богаче других, тоже твоя. Но всё, что не твоё — другое платье, земля, стадо, — враждебно тебе. Соседнее царство, созданное по тем же законам, соперничает с тобой. Ты обречён посреди своей пустыни настаивать на довольстве собой, потому что, кроме тебя самого, у тебя больше ничего нет. Ты обречён кричать в своей пустоте: «Я! Я! Я!» — и не получать ответа. Я ни разу не встретил тщеславного садовника, если он на самом деле любил свой сад.XCIV
Всё освещено присутствием божества. Божество исчезнет, и переменится всё вокруг. Что тебе тогда дневная дань, если она не украшение чего-то иного? Ты знал: день даётся тебе для постижения запредельного, и вдруг оказалось — постигать нечего. Для чего тебе кувшин из звонкого серебра, если трапеза вдвоём уже не обряд, предваряющий любовь? Для чего самшитовая флейта на стене, если ты не играешь на ней для возлюбленной? Для чего ладони, если их лишили сонной тяжести любимого тела? Ты не у дел, в твоей лавочке всё продаётся, всё ищет себе места и хозяина, и ты тоже. Ко всему прицеплены этикетки, всё ждёт, что вот-вот начнётся новая жизнь. Пуст день, если не ждёшь больше лёгких шагов, если не расцветает на твоём пороге улыбка, медовую сладость которой в тишине и тайне собирала для тебя любовь и которой ты сейчас насладишься. День пуст, если нет рокового часа прощанья. Пуст, если нет забвения сна, когда страсть набирается сил. Нет храма, есть груда камней. Нет и тебя тоже. Так как же тебе не хотеть нового божества и храма, даже если ты знаешь, что позабудешь и этот, что опять будешь строить новый? Так устроена жизнь: настанет утро и вернёт тебе серебряный кувшин, пушистый ковёр, полдень и вечер, вновь обретёт смысл дань твоего дня и твоя усталость, вновь ты будешь близок или далёк, будешь идти или уходить, находить или терять. А сейчас, пока нет в твоей жизни ключа свода, ты не идёшь, не уходишь, не находишь и не теряешь, не помогаешь и не мешаешь ничему в мире. И даже если тебе кажется, что тебе необходимы вещи, что их ты завоёвываешь, от них отказываешься, на них полагаешься, их ломаешь, раздаёшь, добиваешься, владеешь, — ты ошибаешься: берёшь, удерживаешь, обладаешь, теряешь, полагаешься, жаждешь ты только света, которым наделило их солнце. Нет мостка между тобой и вещью, есть мосток между тобой и незримой картиной, которая может быть Богом, царством или любовью. Я вижу, ты стал моряком и ушёл в море — значит, долгое отсутствие представилось кому-то сокровищем, значит, давние матросские песни рассказали о счастье возвращаться, значит, по-прежнему передаются из уст в уста легенды о чудесных островах и коралловых рифах. И я уверен, волны нашёптывают тебе песню триер, хотя триер давным-давно нет, а коралловые рифы, несмотря на то что твой парусник пока не подходит к ним, меняют для тебя цвет воды с наступлением сумерек. А кораблекрушения, о которых тебе рассказывали? Пусть тебе самому не доведётся испытать ничего подобного — из-за них в жалобном вое волн, бьющихся о скалы, слышишь ты плач о мёртвых. Но если ничего этого для тебя нет, ты зеваешь, когда тянешь грубые канаты, а натянув их, складываешь на широкой, как море, груди праздные руки и опять зеваешь. Ничего и не появится, если не построить сперва в твоём сердце храма, не показать тебе картины, не обогатить связующими нитями культуры. Получив наследство, год за годом живя любовью к нему, ты не сможешь отказаться от самого себя. Не станешь искать иного смысла жизни. Что такое тюрьма для любящего? Не в вещном живёт он — в царстве смысла вещей, а в нём нет стен. Пусть любимая далеко, пусть она даже спит и словно бы не существует, и что её хрупкие руки против стен, что ты воздвиг между ними? Но в таинственной тишине души он питаем своей любовью. И не в твоих силах отлучить его от любви. Как любовь питает тебя и Божественный узел, что связал для тебя воедино весь мир. Та, которую ты не любишь, к которой лишь вожделеешь в разлуке, не насыщает, хотя ты не спишь из-за неё ночами. Но ведь и собака не сыта воображаемым мясом. Бдит в тебе только плоть, в тебе не родилось божество, которое умеет проходить через стены, — душа твоя спит. Я уже говорил тебе о князе, хозяине царства, что идёт поутру по росистой траве. Царство ему сейчас не в помощь. Перед ним — пустынная дорога. И всё-таки его не спутать ни с кем другим — так просторно его сердце. Говорил о дозорном моего царства: всё его владение — круглая каменная площадка башни и звёзды над головой. Он ходит по ней туда и обратно, и отовсюду ему грозит опасность. Кто обездоленней этого пленника, заключённого в тюрьму величиной в сто шагов? Его отягощает оружие, ему грозит карцер, если он присядет, смерть — если заснёт. Он мёрзнет в мороз, мокнет в дождь, обжигается раскалённым песком в жару, ждёт он только пули из ружья, надёжно укрытого темнотой и нацеленного ему прямо в сердце. У кого жизнь более безнадёжна? Любой нищий счастливее и богаче: нищий может идти куда хочет, он свободен глазеть на толпу, с которой смешался, свободен из всего устроить себе развлечение. Но мой дозорный — частичка царства. Царство переполняет, питает его. Нищему с ним не сравниться, настолько богаче и просторнее сердце дозорного. Даже смерть будет ему богатством, он сольётся со своим царством. Моих узников я отправил в каменоломню. Они ломают камень, и на душе у них пусто. Но если ты строишь собственный дом, разве тот же камень ты ломаешь? Ты кладёшь стену, и каждое твоё движение не наказание, а праздник. Понимание изменяет перспективу. Конечно, ты увидишь, как счастлив тот, кому грозила смерть, — он спасся и продолжает жить. Но если ты поднялся на гору по соседству и увидел, что жизнь твоя завершена и похожа на увязанный сноп, то, наверное, тебя больше обрадует смерть, потому в ней для тебя главный смысл. Смерть была исполнена смысла и для «языка», которого по моему приказу поймали ночью и у кого я хотел вызнать намерения моих врагов. «Я рождён своей родиной, — ответил он мне, — твоим палачам ничего не поделать с этим...» У меня не было жерновов, которые выдавили бы из него масло тайны, он принадлежал своему царству. — Несчастный, ты целиком в моей власти, — сказал я. Он рассмеялся, услышав, что я назвал его несчастным, счастье его было с ним, и не в моей власти было отнять его. Потому я и говорю о непрестанном упражнении души. Истинное твоё богатство не в вещах. Вещественное значимо, пока ты пользуешься им — миска, если налил суп и ешь, осёл, если взнуздал и поехал, но вот осёл в стойле, миска на полке, — что они для тебя? Или ты расстался с ними, как расстался с женщиной, которую только желал, но так и не полюбил? Конечно, животному прежде всего доступно вещественное, а не аромат, не ореол, как принято говорить. Но ты — человек, и питает тебя смысл вещей, а не вещи. А я? Я творю тебя, веду со ступени на ступень, учу. Не камень показываю я тебе — величие погибшего воина, каким увидело его сердце ваятеля. И твоё сердце стало богаче оттого, что где-то помнят погибшего воина. Из овец, коз, домов и гор я творю для тебя царство, поднимаю тебя на следующую ступень. Оно вроде бы тебе не в помощь, но ты всё-таки полон им. Я соединяю обычные слова, и возникает стихотворение, ты стал ещё богаче. Я связал горы и реки между собой, и возникло царство и озарило сердце воодушевлением. Царство празднует победу, и в этот день умирающие в больнице от рака, узники в тюрьме, должники, замученные кредиторами, — все гордятся, потому что нет таких стен, больниц и тюрем, которые помешали бы ощутить благодать. Разброд сущего я преобразил в Бога, божество смеётся над стенами, и что ему пытки?.. Поэтому я и говорю: я творю человека, разрушаю стены, вырываю решётки, мой человек свободен. Я творю человека, он неизменен в своих привязанностях, и что ему крепостные стены? Что тюремщики? Он смеётся над пытками палачей, потому что они не в силах его принизить.Я говорю «общение», но имею в виду не беседы то с одним, то с другим. Я имею в виду твою привязанность к царству и привязанность другого к царству — к тому самому царству, что значимо для вас обоих. И если ты меня спросишь: «Как мне догнать любимую, нас разлучил мир, а может быть, мор, а может быть, смерть», — я отвечу: «Не зови её, она не услышит, лучше оберегай её присутствие, которого не отнять у тебя никому, сохраняй облик созданного ею дома: чайный поднос, чайник, пушистый ковёр — она им хозяйка, ключ свода, жена, которая устала и заснула, ведь тебе дано любить её и спящей, и далёкой, и в разлуке...» Поэтому я и говорю: создавая человека, не заботься о знаниях — что толку, если он станет ходячей энциклопедией, — поднимайся с ним со ступеньки на ступеньку, чтобы видеть не отдельные вещи, а картину, созданную тем Божественным узлом, который один только и способен связать всё воедино. Ничего не жди от вещей: они обретают голос, став знаком чего-то большего, и сердцу внятен только такой разговор. Вот, к примеру, твоя работа: она может быть хлебом для твоих детей, а может быть расширением в тебе пространства. И твоя любовь может стать большим, чем жажда обладать телом, потому что радости тела слишком тесны. Ты вернулся из пустыни и скучной, душной ночью идёшь в весёлый квартал, чтобы выбрать ту, с которой забудешь о любви. Ты ласкаешь её, она что-то спрашивает, ты отвечаешь, но объятия разомкнутся, и ты уйдёшь опустошённый: даже если она была красива, тебе нечем вспомнить её. Но если то же лицо, стать и слова окажутся у принцессы, которую так медленно из далёкой дали везли мои караваны, которую пятнадцать лет взращивали музыка, поэзия и мудрость, научив на оскорбления отвечать гневом и хранить верность в испытаниях, выковав в ней твёрдость и преданность богам, которым она не умеет изменить; не задумываясь, пожертвует принцесса своей красотой, но не снизойдёт и не вымолвит ни слова, которого потребовал палач, так естественно для неё благородство, и последний её шаг будет выразительней танца; так вот, если эта принцесса будет ждать тебя в залитом светом зале, и, протянув руки, пойдёт к тебе навстречу по мерцающим плитам, и скажет тебе те же слова привета, но в голосе её ты услышишь совершенство души, — уверяю тебя, на рассвете ты уйдёшь в свою скалистую пустыню обновлённым, благодать будет петь у тебя в душе. Не телесная оболочка, не толкотня мыслей — значима только душа, её простор, её времена года, горные пики, молчаливые пустыни, снежные обвалы, цветущие склоны, дремлющие воды — вот он, этот весомый для жизни залог, незримый, но надёжный. В нём твоё счастье. И тебе никак себя не обмануть. Разные вещи — странствие по могучему океану или по скудной речонке, пусть ты даже закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать качку. Разная радость, пусть брошки будут одинаковы, от стекляшки и алмаза чистой воды. И та, что сейчас примолкла, совсем не похожа на ту, что ушла в глубины своего молчания. Да ты и сам никогда не ошибёшься! Потому я и не хочу облегчать твой труд, раз женщины сладки тебе. Не стану облегчать тебе охоту за добычей, пустив на ветер условности, запреты, отказы, благородство обхождения и души: вместе с ними я уничтожу и то, что ты так жаждешь поймать. Гулящие предоставляют тебе одну возможность — возможность забыть о любви, а я занят лишь тем, что придаст тебе сил для завтрашних свершений, я побуждаю тебя преодолеть эту гору, чтобы завтра ты преодолел другую, ещё выше. Я хочу, чтобы ты узнал любовь, побуждаю тебя преодолеть неприступную душу.
XCV
Алмаз — плод политой потом земли, земли, политой потом целого народа, но алмаз, добытый такими трудами, невозможно поделить, невозможно съесть, невозможно раздать каждому из работников понемножку. Должен ли я из-за этого отказаться от добычи алмазов — звёзд, проснувшихся в земле? Если я изгоню из цеха чеканщиков, тех, кто чеканит золотые кувшины, — золотой кувшин тоже невозможно поделить, потому что он стоит целой жизни и всю эту жизнь я должен кормить мастера хлебом, который добывают другие, — и если, изгнав этих мастеров, я пошлю их пахать землю и золотых кувшинов больше не будет, зато будет больше пшеницы, которую можно поделить, — ты одобришь меня и скажешь, что жизнь без бриллиантов и золотых кувшинов послужит к чести человека? Но скажи, как облагородится ею человек? Об алмазах ли я пекусь? В угоду завистливой и жадной толпе я бы согласился сжечь на огромном костре все добытые за год алмазы в день всенародного праздника или одел бы сиянием алмазов праздничную королеву, чтобы народ гордился своей бриллиантовой царицей. Алмазы вернулись бы к ним царским величием или блеском пышного празднества. Но чем обогатят их бриллианты, если запереть их в музей, где они попадутся на глаза двум-трём праздным зевакам и грубому толстяку смотрителю? Согласись, ценится лишь то, на что затрачено немалое время, например, храм; согласись, слава моего царства сияет в тех самых алмазах, которые я заставил добывать, и к славе этой приобщён каждый, любуясь горделивой королевой в бриллиантах. Я знаю одну свободу — свободу упражнять свою душу. Любая другая иллюзорна. Я докажу тебе, смотри: ты нуждаешься в двери, не умея проходить через стены, не волен обрести молодость, не волен наслаждаться солнцем среди ночи. Я заставил тебя выбрать эту дверь, а не другую, и ты жалуешься на притеснение, но ты забыл — будь дверь только одна, ты был бы притеснён точно так же. Я запретил тебе соединить твою судьбу с той, что кажется тебе красавицей, и ты кричишь о моём тиранстве, но ты не знаешь, что все красавицы твоей деревни косят, потому что никогда не покидал своей деревни. Ты женишься на той, которую я принуждал сбыться и ради тебя пестовал в ней душу, — теперь вы вдвоём обретёте единственную свободу, суть которой полнота смысла и непрестанное расширение души. Своеволие изнашивает тебя. Мой отец говорил: «Не быть — не значит жить свободно».XCVI
Я буду говорить с тобой о необходимости, или безусловном: это и есть Божественный узел, что связует всё воедино. Невозможно до смерти увлечься игрой, если кости всего-навсего костяшки и ничего больше. Вот я отдал приказ отплыть в море, море неспокойно, и капитан долго и пристально вглядывается в него — взвешивает тяжесть туч, словно силу противника, прикидывает высоту валов, определяет напор ветра. Своим приказом я связал для него воедино тучи, ветер и волны. Мой приказ — необходимость, с которой не поспоришь, мы с моим капитаном не на ярмарке, не на базаре, мы — святилище, где я — ключ свода, утверждающий его незыблемость. И как не преисполниться ему величия, правя своим кораблём? Вот другой, он не подчинён мне, он приехал полюбоваться морем, он может идти куда хочет, может повернуть назад с полдороги, он не подозревает о святилище, тучи для него не испытание, не угроза — красивая декорация, не больше, крепнущий ветер не грозит опрокинуть мир, он обдувает ему щёки, а морские валы опасны разве что качкой, неприятной и тягостной для желудка. Поэтому я и говорю: долг — тот же Божественный узел, что связует всё воедино. Но царство, храм и твой дом построятся только тогда, когда долг станет для тебя неоспоримой необходимостью, когда перестанет быть игрой, в которой можно менять правила. — Долг не выбирают, —говорил мой отец, — в этом его главная особенность. Поэтому и обречены на неуспех те, кто хочет в первую очередь нравиться. Желание нравиться делает их податливыми и гибкими. Они бегут тебе навстречу и предают на каждом шагу, желая остаться желанными. На что мне медузы без костяка и формы? Я изрыгаю их, возвращая хаосу: вы придёте ко мне, когда создадите самих себя. Даже женщина устаёт от возлюбленного, если он только эхо её и зеркало, — кто нуждается в собственном отражении? Ты мне нужен, если выстроил себя как крепость, если внутри тебя я чувствую плотную сердцевину. Садись рядом, ты есть. Преданного царству выберет себе в мужья женщина и будет ему служить.XCVII
И вот что я хотел ещё сказать о свободе. Мой отец после смерти стал для подданных горным хребтом, заслонившим горизонт. Логики, историки, критики очнулись, раздулись от ветра снов и объявили, что человек прекрасен. Да, созданный моим отцом человек был прекрасен. — Раз он так прекрасен, — шумели логики и критики, — отпустите его на свободу. На воле он расцветёт, каждый шаг его будет чудом. Принуждения застят его свет. А я вечерами гуляю среди апельсиновых деревьев, ветки их обрезают, верхушки вытягивают. Почему бы мне не сказать: — Деревья мои прекрасны, они сгибаются под тяжестью апельсинов. Для чего обрезать им ветки, которые тоже могут плодоносить? Нужно дать дереву волю. На свободе оно расцветёт. Мы мешаем полноте цветения. Логики освободили человека. Люди выпрямились ещё больше, потому что росли с прямой спиной. И когда пришли жандармы, захотев подчинить их былым принуждениям, но не потому, что видели в них материнское лоно, рождающее совершенство, а из низменного желания повелевать, люди взбунтовались против утеснения. Жажда свободы воспламенила их, и пожар восстания вспыхнул во всех концах моего царства. Быть свободными означало для них быть прекрасными. Умирая за свободу, они умирали за величие своей души, и в их смерти было величие. Слово «свобода» звенело чище серебряной трубы. Но я вспомнил, что говорил мне отец: — Свобода для них — это свобода не быть никем. Посмотри, вместо свободы возникла сутолока, как на городской площади. Ты протоптал тропку здесь, твой сосед стал ходить там, но дороги у вас нет. Свою часть дома ты покрасил в красный цвет, твой сосед — в синий, а квартирант — в жёлтый; неведомо какого цвета у вас дом. Вот вы решили устроить праздничную процессию, но каждый настаивает на своём маршруте, неразумие размело вас, словно пыль, и не было никакого праздника. Если свою власть ты делишь между всеми, наступит безвластие. Если каждый выберет место для храма и начнёт сносить туда камни, ты увидишь каменистую пустыню, а не храм. Творец всегда один, твоё дерево — взрыв одного семечка. И конечно, это дерево — вопиющая несправедливость, потому что другие семена уже не проросли. Желание подавить всех я не назову силой, а назову глупой гордыней. Но если это сила созидающего творца и она противостоит естественному течению событий, превращающему горный ледник в болото, храм в песок, жар солнца в скудное тепло, книгу в кипу разрозненных страниц, язык в смесь чужеродных слов, — течению, которое уравнивает все возможности и уравновешивает все усилия, рано или поздно развязывая тот Божественный узел, что связал всё воедино, заменяя картину разбродом сущего, — я приветствую эту силу и прославляю её. Она сродни кедру, который положился на каменистую пустыню, который углубляет свои корни в почву, хотя нет в ней обильных питательных соков, который протянул ветви солнцу — тому самому солнцу, что уподобило песок бесстрастному зеркалу, выгладило всё, выровняло и уравновесило, но теперь это злое солнце в помощь несправедливому кедру, который преображает песок и камни, который раскидывает в солнечных лучах смолистый храм, который поёт вместе с ветром, как эолова арфа[369], и возвращает движение неподвижному. Ибо жизнь — это единство связей, сплетение силовых линий и несправедливость. Увидев детей, томящихся от скуки, что ты делаешь, как не навязываешь им принуждение, которое зовётся «правила игры», и вот они уже бегают в догонялки.Наступило время, когда нечего стало высвобождать и свободой стали называть делёжку материальных благ среди равных и равно ненавидящих друг друга. Ты свободен, ты толкаешь в бок соседа, а он толкает тебя. Шарики толкаются, катятся, и если вдруг остановятся, то остановку ты называешь отдыхом. Такая свобода требует непременного равенства, а равенство неизбежно требует равновесия, а когда всё уравновешено, наступает смерть. Не лучше ли жизнь? Она поведёт тебя за собой, ты столкнёшься с силовыми линиями, и они покажутся тебе препятствием, но они — направляющие для растущего вверх дерева. Единственная зависимость, которая может тебя умалить и которую должно ненавидеть, — это зависимость от недовольства соседа, от зависти равного тебе и необходимость не выделяться из толпы. Попав в плен подобных зависимостей, ты превратишься в отброс среди кучи других отбросов. Но если речь идёт о растущем вверх дереве, каким нелепым покажется тебе ветер слов, гудящий о тирании. Так вот, наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает её к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и справедливостью — своё гниение. Так вот, наступили времена, когда слово «свобода», которое звенело когда-то призывно, словно военный рожок, сникло, полиняло, и люди стыдливо мечтают о новом звонком рожке, который разбудит их на заре и позовёт строить. Потому что хорош только тот рожок, который тебя разбудил. А принуждение плодотворно только тогда, когда, служа храму, ты служишь и самому значимому в себе. Камни не могут сами стронуться с места и построить собственный храм, но если для камня нашлось его место, то неважно, чему он служит, — полученное будет значимо. Подчинись рожку, если он разбудил в тебе большее, чем ты сам. Те, что умерли за свободу, выбрали её, потому что она была самым лучшим в них и возможностью ещё большего совершенства. Они служили радости быть свободными и подчинились зову рожка, поднявшись ночью, отказавшись от свободы спать дальше или обниматься с женой, они стали ведомыми, и если ты послушен голосу долга, зачем мне знать, где были жандармы — рядом с тобой или в тебе самом. И если они были в тебе, то, значит, когда-то были рядом, потому что чувство чести ты унаследовал от отца, который растил тебя с честью. Когда я говорю «принуждение» — я подразумеваю противоположность своеволия, в котором всегда есть недобросовестность, но не имею в виду принуждений моей полиции, — я бродил по городу в безмолвии моей любви, видел играющих детей, они подчинялись правилам игры, им было стыдно их нарушить. Они дорожили игрой, тем, что получали от игры. Дорожили рвением и радостью справиться с заданной игрой задачей, дорожили своей юной дерзостью — словом, вкусом этой игры, а не другой, этим вот божеством, которое сделало их дерзкими и радостными. Ведь каждая игра требует от тебя своего, и, желая измениться, ты меняешь игру. Но вот ты, который только что был в игре всемогущ и благороден, вдруг сплутовал и тут же понял, что разрушил собственными руками то, ради чего играл, — всемогущество и благородство. И всё-таки ты успел полюбить их, а значит, примешь принуждение правил.
Что может создать жандарм? Всеобщее единообразие. Откуда ему знать о большем? Порядок для него — порядок музея, где всё выстроено в ряд. Но единству моего царства не нужны подобия. И ты, и твой сосед лепите себя как частичку царства, как колонну, как статую в храме, который сам по себе един. Мои принуждения сродни ухаживанию за любимой.
XCVIII
Если ты любишь без надежды на взаимность, молчи о своей любви. В тишине она сделается плодоносной. Кто, как не она, направляет твою жизнь, и любой путь тебе на пользу, ибо подходишь, удаляешься, входишь, выходишь, находишь, теряешь. Ты ведь тот, кто должен жить. Но нет жизни, если ни один бог не напряг вокруг тебя силовых линий. Если тебя не любят, а у тебя недостаёт твёрдости души молчать о своей любви и ты вымаливал ответную любовь как вознаграждение за верность, но тщетно, попытайся найти врача и исцелиться. Потому что вредно путать любовь с рабством сердца. Прекрасна любовь, которая молится, но та, что клянчит и вымогает, сродни лакею. Если бесстрастное течение жизни поставило на пути твоей любви преграду вроде изгнания или молчаливых монастырских стен и тебе надо преодолеть её, возблагодари Господа, если твоя любимая отвечает тебе взаимностью, пусть в этот миг она для тебя всё равно что слепоглухонемая. Знай, в этом мире мерцает для тебя негасимый огонёк ночника. И поверь, совсем не важно, видишь ты его или нет. Умирающий в пустыне богат теплом своего далёкого дома, несмотря на то что умирает. Если я пестую величие души и выбрал самую совершенную, чтобы она вызревала в тишине и молчании, тебе, наверное, покажется, что совершенство её никому не в помощь. Но посмотри, благодаря ей облагородилось всё моё царство. Издалека приходят к ней на поклон. Являются чудеса и знамения. Если любят тебя, пусть даже неощутимо, и ты любишь в ответ, ты идёшь в луче света. Когда чувствуешь Господа, благодатна та молитва, на которую отвечают тишиной. Если твоя любовь взаимна, если тебе раскрыты объятья, молись Господу, чтоб Он спас твою любовь от порчи, я боюсь за сытое сердце.XCIX
И поскольку я всё же полюбил свободу, научившую петь моё сердце, поскольку проливал кровь, чтобы её завоевать, и видел сияющие глаза тех, кто бился со мной рядом (видел я и других, низких сердцем, — угрюмо набычившись, ломились они к кормушке и, отвоевав себе место в хлеву, превращались в чавкающих свиней). Поскольку я видел и тех, кого оживил свет свободы, и тех, кого тирания превратила в скотов. Поскольку я живу жизнь и не отворачиваюсь от малой малости в самом себе, но зато не принимаю всерьёз разноголосицу идей, твёрдо зная, что, если слова сделались тесны для жизни, нужно их поменять; если тебя поставило в тупик неразрешимое противоречие, нужно перестроить фразу, нужно, чтобы поднялась гора, с которой видна будет целиком вся равнина. И поскольку я знаю, что благородство души закладывается, выстраивается и созидается, словно крепость, что созидает его принуждение, вера и безусловность долга, которые овеществились в традициях, молитве и обрядах. Поскольку я знаю, что прекрасны только гордые души, которые не желают сгибаться и помогают человеку держаться прямо даже под пыткой, которые освобождают от тирании самолюбия, но умеют хранить верность себе, выбирать, решать и жениться на любимой вопреки наговорам толпы и немилости короля... Потому я и понял, что главное не свобода и не принуждение. Главное — не отвернуться ни от одного из биений жизни. А слова? Пусть дразнятся, показывая друг другу язык.C
Если ты заранее определил, что такое зло, и стал за него наказывать, злодеев окажется очень много (ты можешь посадить в тюрьму всех, потому что в каждом есть крупица зла, которое ты искореняешь, а если карать за недозволенные желания, то в тюрьму отправятся и святые). Страшна твоя предвзятость, ты поднялся на запретную гору, одетую кровавым туманом, и вслепую уничтожаешь человека вообще. Ты видишь его злодеем, но в нём есть и ангел. Ты уничтожаешь их вместе. Если твои жандармы — а они неизбежно тупые исполнители твоей воли, тупость — их профессия, от них не требуется чутья, напротив, оно им запрещено, потому как не их дело вникать и судить, их дело выявлять по данным тобой признакам, — так вот, если твои жандармы получат приказ разделить всех на чёрных и белых — а других цветов для жандармов не существует — и к чёрным ты отнесёшь, например, того, кто насвистывает в одиночестве, кто порой сомневается в Боге, кто зевнул, копая землю, кто вот так думает, поступает, любит, ненавидит, восхищается, презирает, — тогда наступают отвратительные времена и оказывается, что у тебя не народ, а сплошные предатели, и сколько ни руби голов, всё будет мало, и в толпе так и кишат подозрительные и шпионы. Ты поделил не людей, разведя направо одних и налево других, чтобы картина стала яснее, — ты разрубил человека, разделил, разлучил его с самим собой, завербовал в нём соглядатая, сделал подозрительным для самого себя и готовым себя предать, потому что в одну из томительных ночей каждый сомневался в Боге, потому что каждый насвистывал в одиночестве, зевал, копая землю, и думал, делал, любил, ненавидел, восхищался или презирал не должное. Ибо человек живой, и он живёт. Но святым, праведным и желанным тебе показался тот, кто громыхает сегодня одной идеей, завтра другой, смешной ярмарочный паяц; тебе оказался ненужным тот, кто живёт сердцем. А раз ты послал жандармов искать не какого-то человека, а человеческое в человеке, то с присущим им усердием они отыщут его в каждом, ужаснутся обилию зла, ужаснут тебя своими донесениями и убедят в необходимости самых срочных мер. Ты согласился и построил тюрьму, куда заключил весь свой народ. Но если ты всё-таки хочешь, чтобы крестьяне у тебя пахали землю, полагаясь на щедрое солнце, чтобы ваятели резали камень, геометры чертили фигуры, ты должен подняться на другую гору. С другой вершины теперешние каторжники покажутся тебе святыми, и ты воздвигнешь памятник тем, кого послал ломать камень.CI
Наконец-то я понял, что такое грабёж, я давно размышлял о нём, но не был просветлён Господом. Я знал и раньше, что грабительствует писатель, ломая основы стиля, корёжа устоявшиеся средства выражения, желая эффектней выразить себя. На первый взгляд что тут непохвального? Средства выражения и выработаны для того, чтобы выражать себя. Но ты, вместо того чтобы пуститься в путь, сломал повозку, ты похож на неразумного хозяина, неимоверной кладью он перешиб хребет своему ослу. Набавляя день за днём понемногу, он мог бы приучить своего осла к более тяжёлой клади, и осёл служил бы ему лучше, чем раньше. Я гоню нарушителей. Пусть пыхтят и выражают себя по правилам, трудясь над тем, чтобы правила всё-таки существовали. Грабежом, своеобразной растратой нажитого запаса оказываются и прорывы к свободе людей добродетельных. Хотя запас, лежащий без движения, бессмыслен. Точно так же, как и добродетель, если она всегда обречена существовать под спудом, задавленная обилием обязанностей. Бессмысленно строить хранилища для хранения зерна. Хранилище имеет смысл только тогда, когда из него черпают зерно в зимнюю бескормицу. Суть хранилища прямо противоположна хранению, в него складывают, чтобы тратить. Неуклюжий язык — единственная причина противоречия, дерутся между собой слова «складывать» и «черпать», так что не стоит утверждать: «Хранилище — место, куда складывают», — логик может тут же возразить: «Хранилище — место, откуда берут»; ты справишься с ветром слов, обозначив хранилище как перевалочный пункт. Но ведь и свобода — вкушение тех плодов, которые были взращены моим принуждением, ибо только принуждение способно созидать то, что достойно свободы. Созданный мной человек свободен от страха пыток, он не хочет отказываться от себя, он противится приказам тирана и его палачей, и я называю его свободным. Свободен и тот, кто способен устоять перед низменной страстью. Но как назвать свободным того, кто попадает в рабство любому соблазну. Сам он зовёт это свободой, он свободно выбрал для себя вечное рабство. Что значит создать человека? Мне кажется, это значит высвободить в нём ту деятельность, что свойственна человеку. Создать поэта означает высвободить в нём стихи. И если я хочу видеть тебя ангелом, я высвобождаю из тебя окрылённые слова и уверенные движения танцора.СII
Я сторонюсь тех, кто судит обо всём с определённой точки зрения. Вот этому борцу кажется, что он борется за великое дело; кроме своего дела, он ничего не видит вокруг. Мне важно, чтобы в нём очнулся человек, когда я заговорю с ним. Но я не верю, что от нашей встречи будет какой-то толк. Наш разговор станет военным манёвром и плутовством, собеседник переиначит мою истину, чтобы она послужила его собственному царству. И я не буду упрекать его, раз он ощутил себя значимым благодаря своему делу. Идеально поймёт и не исказит моих истин тот, кого я назвал бы совершенным и просветлённым, он не превратит их в свои и не повернёт при случае против меня, он не работает, не действует, не борется и не разрешает никаких проблем. В моём царстве есть бесполезный светильник, он освещает лишь самого себя, но бескорыстно, он — самый утончённый и хрупкий цветок моего дерева, бесплодный цветок, ибо слишком чист. Вот она, проблема взаимопонимания, проблема мостика между борцом за великое дело, совсем непохожее на моё, и мной. Проблема смысла в нашем языке. Объединяет только Бог, который сделался явью. Ощутимое понятие «царство» связывает меня и моего воина, потому что и для него, и для меня оно одинаково значимо. Любящий вопреки всем стенам — одно целое с той, что стала душой и теплом его дома, которую дано ему любить и далёкой, и спящей. Но вот передо мной посланник иного царства, и если я хочу играть с ним в игру более сложную, чем шахматы, если хочу встретиться с ним как с человеком, перешагнув ступеньку подвохов и взаимообманов, — ведь и воюя, мы можем уважать друг друга и чувствовать взаимное приятство, как это было с восточным государем, возлюбленным моим врагом, — так вот, если я хочу поговорить с ним по-человечески, мне нужен новый образ, новая картина мира, которая станет для нас новой мерой всех вещей. Если он верит в Бога и я тоже, если он хочет привести к Богу свой народ, а я хочу открыть Божественное своему, то мы встретимся с ним как равные в шатре перемирия посреди пустыни, вдалеке от наших коленопреклонённых воинов, и будем молиться вместе, потому что нас объединяет Бог. Но если для нас не найдётся Бога, который превосходил бы и его, и меня, у нас нет надежды на взаимопонимание, на связующие нити, ибо одна и та же вещь обладает различным смыслом, принадлежа твоей целостности и моей. Из одинаковых камней наши архитекторы строят разные храмы, и как нам договориться, если слово «победа» для тебя означает то, что я побеждён, а для меня то, что я победил?И я понял, зная, что в разговоре ничего не значат мои слова, а только залог — тот, что обеспечивает их смысл и весомость, зная, что житейское не затрагивает ни души, ни сердца и просьба «передай мне чайник» взволнует только потому, что перед глазами возникло любимое лицо, что чайник был частичкой твоего домашнего царства, когда вы вдвоём пили чай после вашей любви, или, наоборот, возлюбленная навещала тебя только изредка и чаепитие для вас было редкостным праздником... Так вот, я понял, почему берберы-изгнанники, для которых развязался Божественный узел, оставив их среди хаоса разноликих вещей, стали похожи на бессмысленную скотину, — кормили их хорошо, но они не преобразили хаос в незримую часовню, зримыми камнями которой были бы сами, — они были хуже скотины, потому что коровам не нужны незримые часовни, их небогатая радость в переваривании малой толики вещного. Я понял, почему перевернула им душу песня сказителя, которого послал к ним мой отец, — сказитель пел о том, как безликие вещи, отражаясь друг в друге, обретают лицо и значимость. Какое богатство — три белых камешка в руках мальчишки, хаос разноликого мира ничто перед ним.
CIII
Мои тюремщики разбираются в людях лучше, чем геометры. Поручи им дело — и убедишься. А если речь зашла, кому править царством, я подумаю ещё, кому его поручить — генералам или тюремщикам. Но уж конечно, предпочту тюремщика геометру. Да, геометры научены вычислять, соразмерять, но они перепутали: искусство вычислений вовсе не мудрость. «Мы владеем истиной», — твердят они. Да, истиной вычислений. Конечно, можно попробовать управлять и с помощью их языка, но как он неуклюж, как неприспособлен для управления! И сложно, и кропотливо ты будешь сопоставлять и соизмерять, прежде чем принять меры, и меры твои будут всегда отвлечёнными. Реальные меры умеют принимать только танцоры и тюремщики. Потому что узники те же дети. И остальные люди тоже.CIV
Геометры донимали моего отца. — Править людьми должны мы, — утверждали толкователи геометрии. — Мы владеем истиной. — Истиной геометров... — отвечал им отец. — Так что же? Разве она не истинна? — Нет, — отвечал отец.— Они знают истину треугольников, — говорил он мне. — Пекарь знает истину хлеба. Если плохо вымесил тесто, хлеб не поднимется. Если перегрел печь — подгорит, если недогрел — сядет. И хотя мой пекарь печёт пышный хлеб с хрустящей корочкой и есть его одно удовольствие, он почему-то не приходит ко мне требовать, чтобы я поставил его управлять царством. Ты можешь согласиться, что, возможно, я прав относительно геометров, но есть ещё историки, критики. Они показывают нам деяния людей. Они разбираются в людях... Но я, — продолжал отец, — отдаю управление государством тем, кто сродни чёрту. Надо сказать, что с некоторых пор чёрт весьма усовершенствовался и недурно проясняет тьму человеческих взаимоотношений. Но скажи, есть ли чертовщина в пересечении линий? Потому-то я и не жду, что геометры, копаясь в треугольниках, сообщат мне что-то новенькое о дьяволе. В их треугольниках нет ничего такого, что помогло бы управлять людьми. — Ты говоришь тёмно, — сказал я отцу. — Выходит, ты веришь в дьявола? — Нет, — ответил отец. И добавил: — Что, собственно, значит верить? Я верю, что летом вызревает ячмень, вера моя не полезна и не вредна, потому что я просто обозначил лето как время года, когда вызревает ячмень. Некая уверенность есть у меня и относительно других времён года. Но вот я сопоставил свои уверенности и вывел некоторую закономерность: рожь, оказывается, созревает раньше ячменя, и я верю в это, потому что так оно и есть. Мне не важен ячмень, не важна рожь, мне важно было соотношение летних месяцев, я поймал его, а ловушкой были рожь и ячмень. И он продолжил: — Я могу объяснить тебе то же самое на примере статуи. Вряд ли ты думаешь, что для скульптора важнее всего нос именно таких очертаний, такой вот рот и подбородок. Нет, конечно. Ему важно их соотношение, которое воплотит, например, человеческую скорбь, потому что человек общается не с вещами — с тем узлом, который связывает их воедино. Один дикарь верит, что звук спрятан в барабане. Он боготворит барабан. Другой верит, что звук в палочках, он боготворит палочки. Третий верит, что всему причиной его сильные руки, и посмотри, как он гордится ими, поднимая их вверх. А ты уверен, что барабанная дробь прячется не в барабане, не в палочках и не так уж зависит от силы рук; искусство барабанщика — вот для тебя главное. Не будут править моим царством истолкователи геометрии, подспорье они возвели в абсолют, их позвали помогать строить храм, а они обожествили свою власть над камнями. А теперь с помощью законов о треугольниках хотят управлять людьми.
Мне стало горько. — Что же, истины нет? — спросил я. — Если бы ты сумел мне назвать то, что мучается в тебе от безответности, — улыбаясь, сказал мне отец, — я заплакал бы вместе с тобой, чувствуя себя калекой, лишённым возможности двигаться. Но я просто не вижу, что же ты пытаешься поймать. Влюблённый читает письмо любимой и счастлив независимо от качества бумаги и чернил. Любовь исходит не от чернил, не от бумаги.
CV
И вот что я ещё понял: люди попались в плен словесным фантомам, и они убедили их, что знания добываются путём расчленения целого; теперь, расчленяя, люди уничтожают собственное наследство. Уничтожают, потому что всё относительно верное для телесного неверно для духовного. А человек — ничего не поделать — создан так, что вещи для него пусты и мертвы, если не связаны и с бестелесным тоже; богатый скупец выбирает для себя всё-таки самую красивую вещь, потому что собственный дом он представляет богатым и прекрасным и золото для него — средоточие незримых сокровищ; и его жена просит драгоценную диадему не для того, чтобы причёска стала тяжелее, но потому, что эта диадема — условный знак, ступень иерархии, эмблема тайного господства. Я отыскал тот таинственный родник, что утолит жажду твоей души и сердца. Единственный хлеб, который напитает тебя. Единственное достояние, которое нужно спасти. И если ты растратил его, то должен нажить непременно. Оглянись, ты оказался среди кучи обломков, и если животному в тебе хорошо и так, то человек в тебе голодает, не зная даже, какая пища утолит его голод, — ты так создан: чем больше ты пьёшь, тем больше жаждешь, но если одряб без живительной влаги, без трудов и погрузился в дремоту, то уже не ищешь себе ни трудов, ни чистой воды. Поэтому нет у тебя возможности узнать, в чем твоё спасение, и кто-то должен спуститься с горы и осветить тебе путь. И как бы умно тебе ни рассказывали, тебе не узнать, какого ты наработаешь в себе человека, — его же пока ещё нет. Моё принуждение сродни господству растущего дерева, дерево — это путь, преображающий песок и камень. Ступень за ступенью приобщаю я тебя к сокровищам всё более весомым и всеобъемлющим. Хороши любовь, дом, царство, храм и год, что похож на часовню, освящённую праздниками, но если ты позволишь мне помочь тебе подняться на самую высокую из вершин, ты увидишь, есть у меня и другие сокровища, но добыть их так трудно, что многие отказываются от них по дороге, ибо новую картину я складываю из камней, взятых от тех храмов, что дороги их сердцу. Но те, кто всё-таки рассмотрел мою новую картину, так вдохновлены ею, что в душе их пламенеет огонь. Открывшаяся цельность так светла, что кажется душе пламенем. Пылающими любовью назвал бы я этих людей. Доверься мне и позволь созидать тебя, в душе твоей загорится свет.Но тускнеет и ощущение Господа. Я уже говорил тебе: приходит день — и стихи смолкают. Как бы ни были они хороши, они не в силах питать тебя каждый день... Дозорный, что день и ночь ходит взад и вперёд, не может всё время пламенеть усердием во имя царства. То и дело развязывается для человека Божественный узел, что связует всё воедино. Загляни к ваятелю. Ему сегодня грустно. Глядя на мрамор, он покачивает головой: «К чему этот нос, подбородок, ухо?» — он не видит того, что хотел поймать. Сомнение — тоже твоя дань Господу, тебе недостаёт Его, и ты страдаешь.
CVI
Исполняя ритуал, ты приобщаешься. Рассеянно послушав музыку, обведя глазами храм, ты останешься прежним, в тебе ничего не рождается, не напитывается. У меня нет иного способа открыть тебе жизнь, которой я хочу для тебя, я могу только принудить тебя к ней, чтобы ты почувствовал её вкус. Как мне объяснить тебе эту музыку? Ты слышишь и не слышишь её, сердце у тебя не готово, ему некуда принять её и напитаться. Как уязвима твоя картина царства, от одного дуновения рассыпается она в пыль. Насмешка циника, недосып, капанье воды из крана — и вот ты уже лишился Господа. Ты уже оставлен. Сидишь на пороге у запертых дверей, ты в разладе с миром, и мир — только свалка ненужных вещей. Потому что привязан ты не к вещам — к Божественному узлу, связующему всё воедино. Как мне приживить тебя, когда ты так легко отделяешься? Приживляя, я заставляю тебя чтить обряды. Я хочу уберечь тебя от поражения, когда выпадет тебе час сидеть на пороге у закрытых дверей. По той же причине не люблю я беспорядочного чтения. Я строю тебя изо дня в день, поддерживаю твой дух бодрствующим, чтобы ты приникал к источнику не из-за минутной слабости сердца, а пил из него постоянно, чтобы стал торной дорогой, открытой дверью, благодатным храмом, всегда готовым принять. Стань скрипкой, которая ждёт скрипача. И стихи, что я приготовил для тебя, это тоже твой путь наверх. Истинное знание у тех, кто восстанавливает позабытые дороги и подбирает людей, раскатившихся, словно щебень. Я хочу, чтобы ты нашёл свою родину под стать и душе твоей, и складу. И опять, и опять я повторяю: моё принуждение освобождает тебя, принося единственно ощутимую свободу. Ты называешь свободой возможность разрушить храм, переставить слова в стихотворении, уравнять дни года. А я этот год превратил своими обрядами в часовню. Твоя свобода сродни пустоте пустыни. И где тебе обрести себя? А я? Я зову свободой высвобождение тебя из тебя. Потому и спрашиваю у тебя: какая свобода? Свобода раба или человека? Свобода язвы или здоровья? Справедливость для человека или для грабителя? Против тебя, через тебя и ради тебя моя несправедливость. И конечно, раз я принуждаю отказаться от привычного и искать себя, я несправедлив к грабителю и бездельнику — гусеницам, которые не желают преобразиться, и заставляю их силой отказаться от привычного и всё-таки обрести самих себя.CVII
Приучить — уже принудить. Но принуждение, ставшее привычкой, незаметно; ты не станешь упрекать меня и жаловаться на то, что коридор поворачивает, ведя к выходу. Правила детских игр — тоже принуждение. Но детям нравится подчиняться им. Как интригуют мои именитые граждане ради почётных обязанностей, а что они, как не принуждение? А женщины? Как послушны они моде, выбирая свои наряды, а мода меняется что ни год. Мода — тоже язык, а значит, и принуждение. Никто не хочет остаться непонятым, хотя это обещает свободу. Если камни, сложенные таким образом, я называю домом, ты не волен именовать их по-другому, потому что иначе останешься в пустыне непонимания. Если я объявил этот день весёлым и радостным праздником, ты не волен сделать его будним днём, иначе останешься в одиночестве, отделив себя от народа, к которому принадлежишь. Если я объединил в одно целое и назвал царством коз, овец, дома и горы, ты не волен отъединиться от него, иначе останешься в одиночестве, нет у тебя соратников, потому что все трудятся на благо царства. Твоя свобода растопила горный ледник и превратила его в лужу: первое, чего ты добился, — одиночество: ты уже не крупинка ледника, который добрался до солнца, укрытый снежным плащом, ты — равный среди равных, ты такой же, как все, и всё же вы все разные и готовы возненавидеть друг друга, ваш покой — покой на секунду замерших шариков, ничто не превосходит вас в вашем мире, от всего вы свободны, даже от безусловных условностей языка, — все возможности общаться друг с другом утрачены, каждый ищет собственный язык, каждый празднует собственные праздники, все отделены друг от друга и более одиноки, чем одинокие звёзды, затерянные в пространстве. Чего ждать от братства? Дерево не знает братства, а вы — частички дерева, оно вбирает вас в себя, оно приходит за вами извне, поэтому я и не устаю повторять: кедр — это принуждение для песка, не песок порождает кедр, а семечко. Но как вам стать кедром, если каждый хочет вырастить своё дерево, а эти и вовсе не желают подчиняться дереву, они зовут его тираном и жаждут сами сделаться тиранами? Вас нужно расставить по местам и научить служить дереву, глупо настаивать на том, что дерево должно служить вам. Поэтому я бросаю семечко и хочу подчинить вас его власти. Да, я несправедлив, если справедливость — это равенство. Я создаю картины, силовые линии и напряжённость. Но благодаря мне вы преобразились в обильную крону, и питать вас будет солнце.CVIII
Я увидел: дозорный спит. Его ждёт казнь. От его бодрствования зависят слишком много спящих, дыхание их замедлилось, жизнь течёт сквозь них, словно волны по тихой бухте. Зависят храмы, сокровища и святыни, что копились долго и медленно, словно мёд, — потом, мозолями на руках, ударами резца, ударами молотка, тяжестью камней, глазами, что слепнут от танца иголки по золотой парче, расцветающей цветами и узорами благодаря старанию набожных рук. Зависят житницы, полные зерна, собранного, чтобы облегчить суровую зиму. Священные книги в житницах мудрости, где покоятся залоги, обеспечивающие человеческое в человеке. Тяжелобольные, которым я облегчил мысль о смерти: смерть — необходимый, совершаемый в кругу семьи обряд, она легка и почти незаметна, она — передача в родные руки наследства. Дозорный, дозорный, ты — смысл моих стен, а они — оболочка хрупкого тела города, они не дают ему расточиться; появись в них брешь — и тело обескровится. Ты ходишь по стене взад-вперёд, вслушиваешься в шорохи пустыни, что вечно бряцает оружием, постоянно волнуется, словно морская зыбь, вечно угрожает тебе и своей угрозой закаляет и укрепляет тебя. Как отделить то, что уничтожает тебя, от того, что тебя созидает? Один и тот же ветер строит барханы и разрушает их, один и тот же поток выглаживает скалу и стирает её в песок, одно и то же принуждение выковывает в тебе душу и лишает тебя души, одна и та же работа даёт тебе жизнь и отнимает её, одна и та же любовь переполняет тебя и опустошает. Враг придаёт тебе форму, он принуждает тебя к строительству внутренних укреплений, он для тебя то же, что море для корабля: море — враг, оно готово поглотить корабль, и корабль без устали сопротивляется ему, но то же море для корабля опора, ограничение и возможность обрести форму, веками форштевень разрезал волны, а они, обхватывая судно, лепили ему корпус, делая его всё более обтекаемым и изящным. Ветер рвёт паруса и надувает их, делая похожими на крылья. Не будь у тебя врагов, у тебя не было бы ни меры, ни формы. Но что значат стены, если нет дозорного? Часовой заснул — город беззащитен. Идёт враг и топит спящего в его собственном сне. А дозорный мой спал, привалившись головой к плоскому камню, приоткрыв рот. Спал с младенческим выражением лица. Он прижал к себе ружьё, будто игрушку, которую берут с собой в сон. Я смотрел на него, и мне его было жалко. Жаркой ночью мне жаль человека за то, что он так непрочен. Нестоек дозорный, бдительность его усыпил варвар. Пустыня одолела его, и он позволил воротам бесшумно повернуться в ночной тишине на смазанных петлях, чтобы варвары оплодотворили крепость, истощённой крепости нужен варвар. Спящий часовой. Авангард противника. Ты уже завоёван, твой сон означает, что ты уже не принадлежишь городу, узел развязался, ты ждёшь преображения, ты — поле, приготовившееся принять семена.А я представил себе город, разрушенный по милости твоего сна, потому что ты узел всему и ты всему развязка. Как ты прекрасен, дозорный, когда ты настороже, ты — чуткие уши и зоркие глаза моего города... Как благородна твоя любовь к городу и куда умнее рассуждений всех логиков, которые не любят, а делят его. Для них вот здесь больница, там тюрьма, а тут дом друзей. И дом этот тоже разделён на части, они видят одну комнату, другую, третью. А в комнатах видят вещи — одну вещь, другую, третью. И что они сделают с такой грудой вещей, из которой ничего не хотят построить? Но, дозорный, если ты не спишь, ты оберегаешь город как целое, город, раскинувшийся под звёздами. Не этот дом и не другой, не больницу и не дворец — весь город. Не стонущего при смерти, не кричащую роженицу, не блаженный стон влюблённых, не писк новорождённого — оберегаешь многообразное дыхание единого тела разом. Целый город. Не бессонницу этого, не сон другого, не стихи поэта, не эксперимент учёного — переплетение сна и усердия, угли, подёрнутые пеплом, на которые смотрит Млечный Путь. Целый город. Дозорный, дозорный, ты приник ухом к груди возлюбленной и слушаешь тишину, покой и вздохи, которые не имеет смысла делить и различать, потому что это биение её сердца. Просто биение сердца. И ничего другого. Дозорный, если ты не спишь, ты равен мне. Город покоится на тебе, а на городе покоится царство. Хотя я не сомневаюсь, что, когда я прохожу, ты преклонишь колени: таков порядок в этом мире, так восходит сок от корней к листве. Прекрасно, что ты воздаёшь мне почести, — кровь течёт по жилам царства, течёт любовь от юного мужа к юной жене, течёт молоко матери к младенцу, течёт уважение неоперившихся к мудрым, — но ты же не скажешь, что, принимая почести, я тебя обделяю? Ибо прежде других я служу тебе. Когда ты стоишь в профиль и опираешься на ружьё, равный мне, подобие моё в Господе, никто не различит краеугольный камень и ключ свода, и разве кто-то из них ревнив к другому? Вот поэтому сердце моё переполнено к тебе любовью, и всё-таки я позову стражу и отправлю тебя под арест. Под арест, потому что ты спишь. Спящий часовой. Мёртвый часовой. Я смотрю на тебя с ужасом — в тебе спит, в тебе умирает царство. В тебе я вижу своё царство больным, о его болезни сообщает мне сон дозорных... «Да, — думал я, — палач справится со своим делом и утопит моего дозорного в его собственном сне...» Но жалость поставила меня перед новым, нежданным противоречием. Сильные царства отрубают голову уснувшим дозорным, но царство, что снаряжает своих часовых для того, чтобы они хорошенько выспались, не вправе казнить. Ни в коем случае нельзя заблуждаться относительно суровости. Рубя головы спящим часовым, не пробудишь омертвелое царство, хотя царство неусыпно бдящее отсекает сонных стражей. Смотри не перепутай причину и следствие. Ты видел, что сильные царства рубят головы, и хочешь обрести силу казнями — нет, ты по-прежнему останешься бессильным шутом посреди кровавого месива. Разбуди любовь, и в дозорных проснётся бдительность, они сами осудят тех, кто способен заснуть на посту: этот пренебрёг царством, значит, сделал себя изгоем. Ты справляешься с собой при помощи дисциплины, к которой принуждает тебя начальник-капрал. Капралов школят сержанты. Сержантов — полковники. И все вместе вы зависите от меня, которого ведёт Господь Бог. Но если я усомнюсь, все мы окажемся посреди пустыни и над нами нависнет катастрофа. Так вот, я хочу поговорить с тобой об одной таинственной вещи — о преданности. Ты спишь, жизнь для тебя словно бы исчезла. Исчезает она и тогда, когда помрачается в тебе вдруг сердце и ты чувствуешь только усталость. Вокруг ничего не переменилось, всё переменилось в тебе. Ты — дозорный, ты наедине с городом, но ты не влюблённый, что приник к груди любимой, ловя биение её сердца, ты не знаешь, размеренно оно бьётся или учащённо, слушать его стук можно только любя; твоя любимая затерялась в ночной разноголосице, ты слышишь голоса, мешающие друг другу: пьяная песня заглушает стон больного, плач по усопшему — крик новорождённого, шум ярмарки — пение в храме. Ты спрашиваешь себя: «При чём тут я? На что мне эта сутолока, этот балаган?» Ты забыл, что перед тобой дерево с корнями, стволом, ветвями, листьями, что нет для них общей мерки. Но откуда взяться преданности, если не ощущаешь того, кто в ней нуждается? Я уверен, ты не уснул бы, сидя у постели больной возлюбленной. Но сейчас распылилось то, что ты мог любить, ты — перед свалкой вещей, чужих, ненужных. Развязался Божественный узел, что связывал их воедино. Но знаю: ты вернёшься, и хочу, чтобы сейчас ты хранил верность хотя бы самому себе. Я не требую от тебя лицемерия, не требую, чтобы ты немедленно что-то понял, почувствовал, откликнулся. Я слишком хорошо знаю, сколько душевных пустот претерпевает самая преданная любовь. Глядя на любимейшую из любимых, ты вдруг думаешь: «Вот, оказывается, какое у неё лицо... Как я мог полюбить его? И какой тонкий голос. Какую страшную глупость она сейчас сказала. Как нелепо поступила...» Твоя любимая распылилась на досадные частности, она больше не вдохновляет тебя, и тебе кажется — ты её ненавидишь. Но как ты можешь ненавидеть её? Раз сейчас ты не в силах любить... И ты замолкаешь, смутно догадываясь, что настало для тебя какое-то помрачение. Любимая стала чужой и тебе не нравится. Не понравятся и стихи, если начать их читать. Чужими покажутся дом и царство. Ты утратил возможность голодать, насыщаться, ощущать Божественные узлы, что связуют всё воедино, теперь ты ничего не любишь, ничего не понимаешь. Мой уснувший дозорный, твои привязанности вернутся к тебе, и не по одной, а все вместе, как родная любимая семья, но, когда тебя постигло горе неверности, до́лжно чтить в тебе дом, что опустел на время. Вот мои часовые обходят по кругу крепость, и я вовсе не думаю, что все они пылают усердием. Большинство зевает и мечтает об ужине. Если все боги спят в тебе, то не спит желание телесного довольства: все, кому скучно, думают о еде. И я вовсе не жду, что их души будут непрестанно бодрствовать. Сопричастность целостности, Божественному узлу, что связует всё воедино, зову я душой, душа не ведает о преградах. Я жду, чтобы в одном из моих дозорных замерцала душа. Забилось сердце. Проснулась любовь, и на миг он ощутил щемящую значимость городской многоголосицы. Ощутил бы вдруг в себе пространство, дотянулся до звёзд, обнял горизонт и стал сродни раковине, шумящей шумом моря. Мне достаточно, если хоть раз тебя осенит такое и ты во всей полноте ощутишь, что значит жить человеком, ощутишь готовность принимать эту полноту, потому что, как сон, желание, голод, она будет к тебе возвращаться, а твои сомнения — только недолгая отлучка, и мне хочется тебя утешить. Если ты ваятель, к тебе вернётся исполненный смысла образ. Если пастырь — вернётся ощущение близости Господа, если влюблённый — вернётся полнота любви. Если дозорный — вернётся значимость царства. Чаша наполнится, если ты сохранишь в себе верность, если будешь блюсти свой дом, пусть сейчас он пуст и оставлен, но твой дом — единственная для тебя возможность насытить сердце. Ты не знаешь час исполнения, но знаешь — и это самое главное, — что только благодаря полноте ты полноценен. Нудными часами учений складываю я в тебе то, что однажды воспламенится от прочитанного стихотворения, отягощаю исполнением обрядов и ритуалов царства, чтобы царство проторило путь к твоему сердцу. Ибо нет возможности одарить, если ты не готов принять подарок. Гость не придёт, если ты не построил дома, чтобы принять его. Ах, дозорный, дозорный, расхаживая взад-вперёд по смотровой площадке, томясь тоской и скукой, что приходят жаркой, душной ночью, слыша городской шум, который тебе безразличен, глядя на дома, которые кажутся муравейниками, чувствуя себя в пустыне и всё же, несмотря на пустоту, стараясь любить, хотя нет любви, стараясь верить, хотя нет веры, стараясь сохранить преданность, хотя это бессмысленно, — ты готовишь себя к озарению,которое приходит как награда и дар любви. Нетрудно быть верным себе, когда ты в ладу с собой, но мне хочется, чтобы, памятуя о своей полноте, ты повторял про себя: «Пусть мой дом озарится светом. Я построил его и содержу в чистоте...» Принуждение моё тебе в помощь. Своих пастырей я принуждаю приносить жертвы, хотя, кажется, жертвы эти бессмысленны. Принуждаю ваять моих ваятелей, хотя они разуверились в собственных силах. Принуждаю моих дозорных под страхом смерти проходить туда и обратно свои сто шагов, потому иначе они погибнут, — смерть уже в их душе, и они отъединили себя от царства. Я спасаю их моей суровостью.
Представь себе воина, что собирается в путь в пустой караульне. Я посылаю его разведчиком в стан врага. Он знает: ему не вернуться. Враг наш настороже. Он предчувствует пытки, которыми будут выжимать из него вместе с криками тайны царства. Но он из тех, кого повязала любовь, он снаряжается с радостью, потому что радостно слиться навек со своей любовью, он готовится к брачной ночи. Обнимая любимую в день свадьбы, ты счастлив не тем, что завоевал её и она наконец телесно принадлежит тебе: для тела сколько угодно девушек в весёлом квартале, и есть такие, что похожи лицом на твою любимую, — нет, благодаря твоей юной жене мир наполнился иным смыслом, всё обрело в нём иной цвет, иной тон. Иным стало вечернее возвращение домой, иным — утреннее пробуждение, ты словно бы копишь наследство, ты ждёшь детей, ты научишь их молиться. Всё изменилось, даже чайник, он мурлычет о вашем с ней чаепитии перед ночью любви. Она переступила твой порог — и превратила пушистый ковёр в мягкий луг. Тебя одарили счастьем. Вселенную твою одарили смыслом, но это счастье так далеко от вещей, которыми ты пользуешься. Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий — оно от Божественного узла, связавшего всё воедино. Вот воин, он идёт на смерть, и тебе кажется: в этот миг он лишается всего, у него не будет даже прощального поцелуя, ждёт его только жажда, палящее солнце, ветер и скрипящий на зубах песок, ждут враги, чтобы выжать из него тайну; воин снаряжается на смерть, чтобы войти в эту смерть в своей одежде смертника, и тебе кажется: он должен стонать от смертной муки, как стонал преступник, приговорённый к виселице, и точно так же отбиваться от палачей, заступаясь за своё несчастное тело; так вот, воин, который снаряжается на смерть, совершенно спокоен, — посмотри, у него спокойные глаза, он шутит с товарищами, шутки его — знак дружеской привязанности, а вовсе не фанфаронство, не нарочитое мужество, не пренебрежительное отношение к смерти, в нём нет преувеличенного, наносного, он спокоен, словно вода, и, словно спокойная вода, он ничего от тебя не скрывает, ему немного грустно, и без смущения он говорит о том, что ему грустно. Скрывает он только свою любовь. Потом я скажу тебе почему. Он без страха застёгивает кожаные ремни, но против него у меня есть оружие, и оно для него страшнее смерти. Он ведь так уязвим. Уязвимо каждое божество его сердца. Обыкновенная ревность может стать угрозой для царства, для смысла всех вещей, для радости вернуться домой, в один миг издерёт она в клочья блаженное состояние покоя, умудрённости и самоотречения. Сколько всего ты забираешь у него, ведь Господу он должен вернуть не только любимую, но и дом, и виноград своих виноградников, и шуршащие снопы ячменя со своего поля. И не только свои снопы, свой виноград, свои виноградники, но и своё солнце. И не только солнце, но и ту, что освещает его дом. Смотри, он отказывается от стольких сокровищ и не замечает разорения. Но укради у него улыбку возлюбленной, и он потеряет сам себя и превратится в сумасшедшего. Подумай, не здесь ли кроется величайшая из загадок? Жизнь в тебе питают не вещи, что находятся в твоём распоряжении, — а тот смысл, которым наделил их Божественный узел, связавший всё воедино. Поэтому и предпочитает воин собственную гибель гибели того, на что тратит жизнь и что в ответ насыщает его жизнь смыслом. Он оберегает питающий ток. Моряк по призванию готов на гибель при кораблекрушении. Хотя в миг кораблекрушения он может пережить животный страх — страх перед захлопнувшейся ловушкой, — но он честен, он заранее согласен на этот страх, он пренебрегает им, потому что ему по сердцу мысль, что умрёт он на море. И когда я слышу жалобы моряков на неизбежность своей жестокой смерти, я понимаю: они не похваляются, соблазняя женщин, они стыдливо высказывают тайное желание своей любви. Нет языка, на котором ты мог бы выразить себя. Говоря о царстве любви, ты говоришь «она» и веришь, что и впрямь говоришь о ней, но на деле ты ведёшь речь о смысле вещей, и «она» для тебя — Божественный узел, благодаря которому всё вокруг связано с Господом, а Господь и есть смысл твоей жизни, поэтому ты и служишь ей. Выбрав служение, ты выбрал для себя способ общения с миром. Вобрал в себя море, будто раковина, и душа звучит в тебе плеском морских волн. Ты можешь сказать «царство» с уверенностью, что тебя поймут, если вокруг люди, столь же естественно, как ты, чувствующие его присутствие, но над тобой посмеются другие, те, что видят вокруг лишь хаос разноликих вещей: у тебя и у них разные царства. И тебе станет неприятно оттого, что они подумали, будто ты готов пожертвовать жизнью ради универсального магазина... Словно бы что-то прибавляется к вещам и к предметам, превосходит их и становится зримым для твоей души и для сердца, хотя ум может и не понимать, что же это такое. Это «что-то» направляет тебя лучше, а может быть, жёстче и вернее, чем нечто понятное и разумное (хотя ты вовсе не уверен, что и другие вместе с тобой ощущают его и видят), оно принуждает тебя к молчанию, тебе не хочется, чтобы тебя ославили сумасшедшим, не хочется издевательств циников над явственной для тебя картиной. Издёвки портят её, и даже тебе начинает казаться, что сделана она из сущей чепухи. Как объяснить насмешникам, что всё это совсем о другом, — для души, а не для глаз? Я много размышлял о просветлении души, только о нём мы и можем просить, и когда нам дают его, оно чудеснее, чем всё, о чём, терзаясь сомнениями душной ночью, мы привыкли просить. Усомнившись в Господе, мы привыкли просить, чтобы Он явился нам, словно визитёр с визитом, — но явись Он, Он стал бы нам ровней и похожим на нас, и куда бы Он нас повёл? Одиночество твоё стало бы ещё отчаянней. И ведь если подумать, ты хотел не приобщиться к Божественному, а развлечения вроде ярмарочного балагана, и теперь коришь Господа. Но кому в помощь низкое? (Ты хочешь, чтобы высокое опустилось до тебя, навестило на той ступеньке, где ты стоишь, такого, каков ты есть, непонятно ради чего снизившись до тебя, но Господь не снизится — я помню, как просил я Его, как молился, — нет, Он приоткроет тебе царство духа, ослепит явлением чего-то незнаемого, того, что не для ума и не для зрения, а для души и для сердца, и если ты не пожалеешь сил, то поднимешься на ту ступень, где вещей уже нет, а есть только связующие их воедино Божественные нити.) И тогда тебе не страшна смерть: боясь смерти, боятся потери. Но что тебе терять? Ты останешься связующей нитью. Таково твоё вознаграждение за прожитое. Ты и сам шёл на смерть без страха, видел пожар, рисковал, спасая жизни. Тонул, спасая других при кораблекрушении. Посмотри: да, они умирают, но они согласны умереть, у них в глазах свет истины, хотя они краснели и чувствовали себя обворованными уродами от чужой насмешливой улыбки. Скажи им сейчас, что они заблуждаются, — они рассмеются.
* * *
Но ты, мой дозорный, заснул не потому, что сбежал от города, — потому что город оставил тебя, и я, вглядываясь в твоё бледное детское лицо, беспокоюсь за моё царство, раз оно больше не в силах будить засыпающих часовых. Конечно, я ошибаюсь, когда слышу громкий голос города, когда вижу связанным воедино то, что для тебя распалось. Но знаю, тебе следовало бы ждать, вытянувшись, как свеча, и однажды ты был бы вознаграждён вспыхнувшим в тебе светом, ты воодушевился бы своими хождениями по кругу, словно таинственным танцем под звёздами в мире, где всё исполнено смысла. Потому что там, внизу, в толще ночи, корабли сгружают золото и слоновую кость, и ты, часовой на крепостной стене, охраняешь их, а значит, украшаешь золотом и серебром царство, которому служишь. Где-то молчат влюблённые, не решаясь заговорить, они смотрят друг на друга и хотят сказать, что... Но если один заговорит, а другой закроет глаза, то вся Вселенная изменит свой ход. И ты охраняешь их молчание. Где-то умирающий готовится в последний путь. Все склонились над ним, ловя последнее слово, последнее благословение, чтобы унести в своём сердце, ты оберегаешь слово умирающего. Дозорный, дозорный, я не знаю, где кончаются границы твоего царства, когда Господь освещает твою душу светом бдения, какое пространство делает он твоим. Мне не важно, что вскоре ты снова будешь мечтать о супе, ропща на своё ярмо. Хорошо, что ты спишь, хорошо, что забываешь. Плохо, что, позабыв, ты разрушаешь свой дом. Преданность — это в первую очередь верность себе. Я хочу спасти не только тебя, но и твоих товарищей. Я хочу от тебя той душевной устойчивости, которая свидетельствует об основательности наработанной тобой души. Ведь не рушится дом с моим отъездом. Не исчезают розы, если я отвожу взгляд. Они растут и растут, пока новый взгляд не заставит их расцвести. Так что я пойду, позову мою стражу. Ты умрёшь, как положено умирать дозорным, заснувшим на посту. Тебе ничего не остаётся, кроме как собраться с силами и уповать, что твои муки всё-таки помогут тебе преобразиться, ну хотя бы в бдительность часовых.CIX
Да, горько видеть, как обошёлся циничный себялюбец с бесхитростной и нежной невинностью: чистота поругана, доверчивость обманута. И вот ты хочешь защитить от опасности невинную девушку, сделав её душу опытнее, искушённее. Девушки твоего царства стали подозрительны и скупы на улыбки — ты разрушил то, что хотел сберечь. Нет неуязвимых добродетелей, каждой есть предел. Захребетник рано или поздно изнурит великодушное благородство. Циник развратит целомудрие. Хамство обозлит доброту. Живущее всегда в опасности, ты захотел обезопасить и умертвил. Отказался строить прекрасный храм, испугавшись землетрясения. Но я — я хочу, чтобы невинность стала как можно доверчивее, хотя только доверчивость и можно обмануть. Если обольститель надругается над одной из моих простодушных роз, я буду ранен в самое сердце. Но, взращивая могучих воинов, разве не должен я помнить, что война их может убить? Ты хочешь спасти добродетель, заковав её в броню неуязвимости, но добродетель уязвима всегда, а неуязвимая добродетель уже не добродетель. Ты пожелал совместить несовместимое, и у тебя ничего не получилось. Тебя восхищает человек, созданный укладом твоего края, но уклад тебе ненавистен, ибо принуждает служить себе совершенного человека. Да, уклад — принуждение, он и принудил человека стать совершенным. И если ты уничтожишь уклад, вместе с ним ты уничтожишь и человека, которого задумал спасти. Посмотри: страшась бесстыдства, хамства, цинизма, что чинят обиды великодушию и благородству, ты предлагаешь благородным и великодушным усвоить замашки хама, бесстыдника и циника. Но я — я люблю всё хрупкое, всё уязвимое. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость — свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушения, не обретёшь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность измен и соблазнов, только благодаря им так драгоценны неподкупность и преданность. Я люблю солдат, мужественно стоящих под пулями. Нет мужества, нет и воина. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принёс мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабое дуновение ветра. Как мне дороги юные лица, беззащитные перед старостью. Как мила улыбка, беззащитная передо мной и готовая смениться слезами.CX
Наконец-то я понял, как выбраться из противоречия, что так долго меня мучило. Я — царь, со смятенной душой склонился я над уснувшим на посту дозорным и не мог разбудить спящего счастливым сном ребёнка, чтобы передать его смерти, чтобы он за своё уже недолгое бодрствование столь многое претерпел от людей. Я увидел, что он проснулся сам, провёл рукой по лицу и, не замечая меня, поглядел на звёзды, потом легонько вздохнул, вновь взваливая на себя тяготу службы. Тогда я понял: я должен завоевать его сердце. И вот я, повелитель и царь, повернулся и вместе с моим дозорным стал смотреть на город, город был один, но смотрели мы на него по-разному. «Не в моих силах наделить дозорного усердием и любовью, — подумал я. — Но если предложенная мной картина станет для него счастливым откровением, если дробность, которую он видит, окажется связанной воедино Божественным узлом, он станет моим единомышленником». И я понял разницу между завоеванием и принуждением. Завоевать — означает, переубедив, обратить в единоверца. Принудить — значит держать в вечном плену. Я завоевал твоё сердце, человек в тебе свободен. Если я тебя принудил, я связал в тебе человека по рукам и ногам. Завоёвывая, я строю нового тебя с твоей собственной помощью. Принуждая, выстраиваю камни в ряд. Что построишь потом из этих рядов? Я понял: каждого человека нужно завоевать. Того, кто бодрствует, и того, кто спит; того, кто ходит вокруг крепостных стен, и того, кто живёт внутри их. Того, кто радуется новорождённому, и того, кто плачет об усопшем. Того, кто молится, и того, кто усомнился. Завоевать — означает вложить в тебя остов и пробудить в твоей душе вкус к истинной пище. Ибо существуют озёра, которые утолят твою жажду, но надо показать дорогу к ним. Я поселю в тебе своих богов, чтобы они тебе светили. Я понимаю: завоёвывать тебя нужно с детства, потому что потом ты уже слеплён, затвердел и тебе невмоготу освоить иной язык.CXI
Настал день, и я убедился: нет, я не ошибся. Не потому, что оказался сильнее или рассудительнее других, а потому, что не доверился логике, которая последовательно выстраивает постулат за постулатом. Я знаю, логика обслуживает свершившееся, она в подчинении у него, в её ведении следы на песке, а не танцор, что прошёл по песку, и если был гениален, то привёл всех к спасительному колодцу. Я убедился: все свершения поступают в ведение логики, потому что каждое из них было цепочкой шагов. Логика умеет читать следы, но ходить, бегать, танцевать, сделать движение рукой, что взрастит будущее, она не умеет. Я убедился: культура ветвится, как ветвится дерево, и для того чтобы она зародилась на свет, необходимо семечко, она — единство, хоть и существует в миллионах обличий, в ней непременно будут и корни, и верхушка, и ствол, и листья, и цветы, и плоды, но всё это вместе живительная сила одного-единственного семечка. Я знаю: если оглядеть путь, пройденный культурой, он потянется к истокам без пустот и зияний, логики охотно следят эту дорогу вспять, но они не могут идти вперёд, потому что не слышат вожатого. Я видел: люди в спорах не находят истины. Я слышал, как рассуждают толкователи геометрии, они не сомневаются, что владеют истиной, но если вдруг спустя год один из них отказывался от общей истины, как корили они коллегу за святотатство, как цеплялись за своё шаткое божество! Я сидел за столом с единственным подлинным геометром, он был моим другом, он знал, что ищет доступный людям язык, как ищет его поэт, стремясь передать свою любовь, он говорил как равный с камнем и со звездой и понимал, что год от года язык будет изменяться, и это будет означать, что человек переходит с одной ступеньки на другую. Понял и я: не существует лжи, потому что не существует истины (изменяющееся, растущее дерево — вот единственная истина), поэтому я в безмолвии моей любви терпеливо слушал бессмысленный лепет, гневные вопли, смех и жалобы моего народа. Ещё в юности я понял: язык неловок и неуклюж, и оставил споры, ибо они бессмысленны. Сколько я ни приводил доводов, стремясь высказать только самую суть, не увлекаясь цветами красноречия, мои доводы никого не убеждали. В споре со мной всегда находился более искусный в доводах противник, чем я. Однако и его искусство только помогало мне сохранять верность себе. Слушая его возражения, я понимал одно: своё я не сумел выразить, но со временем я найду более действенные средства, ибо если хочет сказаться в тебе нечто и впрямь подлинное, убеждённость твоя неисчерпаема и похожа на родник. Раз и навсегда отказался вникать я в людскую разноголосицу. Я решил, куда плодотворнее послушание мне, и позволил семечку в себе расти, превращаться в дерево, множить корни, тянуть вверх ствол, пушить ветки, чтобы не о чем стало спорить: вот оно, дерево, что в нём выбирать? Оно широко раскинуло ветви, оно может приютить всех. Я уверился, что невнятица, противоречивость, смутность моих слов совсем не означают, что невнятно, противоречиво или смутно то, что я хочу выразить, — просто я дурно владею языком, ибо душевная потребность, ощущение внутренней значимости не бывают невнятными, смутными, противоречивыми и не просят для себя обоснований и подтверждений, они просто есть, как есть потребность у скульптора, который принялся лепить; эта потребность не обрела ещё формы, но станет тем лицом, которое он вылепит.CXII
Отказом от иерархии мы поощряем тщеславие. (Вспомни распри генералов и губернаторов.) Иерархия, властно и безусловно расставив всех по местам, сводит тщеславие на нет. Сейчас все вы подобны одинаковым шарикам, для вас нет никого, кто был бы авторитетней вас и придавал своим авторитетом значимость всему окружающему, а если так, то любой, кто бы ни занял место короля, будет не освящать, а отбрасывать тень, все вы соперничаете с ним, тщеславитесь, завидуете, ненавидите.Есть у меня и ещё один враг — вещи. Пришло время тебе понять величайшее из своих заблуждений: ты слишком доверился вещам. Но я говорю тебе: значимы только усердие и рвение. Преодолевший горный поток, испёкшийся под солнцем подобно яблоку, ободравший руки о камни, копаясь в земле и глине, и нашедший за весь год один-единственный чистой воды алмаз, — счастлив. Несчастлив, издёрган и полон претензии тот, кто на свои деньги способен купить целую пригоршню бриллиантов, но что ему в них, они тусклее стекляшек! Ибо не в вещах нуждаешься ты — в божестве. Да, вещь ты получаешь навсегда, но не всегда она тебя радует. Назначение вещи — тянуть тебя вверх, она тебе в помощь, пока ты её завоёвываешь, а не тогда, когда заполучил. В друзья я взял себе того, кто вопреки трудностям понуждает тебя карабкаться в гору, взяться за тяжкий труд, пробиваться к стихам, добиваться любви недоступной красавицы, ибо он понуждает тебя сбыться. Чему служат запасы готового? Спячке. Ты добыл алмаз — что тебе делать с ним? Я возвращаю вкус празднику, что давным-давно позабыт. Праздник — это завершение долгих приготовлений к празднику, вершина горы после изнурительного подъёма, алмаз, который тебе позволено добыть из глубин земли, победа, увенчавшая долгую войну, первый завтрак после мучительной болезни, предвкушение любви, когда в ответ на признание она опустила глаза...
Если бы я захотел, я придумал бы для тебя вот какую жизнь: жизнь, что была бы исполнена труда и усердия, — люди, сплотившись, увлечённо и жадно трудились бы, а наработавшись, радостно возвращались домой, они любили бы жизнь и ждали чудес от завтрашнего дня. Сверканье звёзд рождало бы в тебе стихи, хотя ты только бы и знал изо дня в день, что копать землю, стремясь отобрать у неё алмаз. (Алмаз — крупица солнца, огонёк папоротника в туманной ночи, преображённый свет.) Ты увидишь: насыщенной и полнокровной станет твоя жизнь, если я заставлю тебя изо дня в день добывать алмазы, а в конце года приглашу на пышное празднество — празднество преображения алмазов, которые будут гореть перед добывавшими их в поте лица людьми, становясь опять светом. В моём мире душа не служила бы добытым вещам, насыщалась бы их смыслом. Впрочем, я могу и не сжигать алмазы, я могу украсить ими королеву, чтобы ты почувствовал себя королём, могу украсить ими святилище храма, чтобы они засверкали ещё ярче, но не для глаз — для души (для души ведь не существует стен). Но если отдать этот алмаз тебе в руки, — что изменит он в твоей жизни? Я говорю тебе это, потому что постиг глубинный смысл жертвенности, ты отдаёшь не ради того, чтобы испытать чувство обездоленности, ты отдаёшь, чтобы почувствовать себя щедрым богачом. Словно к материнской груди, тянешься ты к вещи, но питает тебя, будто молоко, лишь смысл, которым она наделена. Вот я поселил тебя в царстве, где каждый вечер оделяют привезёнными неведомо откуда алмазами, они покажутся тебе речной галькой, они лишились того, чем ты стремился завладеть. Старатель, что изо дня в день дробит тяжким молотом скалу и раз в год, во время великолепного празднества, сжигает свой тяжкий труд, любуясь ослепительной вспышкой света, куда богаче праздного богатея, что получает готовое, не требующее от него ни траты сил, ни душевного участия. (Как увлекательно играть в кегли: сбил и торжествуешь свою победу. Но вот тебе предложили сотню уже опрокинутых кеглей, куда пропал твой азарт?) Празднество и жертвенность сродни друг другу: радостью тебя полнит отданное. Ты — дровосек, что́ праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъёма в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоём заботливо обихоженном винограднике? И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасённое впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места? Карабкайся! Карабкайся вверх каждый день, не обживайся в чужой музыке, стихах, завоёванной женщине, картине, открывшейся с вершины горы! Если дни твои станут ровной гладью, я потеряю тебя среди этой равнины. Дни должны надуваться, как паруса корабля, плывущего в неизведанное. Если ты одолел стихи, они — праздник. Праздник — храм, потому что укрыл тебя от сует. Что ни день, город дробит тебя своим торопливым бегом. Подгоняют тебя нужда в куске хлеба, хвори близких, тот вопрос, та проблема, ты нужен здесь, нужен там, с одним горюешь, с другим радуешься. Но приходит безмятежный час тишины. Ты поднимаешься по ступеням, толкаешь дверь и оказываешься в небесной безбрежности, мерцающей звёздами Млечного Пути, в безмолвии, отрешённом от насущного. Безмолвие, безбрежность, как ты нуждаешься в них! Они тебе вместо пищи, потому что измучила тебя дробная конкретность событий, дел, вещей, которая тебе не впрок. Тебе нужно сосредоточиться, собрать самого себя воедино, протянуть между вещами связующие нити и, насытив смыслом дробную драму дня, сложить её в целостную картину. Но на что тебе храм, если ты не жил жизнью города? Не боролся, не преодолевал, не страдал? Если не принёс с собой камней, из которых можешь себя построить? Мы уже говорили о войне и любви. Если ты влюблённый, и только, чем жить в тебе? Женщина с тобой соскучится. Любят воинов. Но если ты только воин, некому умирать в тебе, ты — насекомое и хитиновом панцире. Только человек, любящий человек согласен на гибель. И если в моих словах тебе чудится противоречие, то это по вине неуклюжих слов, что дразнят друг друга. Противоречит ли плод корням дерева?
CXIII
Беда в том, что мы никак не можем согласиться между собой, что же такое действительность. Для меня действительно совсем не то, что можно положить на весы (весомость такого рода смешна мне, раз я не весы, действительность веса меня не интересует). Действительно для меня то, что весомо ложится на сердце, — твоё огорчённое лицо, песня, усердие моего царства, жалость к людям, благородный поступок, желание жить, оскорбление, сожаление, разлука, дружество, родившееся во время сбора винограда. (Оно мне дороже урожая, собранные грозди могут увезти и продать где угодно — главную драгоценность я уже получил. Я похож на представленного королём к награде: он празднует, греется в лучах пролившейся на него славы, его поздравляют друзья, он горделиво наслаждается триумфом, но король упал с лошади и умер, не успев приколоть к его груди металлической побрякушки. Неужели ты считаешь, что человек не получил награды?) Кости — действительность для твоей собаки. Тяжесть гири — действительность для весов. Природа твоей действительности иная. Потому мне и кажется легкомысленным финансист и мудрой танцовщица. Я совсем не гнушаюсь ремеслом финансистов, мне смешны их самодовольство, спесь, самоуверенность, они не сомневаются, что в них соль земли, они — альфа и омега Вселенной, но они только обслуга, и обслуживают они танцовщиц. Смотри не ошибись в значимости трудов. Есть насущные труды, вроде стряпни у меня во дворце. Без еды нет человека. Необходимо, чтобы человек был сыт, одет, имел крышу над головой. Необходимо, но не больше. Насущное не есть существенное. Не ищи в необходимом существенного, оно для тебя в ином. Питают человека, насыщая его жизнь смыслом, танцевание танцев, писание стихов, чеканка кувшинов, решение геометрических задач, наблюдение за звёздами — занятия, которым можно предаваться благодаря стряпухам. Но когда ко мне приходит стряпуха, ничего не видавшая, кроме своей кухни, снабжающая действительность лишь тем, что кладут на весы, да ещё костями для собак, я не слушаю её рассуждений о человеческих нуждах, потому что главное осталось вне её разумения, она будет судить о человеке со своего шестка, как фельдфебель[370]: для него человек — это тот, кто умеет стрелять из винтовки. Казалось бы: танец бесполезен, а отправь танцовщиц на кухню, на обед они состряпают лишнее блюдо. Для чего золотые кувшины? Прикажи штамповать оловянные, и у тебя будет куда больше необходимой посуды. Для чего гранить алмазы, писать стихи, смотреть на звёзды? Если всех отправить пахать землю, станет куда больше хлеба... Но когда в твоём городе обнаружится нехватка чего-то — чего-то насущного для души, а не для глаз, не для рук, — ты станешь искусственно восполнять его и не восполнишь. Хотя наймёшь сочинителей, чтобы писали стихи, наделаешь механических кукол, чтобы танцевали, заплатишь мошенникам, чтобы выдавали гранёные стекляшки за бриллианты, желая помочь людям жить. Но кому в помощь жалкая уродливая пародия? Суть танца, стихотворения, алмаза в преодолении. Незримое, оно насыщает твои труды смыслом. Любая подделка — солома для подстилки в хлеву. Танец — это поединок, совращение, убийство, раскаяние. Стихотворение — восхождение на вершину горы. Алмаз — год трудов, засиявший звездой. Подделка — оболочка без нутра. Посмотри на игру в кегли: как ты рад, сбив ещё одну в ряду. Но вот ты изобрёл машину, чтобы сбивать их сотнями, много ли прибавилось тебе радости?..CXIV
Не подумай, что я считаю пустяком твои нужды. Не считай, что противопоставляю существенное насущному. Нет, я просто излагаю тебе мою истину при помощи слов, а они дразнятся и показывают друг другу язык: насущное отталкивает бесполезное, причина мешает следствию, кухня — танцевальному залу. Я ничего не противопоставляю, противопоставляют неуклюжие слова. Гора слов мешает рассмотреть человека. Если Господь изострит взор и слух часового, он увидит существо города и не станет противопоставлять крик новорождённого плачу по умершему, ярмарку — храму, весёлый квартал — супружеской верности: всё это вместе ощутит он как город, поглощающий, сливающий, объединяющий, — город, похожий на дерево, растящее себя из чуждых ему и разнородных крупиц; похожий на храм, что обнял молитвенной тишиной статуи, колонны, алтарь и своды. Вот и я тоже, размышляя о человеке, вижу его совсем не на той ступеньке, где певец противопоставлен жнецу, танцор молотильщику, астроном кузнецу, — если я стану делить тебя, человек, я ничего в тебе не пойму и тебя потеряю. Поэтому я затворился в безмолвии моей любви и наблюдаю за людьми. Я хочу понять их. Заметка для памяти: не подчинишь работу заранее продуманной идее. Рассудок слеп. А творение совсем не сумма составляющих его частей. Нужно семечко, чтобы возникло тело. Оно будет таким, какова двигающая тебя любовь. Но предвидеть заранее, каким оно будет, невозможно. Однако логики, историки, критики, пользуясь нелепым языком логики, разнимут твоё творение на составляющие и докажут, что одно в нём надо было бы увеличить, а всё остальное уменьшить, и с той же логичностью докажут совершенно противоположное, ведь когда живёшь в царстве абстракций, когда кухня и танцевальный зал для тебя только слова, между ними нет особой разницы, ничего не стоит что-то уменьшить, что-то увеличить. Слова и есть слова. Что бы мы ни говорили о будущем, разговоры наши бессмыслица. Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Пробуди страсть, она изменит настоящее, а следом и будущее. Не занимай сегодняшний день завтрашними заботами. Питает тебя настоящее, а если ты отвернёшься от него, ты умрёшь. Жизнь — это осваивание настоящего, оно сплетено из множества продлевающихся нитей, устоявшихся связей, но язык не в силах вместить их и выразить. Равновесие настоящего составлено из тысячи равновесий. И если ты, проводя задуманный эксперимент, нарушишь одно из них, — у слона-великана рассечёшь одну узенькую жилку, — слон умрёт. Нет, я не о том, чтобы ты ничего не менял. Ты можешь изменить всё. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал семена. И тогда в каждый миг семечко или то, что растёт из него, будет в равновесии с настоящим.С множества точек зрения можно судить об одном и том же. И если с моей вершины я примусь делить людей с точки зрения их права быть сытыми, вряд ли кто-то сочтёт мою точку зрения несправедливой. Но если я поднимусь на другую гору и по-иному взгляну на людей, то, полагаю, справедливым мне покажется что-то иное. А мне хотелось бы не позабыть ни об одной из справедливостей. Поэтому я наблюдаю за людьми. (Справедливость не одна, их бесконечное множество. Я могу распределить моих генералов по возрасту и старейшим воздавать почести и назначать их на всё более ответственные посты. Или, наоборот, могу вознаграждать их отдыхом, с годами предоставляя им всё больше прав на него и перекладывая ответственность и обязанности на плечи более молодых. Я могу судить обо всём с точки зрения царства. Могу судить с точки зрения частного лица. Могу судить с общечеловеческой точки зрения, ратуя за частное лицо или против него.) Основа моей армии — иерархия, но стоит мне попытаться определить, что для моей армии справедливо, а что несправедливо, как я попадаю в сеть неразрешимых противоречий. О человеке можно судить по заслугам, по способностям и исходя из соображений высшего блага. Вот я построил лестницу неоспоримых достоинств, но стоило поместить их в другое измерение, как они оказались спорными. И если мне наглядно доказывают, что решения мои чудовищны, я не впадаю в смятение. Я знаю заранее, непременно найдётся точка зрения, с которой они поразят именно своей чудовищностью, но я хочу, чтобы новое прижилось к уже существующему, чтобы оно пустило корни, чтобы истина не была словесной, чтобы в ней была ощутимая для всех весомость.
CXV
Мне показалось бессмысленным выяснять, кто пользуется в моём городе привилегиями и какими. Что мне до прав. Права каждого можно оспорить. Привилегии не моя задача. Вернее, она второстепенна. Главное для меня, чтобы привилегии облагораживали обладателя, а не превращали его в скотину. Поэтому мне важно узнать, каков он, мой город. И вот я отправился на прогулку, и меня сопровождал лейтенант, который расспрашивал прохожих. — Чем ты зарабатываешь на жизнь? — спрашивал он наугад у одного, у другого. — Плотничаю, — ответил один. — Огородничаю, — сказал другой. — Кую, — сказал третий. — Пасу, — ответил четвёртый. Рою колодцы. Ухаживаю за больными. Пишу за неграмотных прошения и письма. Разделываю туши. Чеканю чайные подносы. Тку полотно. Шью одежду. Или... Я подумал: каждый из них трудится для всех. Потому что каждый ест мясо, нуждается в воде, лекарствах, досках, чае, одежде. И никому из них ремесло не приносит больших избытков, потому что мясо едят раз в день, раз в жизни тяжело болеют, носят один костюм, пьют раз в день чай, отправляют одно-два письма, спят на одной постели, в одном и том же доме. Но слышал я и другие ответы: «Строю дворцы, граню алмазы, ваяю из мрамора статуи...» Эти работают не для всех, они трудятся для избранных, ибо сделанное ими поделить невозможно. Да и как иначе? Художник потратил на роспись вазы год, и возможно ли оделить всех его расписными вазами? Получается, что в городе один работает на многих, потому что есть в нём женщины, есть больные, калеки, есть дети, старики и те, кто сегодня отдыхает. Есть в городе и те, кто служит царству и не производит никаких вещей, — это мои солдаты, жандармы, поэты, танцовщицы, губернаторы. Но и они, как все остальные, едят, пьют, одеваются, обуваются, спят в кровати под кровом дома. Им нечего дать взамен необходимых для них вещей, мне приходится обирать тех, кто производит необходимое, чтобы снабдить им тех, кто его не производит. Любой ремесленник в своей мастерской делает больше вещей, чем нужно ему самому. И всё же всегда есть такие вещи, какими ты не сможешь оделить всех, потому что мало кто их делает. Но согласись, очень важно, чтобы находились охотники делать эти как бы ненужные вещи, ибо излишества и есть прекрасное существо взращиваемой тобой культуры. Вещь, что обошлась дорого, значима для человека, — вещь, на которую потрачено много времени. В затраченном времени — суть бриллианта, год трудов стал слезой величиной в ноготь. Тачка розовых лепестков — каплей духов. Что мне за дело, чьей будет алмазная слеза, капля аромата? Я заранее знаю: на всех не хватит, но знаю и другое — о культуре судят по вещам, которые она произвела, а не по тому, кто владел этими вещами. Я — господин, я обираю моих работников, отнимая у них хлеб и одежду, чтобы накормить и одеть моих солдат, женщин, стариков. Что смутит меня, что помешает отнять у них хлеба побольше и накормить моих скульпторов, гранильщиков, поэтов, которые, кроме поэзии, питаются ещё и хлебом? Без них у меня не будет бриллиантов и дворцов, о которых мечтают, к которым страстно стремятся. Ты говоришь, скульпторы и гранильщики не сделают мой народ богаче? Неправда, разве многообразие занятий не богатство? Ведь, кроме насущных трудов, есть ещё и труды по взращиванию культуры. Конечно, подобные занятия требуют досуга, но немногие занимаются ими в моём городе, — я убедился в этом, расспрашивая людей. И вот что я понял: раз диадему нельзя поделить на всех, значит, вопрос, чьей она будет, бессмыслен, и я не вправе считать её владельца грабителем, обделившим остальных. Владельцы, заказчики — основа, на которой ткутся узоры культуры, не стоит тревожить их и нарушать плетение, у них своя роль, и не моё дело, хороши они или дурны и есть ли у них моральное право на роскошь. Не спорю, действительности не чужды проблемы этики. Но есть в ней и другое, что вне этики. И если я буду разрешать проблемы при помощи слов, которые не вмещают противоречивой действительности, мне придётся отказаться от света в моём царстве и погасить его.CXVI
Заметка для памяти: беженцы-берберы не желали работать, они лежали. Бездействовали. Я пекусь не о трудах — о связующих нитях. Дни я делю на будни и праздники. Людей — на старших и младших. Строю дома, более или менее красивые, и пробуждаю зависть. Ввожу законы, более или менее справедливые, и побуждаю пуститься в путь. Я забочусь не о справедливости, справедливо было бы оставить это болото в покое и не мешать ему гнить. Но я навязываю свой язык, ибо люди способны понять его смысл. Я плету сеть условностей и с её помощью хочу выудить из людей, словно из слепоглухонемых, — человека, но пока ещё он крепко спит. Ты обжёг слепоглухонемого и назвал: огонь. Ты несправедлив к оболочке, ты причинил ей боль, ты справедлив к человеку, укрытому ею, — ты дал ему свет, открыл, что такое огонь. Больше тебе не понадобится обжигать его, при слове «огонь» он отдёрнет руку. И это будет знак, что он родился на свет. Каждый, сам того не подозревая, словно сетью, опутан множеством условностей, но не в состоянии ощутить их на себе, ибо они есть. Есть разные дома. Есть разная еда. (Я установил великий праздник, чтобы они ждали его, чтобы верили: с этого дня начинается новая жизнь. Что им делать, как не следовать направлению русла? Да, направленность уже несправедливость, но и праздник в череде будних дней та же несправедливость.) Благодаря красивым домам одни что-то получили, другие что-то потеряли. Вошли, вышли. Мой лагерь я расчерчу белыми линиями — в нём будут опасные зоны и безопасные. Вот я обозначил запретную зону, за приближение к ней я буду карать смертью. Так я строю костяк в медузе. Скоро она начнёт передвигаться самостоятельно. Как отрадно! Человек получает слова пустыми. Но по мере того как они насыщаются смыслом, они становятся шпорами, уздой, удилами. Появляются жестокие слова, от них плачут. Появляются певучие слова, от них светлеет на сердце. «Я сделал вещи доступными...» — считай, что ты проиграл, не богатство беда, беда — отсутствие трамплинов, что вынуждали тебя двигаться путём созидания, теперь ты используешь готовое. Беда не в том, что ты дал, беда в том, что ничего не требуешь. Когда больше даёшь, больше и спрашивай. Справедливость, равенство — от них веет покоем смерти. Что такое братство, знает лишь растущий кедр. Не путай с братством круговую поруку и соглашательство — соглашательством живёт толпа, над ней нет Бога, под ней — питающих подземных вод, а в ней самой нет мускулов, она не спеша гниёт, и только. Живя толпой равных, живя по законам справедливости, они стали горстью одинаковых шариков. Брось в эту толпу семечко, её должна преобразить несправедливость дерева.CXVII
Я заметил, мой восточный сосед внимателен не к событиям в своём царстве, не к устройству и не к учреждениям, не к вещам, а только к перепаду высот. И если ты захочешь узнать своё царство и отправишься сперва к кузнецам, ты увидишь, они куют гвозди, они влюблены в гвозди, речи их — славословие ковке гвоздей. Потом ты пойдёшь к лесорубам, увидишь, как валят они деревья, как увлечены они рубкой; первый треск мощного ствола для них — праздник, падение дерева-гиганта — радостное торжество. Ты навестишь астрономов, они погружены в наблюдение за звёздами, ты постоишь, послушаешь их молчание. Кузнецы, лесорубы, астрономы любовно делают своё дело. И если я спрошу тебя: «Что творится у меня в царстве? Что у нас будет завтра?» — ты ответишь: «Будут ковать гвозди, валить деревья, наблюдать звёзды, у тебя, стало быть, будут запасы гвоздей, древесина, звёздные карты». Не видящий дальше собственного носа, ты проглядел строительство корабля. Конечно, никто не сказал тебе: «Завтра мы выйдем в море». Каждый убеждён, что служит своему богу. Язык каждого так ограничен, что ему не воспеть бога богов — корабль. Но корабль щедр, благодаря ему кузнец влюблён в свои гвозди. Ты видел бы будущее яснее, если бы приподнялся над дробностью мира и ощутил ту жажду морского простора, какую я разбудил в душе моего народа. Тогда ты увидел бы фрегат — он сделан из гвоздей, досок, стволов деревьев, он послушен звёздам, он медленно вырастает в тишине, словно кедр, что вытягивает соли и соки из каменистой почвы и окунает их в солнечный свет. Если бы ты встал повыше, это устремление в будущее стало бы для тебя очевидным. Ты не ошибся бы — повсюду, где только возможно, явлено тяготение к морю. Ничего ведь не сделать и с земным тяготением — я выпустил из руки камень, он непременно упадёт на землю. Вот я смотрю на человека. Он отправился на прогулку и пошёл на восток. Я не могу предсказать, куда он идёт. Пройдя сто шагов и убедив меня в неизменности своего направления, он возьмёт и свернёт в сторону. Но ближайшее будущее моей собаки мне известно, стоит ослабить поводок, как она потянет меня к востоку, оттуда пахнет дичью, и, если я спущу её, она ринется туда со всех ног. Натяжение поводка сказало мне больше, чем пройденная человеком сотня шагов. Я смотрю на узника, он сидит или лежит ничком, кажется — он подавлен и ничего не хочет. Нет, он хочет свободы. Устремление его явственно для меня, и мне достаточно указать ему на щель в стене, как он вздрогнет, напряжётся и преисполнится внимания. И если щель ведёт за городские стены, покажи мне узника, который бы не разглядел её! Но если ты погружён в размышления, то, занятый собственным ходом мыслей, ты можешь не заметить ни этой щели, ни другой. Или, заметив её, начнёшь рассуждать, удобно ли будет ею воспользоваться, и решишься слишком поздно — каменщики успеют её заделать. Но покажи мне воду, заключённую в бассейн, какой из трещин она пренебрежёт? Потому я и говорю: внутреннее предрасположение, тяготение, которое не выразишь словом — язык наш не приспособлен для этого, — могущественнее всех умствований, только оно ведёт нас и нами правит. Потому я и говорю: разум в услужении у души, склонности души управляют им, а он лишь обозначает всякий раз направление, обосновывает его сентенциями, а тебе кажется, будто ты послушен своим разбредающимся мыслям. Но я говорю тебе: управляют тобой только божества — храм, дом, царство, страсть к морю, жажда свободы. И я тоже, как мой сосед, что правит по другую сторону горы, не стану следить за тем, что делается. Мне не угадать по полёту голубя, свернёт ли он к голубятне или подчинится воле ветра. Мне не понять, возвращается человек домой, потому что любит свою жену или подчиняется тяжкому долгу, не понять, что сулит его возвращение — любовную встречу или разрыв. Но когда речь идёт об узнике, я не сомневаюсь: он не упустит случая, поставит ногу на обронённый мною ключ, ощупает каждый прут решётки, не качается ли один из них, присмотрится к каждому тюремщику, — я уже вижу, как исчезает мой узник в просторе за городскими стенами. Я не стремлюсь узнать, что делает мой сосед, я хочу узнать, чего он не забывает сделать. Тогда я узнаю, какому божеству он послушен, и, даже если сам он не знает своего будущего, я могу судить, какое будущее его ждёт.CXVIII
Явспомнил пророка, недобр был его косящий взгляд. Он пришёл ко мне, и я почувствовал: он переполнен гневом. Гнев его тёмен и тяжёл. — Сотри их с лица земли, — сказал он. И я понял: он жаждет совершенства. Ибо совершенна только смерть. — Они грешат, — сказал он. Я молчал. Я зримо видел его душу, изострённую, будто меч. И думал: «Он живёт борьбою со злом. Он живёт благодаря существованию зла. Что с ним станется, если зла не будет?» — Что тебе нужно для счастья? — спросил я. — Торжество добра. И я понял, что он обманывается. Разве счастье для него бездействие и пятна ржавчины на его мече? Медленно разгоралась и наконец ослепила меня необычайная истина: любящий добро снисходителен к злу. Любящий силу снисходителен к слабости. Враждуют друг с другом одни слова, в жизни добро и зло сплетаются; бездарные скульпторы — почва для взращивания даровитых, тирания выковывает гордость души, противостоящую тирании, голод вынуждает делиться хлебом: возникшее дружество слаще, чем хлеб. Заговорщики, которых схватила моя стража, сидят в темноте подземелья и готовятся умереть, принеся себя в жертву другим, они согласились на опасности, нищету и несправедливость из любви к свободе и справедливости. Эти люди всегда казались мне ослепительно прекрасными, нестерпимо было их сияние в камере пыток, и я никогда не унижал их в смерти. Что такое алмаз, если нет твёрдой породы, которую нужно преодолеть, чтобы до него добраться? Что такое клинок, если нет врагов? Что такое возвращение, если нет отсутствия? Что такое верность, если нет соблазна? Торжество добра — это торжество покорных волов вокруг кормушки. Я не жду ничего хорошего от оседлых и перекормленных. — Ты борешься со злом, — сказал я пророку, — любая борьба — это танец. Ты наслаждаешься своим танцем, танцуя во имя зла. Я хотел бы, чтобы ты танцевал из любви. Я творю, я созидаю царство, где всех вдохновляет поэзия, но наступает час, приходят логики и принимаются размышлять. Они ищут, что может угрожать поэзии, и обнаруживают, что грозит им её противоположность — проза, словно есть на свете противоположности!.. Следом появляются жандармы, любовь к стихам им заменяет ненависть к прозе, они уже не любят, а ненавидят, как будто истребление олив равнозначно взращиванию кедра. Жандармы отправят в застенок музыканта, ваятеля, астронома, подчинившись пустым словам, ветру слов, слабому дрожанию воздуха. С этой минуты царство моё обречено на гибель, ибо рубить оливы, уничтожать запах роз не значит выращивать кедры. Пробуди в душе твоего народа любовь к фрегату, она соберёт усердных со всех концов твоего царства и преобразит их в паруса. Ты захотел сделать паруса из преследования, выслеживания, из уничтожения несогласных. Всё, что не фрегат, сделалось врагом фрегата, ибо логика приводит туда, где назначаешь ей свидание. Ты принялся очищать свой народ, ты вынужден будешь его уничтожить, ибо окажется, каждый, кроме фрегата, любит и ещё что-то. Больше того, ты уничтожишь сам фрегат, потому что любовь к нему в кузнеце стала любовью к гвоздям. Кузнеца ты отправишь в тюрьму. Откуда взяться гвоздям? Если ты захочешь помочь величию скульпторов, истребив бездарных и слабых, подчинившись пустому ветру слов, который противопоставил их даровитым, у тебя не будет скульпторов вообще. Ты и сам запретишь своему сыну это ремесло, сулящее так мало шансов выжить. — Если я правильно понял тебя, — закричал косой пророк, — я должен поощрять пороки?! — Нет, ты меня совсем не понял, — отвечал я.CXIX
Ведь если я не хочу воевать и меня мучает ревматизм в колене, он вполне может стать препятствием, помешавшим мне начать войну, и, наоборот, если я хочу воевать, я решу, что движение — лучшее средство против ревматизма. Моё стремление к миру воспользовалось как предлогом ревматизмом, но предлогом могла стать любовь, или домашний уют, или почтение к моему противнику, или что угодно иное. Так что если ты хочешь понять людей, начни с того, что перестань их слушать. Кузнец толкует тебе о гвоздях. Астроном о звёздах. И никто не вспомнит о море.CXX
Имей в виду, мало посмотреть, чтобы увидеть. С самой высокой из моих башен я показал моим гостям пределы моего царства, они закивали головами: «Конечно, конечно...» Я повёл их в монастырь, стал рассказывать об уставе, они тихонько зевали. Показывал новый храм, картину, статую, художника, архитектора, сказавших новое, небывалое слово. Но они отвернулись. Других могло бы взять за живое, но эти остались равнодушными. И я подумал: «Даже те, кто умеет видеть за вещным Божественный узел, связующий дробный мир воедино, временами видят не картину — немые вещи. Чаще всего душа спит. Не утруждающая себя душа спит ещё крепче. Так можно ли надеяться на молниеносное озарение? Если ты готов увидеть, если вызрело в тебе ещё не знаемое тобой решение, молния озарит тебя, ты воспламенишься и постигнешь. Потому я и приготовляю их к любви долгой молитвой. Этот приготовился, и робкая улыбка сразит его, будто меч. Но большинство живёт в царстве неосуществлённых желаний. Я стал баюкать их северными легендами, заплескали крылами лебеди, потянулись над равниной серые гуси, будя её тревожными кликами, — окованный льдами тёмный Север, похожий на храм из чёрного мрамора, наполнился голосом тревоги, и вот мои слушатели готовы залюбоваться серыми северными глазами, мерцающий в них свет улыбки кажется им светом таинственного приюта, манящего посреди снегов. Я понимаю: взгляд светлых глаз заставит забиться их сердце. Но те, кого испепеляет в пустыне жажда, не заметят света серых глаз». Если с детства я леплю тебя подобным твоему окружению, ты увидишь ту же картину, что видит твой народ, ты будешь любить то, что любит он, ты будешь говорить на одном с ним языке. Я не про слова, с которыми ты обращаешься к соседу, я про цепочку Божественных узлов, связующих дробность мира воедино: нужно, чтобы для всех они были одними и теми же, эти узлы. Я говорю «одними и теми же», но не подумай, что я стремлюсь к упорядоченности строя солдат, прямого ряда камней, — этот порядок смерть и небытие. Я хочу научить вас видеть одну и ту же картину, а значит, чувствовать одни и те же связующие нити и привязанности. Теперь я знаю: полюбить — значит разглядеть сквозь дробность мира картину. Любовь — это обретение божества. Пусть на один короткий миг ты стал сочувствующим, и земля, статуи, стихи, царство, любимая, Бог слились для тебя воедино, — я назову любовью окно, что распахнулось в тебе. И скажу, что любовь умерла, если вокруг ты видишь дробный мир, хотя вокруг ничего не переменилось. Нет сообщения среди знающих лишь о насущном. Отвернувшись от божества, становишься животным. Вот почему моих гостей, зрячих, но не умеющих видеть, нужно приобщить к моей вере. Вера затеплит в них свет, сделает души вместительней. Вера избавит их от избыточного. А иначе что им в радость, кроме приятной сытости желудка, чего хотят они, куда идут? Приобщить к своей вере — значит повернуть тебя лицом к божеству и сделать его зримым. Но где взять мосток, чтобы перекинуть от себя к тебе? Ты оглядываешь поля, а я дорожной палкой обвожу, показывая тебе, пределы моей земли, но не в силах поделиться своей к ней любовью: не достаётся легко любовь. Долго и трудно будешь ты подниматься в гору, опираясь на палку, и, когда обведёшь ею пределы раскрывшейся перед тобой земли, задохнёшься от волнения. Но испробовать на тебе, каково оно, моё царство, я могу. Верю я прежде всего в работу. Не увидеть, что идеи рождаются делом, может только ребёнок или слепец. Ребячество разбирать и раскладывать по полочкам идеи, будто они уже и не идеи вовсе, а товар на ярмарке. Я доверю тебе волов и повозку или цеп на току. Или лопату, чтобы рыть колодцы. Поручу собирать оливки. Играть на свадьбах. Копать могилы. Дам тебе какое-то дело, чтобы ввести тебя в незримый замок, подчинить силовым линиям, облегчить одни пути, закрыть другие. У тебя появятся обязательства, запреты. Одно поле можно вспахивать, другое нет. Этот колодец — спасение деревни, другой — проклятие. Девушка выходит замуж, её деревня распевает песни. А соседняя плачет об усопшем. Стоит потянуть за одну ниточку, как открывается вся картина. Пахарь пьёт из колодца воду. Колодезник выдаёт дочь замуж. Невеста ест хлеб пахаря, пьёт колодезную воду, и все они празднуют одни и те же праздники, молятся одним и тем же богам, оплакивают одних и тех же усопших. Станешь и ты таким, каким ты нужен деревне. Ты мне скажешь, каким ты стал. И если сам себе не понравишься — значит, моя деревня тебе не по вкусу. Ничего не разглядит зевака. Праздный взгляд отмечает дома, деревья, — как увидеть за ними Бога? Бог открывается трудами сердца. Истина для меня то, что тебя воодушевило. Всё, что ты видишь, не хорошо и не дурно. Но вот ты увидел картину и замер. Ты понял: эта картина прекрасна. «Истинна и прекрасна», — скажешь ты мне, и точно так же ты можешь открыть для себя свою землю, царство. Обжив его сердцем, ты пойдёшь за него на смерть. «Камни подлинны, подлинен и храм», — скажешь ты мне. В тайная тайных монастыря я приготовил для тебя чудесную икону, чтобы душа твоя затеплилась молитвой, — ты плачешь и молишься перед ней — что ты тут можешь отринуть? Сможешь ли ты сказать: истинна красота лика, но не истинен Бог? Неужели ты думаешь, что родился, умея видеть прекрасное? Нет, ты научился его видеть. Прозревший слепорождённый не обрадовался обращённой к нему улыбке. Ему нужно было узнать, что такое — улыбка. Но ты знаешь с детства: улыбка сулит тебе радость, она таит в себе приятный сюрприз. Зато нахмуренные брови обещали неприятности, дрожание губ предваряло слёзы, загоревшиеся глаза — увлекательную выдумку, кивок головой — примирение, протянутая рука — доверие. Ты живёшь, накапливаешь опыт, и мало-помалу у тебя в душе складывается картина, мерцает некий идеальный образ, всё в нём тебе по сердцу, он радует тебя, наполняет жизнью. И вдруг в толпе мелькнуло похожее на него лицо, ты скорее умрёшь, чем его потеряешь. Молния поразила тебя в самое сердце, но сердце твоё готово было загореться. Не спеша нарабатывается любовь и только тогда рождается. Ты открываешь для себя хлеб после того, как я дал тебе возможность поголодать. Я натянул в тебе струну, что откликнется на стихи. Стихи запели у тебя в душе, другой, их читая, зевает. Я стремлюсь пробудить в тебе голод, о котором ты пока не подозреваешь, страсть, которая пока для тебя безымянна. В ней пучок твоих дорог, твой стержень, твоя форма. Божество, которое её разбудит, выявит в тебе всё разом, и дороги потянутся для тебя лучами света. Но ты ещё ни о чём не знаешь, не ищешь. Если бы искал, то знал бы уже по имени, а значит, нашёл.CXXI
Заметка для памяти: задурив себе головы, они решили, что и в жизни существуют противоположности, противостояния, — о, глупцы! Суровость, решили они, противостоит болтовне. Но жизнь — переплетение, стоит тебе уничтожить противоборствующего противника, как ты гибнешь с ним вместе. Я повторяю: противополагается жизни одна только смерть. Любя совершенство, ты уничтожаешь несовершенное. Вымарывание за вымарыванием — ты уничтожил текст. Всё ведь несовершенно. Если любишь совершенство, не уставай совершенствоваться. Ты решил истребить низость, спасая благородство. Ты истребишь всех людей — ни один не сделан из чистого благородства. Этот человек уничтожил своего противника. Он жил борьбой с ним. Теперь он и сам мёртв. Противник корабля — море. Море сделало таким совершенным форштевень и корпус корабля. Противоположность огня — пепел, пепел сберегает бодрствующий огонь. Не надо бороться с рабством и опираться на ненависть, нужно бороться за свободу и призывать на помощь любовь. В любой иерархии можно увидеть рабство, можно счесть рабами камни, сложившие фундамент храма, благодаря которым другие, более благородные, дотягиваются до неба; если ты последователен, ты должен разрушить храм. Но кедр не отвергает, не ненавидит всё то, что не кедр, он питается каменистой почвой и превращает её в кедр. Против чего бы ты ни боролся, у тебя на подозрении весь мир, потому что повсюду может оказаться кров, припас и пища для твоего врага. Против чего бы ты ни боролся, ты должен уничтожить и самого себя, потому что и в тебе есть твой враг, как бы слаб он ни был. Единственная несправедливость, которую я приемлю, — несправедливость творчества и созидания. Ты не уничтожил соки, которые питают колючки, ты создал кедр, он питается соками, и для колючек их не осталось. Если ты стал вот этим деревом, ты не можешь уже стать другим. Стало быть, ты — несправедливость по отношению к другим деревьям.Когда усердие в тебе иссякает, ты продлеваешь жизнь царству с помощью жандармов. Но если только жандармы в силах поддержать жизнь твоего царства, значит, оно уже мертво. Принуждаю и я, но принуждаю как дерево, оно узел для соков земли, я не истребляю колючки и соки, которые их питают, — я сажаю кедр, и теперь они вынуждены питать его. Где ты видел, чтобы боролись против чего бы то ни было? Благоденствующий кедр уничтожает кустарник, но ему и дела нет до кустарника. Он не знает даже о его существовании. Он борется за кедр и превращает в кедр кустарник. Ты хочешь заставить своих воинов умирать против рабства, несправедливости! Кто захочет умирать? Захотят убивать, а не умирать. Отправиться сражаться — значит дать согласие на смерть. На смерть соглашаются ради того, на что положили жизнь. Иными словами, ради любви. Эти ненавидят тех. Будь у них тюрьмы, они наполнили бы их узниками. Но тюрьмы выковывают врагов, они пламенеют ярче монастырей. Казнит и сажает в тюрьмы неуверенный в себе. Он уничтожает свидетелей и судей. Но для того чтобы обрести величие, недостаточно истребить свидетелей собственной низости. Казнит и сажает в тюрьмы тот, кто перекладывает свои ошибки на других. Значит, он слаб. Чем ты сильнее, тем больше ошибок ты берёшь на себя. На них ты учишься побеждать. Генералу, который потерпел поражение и пришёл с повинной, отец сказал: «Не льсти себя мыслью, что ты способен ошибиться. Если я сел на коня и конь заблудился, виноват не конь — виноват я». «Извинение предателей, — говорил отец, — в том, что они нашли силы предать».
CXXII
Если истины очевидны и противоречат одна другой, тебе ничего не остаётся, как искать другой язык. Логика не в силах задеть тебя за живое, с её помощью не перебраться на ступеньку выше. Исходя из камней, не узнать о сосредоточенности. Камней недостаточно, чтобы её постичь. Тебе нужно придумать, как сложить по-новому камни, и то, что ты сложишь, ты обозначишь новым словом. Родилось новое существо, цельное, необъяснимое, потому что объяснить — значит расчленить. Но оно едино, и ты окрестил его, дав ему имя. Чему служат рассуждения о сосредоточенности? О любви? О царстве? Любовь, царство не предметы, они — божества. Я видел человека, он согласен был умереть, наслушавшись сказок Севера, он узнал: раз в году наступает необыкновенная ночь, люди идут по скрипучему снегу под льдистыми звёздами и подходят к деревянной избушке. Светится окно, после долгой тьмы ты входишь в свет и, заглядывая в дом, приближаешь лицо к стеклу, — в комнате мерцает странное дерево. Говорят, эта ночь сродни расписной деревянной игрушке и пахнет запахом воска. Говорят, лица у людей в эту ночь — настоящее чудо. Потому что они ожидают чуда. Ты увидишь стариков, они затаили дыханье и смотрят на детей, приготовив сердце к величайшему таинству. Вот сейчас в детских глазах промелькнёт что-то неуловимое, драгоценное. Целый год ты творил ожидаемое сокровище рассказами, таинственными намёками, туманными посулами и безграничной любовью к малышу. Сейчас ты снимешь с ёлки смешную деревянную игрушку и, согласно издревле установленному обычаю, протянешь её ребёнку. Вот он, этот миг. Все затаили дыхание, малыш сидит у тебя на коленях, дремотно моргает, его только что вытащили из тёплой постельки, ты вдыхаешь сладкий запах сонного ребёнка, и, когда он тебя целует, ты чувствуешь: жаждущее сердце наконец напилось из родника. (Горе детям, их обокрали, если никто не нуждается в роднике, что таится в них без их ведома, роднике, к которому приникают постаревшим сердцем, чтобы омолодиться.) Но сейчас не до поцелуев. Малыш смотрит на ёлку, ты смотришь на малыша. Сейчас ты сорвёшь редкостный цветок, расцветающий единственный раз в году посреди снежных сугробов, — цветок восторженного изумления. Как ты счастлив, глядя на потемневшие глаза ребёнка. Он погрузился в созерцание своего сокровища, получив своё сокровище в руки, он засветился и похож на морской анемон. Если ты отпустишь его, он убежит. И догнать его нет никакой надежды. Не говори с ним, он тебя не услышит. Его потемневшие глаза, чуть-чуть потемневшие, будто на луг набежала тень тучки, — не говори мне, что они ничего не значат. Даже если это единственное твоё воздаяние за прожитый год, за твою тяжкую работу, за потерянную на войне ногу, бессонные ночи, обиды и страдания — всё возмещено тебе сполна, и ты счастлив. Ты в выигрыше, ты выгодно поменялся. Какая логика выведет твою любовь к царству, молитвенную сосредоточенность в храме, этот несравненный миг? И вот мой солдат готов умереть, — мой солдат, который видел только песок и солнце, который никогда не видел мерцающих деревьев и весьма приблизительно знает, где находятся северные страны, — он готов умереть, потому что гибель грозит запаху воска и потемневшим детским глазам, он узнал о них из стихов, и они были будто лёгкий аромат, принесённый ветром с дальнего острова. Я не знаю более важной причины для смерти. Бывает, что питает тебя Божественный узел, связующий всё воедино. Не преграда ему ни стена, ни море. Ты в пустыне, но переполнен дальним, неведомым тебе, даже чуждым — этих людей ты себе не представляешь, не представляешь и страны, — но переполнен ожиданием, ты ждёшь и хочешь увидеть потемневшие глаза ребёнка, он не сводит их со смешной деревянной игрушки, и она тонет в них, будто камень в неподвижной воде. Бывает, что полученное тобой от этой картины так для тебя драгоценно, что ты готов умереть за неё. И если для меня это будет так, я подниму моих воинов, чтобы спасти рассеянный где-то в мире запах воска. Но я не стану браться за оружие, защищая накопленные запасы. Когда их накопили, ждать можно только одного — превращения в тупую скотину. Вот почему, когда умерли твои боги, ты ни за что не хочешь умирать. Но ты и не живёшь. Потому что нет в твоей жизни смерти. Слова «жизнь» и «смерть» дразнят друг друга, но жить ты можешь только тем, за что согласен умереть. Тот, кто отказывается от смерти, отказывается и от жизни. Если нет ничего, что было бы больше тебя, тебе неоткуда получать. Разве что от себя самого. Но что получишь от зеркала?CXXIII
Я говорю для тебя, потому что ты одинока. Я хочу перелить в тебя cвет.Я знаю, ты молчишь, ты одинока, но всё же и твоё сердце может получать пищу. Божествам смешны моря и преграды. Ты тоже станешь богаче оттого, что где-то пахнет воском. Даже если никогда не вдохнёшь его. Но какова она, моя пища, я могу узнать, только посмотрев на тебя. Какой ты стала, напитавшись ею? Мне хотелось бы, чтобы ты молчаливо скрестила руки и глаза у тебя потемнели, как у малыша, которого я одарил сокровищем, он не в силах оторвать от него глаз. Мой подарок малышу не вещь, не предмет. Если камешки для него военный флот, устоявший в бурю, то мои деревянные солдатики будут и войском, и генералами, и верностью царству, и смертью от жажды в пустыне. Ведь и музыкальный инструмент не инструмент вовсе, он — силки, чтобы тебя пленить. И твой плен так далеко увёл тебя от силков. По-иному ты смотришь из окна на уснувший город, если помнишь мои слова о дремлющем под пеплом огне. Мой дозорный ходит уже не по кругу, если круглая площадка башни — вершина царства. Отдавая, получаешь больше, чем отдал. Потому что тебя не было и вот ты возник. И что мне тогда за дело, если слова снова дразнят друг друга. Я говорю для тебя, ты одна, мне хочется тебя приютить. Может, слепота или сухая рука помешали тебе ввести в свой дом мужа. Но есть присутствие более ощутимое, я видел, как поутру, когда мы победили, даже больной на смертном ложе был другим, и, хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, казалось, всё в его комнате трубит о победе. Что же проникло извне внутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела до стен и которой морской простор не преграда? Разве не существует Божественного узла ещё горячее? Он воспламенит в тебе сердце, и ты станешь преданной и совершенной. Любви не растратишь. Чем больше даёшь, тем больше остаётся. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днём он щедрее. Животворящ и запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя ещё драгоценнее. Муж опустошит твой дом, если, устав любить тебя, улыбнётся другой. Но вот к тебе прихожу я. Нам не нужно знакомства. Я — узел царства, я придумал для тебя молитву. Я — ключ свода, наделяющий вещи смыслом. Я протягиваю нить и тебе. Ты больше не одинока. Как тебе не последовать за мной? Разве я не ты? Ведь и музыка оживляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не лжива. Просто ты начинаешь существовать. Я не хочу, чтобы совершенство опустошило тебя. Опустошило и заполнило горечью. Я бужу в тебе рвение, которое всегда обогащает и никогда не обделяет, рвение, которое никогда не требует возмещения потраченных усилий или запаса впрок. Стихи прекрасны не логикой — дарованным свыше. Чем просторнее ты становишься от них, тем они тебе дороже, тем ты взволнованней. Ты тоже — музыкальный инструмент, ты тоже можешь запеть, в тебе разные голоса. Есть в мире и дурная музыка, она прокладывает путь ничтожеству, и в тебя входит ничтожество. Бог, что посетил тебя, жалок. Но бывает, на тебя изливается столько любви, что, утомлённая, ты засыпаешь. И я для тебя, одинокой, придумал молитву.
CXXIV
Молитва одиночества. «Пожалей меня, Господи, тяжело мне моё одиночество. Мне некого ждать. Комната будто тюрьма, вещи в ней молчаливы. Я прошу не о гостях, на глазах людей я ещё оставленней. У меня соседка, она тоже одна, и комната у неё похожа на мою, но она счастлива теми, кого любит. Нежность её сейчас праздна, она не слышит, не видит своих близких, не чувствует ответной любви. И всё-таки счастлива, в доме у неё не пусто. Господи, не о человеке прошу Тебя, не о зримом присутствии. Я знаю, неосязаемы Твои чудеса. Вылечи меня, освети мне душу, я хочу понять, где приют мой и где мне жить...Странник в пустыне, Господи, оставив кров и близких, даже на краю света утешен своим домом. Что ему расстояние? Душа его занята, и если он умрёт, то умрёт, любя... Я не прошу Тебя, Господи, чтобы и у меня появился такой дом...
Человек заметил в толпе лицо, и оно стало для него божеством, пусть девушка так и осталась незнакомкой. Так солдат влюбляется в королеву. Он живёт как солдат королевы. Я не прошу Тебя, Господи, чтобы подобный кров был мне обещан...
По морским просторам странствуют влюблённые в несуществующие острова. Они слагают песни об островах — и счастливы. Не острова делают их счастливыми — песни. Я не прошу, Господи, чтобы дом для меня где-то был... Одиночество, Господи, плод души-калеки. Смысл вещей — вот родная земля души. Храм — смысл существования камней. Душа расправляет крылья только на просторах смысла, не вещи нужны ей — картина, что возникла, когда они слились воедино. Научи меня видеть сквозь дробность целое. Тогда, о Господи, я перестану быть одинокой».
CXXV
Подобно тому, как я могу назвать храм — внятный душе порядок, претворивший безликие камни в силовые линии, — могу назвать его укладом для камней... И уклад этот чаще всего прекрасен... Подобно тому, как я могу назвать литургию моего года — внятный душе порядок, претворивший безликие дни в силовые линии (есть у нас дни поста, праздники и дни отдыха — силовые линии, направляющие тебя), — могу назвать укладом дней. Год благодаря ему оживает. Подобно тому, как есть свой уклад и у черт лица. Лицо тогда чаще всего приятно. Есть уклад и у моей армии — протянутые мной силовые линии позволяют тебе одно, запрещают другое. Повинуясь, ты становишься моим солдатом. Армия чаще всего становится сильной. Есть уклад и у моей деревни, со своими праздниками, днём поминовения усопших, сбором винограда, помощью при постройке, раздачей хлеба и воды во времена голода или засухи: полный бурдюк — он не для тебя одного. Благодаря укладу у тебя есть родина. И от неё чаще всего тепло на сердце. На что я ни посмотрю, вижу уклад. Храма нет без архитектуры, года без праздников, лица без пропорций, армии без устава, отчины без обычаев. Не будь уклада, ты не сладил бы с беспорядком. Почему же ты говоришь мне, что окружающая тебя дробность — она подлинная, а уклад — это мнимость? Разве любая вещь не уклад составляющих её частей? По-твоему, армия менее реальна, чем камень? Но и камень я могу назвать укладом пылинок. Год — укладом дней. Почему тогда год менее реален, чем камень? Этих заботит отдельный человек. Кто спорит, прекрасно, если каждый будет процветать, будет сыт, обут и страдать будет не чрезмерно. Но в каждом умрёт главное, жители твоего царства станут рассыпанными камнями, если не будет в твоём царстве человеческого уклада.Без уклада нет человека. Оплакивать покойного брата ты будешь не дольше, чем оплакивает собака утонувшую товарку. И возвращение брата тебя не порадует. Радованье брату должно строиться будто храм, он рухнет со смертью брата. Я не видел, чтобы беженцы-берберы оплакивали своих мёртвых.
Как мне показать тебе то, что я ищу? Я ищу не вещь, которую можно потрогать, я ищу ощутимое для души. Не требуй, чтобы я обосновал свой уклад. Логика хороша для дробного мира, Божественный узел связывает дробность по-своему. Мне пока неведом этот язык. Ты, наверно, видел, как слепые гусеницы ползут вверх по дереву, поближе к свету. Посмотрев на них, ты скажешь, к чему они стремятся, скажешь: «К свету» или «К вершине», — потому что ты человек. Но они-то не знают к чему. Вот и ты получаешь от моего храма, года, картины, родины незнаемое, оно становится твоей истиной, и я не вслушиваюсь в ветер слов, он гудит о вещном. Ты — гусеница. Ты не знаешь, чего ищешь. Но если из моего храма, года, царства ты выходишь совершеннее и просветлённее, если незримая пища напитала тебя — я подумаю про себя: «Это хороший для человека храм. Хороший год. Хорошее царство». Даже если я не могу определить, чем они хороши. Просто-напросто я, как гусеница, нашёл что-то для себя необходимое. Так слепец зимой ищет на ощупь очаг. И находит. Он ставит свою палку и садится возле него, скрестив ноги. Он не знает об огне того, что знаешь о нём ты, зрячий. Он нашёл необходимую ему истину телесно, и увидишь, он не стронется с места. Но ты упрекаешь меня, говоря, что найденная мной истина неподлинна, и поэтому я расскажу тебе, как умирал мой друг, единственный подлинный геометр, он приготовился к смерти и попросил меня побыть с ним.
CXXVI
Тихими шагами подошёл я к нему, я любил его. — Геометр, мой друг, я помолюсь за тебя Господу. Но он устал мучиться. — Не жалей моего тела. У меня отнялась рука, отнялась нога, я похож на сухое дерево. Не мешай дровосеку. — Ты ни о чём не жалеешь, геометр? — О чём мне жалеть? Я помню здоровую руку, здоровую ногу. Жизнь — это непрекращающееся рождение, и себя принимаешь таким, каким становишься. Ты когда-нибудь сожалел о младенчестве, отрочестве, зрелых годах? О них сожалеют плохие поэты. Не сожаление — сладкая печаль без тени страдания, тонкий аромат вина, веющий над опустевшим бокалом. В день, когда ты теряешь глаз, ты рыдаешь и жалуешься, потому что любое преображение болезненно. Но жизнь с одним глазам вовсе не повод для вечного страдания. Я видел, как весело смеются слепые. — А память о минувшем счастье? — Откуда ты взял, что она приносит боль? Конечно, видел и я, как страдал от разлуки влюблённый, любимая была смыслом его дней, часов, всего на свете. Храм его обрушился. Но я никогда не видел, что страдает тот, кто пережил высшее напряжение любви и разлюбил, для кого погас согревающий его очаг. Стихи взволновали тебя, а потом ты ими пресытился. Кто страдает по отмершему? Душа погрузилась в спячку, человек погрузился в небытие. Скука далека от сожаления. Сожалеть о любви — значит по-прежнему любить... Если не любишь — не сожалеешь. Тоскуешь, скучаешь, опустившись на ступеньку, где тебя окружили только дробные вещи, потому что им нечем напитать тебя. Когда обрушивался ключ свода и жизнь моя ломалась, я мучился муками преображения, но как я могу чувствовать их теперь? Разве не теперь увижу я истинный ключ свода, истинный смысл всего? Так что мне до былого, в котором не было света истины? О чём тосковать мне, если я вижу, что часовня наконец построена, завершена, если я вижу, что в ней наконец затеплился свет? — Геометр, мне кажется, ты не прав. Мать плачет, вспоминая умершего ребёнка. — Она плачет, когда он умирает. Потому что всё вокруг лишается смысла. Приходит молоко, а ребёнка нет. Тебе столько нужно сказать любимой, и нет любимой. Если дом твой разорён, продан, что тебе делать с любовью к дому? Но это значит, что наступил час преображения, а он всегда причиняет боль. Ты ошибся, потому что слова только запутывают человека. Наступает час, когда прожитое обретает свой истинный смысл и ты понимаешь — оно помогло тебе сбыться. Приходит час, когда ты чувствуешь себя богаче, потому что когда-то любил. Час нежной, сладкой печали. Приходит час, когда постаревшая мать, глаза её смягчились, и умудрилось сердце, — никому не признаваясь в этом, потому что слова страшат её, — с нежностью вспоминает своего умершего малыша. Видел ли ты мать, которая сказала бы тебе, что лучше бы не иметь ребёнка, не кормить его молоком, не ласкать? Долго молчал геометр, а потом сказал: — Вот и моя жизнь, бережно сложенная, стала прошлым, стала воспоминанием... — Поделись со мной, геометр, новой истиной, что исполнила тебя такой безмятежностью. — Может быть, постичь истину — значит чувствовать её безмолвно?.. Может быть, постичь истину — значит обрести право умолкнуть навсегда? Я говорил не однажды, что истинно дерево, ибо оно — обретённое согласие корней, ствола и веток. Истинен лес как согласие деревьев. Истинен край как согласие леса, луга, реки и деревни. Истинно царство как согласие деревень и городов. Истинен Бог как идеальное согласие царств и всего, что существует в мире. Бог так же истинен, как дерево, но увидеть его куда труднее. Мне больше не о чем спрашивать, и я молчу. Он задумался. — Другой истины я не знаю. Знаю какие-то соотношения, соответствия, с их помощью более или менее удобно объяснять мир. Но... Он долго молчал на этот раз, и я не решался его тревожить. — Но иногда мне казалось, что они и впрямь чему-то соответствуют... — Что ты имеешь в виду? Что ты хочешь сказать? — Когда ищешь, находишь, потому что душе хочется найти только то, что в ней уже есть. Найти — значит увидеть. Как искать то, что для меня ещё лишено смысла? Как хотеть того, о чём и не подозреваешь? И всё же было во мне что-то вроде тоски о том, что не имело для меня пока смысла. Иначе почему я приходил к тем истинам, которых не мог предвидеть? Я шёл вперёд, и было похоже, будто я знаю дорогу, но шёл я к неведомому колодцу. Я ощущал связующие нити, ощущал соответствия, как твои слепые гусеницы ощущают солнце. Вот ты построил храм, он прекрасен, но разве для тебя ясно, с чем он в глубинном согласии? Ты сделал законом определённый уклад, заботясь, чтобы души людей не остывали, — слепой так ищет тепло у очага. Не все храмы красивы, не все уклады охраняют огонь. Гусеницы не знают солнца, слепой не знает огня, а ты не знаешь, с чем в согласии храм, который ты строишь, и почему благодаря ему расширяется в человеке душа... Что-то светило мне и просветляло меня, притягивало меня к себе, и я шёл за ним. Но и сейчас я не знаю... И в этот миг Господь открыл Своё лицо геометру...CXXVII
Низкому делу в помощь низкая душа. Благородному — благородная. Низкие поступки рождаются из низких побуждений. Благородные — из благородных. Если мне понадобилось предательство, я найду предателя, чтобы совершить его. Если мне нужно строительство, я позову каменщика. Если я добиваюсь мира, переговоры я поручу трусу. Если готовлю гибель, войну объявит герой.Многообразие побуждений очевидно, и если одно побуждение возобладало над другими, значит, кричало громче, и тот, кто за него ратовал, возьмётся его осуществить. Если путь твой сейчас неизбежно низок, в помощь тебе тот, кто так жаждал низости и без неизбежности, из одной только низости души. Заставлять подписать капитуляцию героя трудно, трудно посылать жертвовать собой трусов. И если необходимо сделать что-то, с некоторой точки зрения унизительное, — с некоторой, потому что нет на свете ничего одномерного, — я подтолкну вперёд того, кто больше смердит и меньше воротит нос. Брать в мусорщики брезгливого я не стану. Если мой враг одержал надо мной победу, переговоры с ним я поручу тайным друзьям своего врага. Но не считай, что я зауважал этих тайных друзей и добровольно подчинился победителю.
Да, если ты разговоришь моих мусорщиков, они признаются, что копаются в мусоре, потому что любят запах гнили. Признается мой палач, что ему по нраву запах крови. Но ты будешь не прав, если осудишь меня за потворство низменному. Ненависть к грязи и восхищение сияющим чистотой домом заставили меня призвать на помощь мусорщиков. Ужас перед невинно льющейся кровью заставил меня уделить место палачу. Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Ибо если я решил вступить в бой, спасая закрома моего царства, вперёд выйдут самые воинственные, те, для кого смерть — символ веры, и говорить они будут о славе и почётной смерти в бою. Потому что никто не умирает ради закромов. Но если я решил пойти на мировую, чтобы избежать разграбления тех же закромов, пока их не спалил огонь войны, или заведу речь не о войне и не о мире, но о мирном сне мёртвых, то подписывать договоры я позову самых миролюбивых и снисходительных к нашему врагу, и говорить они будут о благородстве устанавливаемых ими законов, о справедливости принятых решений. Они будут верить в свои слова. Хотя дело снова совсем в другом. Если мне нужно отвергнуть что-то, отвергать будет тот, кто отвергает всё и вся. Если нужно что-то принять, принимать будет тот, кто всё приемлет. Ибо мощное царство всегда тяжело и грузно, ветру слов не сдвинуть его. Этой ночью с высоты моей башни я смотрел на тёмную землю, где тысячи тысяч спят и бодрствуют, счастливы и несчастны, довольны и недовольны, полны веры или отчаяния. И я понял: царство немо, оно — великан без голоса и языка. Так как же мне заставить тебя услышать царство — его желания, старания, усталость, мольбы, если я не умею найти слова, чтобы объяснить тебе, что такое гора, — тебе, который видел только море? Каждый говорит от имени царства, и все говорят противоположное. Они вправе говорить от имени царства. Пусть у немого великана будет возможность кричать. Я одобряю это. Я ведь говорил о совершенстве. Прекрасная песня рождается из множества неудачных. Если люди боятся петь, не жди прекрасных песен. Они противоречат друг другу, потому что нет ещё языка, который был бы в согласии с царством. Не мешай им. Выслушивай всех. Все правы. Но никто из них ещё не поднялся в гору так высоко, чтобы видеть правоту другого. И если они начинают враждовать, сажать друг друга в тюрьмы и убивать друг друга — значит, они ищут язык, который никак не может сложиться. А я? Я прощаю им косноязычие.
CXXVIII
Ты спросил меня: «Почему народ принял рабство, почему не сопротивлялся до конца?» Нужно отличать самопожертвование во имя любви — благородное самопожертвование — от самоуничтожения из-за отчаяния — низменное и недостойное. Жертвуют собой Божеству, им может быть царство, содружество, храм, что примет отданную тобой жизнь — жизнь, на которую ты себя тратишь. Есть люди, которые готовы пойти на смерть во имя других, даже если эта смерть бесполезна. Она облагораживает живых, у живущих прозревают глаза и сердце. Какой отец не вырвется из удерживающих его рук и не бросится в бездну, где гибнет сын? Ты захочешь и не сможешь его удержать. Но можно ли хотеть, чтобы оба они погибли? Кому стало лучше от двух смертей? Почётно сияющее самопожертвование — не самоуничтожение.CXXIX
Если ты судишь моё творение, суди о нём, позабыв обо мне. Я пишу картину, трачу себя на неё, служу ей. Я ей, а не она мне. Я готов даже умереть, лишь бы её закончить. Так не щади моё самолюбие, я люблю не себя — картину. Но если моя картина переменила тебя, одарив чем-то ещё небывалым, не щади мою скромность. Нет во мне скромности. Мы с тобой на стрельбище. Исхода стрельбы мы не знаем. Я — стрела, ты — мишень.CXXX
В мой смертный час. — Господи! Я иду к Тебе, я пахал свою пашню во имя Твоё, Тебе собирать жатву. Я отлил свечу, Тебе зажигать её. Я построил храм, Тебе жить в его тишине. Добыча не для меня, я только расставлял ловушки. Я расставлял их, чтобы очнулась душа. Я растил человека, следуя Твоим Божественным силовым линиям, с тем чтобы он шёл и шёл вперёд. Тебе пользоваться этой повозкой, если она покажется Тебе достойной. Глядя со стен моей крепости, я глубоко вздохнул. «Прощай, мой народ, — думал я. — Я излил всю свою любовь и ухожу в сон. Но я неодолим, как неодолимо зерно. Я не высказал в полноте того, что есть в моей картине. Но созидать не означает выразить словесно. Я всё высказал, воскликнув так, а не иначе. Привыкнув к этому, а не к другому. Кладя в тесто дрожжи, а не соду. Все вы теперь мои дети, потому что, делая следующий шаг, невольно вступаете на мой незримый склон и растите моё дерево, а значит, я помогаю вам сбыться. Конечно, вам станет куда вольнее после моей смерти. Вольна река стремиться к морю, а брошенный камень к земле. Мой возлюбленный народ, я обогатил твоё наследство, храни его, передавая от поколения к поколению». Я молился, дозорные обходили мою крепость. Я погрузился в раздумье. Царство посылает мне бдительных часовых. В каждом я зажёг тот огонь, который в моём дозорном стал неусыпным бдением. Годится мне только зрячий солдат.CXXXI
Я преображаю для вас мир, как ребёнок преображает свои три камешка, он отводит каждому роль в игре и, значит, наполняет каждый особым смыслом. Не камешки, не правила игры значимы для ребёнка — они всего лишь удобная ловушка, значима увлечённость игрой, своим желанием играть он преображает камни. Но что тебе до утвари, скарба, дома, до твоих домашних, до музыки, которую слышишь, зрелищ, какие видишь, если они не кирпичики незримого дворца, который преобразил их в единство? Те, у кого нет царства, что наделяет материальный мир смыслом, сердятся на вещи. «Может ли быть, чтобы, разбогатев, я не стал богаче?!» — негодуют они и подсчитывают, сколько ещё нужно накопить, потому что богатства явно недостаёт. И они собирают ещё и ещё, жизнь их загромождается всё больше и больше, а они становятся всё жёстче и жёстче от своей неизбывной неудовлетворённости. Они не знают, что нужно им иное, не знают, потому что ни разу не встречались с этим иным. Они видели счастье влюблённого, он читал письмо от любимой. Они заглянули ему через плечо и догадались — радость его от чёрных букв на белой бумаге, — и повелели слугам на сотни ладов писать чёрные буквы. А по том высекли слуг за то, что те не сумели изготовить талисман, наделяющий счастьем. Нет у них того, что связало дробность воедино, сделало бы одну вещь значимой благодаря другой. Они живут в пустыне, и вокруг них — рассыпанные камни. Но прихожу я и строю из камней храм. Теперь камни одаряют их благостью.CXXXII
Я постарался, чтобы они стали чувствительны к смерти. И не жалею. Они острее чувствуют жизнь. Вот я наделил правами твоего старшего брата и, конечно, дал тебе основания его ненавидеть, но ведь и любить тоже, и оплакивать после смерти. Несмотря на то что я, дав ему права, утеснил тебя. Умер старший брат, он был главным, отвечал за семью, руководил ею, укреплял. Если умрёшь ты, он будет оплакивать свою овцу, которой помогал, любил любить, наставлял при свете вечерней лампы. Но если я вас сделаю равными, смерть одного из вас ничего не изменит для другого. О чём вам горевать? Я видел это бесчувствие, наблюдая своих воинов в бою. Твой соратник упал, но ничего не изменилось, на его место тут же встал другой. Свою сдержанность по отношению к убитым ты называешь солдатским мужеством, видишь в ней согласие с необходимыми жертвами, сухие глаза для тебя — знак благородства и достоинства. Я, наверно, обижу тебя, но всё же скажу: «Ты не плачешь, потому что тебе не из-за чего плакать». Ты ещё не знаешь, что твой товарищ умер. Он умрёт позже, когда наступит мир. А пока всегда есть другой с тобой, рядом, другой справа и другой слева, и вы вместе стреляете. У тебя нет времени, человек тебе не нужен, не нужно и то, чем этот человек, один-единственный, способен одарить. Только старший брат оберегает и покровительствует. Но в строю то, что может один, может и другой. Шарики в мешке не горюют о потере шарика — мешок полон, и все они одинаковы. Об умершем ты говоришь: «У меня нет времени, он умрёт позже». Но он уже не умрёт, потому что война кончится и разъедутся все живые. Ваш отряд распадётся. Живые смешаются с мёртвыми. Отсутствующие станут всё равно что мёртвые, а мёртвые всё равно что отсутствующие. Но если вы — дерево, то каждый зависит от всех и все зависят от каждого. Вы заплачете, когда одного из вас не будет. Если вы составляете собой какую-то фигуру, то между вами существует иерархия и связь. И видна необходимость одного в другом. Если нет иерархии, нет и братьев. Я слышал, говорят «мой брат», когда ощущают свою зависимость. Я не хочу в вас безразличия к смерти. Если вы перестанете бояться крови или ударов, ваше безразличие благородно, но смерть переживается тем легче, чем меньше значимого уходит вместе сней. Чем меньше радовал ваше сердце брат, тем меньше вы будете плакать о нём на похоронах. Я хочу вас сделать богаче, я хочу, чтобы брат вам стал дороже. Хочу, чтобы ваша любовь, если вы полюбили, открыла вам царство, а не была пеной забродившего в бурдюке вина. Бурдюки не плачут. И если умрёт любимая, вы очнётесь на чужбине, в изгнании. Но если вы когда-нибудь услышите, будто кто-то отнёсся к смерти любимой по-человечески, знайте, он отнёсся к ней по-скотски... И умри он, его возлюбленная отнесётся к его смерти точно так же, сказав: «Смерть на войне — достойная для мужчины смерть». Но я хочу, чтобы вы воевали. Кого и любить, как не воина? Я не хочу, чтобы, потворствуя малодушию, вы делали из сокровища побрякушку, чтобы меньше жалеть о нём. Кто умрёт тогда? Бесчувственный автомат? Где жертва тогда? Где царство? Я требую, чтобы мне отдавали лучшее. Иначе вам не обрести благородства. Я поощряю вас не в пренебрежении жизнью, нет — в любви к ней. Поощряю в любви к смерти, если она — дарение себя царству. Здесь нет противоречия. Любя Господа, ты крепче любишь царство. Любя царство, крепче любишь родную землю. Любя родную землю, крепче любишь жену и детей. Любя жену, любишь ничтожный серебряный поднос, потому что вы привыкли пить чай вдвоём после того, как любили друг друга.Да, я хочу сделать смерть для вас невыносимой. И я же хочу утешить вас. Я сложил эту молитву для плачущих. Молитву против боли смерти.
CXXXIII
— Стихотворение я написал. Осталось его поправить. Мой отец возмутился: — Ты написал стихотворение и теперь собираешься его поправлять? Но что значит писать стихотворение, как не поправлять его? Что значит лепить статую, как не поправлять её? Ты видел, как работают с глиной? От поправки к поправке всё явственней выявляется лицо, и первая вмятина на коме глины — уже поправка. Закладывая город, я поправляю пустыню. Перестраивая, поправляю город. Поправки и есть мои шаги к Господу.CXXXIV
Ты открываешь себя, связывая в целое дробность. Ударяешь в колокол, заставляя отозваться других. Неважно, что послужило тебе колоколом. Любое творение — только возможность уловить, хотя по обличью ни одно из них не сходно с ловушкой. Я уже говорил тебе: всё ищет быть связанным, всё взаимопроникает друг в друга. Танец, музыка длятся, ты даёшь мне время вникнуть в смысл твоего послания. Повторяешь, медлишь, поднимаешься, опускаешься, и, наконец, я улавливаю эхо — отзвук твоей сущности. Но вот передо мной статуя, готовая целостность, мне нужен ключ, чтобы заглянуть в тебя. Если бы не нос, рот, уши, мне бы не понять, что ты подчеркнул, а без чего обошёлся, чему придал вес, а что облегчил, что возвысил, а что принизил, что опустошил, а что наполнил. Если бы не заранее сложенное представление о лице, я бы не понял твоего послания, не уловил эха твоего голоса. Но у меня есть ключ, я знаю, какое лицо совершенно, а какое заурядно. Но, показав мне совершенно заурядное лицо, ты ничего не сообщил мне, оно только код, точка отсчёта, классическая модель. Пойми, не потрясений я жду — сообщения о тебе. Посылая мне безликий образчик, ты умолчал о себе. Так измени его, сомни, но постарайся, чтобы я всё-таки догадался, от чего ты ушёл. Нос посреди лба не смутит меня. Другое дело, что я упрекну тебя в неискусности, в грубой прямолинейности: начинающий музыкант трубит во всю мочь, лишь бы его услышали; поэт доводит свой стиль до гротеска, лишь бы заметили, что у него есть стиль. Храм построен? Убери леса. Зачем мне знать, как ты его строил. В совершенном творении не заметны швы и стыки. Не нос главное, и не стоит привлекать к нему всё моё внимание, поместив его на лбу. Не стоит выбирать самое яркое слово, оно заслонит образ. И образ не должен быть чересчур броским, иначе он нарушит стиль. Я жду от тебя того, что ничуть не похоже на материал, из которого ты ладишь ловушку. Ожидаемое сродни молитвенной тишине в храме, сложенном из камней. Ты твердишь, что презираешь материал, что доискиваешься до сути, и, обуреваемый похвальным стремлением донести до меня своё труднодоступное послание, громоздишь такую необычайную мышеловку, что я, подавленный её величиной, пестротой и причудливостью, уже не различаю маленькой мышки, ради которой ты её громоздил. Пойми, если я признал, что ты красноречив, остроумен, что сыплешь парадоксами, — значит, я не получил от тебя письма, ты просто выступил жонглёром на ярмарке. Ты потратил силы впустую, выставил себя, превратив в товар, но я не покупатель. Не важнее ли завоевать мою душу? А пока — я посмотрел, как ты размахиваешь цветными тряпками, пугая воробьёв, и пошёл дальше искать себе пристанища. Вожатый покажет мне путь, но пройду его я сам, он оставит меня в одиночестве, уверив, будто я сам открыл Вселенную. Я шёл за ним, но нашёл своё. Однако не думай, что сделаешься ненавязчивым вожатым, протянув мне гладкий шар с едва намеченными носом, губами, подбородком, — если ты так презираешь средства, которыми пользуешься, не навязывай мне тогда и мрамора, глины, бронзы, они ещё материальнее, чем форма губ. Не навязчив тот, кто не навязывается мне со своим видением, а помогает увидеть мир таким, каким увидел сам. Ты обошёлся без носа, я сразу увидел это, потому что видел за свою жизнь много лиц, но зачем мне знать о твоей нелюбви к носам? И если свою статую ты поставишь в тёмный угол, я тоже не сочту тебя ненавязчивым.Единственная и впрямь невидимая картина, от которой нечего взять, — стёртый образ.
А вы огрубели, вам кажется, что надо орать во всю глотку, чтобы вас расслышали.
Не рисуй мне пёстрого ковра, он одномерен, красноречив для глаз, нем для души и сердца.
CXXXV
Твой блаженный остров — мираж, я хочу, чтобы ты это понял. Тебе кажется, что на воле, среди рощ, лугов и пёстрых стад, на просторе, возвышающем душу одиночеством, в горении безграничной любви ты устремишься вверх, будто дерево. Знай, самые стройные деревья, которые я встречал, выросли вовсе не на вольном просторе. Свободные не торопятся расти, они медлят, ощупывая пространство, и вырастают причудливыми и узловатыми. Растущие в девственном лесу, окружённые соперниками, крадущими у них свет, рвутся к солнцу вертикалью, похожей на крик о помощи. Остров не усилит в тебе чувства освобождённости, не поощрит рвения, усердия и страсти. Если ты жаждешь уединиться в пустыне — я не имею в виду мечту об отдыхе, что баюкает тебя в городской суете и спешке, — пустоту пустыни нужно оживить, чтобы она питала душу и сердце, чтобы питала усердие и рвение, — твою пустыню нужно пронизать силовыми линиями. Их может напрячь природа, может — царство. В твоей пустыне я размещу колодцы, но скупо, очень скупо, чтобы путь к каждому из них стал ощутим. Чтобы на седьмой день ты начинал беречь в бурдюках воду. Чтобы мечтал добраться до колодца. Чтобы добирался и ощущал себя победителем. Хотя, может быть, дорогой терял одного или двух верблюдов — слишком долог путь по бесплодной пустыне. Однако принесённые жертвы делают колодец ещё драгоценней. Караваны, что не сумели до него добраться и погибли в пути, осеняют его особой славой. Белеют кости на твоём пути, и вдали светится колодец. Ты готовишь караван в дорогу, проверяешь вьюки с товарами, подтягиваешь верёвки, укрепляешь кладь, смотришь, сколько запасено воды, ты обращён к лучшему в самом себе. И вот ты отправился в дальнее селенье, твоё желание попасть в него сделало воду в колодцах благословенной драгоценностью. Колодцы посреди раскалённых песков, которые ты преодолеваешь, — ступени лестницы; пески — твой враг, ты его побеждаешь, ибо танец начат и ты должен станцевать его до конца. Потому что тебя подчинил себе уклад пустыни. Потому что я ращу не только мускулы, но и душу.Но вот я захотел, чтобы ты стал ещё богаче, чтобы колодцы, будто магниты, притягивали и отталкивали, а пустыня лепила тебя, словно руки скульптора, придавая форму душе и сердцу, и я населил её врагами. Я отдал врагу все колодцы, и для того, чтобы напиться, тебе понадобится хитроумие, мужество и умение побеждать. Ты будешь идти по чужой земле, завися от племени, которое живёт на ней, жестокого или не очень, сходного с тобой в обычаях или чуждого тебе, и шаги твои будут то громче, то тише, то осторожнее, то беззаботнее, а пройденный путь каждый день будет иным и особым, хотя всё та же пустыня тянется перед твоими глазами. Всё вокруг намагнитится, напряжётся, однообразная бескрайняя желтизна окажется многоцветней благодатных краёв с голубыми горами, зелёными долинами, пресными озёрами и травой на лугах. По своей пустыне ты идёшь, как приговорённый к смерти, а потом как отпущенный на свободу, то приготовившись к любой неожиданности, то избавленный от всех неожиданностей, то как преследователь, а то с болезненной осторожностью, будто в спальне любимой, сон которой боишься нарушить. И хотя твои странствия чаще всего будут мирны и благополучны, окружающее потеряет для тебя свою монотонность, неукоснительно будешь следовать ты распорядку, к которому принудила тебя пустыня, а танец твой будет щедр на выдумку, богат и разнообразен. И вот что ещё примечательно: если я отправлю с твоим караваном путешественника, который не знает твоего языка, твоих опасений, надежд и радостей, который увидит только, как похлопывают верблюдов твои погонщики во время нескончаемого пути по однообразным бесплодным пескам, он почувствует лишь томительность нескончаемого пути и будет зевать всю дорогу и ничего не откроет для себя в моей пустыне. Он увидит не колодец, а дырку в песке, которую нужно бы расширить. Враги? Откуда ему догадаться о врагах? Враг невидим, он подобен пригоршне семян в руке ветра, для знающего эта малость преобразила всю округу, как щепотка соли воскресную похлёбку.
Если я сумею подчинить тебя правилам моей пустыни, власть её над тобой будет так велика, что какой бы ты ни был в городе себялюбец, пошляк или циник, какой бы ни был бездельник и лентяй в оазисе, достаточно будет одного-единственного странствия, и в тебе расцветут душа и сердце. Ты вернёшься ко мне, сбросив старую кожу, и захочешь жить жизнью сильных. Если я сумею приобщить тебя к языку пустыни — не пустыня главное, главное — напрягающий уклад жизни, — то пустыня, будто солнце, заставит тебя выпустить росток и расти. Ты пройдёшь через неё, словно через сказочные кипящие котлы, и когда выйдешь на другом берегу, то радостно рассмеёшься, ощутив свои силу и мужество; женщины сразу признают в тебе того, кого ищут, и твоего пренебрежения будет достаточно, чтобы приручить их.
Разве что сумасшедший понадеется осчастливить людей, исполнив их желания: он увидел — они в пути, он поверил — цель для них главное. Будто есть у людей какая-то цель. Ещё и ещё повторяю тебе: всего важнее для человека — туго натянутые силовые линии, они держат его в напряжении, рождают рвение, усердие, одухотворённость, важны эхо, отзывающееся на каждый шаг, нужда в колодцах и трудность горнего подъёма. Тот, кто вскарабкается на вершину, ободрав колени и локти, не сравнит свою радость с умеренным удовлетворением оседлого, который в воскресный день втащил свои одряблые телеса на пригорок и разложил их на травке. Всё размагнитится, стоит тебе уничтожить Божественный узел, связующий всё воедино. Видя, что человек силится дойти до колодца, ты решил, что главное — колодцы, и накопал их великое множество. Видя, как дожидаются люди воскресного отдыха, ты сделал воскресеньем каждый второй день. Видя, как люди жаждут бриллиантов, ты раздал каждому по блестящему камешку. Видя, что люди боятся врагов, ты изничтожил врагов. Видя, что люди хотят любви, ты построил весёлый квартал величиной с добрый город, где все до единой женщины продаются. И вот тут стало ясно, что ты круглый дурак. Ты похож на моего игрока в кегли: он думал, что чем больше кеглей собьют его рабы, тем ему будет веселее. Но не подумай, что главное для меня — неудовлетворённые желания. Конечно, желать необходимо, без этого не напрягаются силовые линии. И колодец, даже если он рядом, нужен тебе тогда, когда тебе захотелось пить. Но если колодец недоступен и ты никогда не ходишь к нему по воду, то его словно бы и нет для тебя. Как нет случайной прохожей на улице, она для тебя невидимка. Она идёт с тобой рядом по тротуару, но дальше от тебя, чем та, что живёт в другом городе, потому что вышла туда замуж. Но вмиг всё изменится, если я расположу связующие нити так, что ты сможешь мечтать, как ближайшей ночью придёшь с лестницей к окну незнакомки, похитишь её и помчишь, перекинув через седло, в свой охотничий домик. Или сделаю тебя — солдатом, а её — королевой, и ты сможешь мечтать, что погибнешь ради неё в сражении. Нет проку в искусственных нитках, что связывают всё вокруг понарошку. Но если ты в самом деле жаждешь бриллианта, то почему бы тебе не приближаться к нему не спеша, год за годом замедляя шаги, чтобы воодушевление страсти озаряло тебя до конца твоих дней? У тебя самого сил на это не хватит, рано или поздно иссякнет твоё рвение, о нём должен позаботиться я. Неторопливость должна диктоваться укладом жизни, он свяжет тебя и запретит торопиться, а ты изо всех сил будешь ему противиться. Ты спешишь, я препятствую твоей торопливости. Я не запрещаю тебе иметь бриллиант — недоступный, он потеряет для тебя всякую цену: посмотрел и прошёл мимо. Я не дарю его тебе, мне нужны твои усилия, но всамделишные усилия; искусственные препоны — жалкая пародия на жизнь. Обогатишься ты, только преодолев мощное силовое поле. Дать тебе сильного врага — вот моя главная забота. Только так я помогу тебе. И нечему удивляться: силовое поле всегда создаётся двумя полюсами. Ты обогащаешься, копая колодец, ожидая отдыха, добывая алмаз, завоёвывая любовь. Ты нищаешь, если у тебя уже есть колодец, досуг, бриллианты, возможность любить, когда хочешь. Или если ты мечтаешь об этом, не пошевелив и пальцем, чтобы добиться. Но не думай, что желание иметь и обладание — антиподы, их противопоставили друг другу слова. В жизни есть ещё ты сам — человек, ты снимаешь все противоречия. Если жажда заполучить в тебе и впрямь смертельна и мешают тебе не досужие выдумки, а сама жизнь, если она твоя соперница и напарница в танце, — ох, как ты запляшешь! Но если ты взращиваешь в себе хотение, запрещая себе брать с полки пирожок, то скажу тебе прямо: ты маешься дурью. Много ли проку от игры с самим собой в орла или решку? Если в моей пустыне слишком много колодцев, пусть Господь наведёт порядок, уничтожив лишние. Силовые линии должны тяготеть над тобой, напрягать, направлять, толкать вверх и вперёд, всякий раз они будут явлены тебе как некие обстоятельства, отнюдь не всегда благоприятные, но не оценивай! Их языка ты ещё не постиг. А я, пытаясь объяснить тебе суть этого языка, рассказал тебе о пустыне, о пути от колодца к колодцу. Так не уповай на чудесный остров, похожий на запасённое впрок благо, блага в нём не больше, чем в обильной жатве деревянных кеглей. Ты на нём превратишься в сонного вола. Сейчас сокровища твоего острова кажутся тебе нетленными, но как скоро ты перестанешь их замечать! И чтобы сделать их опять сокровищами, мне придётся придумать для тебя пустыню, натянуть силовые линии, сотворить картину, драгоценную своей цельностью и чуждую вещественности. Если я захочу сберечь для тебя твой остров, я подарю тебе уклад жизни, в которой он будет главным сокровищем.
CXXXVI
Если ты хочешь рассказать мне о беспомощном, бледном солнце, скажи: «октябрьское солнце». Солнце в октябре, холодея, делится с нами угасанием старости. Но солнце ноября, декабря ещё ближе к смерти, и ты начинаешь толковать мне о нём. Я отвернулся — ты мне больше не интересен. Ибо теперь ты делишься не предчувствием смерти, а своим удовольствием предчувствовать смерть. Если слово гордо вздыбит голову посреди фразы, отруби ему голову. Для чего показывать мне слова? Фраза — ловушка, она должна что-то уловить. Зачем же привлекать моё внимание к ловушке? Ты ошибаешься, если думаешь, что передаваемое тобой возможно уместить в слове. Будь это так, ты сказал бы: «печаль», — и я бы опечалился. Но не слишком ли это просто? Конечно, мы пользуемся своеобразной мимикрией и подделываемся под услышанные слова. Я сказал: «разыгрался шторм», — и ты ощутил лёгкое покачивание. Я сказал: «воину грозит смерть», — и ты слегка обеспокоился судьбой моего солдата. Такая у нас привычка. Мы это делаем не всерьёз. Единственное, что можно сделать всерьёз, — это привести тебя туда, откуда ты увидишь, каким мне представляется мир. Стихи, поэтические образы — вот моя возможность воздействовать на тебя. Я не объясняю тебе то или это и не внушаю это или то, как полагают, говоря о трудноуловимых образах, потому что важно не то и не это, — важно, чтобы ты стал вот этим, а не другим. В статуе при помощи рта, носа и подбородка я создаю некий лад, заманивая тебя в сети; заманиваю и поэтическими образами, ясными и неясными, желая тебя изменить. Если в моём стихотворении мерцает лунный свет, не подумай, что я назначаю тебе свидание только при луне. Нет, и при солнце, и дома, и любящим. Я хочу встречи с тобой. Лунный свет я выбрал как условный знак, желая, чтобы ты меня заметил. Воспользоваться сразу всеми знаками я не могу. Зато может случиться чудо: моё творение может разрастись, измениться, оно может стать подобием дерева, хотя поначалу было очень простым, — было семечком и ничем не напоминало кедр, — но из семечка возникли корни и ветви, когда оно распространилось во времени. И в человеке может что-то распространиться. Я могу дать человеку что-то очень простое, что уместится в одной фразе, но мало-помалу наберу в нём силу, пущу ветви, корни и изменю его изнутри, и он станет другим и при луне, и любя, и дома. Вот почему я говорю тебе, что картина, если она воистину картина, — это путь просветления и облагораживания, путь возделывания души, на который я тебя вывел... Но ты не сумеешь сказать, чем эта картина в тебе распорядилась. Может случиться, однако, что сеть моих силовых линий окажется для тебя слабой. Воздействие её иссякнет вместе с концом страницы. Бывают семена с ослабленной всхожестью, бывают люди без творческого порыва. И всё же ты мог бы постараться и прорастить это семечко, чтобы построить мир...Когда я говорю: «солдат королевы», то, думаю, всем понятно, что речь не идёт об армии или власти, но о любви. Особой любви, что ничего для себя не ищет, стремясь приникнуть к неизмеримо большему, чем ты сам. Любви, которая облагораживает и возвышает. Солдат королевы сильнее, чем просто солдат. Посмотри, как чтит он своё достоинство, чтя свою королеву. Он никогда не предаст, хранимый любовью к королеве, царящей у него в сердце. Ты видишь, каким гордецом он вернулся к себе в деревню, но смутился и покраснел, когда его спросили о королеве. Ты знаешь, его позовут воевать, он оставит жену и дом, но воюет он совсем не так, как солдаты короля, — те кипят ненавистью и готовы вколотить своего короля врагу в кишки. Солдат королевы любит, даже сражаясь, и учит любить других. И вот ещё что... Но, продолжи я говорить, я пойму, что метафора исчерпала себя, в общем, довольно слабая метафора. Я не смогу тебе сказать, что отличает солдата короля от солдата королевы, когда они сидят за столом и едят свой хлеб. Образ, картина, — зажжённая лампа светит во Вселенной, но освещает ничтожную её часть. Однако всё, что стало для тебя очевидностью, обретает силу семени, из которого ты можешь взрастить свой мир. И я повторяю: если ты заронил семя, тебе нет надобности в толкованиях, теориях, догмах, поисках путей и средств воплощения. Семя укоренится в земле людей, и у тебя появится тысяча тысяч последователей и помощников. Если ты убедишь человека, что он — солдат королевы, твоё царство обогатится вожделенным благородством. И со временем все забудут о прекрасной королеве.
CXXXVII
Не забывай: слово — уже воздействие. И если ты хочешь понудить меня к действию, ничего мне не доказывай. Неужели ты веришь, что сдвинешь меня с места доводами? Я найду повесомее и двину их против тебя. Случалось ли тебе снова влюбиться в женщину после того, как на суде она доказала, что была кругом права? Тяжбы озлобляют. Не вернёт она тебя, и постаравшись стать прежней, той, которую ты полюбил, от этой прежней ты и ушёл. Я наблюдал, как бедняжка, что вышла замуж, растрогав сердце жалобной песней, накануне развода запела её. Муж разъярился. Но если разбудить в нём того, кто когда-то её полюбил, он, возможно, к ней и вернётся. Но это уже творчество, нужно что-то заронить в человеческую душу, как я заронил страсть к морю и дождался строителей корабля. Из семени растёт и ветвится дерево. Может, муж и попросит снова спеть ему грустную песенку. Ты полюбишь меня, если я проращу в тебе то, что ко мне потянется. Но не жалобами на страдания — они скоро опротивеют тебе. Не упрёками — они озлобят тебя. Не доводами, почему ты должна меня любить, — нет на свете таких причин и доводов. Основание для любви — любовь. Я не стану стараться быть таким, каким ты когда-то меня полюбила. Такого меня ты не любишь больше. Иначе была бы по-прежнему со мной. Я постараюсь разбудить в тебе что-то моё. И если во мне есть сила, ты увидишь вместе со мной ту картину, которая сделает тебя моим другом. Позабытая мной будто ранила стрелой моё сердце, спросив: «Слышите позабытый вами колокольчик?»Что же, в конце концов, я хочу тебе сказать? Часто поднимаюсь я на свою вершину и смотрю на город. Или брожу по нему в безмолвии моей любви, прислушиваясь к словам. Одни слова вызывают, не медля, действие, к примеру, отец приказал сыну: «Пойди принеси кувшин воды...»; или капрал солдату: «В полночь сменишь караульного...» Слова эти казались мне всегда плоскими. Чужеземец, не зная нашего языка, видя, как верно слово служит насущному, мог бы решить, будто живём мы жизнью муравьёв, отлаженной и одномерной. А я, глядя на повозки, дома, мастерские, рынки, больницы моего города, не находил ничего отличного в нём от жизни стада, только животные моего стада были более деятельными, изобретательными, понятливыми. И для меня стало очевидным: обыденная жизнь не требует присутствия человека.
Однако, не зная языка, исходя лишь из порядков муравейника, невозможно было объяснить поведение горожан, что, усевшись в кружок на рыночной площади, самозабвенно слушали старика сказителя, и если он был талантлив, в его власти было поднять их и повести за собой поджигать город. Мне случалось видеть, как преображалась мирная толпа, внимая хриплым пророчествам и, послушная им, пламенея, кидалась в пекло битвы. Ветер слов приносил что-то необычайное, раз толпа отказывалась от муравьиной жизни и превращалась в обречённый смерти гибельный пожар. Те, кто уцелел после него, вернулись домой преображёнными. Мне показалось, что не стоит ходить к колдунам за магическими заклинаниями, до меня и без них долетали магические слова и уводили от дома, работы, привычного уклада жизни, заставляя жаждать гибели.
Потому я и прислушиваюсь так пристально, отделяя пустые слова от действенных, определяя, что же они несут. Я не о содержании, оно не имеет значения, а если б имело, каждый был бы великим поэтом. Каждый увлекал бы за собой, воскликнув: «Вперёд! На приступ! Запах пороха...» Попробуй позови их, они в ответ рассмеются. Как смеются над теми, кто ратует за доброту. Но я слышал слова, которые доходили до сердца и изменяли людей. Я просил Господа просветить меня и научить различать в ветре слов редкостные крупинки семян.
CXXXVIII
Я задумался, что же такое счастье, и, мне показалось, что-то понял. Оно представилось мне благодатным плодом жизненного уклада, который вытруживает в тебе день за днём душу, способную чувствовать себя счастливой, а вовсе не получением задаром множества бестолковых вещей. Бессмысленно снабжать людей счастьем как заготовленным впрок припасом. Много разного давал мой отец беженцам-берберам, но счастья не дал, тогда как в скудной, полной лишений пустыне я видел людей, лучащихся счастьем. Не сочти, будто я хоть на миг подумал, что осчастливлю тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С ещё большим основанием ты впадёшь в безнадёжное отчаяние. Просто я выбрал самый наглядный пример, желая показать, что счастье не зависит от того, сколько у тебя добра, что зависит оно скорее от добротности жизненного уклада. И если я убедился на опыте, что счастливых людей куда больше в монастырях и пустынях, где люди жертвуют собой, и куда меньше в изобильных оазисах и на благодатных островах, то это вовсе не значит, что я сделал дурацкий вывод, будто сытная пища во вред счастью. Нет, я понял другое: среди изобилия разного людям легче обознаться. Легче всерьёз поверить, что их счастье зависит от количества вещей, которыми они обладают. Не понять, что любая вещь драгоценна только тем смыслом, которым наделило её царство любви, отчий дом, родной край. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья: люди винят в своих бедах избытки, свою деятельность называют суетой и именно от этого хотят избавиться. У пустынника и монаха ничего нет, источник их счастья очевиден, и они усердно и ревностно служат ему. Жизнь аскета сродни вечной борьбе с врагом, ты можешь возвыситься, можешь погибнуть. Но если ты поймёшь, в чём истинное счастье, и сумеешь быть ревностным и усердным на изобильном острове или в оазисе, человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня; у многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. Сандал и эбен, шёлк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородства благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла. Позолоте на складе грош цена, она обретает цену, если ею позолотят дом, обратив его в дворец.CXXXIX
Снова пришёл ко мне пророк, день и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева, тот самый пророк, что вдобавок ещё и косил. — Заставь их приносить жертвы, — сказал он. — Заставлю, — согласился я. — Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного, зато как обогатит их ощущение могущества. Богатство невесомо, если не отвести ему места в общей для всех картине. Но он не слышал меня, клокоча от ярости. — Принудь к покаянию, — продолжал он. — Обязательно, — согласился я, — пост поможет им сохранить вкус к пище, они лучше поймут голодающих не по своей воле, и, возможно, постясь, одни станут совершеннее и ближе к Господу, а другие не разжиреют. Ярость по-прежнему клокотала в нём. — Но полезнее всего их всех обречь на мучения... Я понял: если выдать человеку жёсткую подстилку, лишить хлеба, света, свободы, мой пророк станет к людям терпимее. — ...Потому что нужно в них уничтожить зло, — сказал он. — Ты рискуешь просто их уничтожить, — отвечал я ему. — Может, лучше не уничтожать зла, а растить добро? Создавать празднества, которые облагораживали бы? Одевать получше, чтобы не носили лохмотьев? Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резями в животе? Дело совсем не в том, чтобы урезать необходимое человеку, дело в том, чтобы сохранить силовые линии, они одни поддерживают в человеке человеческое, — сберечь картину, она одна значима для его души. Кто способен построить лодку, пусть правит лодкой, я отправлю его рыбачить. Кто способен построить корабль, пусть строит, я отправлю его завоёвывать мир. — Я вижу, ты хочешь сгубить их изобилием! — Я пекусь не о запасе впрок, не хочу жить, потребляя готовое, — ответил я. — Ты ничего не понял.CXL
Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы ни было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто воодушевляет людей. Жандармы заняты не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов: заставляют платить налоги, не воровать у ближнего, соблюдать законы и правила. Но душа твоего царства — это его внутренний уклад, он лепит такого вот человека, а не иного, он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человека. Что смыслят жандармы в одухотворённости? Жандармы — стены, жандармы — опорные столбы. Они безжалостны, но не ставь им безжалостность в вину, столь же безжалостна ночная тьма, лишившая нас солнца, необходимость иметь корабль, чтобы переплыть море, выходить через дверь справа, раз нет двери слева. Так оно есть, и ничего больше. Но если ты расширишь полномочия жандармов и поручишь им судить, каковы люди, изничтожая то, что они сочтут по собственному разумению злом, то получится вот что: поскольку нет в мире ничего одномерного, поскольку мысль человеческая текуча и не вмещается в слова, поскольку слова противоречат друг другу, а жизнь не знает противоречий, в твоём царстве останутся на свободе и будут распоряжаться одни пустозвоны и негодяи — те, кого не отвратила от соучастия твоя безобразная пародия на жизнь. В твоём царстве порядок будет предшествовать усердию дерева, а дерево должно будет вырастать не из семечка, а из разработок логиков. Упорядоченность — следствие жизнедеятельности, а никак не её причина. Порядок — свидетельство силы города, но никак не источник этой силы. Жизнь, страсть и усердие создают порядок. Но порядок не создаёт ни жизни, ни усердия, ни страсти. В твоём царстве возвеличатся те, кто из низости согласился жить в послушании у пискливой разноголосицы идей, которую жандармы возвели в закон и объявили руководством для жизни, кто принёс в жертву свою душу и сердце пустому громыханию слов. Как бы ни был высок твой идеал человека, как бы ни была благородна цель, знай — все станут низкими и тупыми в руках жандармов. Не облагораживание, дело жандарма — запрет, и жандарм запрещает, не стараясь понять почему. Свободный человек, направляемый силовыми линиями безусловных принуждений, этими незримыми жандармами, — вот справедливость моего царства. Поэтому я созвал жандармов и сказал: — В вашем ведении только те поступки, которые поименованы в уложении. Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной, в вашей стене нет ворот, и порой она в помощь грабителям: ограбленная женщина зовёт на помощь за стенами города. Но стена есть стена, и закон есть закон. Однако я запрещаю вам судить и осуждать людей. В безмолвии моей любви я понял: если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло. Искореняя зло, я и добро могу бросить в топку. Так как же понять жандарму, что хорошо и что плохо, если я сделал его слепой стеной? Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро, оно видно при вспышке огня. Но я спасаю целое и во имя его жертвую частью. Казню преступника и подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути.CXLI
Я начну свою речь так: — Человек! Тебе мешают осуществить свои желания, ты тяготишься своей силой, тебе не дают выпрямиться и расти! И ты согласишься со мной, потому что и впрямь не удовлетворён в своих желаниях, тяготишься нерастраченными силами и тебе мешают выпрямиться и расти. И ты пойдёшь за мной сражаться против государя за общее равенство. Или я скажу по-другому: — Человек! Ты нуждаешься в любви, а она рождается вместе с деревом, которым вы станете, став единым целым. И ты согласишься со мной, потому что и впрямь нуждаешься в любви, а она возникает вместе с общим делом, которому служишь и ты. И ты пойдёшь за мной сражаться за то, чтобы вернуть государю трон. Теперь ты видишь: я могу сказать тебе всё, что угодно, потому что всё — правда. Но если ты спросишь меня, как узнать заранее, какая из правд будет живительней и плодотворней, я отвечу: та, что может стать ключом свода, общим для всех языком и разрешением твоих противоречий. Мне не важно, красивы мои слова или нет. Важно, чтобы они помогли тебе обрести позицию. И если, приняв мою точку зрения, ты увидишь, что непримиримые для тебя противоречия исчезли и ты можешь смотреть на вещи по-новому, то что за беда, если здесь я выразился неуклюже, а там ошибся? Ты прозрел, только этого мне и хотелось, я принёс тебе не цепочку рассуждений — привёл на вершину горы, откуда тебе открылись новые просторы и ты можешь по-иному рассуждать. Да, существует множество языков, объясняющих тебе устройство мира и тебя самого. Языки эти враждуют друг с другом, и пусть. Связные языки, основательные. Равноправные. Ты не осилишь противника доводами, у него правоты не меньше, чем у тебя. И враждуете вы во имя Господа. — Человек производит и потребляет... Правда, производит и потребляет... — Человек пишет стихи и читает по звёздам... Правда, пишет стихи и читает по звёздам... — Человек обретает высшее блаженство в Господе... Правда, радости он учится в монастыре... Но нужны слова, которые уместили бы всё высказанное разом, отдельные суждения — повод для взаимной ненависти. Светлое поле сознания слишком узко, и каждый, кто обрёл для себя истину, не сомневается, что всё остальное человечество лжёт или заблуждается. Но правы и правдивы все.Я живу каждый день и убедился: производить и потреблять насущно, но не сущностно, кухня в замке насущна, но существа его она не определяет. Это соотношение важно для меня. Насущное мне не в помощь для главного. Почему бы мне не решить: «Главное для человека — здоровье» — и на этой основе построить своё царство, сделав врача судьёй поступков и мыслей? Но на собственном опыте я убедился: здоровье — средство, оно не цель, и пусть так оно и будет у меня в царстве. Если ты не поглупел окончательно, ты увидишь и так: существуют производство и потребление, незачем их возводить в главный принцип, незачем внедрять особый режим для сохранения всеобщего здоровья. Семечко было единым, но как преобразилось по мере роста; единой была картина мира, но как разнообразна выросшая на её основе культура, и вы будете все разными в соответствии со своим складом и состоянием, но чтобы расти, все вы нуждаетесь в сущностном, внятном для души животворящем семени. Вот что я скажу о человеке: «Человек сбывается лишь благодаря напряжению силового поля, человек понимает других, когда все вы вместе чтите одно божество, человек радуется, тратя себя на любимое дело, он умирает счастливым, если осуществил себя в нём, человек расточает запасы, вдохновляет его целостная картина мира, человек всегда стремится узнать и воодушевляется тем, что узнаёт, человек...» Определяя человека, главное — не исказить, не нарушить воодушевляющей его устремлённости. Если во имя порядка я должен жертвовать духом творчества, мне не нужен такой порядок. Если должен пожертвовать силовым полем в угоду желудку, не стану потворствовать культу желудка. Но не желаю и порчи человека среди хаоса в угоду творческому духу, мне не нужно самосжигающее творчество. Так же как не нужны жертвы ради силового поля. Если нет человека, то для чего оно мне, силовое поле? Я — капитан, я бодрствую над своим городом. В этот вечер я намерен говорить о человеке, наше странствие будет зависеть от устремлённости, которую я создам.
CXLII
Кому, как не мне, знать, что я никогда не достигну той очевидной непререкаемой истины, которая убедит всех моих противников, я и не ищу её— я творю картину, творю образ человека, преисполненного сил, поощряю всё, что мне кажется благородным, подчиняя благородству всё остальное. А значит, мне не интересен человек-производитель, человек-потребитель, я не пожертвую ему в угоду пылкостью любви, сокровищем познаний, сиянием радостей, хотя и постараюсь по мере сил ублажить и желудок, и не вижу в этом ни противоречия, ни лукавства, ведь и радетели собственного брюха всегда твердят, что не чужды духовности. Если в моей картине достаточно силы, она пустится в рост, словно семя, и, набрав в конце концов весу, перетянет колеблющихся на свою сторону. Скажи мне, разве страсть к морю не преображается в корабль? Под рукой у тебя всегда одни и те же составляющие, пренебречь нельзя ни одной, но картин из них можно составить великое множество. Ты упрекнул мою картину в произвольности, упрекнул, что я жертвую людьми своему произволу, заставив их, например, умирать ради никому не нужного оазиса, только потому, что битва — прекрасна. Я отвечу: ничего не опровергают твои доводы, моя картина сосуществует со множеством других, столь же подлинных, и все мы боремся за божества, которым хотим служить и которые превращают дробность в целостность, а составляющие целостность всегда одни и те же. Но если ты будешь рассказывать мне, что видишь ангелов, я не пойму тебя. Что-то от дешёвого балагана видится мне в твоих ангелах. Если Бог так похож на меня, что я могу смотреть на Него, Он не Бог. А если Бог, то восчувствовать Его способен мой дух, но не чувство. Знание моего духа о Боге — трепет сродни трепету перед величавой красотой храма. Я — слепец, ищущий огонь, протянув ладони, моё знание об огне — тихое радование оттого, что вот я искал его и теперь нашёл. (И если я говорю, что я изошёл из Бога, то Бог и приведёт меня к себе.) Посмотри на благоденствие кедра, он благоденствует благодаря солнцу, погружаясь в него и не зная, что же такое солнце.Единственный подлинный геометр, мой друг, говорил: «Нам свойственно уподоблять связующие нити, которые мы отыскиваем на ощупь, какому-то образу, картине, ибо путь нам неведом и неведомо, что за родник утоляет томящую нас жажду. И если я именую Богом неведомое мне солнце, что питает во мне жизнь, то правильность моего понимания картины мира может подтвердить только язык, которым я пользуюсь: если он снимает противоречия, картина моя достоверна». Я стою и смотрю на город, этой ночью я — капитан корабля в открытом море. Ты уверен, что правит человеком выгода, стремление к счастью и рассудок. Я отвергаю выгоду, счастье и рассудок как главных властителей человека. Я понял: выгодой или счастьем ты привык именовать то, к чему человек тяготеет, и именуешь так самые разные вещи, мне нечего делать с медузами, что постоянно меняют форму. А рассудок, который найдёт разумное обоснование для любого желания, кажется мне цепочкой следов на песке, — оставило их неведомое. Разве рассудку понять, разве охватить его? Нет, не рассудком руководствовался мой друг, единственный подлинный геометр. Рассудок толкует, выводит закономерности, упорядочивает, от причины к следствию доводит он дерево — от семечка до того дня, когда оно засыхает, но дальше рассудок бессилен, ибо нужно новое семечко. Но я, стоя над городом, словно капитан корабля в открытом море, знаю: только дух ведёт и управляет человеком, управляет им безраздельно. И если человек ощутил связующие нити и выразил их стихотворением, он заронил в человеческое сердце семя, и семени этому, словно слуги, будут служить выгода, стремление к счастью и рассудок, отражая изменения растущего в тебе дерева тенями на стене реальности. Нет у тебя защиты от духа. Я поставил тебя на вершину этой горы, а не другой, и ты не можешь отрицать, что города и реки расположены так, а не иначе, — они есть, и только. Потому я и говорю, что принуждаю тебя сбыться. Я отвечаю за тот, за настоящий путь, которым движется мой корабль под взглядами звёзд, а город мой спит, и, глядя на дела человеческие, только и увидишь что поиски выгоды, счастья и повеления рассудка.
Путь, что ведёт людей, незрим для них, они убеждены, что действуют из выгоды, ищут себе счастья, слушаются повелений разума, они не знают, что и разум, и счастье, и выгода меняют и облик, и суть, завися от царства. В царстве, которое предлагаю я, главная выгода — увлечённость, ребёнок всему предпочтёт игру, которой увлёкся. Счастье — трата себя на творение своих рук, что будет жить и после твоей смерти. Разум — натягивание связующих нитей путём превращения их в закон. Разум армии — устав, так, а не иначе соотнёс он и соподчинил людей, оказавшихся в его ведении, разум корабля — корабельный устав, разум моего царства — свод его законов, обычаи, уклады, традиции, так, а не иначе согласуют они между собой общие для всех на свете вещи, создавая особое созвучие. А я? Я — камертон, задающий тональность созвучию.
* * *
Ты, верно, спросишь: «Зачем тебе принуждение?» Я обозначил картину и не хочу, чтобы она исчезла. Статую из глины я обжигаю в печи, чтобы прибавить ей твёрдости и долголетия. Моя истина принесёт плоды, укоренившись во времени. Как любить, если менять что ни день привязанности? Каких ждать подвигов во имя любви? Постоянство обеспечивает плодотворность твоим усилиям. Редко когда творят мир заново, если дадут тебе это пережить, то ради твоего спасения, но нет беды хуже, чем переделывать мир заново что ни день. Чтобы появился в тебе человек, мне понадобится не одно поколение. Желая улучшить породу, я не вырываю каждый день росток, сажая новое семечко.CXLIII
Я знаю одно: всё рождается, живёт и умирает. Вот ты собрал коз, овец, дома, горы, и родилась новая целостность, которая преобразит взаимоотношения людей. Какое-то время она будет жить, потом истощится и погибнет, исчерпав свою жизненную силу. Рождение — всегда сотворение неведомого, оплодотворение небесным огнём. Жизнь непредсказуема. Вот перед тобой яйцо. Оно незаметно меняется, следуя внутренней логике яйца, и в один прекрасный миг из него появляется кобра — как переменились твои заботы! Вот строители, вот груда камней. Вот логика, управляющая строительством. Но приходит час, двери открывает храм, и, войдя в него, человек преображается. Как изменились его заботы! Я хочу облагородить жизнь, я заронил в тебя облагораживающее семя, мне нужна длительность длиннее человеческой жизни, чтобы оно проросло, пустило корни, оделось листвой, принесло плоды. Я не собираюсь менять картину каждый день, от изменений ничего не родится. Величайшее из заблуждений — хотеть уместить всё в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что всё идёт своим чередом. Что мои оливки соберёт мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. Вот я смотрю на своих горожан, никто из них не помнит о своём городе. Они знают о себе, что они архитекторы, каменщики, жандармы, священники, ткачи, думают, что заняты выгодами или добиваются счастья, и не знают, что любят, как не думает о любви жена, занятая домашними хлопотами.День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга, любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звёзды, он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, преходящей. Любовь не надумаешь. Она есть. Но слышна любовь, только когда тихо. Любовь к дому и любовь к городу. Любовь к городу и любовь к царству. В душе наступает небывалый покой, и ты видишь свои божества. Занятые дневной суетой, люди не знают, что готовы пойти на смерть. Патетикой дурного тона сочтут они твои славословия городу, но ты можешь поговорить с ними об их успехах, удачах, выгодах. Они не подозревают, что счастьем обязаны городу. Их язык тесен, ему не вместить сущего. Но если ты поднимешься повыше и отступишь во времени на несколько шагов вспять, сквозь людскую суетность, своекорыстие, смуту ты различишь медленное и плавное движение корабля вперёд. И когда, несколько веков спустя, станешь искать следы прошлого, найдёшь стихи, статуи, теоремы и храмы, всё ещё не погребённые под песком. Насущное растаяло, исчезло. И становится понятно: счастьем, успехом, выгодой люди считали жалкую тень подлинного величия. Только так и движется человек, поверь мне. Вот моё войско встало лагерем. Завтра утром я пошлю его в жаркое пекло пустыни драться с врагом. Враг — горнило для моего войска, испытывая, оно расплавит его, потечёт кровь, и под знойным солнцем сабельный удар положит предел сотне отдельных удач и счастий. Но в сердцах моих воинов нет возмущения, они идут на гибель не ради человека — ради человеческого. И хотя я знаю, завтра многие примут смерть, я в безмолвии моей любви, бродя среди костров и шатров, не услышу благостных речей о смерти. Здесь подшучивают над твоим кривым носом. Там ругаются из-за куска мяса. А тут, сбившись потеснее в кучку, кроют предводителя твоей армии так, что тебе невольно становится обидно... И если сказать кому-то из них, что в нём бродит хмель жертвенности, он рассмеётся тебе в лицо, сочтя тебя глупцом и пустозвоном, который ни черта не смыслит в его драгоценной персоне. Что он, дурак? Да не собирается он умирать за своего капрала, который, прямо скажем, болван болваном и ничем не заслужил такого подарка! Но завтра он умрёт за своего капрала. Нет, ни в одном из них ты не увидишь величия, что бросает вызов смерти и жертвует собой ради любви. И если доверишься ветру слов, то, медленно возвращаясь к своему шатру, ощутишь на губах горечь поражения. Солдаты твои насмешничают, ругательски ругают войну и кроют начальство... Всё так, ты опять смотрел на матросов, что драят палубу и натягивают паруса, на кузнецов и гвозди, но, не видя дальше собственного носа, не заметил величаво плывущего корабля.CXLIV
Между тем вечером я осмотрел мои тюрьмы. И ещё раз убедился: жандармы не умеют отличать виноватых от безвинных, они отправляют в застенок тех, кто верен себе, кто не умеет кривить душой, кто не в силах отречься от очевидной для него истины. На свободе они оставили всех, кто отрекался, кривил душой и врал. Так запомни мои слова: «Как бы ни были благородны твои жандармы и ты сам, если ты сделаешь жандармов судьями, выживут одни подлецы. Любая правда, человеческая, а не тупицы-логика, покажется жандарму заблуждением и пороком. Жандарм добивается, чтобы на свете была одна книга, один человек и одно правило. Строя корабль, жандарм постарается уничтожить море».CXLV
Я устал от слов, что дразнятся и показывают язык друг другу, мне не кажется нелепым знать, насколько помогли свободе мои принуждения. Как послужила мужественность на войне нежности в любви. Лишения — излишествам. Примирение со смертью — радости жизни. Почитание иерархии — счастливому ощущению себя равным всем, которое я называю союзничеством. Отказ от жизненных благ — умению наслаждаться ими. Безграничная преданность царству — личному достоинству. И скажи мне, чему ты хочешь помочь, если оставляешь человека одиноким? Я видел, каково оно, одиночество моих прокажённых. Скажи, что хочешь вырастить с помощью свободы и изобилия? Я видел, что проросло в моих беженцах-берберах.CXLVI
Объясняю тем, кто не понимает смысла моих принуждений: малые дети, видя кувшины у себя в доме, считают, что кувшины — такие, и, увидев чужой, иной, недоумевают, что это с ним сделалось? Видя человека соседнего царства иным, — он любит, чувствует, жалуется, ненавидит иначе, — недоумеваешь и ты: для чего ему это понадобилось? Ты заблуждаешься, словно малое дитя. Прекрасный храм — краткий миг торжества человека над природой; если не знать, как уязвима его будущность, не возникнет нужды оберегать его. Ты не станешь оберегать храм, если не знаешь, что держит его ключ свода, подпирают колонны и контрфорсы. Ты не замечаешь грозящей тебе опасности, видя в чужом творении кратковременное заблуждение, и только. Ты не понимаешь, что чужое творчество грозит уничтожить творимого мной в тебе человека, уничтожить его навсегда. Ты считаешь, что свободен, ты оскорбляешься, когда я напоминаю о своих принуждениях. Но они не усатые жандармы, они незаметны и действенны, они сродни воротам в стене; ты делаешь небольшой крюк, выходя из дому, но разве свобода твоя ущемлена? Если ты хочешь увидеть силовое поле, что формирует тебя и заставляет так, а не иначе чувствовать, думать, любить, горевать, ненавидеть, приглядись к корсету, в котором ходит сосед, и тогда почувствуешь свой собственный. Иного способа почувствовать его нет. Падающий камень не чувствует силы, притягивающей его к земле. Весом неподвижный камень. Только противостоя, ощущаешь сдвигающую тебя силу. Для листка, летящего по воле ветра, нет ветра. Для свободно падающего камня нет веса. Ты не замечаешь самых действенных принуждений, они подобны стене и незримы до тех пор, пока ты не вздумал поджечь город. Ты же не замечаешь, что язык, на котором говоришь, тоже принуждение. Принуждение — это упорядоченность, но незримая.CXLVII
Я изучал княжеские указы, имперские законы, религиозные обряды, похороны, крестины, свадьбы — моего народа и других, в прошлом и в настоящем, ища непосредственную связь между душой народа и укладом, который вынянчил эту душу, наставлял, хранил, но не нашёл такой связи. Однако имея дело с подданными соседнего царства, где требуют иных жертв, я чувствовал особый аромат их любви и ненависти, ибо каждый любит и ненавидит по-своему. И, конечно, я задумался о причинах и спросил себя: «Как получается, что обычай, который, как мне кажется, упорядочил военные действия, столь далёкие от любви, пестует именно любовь, и вот такую, а не иную? Какова же она, эта связь между душой и стенами, что её окружают, рождая такую улыбку, а не другую — улыбку, какой улыбаются наши соседи?» Занимало меня не пустое. Живя жизнь, я успел убедиться, что люди сильно разнятся между собой, хотя непохожесть их тебе поначалу незаметна и не сказывается в разговоре, потому что ты сам себе служишь переводчиком, подбирая на своём языке слова, больше всего подходящие к тому, что тебе передаётся на другом языке. И вот переводишь любовь любовью, справедливость справедливостью, ревность ревностью, радуясь вашей схожести, хотя каждое из этих слов наполнено для вас разным смыслом. Исследуя одни слова, переходя от перевода к переводу, ты и будешь видеть лишь подобия, но то сущностное, что ты хотел бы понять, ускользнёт от тебя. Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Существование различий неоспоримо. Любовь, справедливость, ревность, смерть, молитва, отношения с детьми, с государем, с возлюбленной, творчество, понимание счастья и успеха не совпадают у одного и другого. Я видел, как человек сдержанно улыбается и опускает глаза, изображая скромность, довольный, что замечены его холёные руки, и такую же улыбку и опущенные глаза я видел у других, когда на ладонях их замечали мозоли. Одним придавали весу в собственных глазах золотые слитки в подвалах, а тебе эти люди со своими слитками казались омерзительными скупцами; другие обретали то же горделивое удовлетворение, вкатив бесполезный камень на вершину горы. И я понял, как нелепы мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа, как нелепы объяснения болтуна: глядя на статую, он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть сказанного художником, — томительность праздника, например. Суть — это пленница, пойманная в ловушку, но что общего у неё с ловушкой? Я понял, что был не прав, пытаясь объяснить дерево, исходя из минеральных солей, тишину, исходя из камней, грусть, исходя из черт лица, благородство души, исходя из уклада, я нарушил присущую созиданию последовательность, мне нужно было бы постараться и прояснить, как растущее дерево заставляет перемещаться минеральные соли, стремление к тишине выстраивает камни, печаль меняет черты лица, строй души создаёт созвучный себе уклад. Строй души не выразить словами, чтобы уловить его, поддерживать и длить, мне предлагается ловушка в виде уклада, вот такого уклада, а не иного. В юности и я охотился на ягуаров. На проложенной ими тропе рыли яму, усаживали её кольями, привязывали ягнёнка и забрасывали сверху травой. Я приходил на рассвете к ловушке и находил мёртвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягнёнком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то, изучив яму, траву, колья, ягнёнка, ягуара не выдумаешь. Потому я и говорю, что мой друг-геометр был подлинным геометром, он чувствовал близость ягуаров, изобретал для них ловушки, и они в них ловились, хотя до поимки он и в глаза не видел ягуаров. Зато благодаря ему увидели ягуаров все остальные, они рассмотрели и поняли, как делаются ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с кольями и ягнёнком. Они исходили из логики: ловушка для того, чтобы ловить, и пожелали поймать истину. Но истина сбежала от них. Бесплодны и бессмысленны труды логиков до того дня, пока нет творца, он не знает, кто такой ягуар, но чувствует его и придумывает ловушку, он ведёт тебя к попавшемуся ягуару с такой уверенностью, будто сто раз ходил по этой дороге. Мой отец тоже был геометром, он создал свой уклад, стремясь залучить к себе таких людей, а не иных. Были другие времена, другие складывали свои уклады и залучали к себе других людей. Но пришло время близоруких логиков, историков, критиков. Они изучают твой уклад, но не понимают, с каким строем души он в согласии. Путём логики не вывести человека, и вот послушные ветру слов, который они именуют рассудком, логики ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добыче.CXLVIII
Я странствовал по незнакомым угодьям, постигая: повиновение каким запретам складывает человека. Моя лошадка неспешным шагом трусила просёлком от одной деревни к другой. Дорога могла бы пройти прямиком по полю, но нет, бережно обогнула его, и я потерял несколько минут на объезд, повинуясь прямоугольнику ячменя. Я мог проехать прямо, но признал значимость поля и обогнул его. Прямоугольник ячменя потеснил мою жизнь, отнял малую толику времени, что могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь напрямик, но отнёсся к нему почтительно, будто к святыне. Долго я ехал и вдоль стены, огородившей чьи-то владения, прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтила чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены. За стеной я видел макушки деревьев, они росли гуще, чем в наших оазисах, видел водоёмы с пресной водой, они играли между деревьями. Слышал тишину. Вот ворота, затенённые листвой. Здесь моя дорога раздвоилась, одна её ветка потянулась служить огороженному стеной владению, другая повела меня вдаль. Странствовал я неспешно, лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены, и у меня появилось ощущение, что дорога моя, с её уклонами и поклонами, с её неторопливостью и задаром растраченным временем, была своеобразным обрядом, была залом, где дожидаются аудиенции короля, была нащупыванием черт лица властелина, и каждый, кто следовал ею в тряской ли тележке, на ленивом ли ослике, сам того не ведая, упражнялся в любви.CXLIX
Мой отец говорил: — Им кажется, чем больше у них слов, тем они богаче. Конечно, в языке может быть и словом больше. Слово это может, например, обозначить «октябрьское солнце», выделив его среди всех других солнц. Однако мне не кажется, что благодаря новому слову я что-то приобрету. Напротив, потеряю — потеряю ощущение связи октябрьских листьев, последних яблок и холодеющего солнца, которому никогда не стать знойным, потому что оно устало, наработавшись за лето. Немного на свете слов, что обозначают разом многое, благодаря которым я что-то выигрываю, но такие тоже есть, например, слово «ревность». Я сказал его и передал тебе всё изобилие связей в том, что им обозначил. Я сказал, например, «жажда — это ревность к воде». Я же видел, как жаждут. Жажда ведь не изнурительная болезнь вроде чумы, что обессиливает тебя, вызывая тихие стоны. Нет, ты готов реветь и вопить, так ты жаждешь этой воды. И во сне тебе являются те, кто пьёт её. И вода, что течёт неведомо где, кажется тебе предательницей. Как женщина, что улыбнулась твоему сопернику. Твои терзания сродни терзаниям раненой любви, уязвлённого воображения, они не похожи на физические страдания болезни. Ведь живёшь не вещами — царством смысла вещей. Твоё «октябрьское солнце» мало чему поможет, оно частность. Но ты стал бы и в самом деле богаче, если б я научил тебя из одних и тех же слов строить любые ловушки для самой разнообразной добычи. Научил бы вязать узлы из слов, как вяжут их на верёвке: один пригоден, чтобы поймать лисицу, другой для паруса, чтобы поймать ветер. Игра моих вводных предложений, игра времён и глагольных наклонений, ритм и дыхание моих периодов, энергия дополнений, аллитерации и повторы — сложный танец, который ты должен суметь станцевать, танец, который, будучи станцован, должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему: книга — ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настичь, постичь и понять. — Наработав собственный стиль, получаешь доступ к постижению, — сказал как-то мой отец. — Постижение, — любил он повторять, — вовсе не накопительство множества чужих идей, не любование их разноголосицей. Познания — те же вещи, коллекция или инструмент твоего ремесла, они пригодны, чтобы построить мне мост, добыть золото или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек не одно и то же. Осознать, постичь вовсе не означает расширить свой словарный запас. Расширение словаря позволит тебе разве что быть смелее в сравнениях. Если ты хочешь приобщить и меня к воодушевляющей тебя страсти, только твой стиль вовлечёт меня в стремящий тебя поток. Если нет стиля, а только обозначения, выжимки мыслей, что они мне? Ощутимое «октябрьское солнце» я предпочитаю новому слову, пустому для глаз и сердца. Твои камни — камни и только, но, соединившись, они могут стать колоннами, а колонны превратятся в храмы. Если построения становятся всё пространственней, значит, таков талант моего архитектора, стиль его требует мазков всё крупнее и крупнее, всё большее пространство подчиняет он своему стилю, всё мощнее подчиняет своим силовым линиям камни. Строя фразу, и ты создаёшь силовое поле. Только оно и значимо. Возьмём как пример дикаря, — предложил мне отец. — Ты можешь научить его множеству слов, и он станет несносным болтуном. Можешь сообщить ему все свои познания, и он станет вдобавок высокомерным и спесивым. Тебе уже с ним не сладить. Он будет упиваться пустым плетением словес. А ты, слепец, примешься рассуждать: «Как же так? Моя культура, моя цивилизация не облагородила дикаря, а испортила его? Вместо мудреца, который должен был получиться, получился отброс, и делать мне с ним нечего. Только теперь я понял, как благородно и чисто было его неведение!» Но не надо было делать дикарю подарков, желая поскорее от него отвязаться. Нужно было медленно формировать в нём стиль. Вместо того чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их мельканием и своим жонглёрством, может быть, стоило взять этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь, — только оно способно облагородить человека. Вот он оробел, примолк, ты как будто подарил ребёнку коробку с мозаикой; не умея играть в неё, он с интересом прислушивается, как она громыхает. А ты показываешь ему, как цветные шарики складываются в одну картинку, в другую, говоришь, что картинок может быть великое множество, он задумывается, замолкает. Он забился в уголок, наморщил лоб, в нём рождается человек. Обучи сначала невежду грамматике, покажи управление глаголов, особенности предлогов. Вручи инструмент, а потом уже дай материал, над которым он будет трудиться. Несносные утомительные болтуны, распираемые всевозможными идеями, замолчат тогда и откроют для себя тишину. Обретённая тишина — признак человеческой полноты и совершенства.CL
Истина рождается несхожим с ней. Ты удивлён? Но тебя же не удивляет, что вода, которую ты пьёшь, хлеб, который ты ешь, преображаются в сияние глаз, не удивляет, что солнце становится листвой, плодами, семенами. Хотя в семени нет ничего схожего с солнцем и с будущим кедром тоже. Порождённое не означает подобное. Сродство в подспудном течении, оно незримо для глаз, для ума, его чует душа. Незримое течение я и имею в виду, говоря, что творение сродни Творцу, плод сродни солнцу, поэзия сродни жизни души, человек, которого я из тебя нарабатываю, сродни укладу моего царства. Сказанное мной важно. Без чуткости к незримому, подспудно ощущаемому течению ты не увидишь в несхожем преемственности, уничтожишь несхожее и лишишься возможности расти дальше. Ты станешь деревом, которое, не узнав в своих плодах солнца, отгородилось от солнца. Учёному, которому книги не смогли рассказать о породившем их веющем духе, и вот он, тщательно изучив, как они построены, построил свою книгу, пустую, никчёмную, — для неё не найти читателя: все разбежались. Лучше логиков, историков, критиков чувствуют подспудное сродство мои мельники, пастухи, нищие. Ни пастуху, ни мельнику не понравится, если спрямить их прихотливый просёлок. «Почему?» — спросишь ты. Потому что они его любят. Их любовь и есть то таинственное подспудное течение, что питает их. Любя, непременно обогащаешься. И не важно, что не умеешь сказать чем. А логики, историки, критики слышат лишь то, что умеют назвать. Но мне-то кажется, дитя моё, человек, ты только и делаешь всю жизнь, что, передвигаясь на ощупь по поверхности мира, нащупываешь свой язык. Мир ведь велик, нелегко уместить его в слова. А логики, историки, критики доверчиво и простодушно согласились, что мир равен скудному содержимому их разноречивых идей. Если ты воротишь нос от моего храма, уклада, просёлка из-за того, что не умеешь выразить словом суть их даров, я ткну тебя носом в твою собственную несостоятельность. Ведь миры, где нет слов, чьей разноголосицей ты мог бы меня оглушить, нет зримых картин, которыми мог бы потрясать передо мной как вещественным доказательством, всё же посылают тебе весть, хоть она и несказанна. Ты ведь слушаешь музыку? Почему ты её слушаешь? Как все на свете, ты считаешь, что обряд погружения солнца в море очень красив. Почему ты так считаешь? Поверь, если ты протрусил на осле вдоль просёлка, о котором я тебе говорил, ты переменился. И что за беда, если не сможешь сказать, в чём и почему. Все уклады, обряды, ритуалы, пути и дороги действенны, но не все хороши. Есть среди них и дурные, вроде пошлой музыки. Однако отличаю я хорошее от дурного не умствованием. Я сужу о них по тому, каков ты. Если я хочу узнать, какова дорога, обычай или стихотворение, я смотрю, какой человек в дружбе с ними. Вслушиваюсь в ритм биения его сердца.CLI
Мы ошибаемся, как ошиблись бы кузнец с плотником, утверждая, что корабль — это доски, сбитые гвоздями, что без досок и гвоздей нет корабля и, значит, плотник и кузнец на корабле главные и должны управлять им. Мы ошибаемся, и ошибаемся всегда в одном и том же, нам не понятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Корабль притягивает их к себе, как кедр вбирает песок и камни и вырастает с их помощью. Плотники, кузнецы должны заниматься досками, гвоздями. Они должны знать толк в гвоздях и досках. Любовь к кораблю на языке кузнецов и плотников должна быть любовью к гвоздям и доскам. О корабле я буду говорить не с ними. Мытарь собирает для меня налоги. Не он в ответе за благородство моего царства. От него я требую только послушания. Я придумал быстроходный парусник, мне нужны другие гвозди, другие доски. Работники мои ропщут и возмущаются. Им кажется, я посягаю на корабль, его суть для них в привычных гвоздях, знакомых досках. Но суть корабля в моей страсти к морю. Поменял я систему финансов, изменил налоги, ропщут и возмущаются мои мытари, ибо я разрушил царство, опорой которому была их косность. Я велю им всем замолчать. Я чту молчаливых. Если все они проникнутся моей верой, мне не придётся вмешиваться и поучать, как ковать гвозди и стругать доски. Не моё это дело. Своим храмом зодчий вдохновил скульптора, и тот принялся за работу. Но не зодчему решать, улыбаться или не улыбаться статуе. Мы не можем тут ничего решить. Подобные решения — мнимые решения. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далёк от порядка жизни: в свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них — значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей, формой досок распорядится жизнь, и, следуя её указке, их изготовят кузнецы и плотники. Чем заразительней окажется моя страсть, влекущая тебя к морю, тем меньше я буду казаться тебе деспотом. Нет деспотизма в растущем дереве. Деспотизм — принуждать минеральные соли преобразиться в дерево. Но дереву питаться минеральными солями естественно. Повторяю опять и опять: строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. Строить корабль — значит будить и будить страсть к морю.Ибо нет — и никогда не было — логики, которая помогла бы тебе перейти из мира вещей в мир смысла, единственно сущностный для тебя мир. Поглядев на деревья, горы, города, реки, людей, не выведешь логически царства. Пропорции носа, подбородка, уха не обоснуют логически печали мраморного лица. Молитвенное сосредоточение в храме не объяснить, исходя из камней. Домашний уют не возникнет логически из стен и крыши, дерево из минеральных солей. (Ты — деспот, если добиваешься небывалого, озлобляешься от неудач, винишь в них окружающих и жестоко наказываешь их.) Нет логики в языке, нет логики и в преемственности. Ты не заставишь минеральные соли породить дерево, для него нужно семечко. Только деланье исполнено смысла, но смысл его не уместишь в слове, потому что оно и творчество, и узнавание о созвучности одного многому, и путь, которым снисходит Господь к вещи, насыщая её значимостью, цветом и движением. Царство наделяет таинственной властью свои деревья, горы, стада, рвы и крепости. Вдохновенное усердие ваятеля наделяет таинственной властью глину и мрамор, храм исполняет смысла камни, превращая их в хранилище тишины, дерево вбирает минеральные соли, чтобы перенести их в обитель света. Два рода людей говорили со мной о созидании нового царства. Первые — логики, они строили его логически при помощи рассудка. Они — иллюзионисты. От них ничего не родится, потому что рассудок не умеет рождать. Картины их — картинки учителя рисования. Художник может быть и умён, но творчество его не от ума. Логик не может не быть бесплодным тираном. Вторых воодушевляла некая очевидность, которой они не умели дать имени. Они были вроде пастухов или плотников, не слишком умны и не обладали даром рассуждать, но ведь творчество и не рождается от рассуждений. Ваятель мнёт и мнёт глиняный ком, сам не зная хорошенько, что из него получится. Он не доволен, он ещё раз надавливает на ком большим пальцем слева. Потом снизу. Лицо, которое он лепит, всё больше и больше сродни чему-то безымянному, что у него на сердце. Лицо это всё больше напоминает то, что и не лицо вовсе. Честно говоря, «напоминает» не совсем удачное слово. Вот лицо вылеплено, оно соответствует тому, что словесно выразить невозможно, но передаёт то несказанное, что подвигло ваятеля на работу. И теперь это «что-то» легло, как когда-то ваятелю, нам на сердце. Не рассудок растревожил ваятеля — дух. Потому я и говорю тебе: дух властвует над миром — не рассудок.
CLII
И вот что ещё я тебе скажу: «Если перед нами не слепые рабы, то каждый думает то так, то этак. Не потому, что люди непостоянны, а потому, что очевидная для них истина не может отыскать слов себе по росту, вот они и берут немножко оттуда, немножко отсюда...» Свобода, принуждение — что это, как не твоё упрощение? Ты колеблешься, выбирая то свободу, то принуждение, но истина не в одном, и не в другом, и не посередине, она вне их. Каким чудом сможешь ты вместить эту истину в одно-единственное слово? Слова — тесные вместилища. И неужели всё необходимое тебе для дальнейшего роста поместится в такой тесноте? Как свободно льётся твоя песня, ты импровизируешь, подыгрывая себе на гитаре, но разве я не должен был научить тебя петь, разве ты не тренировал свои пальцы? А ученье — всегда борьба, принуждение и терпеливость. Ты свободно влезаешь на любую скалу, но разве я не тренировал твои мускулы? А тренировка — всегда борьба, принуждение и терпеливость. Чтобы вольно текли стихи, разве не до́лжно натренировать руку и мозг, отточить стиль? Эта работа — тоже борьба, принуждение и терпеливость. Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься не покладая рук, ты творишь, и в награду тебя делают счастливым. А путь к счастью — всегда борьба, принуждение и терпеливость. Вспомни, к счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты завершил своё творение, и в награду тебе его наделили красотой. А путь к красоте — всегда борьба, принуждение и терпеливость. Из борьбы, принуждения, терпеливости рождается и твоя свобода. Одарить свободой невозможно. Если искать свободу, сядешь и будешь сидеть, не зная, куда податься. Если ты наработал в себе человека и обрёл царство, где, не щадя себя, трудишься, то в вознаграждение чувствуешь себя свободным. А путь к свободе — всегда борьба, принуждение и терпеливость.* * *
Ты не поверишь мне и даже оскорбишься, но я всё же скажу, что братство не даётся равенством, что и братство — награда, а равны мы все только перед лицом Господа. Дерево — иерархия, но разве листва или ветки — это подавление корней или корни — угнетение листвы? Храм — иерархия. Он опирается на фундамент, и свод его замкнут ключом. Но можешь ли ты сказать, что ключ значимей фундамента? Чего стоит генерал без армии? Армия без генерала? Равны все перед царством, а братство даётся как награда. Братство ведь не возможность хлопать любого по плечу и хамить. Братство, повторяю тебе, — вознаграждение, даруемое иерархией, храмом, где кто-то фундамент, а кто-то замковый камень. Братство я видел в патриархальных семьях, где чтят отца, где старший брат опекает младших, а младшие доверяются старшему. Теплы были их вечера, праздники и возвращения домой. Но если все сами по себе, если никто друг от друга не зависит, а только перемешаны в кучу и толкают друг друга, будто шарики, где ты видишь братство? Если кто-то умирает, его тут же замещают другим, он не был ни для кого необходимым. Чтобы любить тебя, я должен тебя выделить, у тебя должно быть своё особое место. Если я вытащил тебя из воды, я полюблю тебя, почувствовав себя в ответе за твою жизнь. Полюблю, выходив от тяжкой болезни. Я люблю тебя, если ты — мой старый слуга и всю свою жизнь провёл возле меня, словно ночник, или если ты пасёшь моё стадо, и я приду к тебе попить козьего молока. Я возьму у тебя, ты отдашь мне. Ты у меня возьмёшь, и у меня найдётся, что тебе дать. Но о чём нам говорить с тем, кто с пеной у рта настаивает на нашем с ним равенстве, не хочет зависеть от меня и не хочет, чтобы я от него зависел? «Я люблю» означает, что твоя смерть всегда будет для меня невозвратимой потерей.CLIII
Этой ночью, в безмолвии моей любви, я опять решил подняться на вершину горы и опять посмотреть на мой город, упорядочив его взглядом с высоты, город тихий и неподвижный. Но на полдороге остановился, жалость остановила меня, я услышал жалобы, несущиеся с равнины, и захотел понять их. Жалобилась скотина в хлеву. Жалобились лесные звери. Небесные птицы и приречные. У животных есть голос в караване жизни, растения безголосы, научился молчанию и человек, живя жизнью духа. Ты видел, как кусает губы и молчит больной раком, — из страданий суетной плоти растит он духовное дерево, что раскидывает ветви и множит корни, но не в царстве вещей — в царстве смысла вещей. Вот почему больше тебя молчаливое страдание. Молчаливое страдание заполняет комнату. Заполняет город. Нет расстояния, на котором его не услышать. Если вдалеке от тебя страдает любимая, любя её, ты мучаешься её страданием. Так вот, я услышал, как жалуется жизнь. Ибо живы и хлев, и лес, и берега вод. Рожая, мычат коровы в хлеве. Распевает любовь в каждом хмельном от лягушек болоте. Пронзительно вскрикивает насилие — квохчет отчаянно вересковая курочка в лисьей пасти, жалобно блеет козлёнок, которого ты предназначил себе в пищу. И вдруг раскатывается хищный рык, вся округа смолкает, царит мёртвая тишина, всё живое обливается потом страха. Стоит хищнику зарычать, как каждая его жертва излучает ощутимое для него мерцание, словно весь лесной народец засветился. Но вот миновал цепенящий ужас, и снова твари земные, небесные, прибрежные завели свои жалобные песни, мучаясь родами, любовью, страхом смерти. «Что ж, — подумал я, — скрипят повозки, жизнь перебирается от одного поколения к другому, и в этом странствии по времени пронзительно взвизгивают оси тяжело гружённых телег...» Так мне дано было что-то понять и о тоске человеческой, ибо и люди, покидая самих себя, перебираются из одного поколения в другое. День и ночь и по всем городам и весям пересотворяется живая ткань, обрывается, латается кожа, и в себе самом я ощутил тянущую боль раны — мучительное, нескончаемое пересотворение. «Но ведь люди, — подумал я, — живут не вещностью, а таимым в ней смыслом, они должны передавать друг другу пароль». Так оно и есть, и я вижу, как люди, стоит у них родиться ребёнку, учат его разбираться в употреблении слов, как учили бы тайному шифру — ключу ко всем их сокровищам. Желая передать ему дорогостоящее наследство, они кропотливо торят в нём дороги, по которым станет возможным доставить ему драгоценный груз. Ибо нелегко собрать воедино и поименовать эту весомую, но незримую жатву, которую одно поколение должно передать другому. Да, эта деревня излучает свет. А этот деревенский дом согревает душу. Но если новое поколение расселится по домам, зная о них только то, что они предназначены для жилья, что оно будет делать в этой пустыне? Ведь для того чтобы твои наследники наслаждались игрой на скрипке, нужно обучить их музыкальному искусству, и точно так же, для того чтобы они стали людьми, нужно дать им возможность узнать человеческие чувства, научить их видеть за дробностью мира единую картину — облик дома, владения, царства. Если ты не научишь их видеть свою картину, новое поколение будет похоже на племя варваров, раскинувшее лагерь во взятом приступом городе. Чем порадуют варваров твои сокровища? У них нет к ним доступа, раз они не получили ключа к языку, на котором ты говоришь. Для тех, кто ушёл в смертную сень, деревня эта была музыкальным инструментом, особой струной была каждая ограда, каждое дерево, колодец, дом. У каждого дерева была своя история. В каждом доме был свой уклад. У каждой ограды свои секреты. Прогулка становилась мелодией, каждый шаг звучал по-особому, и ты складывал ту, какую хотел. Но варвар, остановившийся на постой, не умеет заставить петь твою деревню. Ему скучно, не умея проникнуть вглубь, он только и делает, что наталкивается на стены и рушит их, разоряя всё вокруг. Мстя инструменту за своё неумение играть, он поджигает его, чтобы вознаградить себя хотя бы каплей света. А потом сникает и зевает со скуки. Нужно знать, что горит, для того чтобы свет был прекрасен, как пламя поставленной тобой свечи, осветившей лик твоего божества. Но пламя, охватившее твой дом, безмолвно для варвара — для него это не жертвенное пламя. Меня преследует видение: новое поколение как насильник вторгается в обжитую раковину предыдущего. И мне показалось, что самое главное в моём царстве — уклад, ибо он принуждает человека передавать и принимать наследство. Мне нужен житель, а не кочевник, приходящий неведомо откуда. Вот почему я принуждаю вас тщательно исполнять все обряды и ритуалы, и с их помощью я связываю рвущиеся нити, оберегая цельность моего народа, с тем чтобы ничего не потерялось из его наследия. Да, конечно, дерево не печётся о своих семенах. Налетает ветер и уносит их, и это благо. Да, конечно, насекомые не пекутся о своём потомстве. Его растит солнце. Их единственное богатство — телесность, телесность они и передают. Но что станется с тобой, если некому взять тебя за руку и подвести к собранному мёду, он не вещественен, он — смысл этих вещей. Да, конечно, и ты увидишь в книге буквы. Но я должен изрядно тебя помучить, чтобы подарить тебе с их помощью ключ к стихам. Я настаиваю: погребение должно быть торжественным. Дело ведь не в том, чтобы опустить тело в землю. Дело в том, чтобы не потерять ничего из того достояния, хранителем которого был усопший, чтобы оно не расточилось, словно из разбитого сосуда. Трудно спасти всё до капли. Долго приходится подбирать за мертвецами. Долго придётся тебе оплакивать их, размышлять об их жизни, отмечать годовщины. Много раз придётся тебе оборачиваться назад и смотреть, не потерял ли ты чего-нибудь сущностного. Торжественной должна быть и свадьба, что приуготовляет вскрик рождения. Ибо дом, укрывающий вас, разом и хранилище, и житница, и запасник. Кто может перечислить, что в нём содержится? Нужно и вам копить умение любить, смеяться, наслаждаться поэзией, умение чеканить серебро, умение плакать и размышлять, с тем чтобы в свой час вам было что передать. Я хочу, чтобы ваша любовь была кораблём, способным принять груз и перевезти его через пропасть, отделяющую одно поколение от другого, я не хочу, чтобы она была сожительством, основанным на проживании собранных запасов. Торжеством должно быть и появление новорождённого, он и есть рана, которую придётся сшивать. Потому я требую церемоний и тогда, когда ты женишься, и когда рожаешь, и когда умираешь, когда разлучаешься и когда приезжаешь обратно, когда начинаешь строить, когда вселяешься в дом, когда жнёшь хлеб и когда собираешь виноград, когда начинаешь войну и когда заключаешь мир. Вот почему я требую, чтобы ты растил детей похожими на себя. Никакому наставнику не передать им твоего наследства, его нет в учебниках. Любой научит твоего ребёнка тому, что ты знаешь, передав ему твой небольшой запас разноречивых идей, но, если отделить его от тебя, он лишится того, чего не найдёшь в учебниках и не выразишь в слове. Расти их подобными себе из опасения, как бы жизнь для них не стала безрадостным постоем на земле, где гниют сокровища, от которых у них потерян ключ.CLIV
Меня удручают чиновники моего царства, они преисполнены довольства. — Всё хорошо и так, — твердят они. — Ведь совершенство недостижимо. Спору нет, совершенство недостижимо. Назначение его в том, чтобы сиять тебе подобно путеводной звезде. Оно направляет тебя и ведёт. И значим всегда только путь, нет наготовленного, которое позволило бы тебе сесть и отдыхать. Стоит исчезнуть силовому полю, что напрягает тебя, и вот ты уже подобен мертвецу. А что, если мне неинтересна звезда, мне хочется сесть и подремать? Но где же ты сядешь? Где сможешь подремать? Я не вижу места для отдыха. Если ты нашёл такое и отдыхаешь — значит, ты что-то преодолел. Но за отдыхом вновь — поле боя, где ты должен опять побеждать. Не превращай одержанную победу в носилки, настаивая, что носилки и есть жизнь. И с чем, если нет совершенства, сравнивать тебя, твоё творение, чтобы ощутить счастье?CLV
Ты удивлён, что я придаю столько значения моим обрядам и полевому просёлку? Ты удивляешься, потому что слеп. Взгляни на ваятеля, его мучает то, что невозможно сказать словами. Душа человеческая неуловима, другое дело, скелет, что остался от мертвеца. И, стремясь передать несказанное, скульптор лепит из глины лицо. Ты идёшь, ты проходишь мимо его творения, смотришь на вылепленное им лицо, может быть, грозное, а может быть, печальное, и продолжаешь свои путь. Но ты уже не тот, что был. Чуть-чуть, но всё же другой — другой, потому что ненадолго, но поглядел в другую сторону, ненадолго, но всё-таки поглядел. Ваятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут глину. Лицо из глины он поместил на твоём пути. И если ты следуешь этим путём, то и ты почувствовал то, что чувствовал он. Не важно, что тысяча лет отделяет движения его рук от твоего пути.CLVI
Налетела песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса, туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров поселились птицы, они жили с нами и, не пугаясь, охотно садились на плечо, но им не хватало пищи, и, что ни день, они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух, и я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и ссыпали крошащийся прах в море. К полудню солнце побелело от зноя, мы изнемогали от жажды и тогда впервые увидали мираж. Геометрически чёткий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно вскрикнул и пустился бежать к городу. Я понял: вскрик его, словно вскрик взлетающей дикой утки, перебудоражит всех остальных. Ещё секунда, и все ринутся бежать вслед за одержимым, толкаясь и задыхаясь, — к миражу, к гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом и только. Все образумились. Один из моих солдат плакал. — Что с тобой? — спросил я его. Я думал, он оплакивает убитого. Но он увидел на песке сухую, мёртвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц. — Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти, — сказал он. Мы вытянули работника из нутра колодца, и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В здешних местах есть подземные пресные воды. И на протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам. Текли и позволяли животворящей крови течь по жилам. Сухой колодец пригвоздил нас к земле, словно булавка бабочку. Всем невольно подумалось об огромных корзинах, полных сухой шелухи. На следующий вечер мы добрались до колодца Эль Бар. С наступлением ночи я собрал проводников. — Вы обманули нас. Эль Бар сух. Как мне поступить с вами? Чудесные звёзды украшали эту горькую и великолепную ночь. Вместо воды у нас были алмазы. — Как мне поступить с вами? — повторил я проводникам. Но что за польза от человеческой справедливости? Мы все должны были превратиться в сухую колючку.Восходило солнце и за песчаным маревом казалось треугольным. На наше тело будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум. Но не миражи своими сияющими городами сводили их с ума. Не было больше миражей, не было отчётливого горизонта, не было чётких очертаний. Будто дышащая жаром печь, окружал нас песок. Я поднял голову: в мареве тлела бледная головешка, готовясь разжечь пожар. «Бог собрался нас метить, как скот», — подумал я. — Что с тобой? — спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека. — Ослеп. Я приказал оставить в живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюхо, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На остальных нагрузили пустые бурдюки, и я повёл караван, отрядив несколько человек к колодцу Эль Ксур, о котором слухи были разноречивы. — Если и Эль Ксур сух, — сказал я, посылая их, — вы умрёте там, как умерли бы здесь. Они вернулись через два долгих, медлительных дня, которые стоили жизни трети моих воинов. — Колодец Эль Ксур — окно в жизнь, — сообщили они. Мы напились и двинулись к Эль Ксуру, чтобы пить ещё и ещё и пополнить наши запасы воды. Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к Эль Ксуру. Возле колодца рос саксаул. Но первыми нам бросились в глаза не безлистые скелеты низких деревьев, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но, когда приблизились, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали саксаул и теперь шумно поднялись в воздух, похоже было: сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потёмках! Улетать они не хотели и долго кружили над нами хлопьями чёрной сажи. Мы убили три тысячи ворон, потому что у нас кончилось продовольствие. Какое это было празднество! Люди рыли в песке печурки, набивали их сушняком, что пылал, будто сено. Аромат жаркого носился в воздухе. Дежурный отряд не выпускал из рук двадцатипятиметровой верёвки — пуповины, питающей нас жизнью. Другой отряд обносил водой лагерь, словно обихаживал апельсиновый сад в засуху. А я, по своему обыкновению, не спеша расхаживал по лагерю, глядя, как оживают люди. Потом я ушёл от них и, затворившись в своём одиночестве, обратил к Господу такую молитву:
«На протяжении одного дня, Господи, я видел, как иссыхала плоть моего войска и как она ожила. Она была корой сухогодерева, но вот бодра и деятельна. Наше освежённое тело отправится куда только пожелает. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стёрты с лица земли, мы и следы наших ног. Я слышал, как они смеялись и пели. Войско, которое я веду за собой, несёт с собой груз воспоминаний. Оно — узел множества жизней, текущих вдалеке. На моих воинов надеются, из-за них мучаются, отчаиваются, радуются. Войско моё не обособленность, оно — частичка огромного целого. И всё-таки достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стёрты с лица земли, мы и следы наших ног. Я веду своих воинов завоёвывать оазис. Они станут семенем для варварских племён. Они принесут наш уклад людям, которые о нём не ведают. Мои воины, что сейчас едят, пьют и живут, как счастливое стадо, попавшее на плодородную равнину, изменят всё вокруг себя — не только язык и обычаи, но и храмы, и крепости. Они перегружены силой, которая стронет с места вереницу веков. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стёрты с лица земли, мы и следы наших ног. Они об этом не знают. Им хотелось пить, они напились и счастливы. Но колодец Эль Ксур спас для жизни стихи, города и чудесные висячие сады, потому что я решил украсить садами пустыню. Вода колодца Эль Ксур изменила облик мира. Но стоит солнцу час провисеть над нами, как мы будем стёрты с лица земли, мы и следы наших ног. Те, что вернулись первыми, сказали: «Колодец Эль Ксур — окно в жизнь». Ангелы уже приготовились собирать моё войско, словно сухую кору, в корзины и опрокидывать их в Твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглой. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным-давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, — ячмень — равновесие грязи и света, способное напитать людей, — я увидел в ячменном поле незримый путь, не ведающий, каким повозкам он служит и куда ведёт. Теперь я вижу: поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца Эль Ксур. Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животах. Довольство их — животное довольство стада. Они сгрудились вокруг прокола иглой. В глубине его — колыханье чёрной воды, стоит ведру её потревожить. Но когда вода эта поит сухое семя, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в семени пробуждается неведомая дотоле мощь, и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады. Но сбудусь я в своём народе, только если Ты будешь ключом свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле, и колодец Эль Ксур, и моё войско — лишь груда камней. Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх, к звёздам».
CLVII
Вскоре нас разглядывал город. А мы — мы видели лишь его небывалой высоты красные стены, они высокомерно повернулись к пустыне, словно бы изнанкой, нарочито лишённой всяческих украшений, выступов и зубцов, откровенно не предназначенной для взглядов со стороны.Ты разглядываешь город, а он разглядывает тебя. Он вздымает против тебя свои башни. Он присматривается к тебе из-за своих зубцов. Он распахивает или запирает свои ворота. Он может хотеть быть любимым и улыбается тебе, маня своими украшениями. Все города, которые мы брали, казалось, сами отдавались нам: так хороши они были, так изукрашены для стороннего взора. Бродяга ты или завоеватель — величавые ворота и нарядная главная улица примут тебя по-королевски.
Но до чего же стало не по себе моим воинам, когда стены, вырастая по мере приближения, так откровенно и с таким каменным спокойствием отвернулись от нас, свидетельствуя, что на свете нет ничего другого, кроме этого города. Первый день мы потратили на медленный обход его стен, отыскивая в них трещину, неровность, пусть заложенный, но вход. Ничего похожего. Мы были досягаемы для ружейного выстрела, но ни один не потревожил мёртвой тишины, хотя кое-кто из моих людей, не выдержав напряжения тревоги, вызывающе стрелял в воздух. И всё-таки за этими стенами был город, он дремал, будто кайман, защищённый своей бронёй, и не снисходил до тебя, не считая нужным ради тебя просыпаться.
С далёкого холма, с которого невозможно было заглянуть внутрь города — города, заботливо скрытого стенами, мы увидели зелень, яркую и густую, словно кресс-салат. Но возле стен не росло ни былинки. Насколько хватал глаз, вокруг тянулась каменистая пустыня, иссушенная солнцем: так тщательно высасывал оазис воду только на свои нужды. Его стены, будто каска — волосы, спрятали в себе всю растительность. Мы бессмысленно топтались в нескольких шагах от рая, изобильного, с мощными деревьями, цветами, птицами, стянутого поясом стен, будто кратер базальтом.
Когда мои воины поняли, что в стене нет ни единой щели, кое-кто из них ужаснулся. Ибо город этот на памяти людей ни разу не снарядил и ни разу не принял каравана. Ни один путешественник не принёс в него вместе со своим багажом отравы чужедальних обычаев. Ни один торговец не ввёл в его обиход незнакомой вещи. Ни одна пленница, захваченная вдалеке, не прибавила капли крови к их породе. И моим воинам показалось, что они ощупывают панцирь неведомого чудовища, у которого всё не так, как у других племён. Ведь девственность самых затерянных островов нарушали кораблекрушения, и всегда находится между людьми то, что подтверждает их родственность в человеческом и располагает к ответной улыбке. Но если бы это чудовище показалось нам, оно не имело бы облика. Были среди моих воинов и те, что не пугались; им щемила сердце неизъяснимая, особенная любовь. Как волнует душу красавица, что неизменна и постоянна, в чьей крови нет ни капли чужеродной крови, та, что сохранила в девственности язык своих верований и обычаев, что никогда не окуналась в котёл, где вперемешку полощутся все народы, в котёл, растопивший ледник в большую лужу. Как она прекрасна, эта возлюбленная, столь ревностно хранимая среди ароматов её садов и обычаев! Но все мы, и я тоже, перейдя пустыню, остановились перед непроницаемым. Ибо тот, кто противостоит тебе, открывает тебе дорогу в собственное сердце, открывает свою плоть твоему мечу, и ты можешь надеяться, что победишь его, полюбишь или погибнешь. Но что ты можешь против того, для кого тебя нет? Боль пронзила меня, и тут мы заметили вокруг глухой и слепой стены полоску песка белее, чем остальной песок, её выбелили кости, свидетельствуя о судьбе чужестранных посланцев, она была похожа на пенный след на утёсе, что оставляют набегающие одна за другой морские волны. Вечером с порога моего шатра я смотрел на недосягаемую твердыню, что высилась посреди моего лагеря, размышлял, и мне показалось, что город, который мы стремились завоевать, осадил и завоёвывает нас. Если ты вдавливаешь твёрдое округлое семечко в рыхлую почву, вовсе не земля, окружившая его, взяла его в плен. Прозябнув, семя возьмёт верх над землёй. «Если за этими стенами, — думал я, — есть неведомый нам музыкальный инструмент, если музыка его терпка и печальна и разбудит в нас неведомые нам чувства, если вдруг эти незнакомцы воспользуются своим сокровищем и рассыплют среди моих воинов своё богатство, я знаю, потом вечерами, в лагере, я услышу, как мои воины подбирают на своих гитарах, на которых не часто играют, мелодию, пленившую их сердца новизной. Мелодия эта изменит их сердца». Победитель, побеждённый, думал я, мне их не различить. Вот молчаливый посреди толпы. Толпа окружила его, сдавила, тащит. Если он пуст, она сомнёт и раздавит его. Но если он хорошо обжит внутри и надёжно выстроен — вроде той танцовщицы, которую я заставил танцевать для меня, — и если он вдруг заговорит, то вот он уже пустил в толпе свои корни, раскинул свои ловушки, подчинил толпу своей власти, и толпа последует за ним, увеличивая его силу. Достаточно, чтобы в этих местах жил один-единственный мудрец, избравший для себя тишину и молчание и успевший сбыться, чтобы сила моего оружия истощилась, ибо он подобен семени. Но как мне отыскать его, чтобы обезглавить? Он явлен лишь силой своего воздействия и существует в той мере, в какой существенно исходящее от него. Такова особенность жизни, что уравновесила себя с миром. Бороться ты можешь лишь с безумцем, который предлагает тебе утопии, но не с тем, кто размышляет и трудится над настоящим, потому что настоящее — вот оно, есть, такое, какое есть. Такова особенность любого творения, творец его уже покинул. Если с горы, куда я привёл тебя, ты увидел, что все твои затруднения разрешены таким вот способом, а не иным, то как тебе от меня защититься? Ты ведь должен всегда быть где-то. Вот кочевник, сокрушив стены, завладел королевским дворцом и ворвался к самой королеве. Бессильной королеве, потому что все её слуги и воины перебиты. Когда играешь в игру ради самой игры и вдруг допускаешь промах, то краснеешь, униженный, и хочешь его поправить. Хотя судьёй тебе только ты сам, игра создала в тебе игрока, игрок возмутился. Остерегаешься ты и неверного движения в танце, хотя нет над тобой никого, кто был бы вправе упрекнуть тебя за ошибку. Поэтому, если я хочу взять тебя в плен, я не буду брать тебя силой или властью — я разбужу в тебе желание танцевать. Ты пошёл туда, куда мне хотелось. И поэтому королева, обернувшись к вождю кочевников, что высадил дверь и стоит с кровавым топором в руке, дымясь силой и мощью, пенясь безудержным хвастливым желанием удивить собой, — поэтому королева улыбается грустной улыбкой, исполненной тайного разочарования, утомлённого снисхождения. Удивит её лишь совершенная тишина. Она не снизойдёт до шума и гвалта, как ты не снисходишь до работы мусорщиков, хотя не сомневаешься в её необходимости. Выдрессировать — значит научить пользоваться тем единственным путём, который приносит пользу. Если ты хочешь выйти из дому, то, не задумываясь, поворачиваешь по коридору и находишь дверь. Если твоя собака хочет получить кость, она становится на задние лапы, как ты учил её, и она мало-помалу усвоила самый короткий путь к вознаграждению. Хотя стояние столбиком, на посторонний взгляд, не имеет никакого отношения к кости. Собака следует инстинкту — не разуму. Танцор ведёт партнёршу, подчиняясь правилам игры, о них не думая. У них общий тайный язык. И точно такой же язык у тебя и у твоей лошади. Ты научил её слышать твои движения. Желание удивить королеву — первая брешь в броне дикаря. Инстинкт подсказал ему, что удивит он её одним — тишиной: поступи он иначе, она станет ещё отстранённей, разочарованней, — и он стал играть в тишину. Вот королева и начала менять на свой лад варвара, предпочитая свисту топора молчаливые поклоны. Поэтому мне сейчас и показалось, что, окружив этот город-магнит, что притягивал наши взгляды, закрыв свои глаза крепко-накрепко, мы навязали ему опасную роль, наделив благодаря нашему приходу той властью, какой обладают монастыри. Я созвал моих генералов и сказал: — Я завоюю этот город удивлением. Нужно, чтобы его обитатели о чём-нибудь нас спросили. Мои генералы, умудрённые многолетним опытом, мало что поняли из моих слов и недовольно зашумели. А я вспомнил о притче, что рассказал мой отец собеседнику, который утверждал, будто только сила принуждает подчиняться сильных. — Ты говоришь так, — отозвался отец, — и не боишься оказаться неправым, ибо если сильный подчинился, значит, подчинивший сильнее. Но представь себе купца сильного, спесивого и скупого. Он возит с собой целое богатство — зашитые в пояс бриллианты. И живёт тщедушный горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом, они из разных миров, говорят на разных языках, и всё же горбун задумал присвоить себе бриллианты. Скажи мне, на какую силу рассчитывает горбун? — Понятия не имею, — ответил собеседник. — Как-то тщедушный окликнул спесивого исполина, — продолжал рассказывать отец, — предложил чашечку зелёного чаю, потому что на улице было уж очень жарко. Почему бы и не попить чаю с тщедушным горбуном, чем, собственно, ты рискуешь, если твои бриллианты зашиты в пояс? — Ничем не рискуешь, — согласился собеседник. — Однако, когда они расстались, горбун ушёл с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделать: он станцевал тот танец, который навязал ему тщедушный. — Что ещё за танец? — поинтересовался собеседник. — Танец трёх костяных кубиков, — ответил отец. И объяснил: — Игра бывает сильней того, что поставлено на кон. Ты — генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга. И всё-таки по твоему приказу одна часть солдат ведёт в тюрьму другую часть. Ибо значимо не вещественное, а тот смысл, который ей придан. Когда бриллиант стал значим лишь как возможность продолжить игру в кости, он перекочевал в карман горбуна. Генералы, окружив меня, возмущались: — Как доберёшься ты до этих горожан, если они не желают тебя слушать? — Как вы любите ветер слов, но гудит он без толку. Да, подчас люди отказываются думать, но слышать-то они могут! — Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих посулов, если достаточно твёрд душой. — Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать! Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя — музыку. И если он зашёл в неразрешимый тупик, а ты показал ему выход, он примет его. Или ты думаешь, что из ненависти к тебе или пренебрежения он сделает вид, будто ничего не замечает, и продолжит биться головой о стенку? Если ты подсказал игроку спасительный ход, который он безуспешно ищет, ты повёл его, а он тебе подчинился, пусть даже он настаивает, что знать о тебе не знает. Если тебе протянули то, что ты ищешь, ты берёшь. Неважно, ищешь ты потерянное кольцо или разгадку ребуса. Я протянул тебе кольцо. Я подсказал разгадку. Конечно, ты можешь отказаться и от того и от другого из ненависти. И всё равно ты уже послушался меня, ты не мечешься, ты сидишь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскочить и продолжать поиски... Жители этого города чего-то хотят, ищут, жаждут, защищают, растят. Иначе вокруг чего воздвигли они свои стены? Если с помощью стен ты охраняешь скудный колодец, а я за стеной предложил тебе озеро, стены рухнут сами собой, так они смехотворны. Если ты оберегаешь свою тайну, а мои солдаты кричат о ней во всю глотку, стены рухнут сами собой, так они бессмысленны. Если ты воздвиг их, сторожа алмаз, а я усеял алмазами всё вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой, — не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, оберегая искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать своё искусство.
Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть. Потом они станут меня слушать. Мне не потревожить их мирного покоя, ограждённого укреплениями, военной трубой, — трубного гласа они не услышат. Слышишь то, в чём нуждаешься. Чем возвышаешься. Избавляешься от противоречий.
Они ощутят на себе моё воздействие, даже если меня не замечают. Самая великая истина заключается в том, что на свете ты не один. Ты не можешь пребывать в изменчивом, непостоянном мире. Я, и не прикасаясь к тебе, влияю на тебя, хочешь ты этого или нет. Я изменил твою суть, как ты можешь этого не заметить? Ты был хранителем тайны, я открыл её всем, смысл твоей жизни переменился. Ты танцуешь, читаешь стихи сам себе, я собрал насмешников и отдёрнул занавес, ты уже не танцуешь. А если танцуешь, то, верно, ты сумасшедший. Хочешь ты или нет, но смысл твоей жизни зависит от смысла жизни окружающих. Хочешь ты или нет, твой вкус зависит от вкуса окружающих. Твой поступок — очередной ход в игре. Шаг в танце. Я изменил игру или танец, ты изменил поступки, поступь. Ты построил стены, играя в одну игру, ты их разрушишь, начав играть в другую. Потому что жив не вещественным — смыслом, который ей придан. Я накажу этих горожан за высокомерие, слишком уж они положились на свои стены.
Единственная твоя крепость — мощь связующих нитей, они создали тебя, ты им служишь. Мощь семечка оберегает кедр, он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлёшься на прочность его коры, но и кора — порождение семечка. Корни, ветви, кора — так проявило себя семечко. Зато зёрнышко ячменя слабосильно, ему не выстоять против посягательств времени.
Но вот передо мной человек — глубоко укоренившийся, устойчивый, прочный, напряжённый силовым полем, он приготовился расцвести, подчинившись незримым, но явственно ощущаемым силовым линиям. О нём я скажу: крепость его неуязвима, время не истирает её — упрочивает. Время у него на службе. И что за важность, если на взгляд он гол. Что бережёт панцирь, если кайман мёртв?
Так, разглядывая город противника, заключённый в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. «Кто из нас поведёт танец? — думал я. — Опасно в пшеничное поле бросить хоть один плевел: плевел сильнее пшеницы, не важно, много ли он даст ростков и каковы они на вид. Твоё множество в семени. Пусть время развернёт тебя, тогда посчитаем».
CLVIII
Долго я размышлял о крепостных стенах. Настоящая крепость — ты. Вот почему мои солдаты скрестили перед тобой сабли. Ты не пройдёшь. У льва нет панциря, но удар его лапы подобен удару молнии. Он прыгнул на твоего быка и распахнул его перед тобой, будто шкаф. Ты согласен со мной и упомянул о слабости ребёнка; в будущем он изменит мир, но в первые свои дни подобен дрожащему пламени свечи. И я вспомнил, как умирал малыш Ибрагима. Когда он был здоров, улыбка его была для всех подарком. «Иди к нам!» — звали его. И он подходил к старику. Улыбался. Старик светлел. Старик трепал его по щеке, не зная, что же ему сказать, — ребёнок сродни зеркальной глади, от неё кружится голова. Сродни распахнутому окну. Перед ребёнком всегда робеешь, словно он всезнающ. Так оно и есть, в нём дышит дух, который ты потом иссушишь. Из трёх камешков он построит морской флот. Старику не увидеть в малыше адмирала, но властность его он чувствует. Сын Ибрагима — пчела, что повсюду собирала свой мёд. Всё для него становилось мёдом. Он улыбался тебе белозубой улыбкой, и ты приостанавливался, пытаясь понять, чем же он тебя одарил. Словом этого не выразить. Несказанные эти дары ничьи, они сродни весеннему солнцу, что хлынуло вдруг, — и в ответ засверкало море. Благоговением отозвалась душа моряка. Будто луч славы на миг осенил корабль. Ты скрестил на груди руки — ты впиваешь. Так улыбался и малыш Ибрагима, чудесная случайность на твоём пути, которую ты не умел, не знал, как удержать. Будто сверкнуло тебе солнечное царство, но богатство его ты не рассмотрел. И сказать ничего не можешь. Опахала его ресниц поднимались и опускались, будто открывались и закрывались окна в иной мир. Он молчал и учил тебя. Учит не говорящий — направляющий. И тебя, старого коня, вёл он, словно юный пастух, в заповедные луга, о которых ты ничего не мог сказать, но вдруг чувствовал, что напоен, сыт и утешен. И вот ты узнал: луч неведомого солнца меркнет. Весь город сделался сиделкой, бдящим ночником у изголовья. Все старухи пришли с травяными отварами и наговорами. Мужчины стояли у порога, следя, чтобы улица не шумела. Так его укутывали, баюкали, обмахивали. Так строили между ним и смертью стену, и она должна была стать неприступной, раз все горожане заделались солдатами и обороняли свою твердыню от смерти. Не говори мне, что болезнь ребёнка — борьба хрупкой плоти, уязвимой оболочки. Если есть где-то далеко-далеко лекарство, за ним снаряжают всадников. И вот уже танец болезни танцуют всадники, мчась по пустыне галопом. Танцуют и тогда, когда остановились на короткий отдых. Когда напились из кувшина. Когда толчком каблука подгоняют лошадь, стремясь выиграть скачку у смерти. Да, конечно, ты видишь только отрешённое, потное лицо ребёнка. Но за него борются и шпоры, вонзающиеся в бока лошади. Ребёнок жалок? С чего ты взял? Жалок, как генерал во главе могучей армии. Глядя на малыша, старух, стариков и на тех, кто был помоложе, на улей, сгрудившийся вокруг матки, золотоискателей вокруг золотой жилы, солдат вокруг полководца, я понял: они стали одним целым, они мощь и сила; словно семечко, тянут они необходимое из дробного мира, желая вырастить дерево, башни и крепостные стены, сберечь улыбку, беглую, едва заметную и молчаливую, которая сплотила их всех для боя. И не было жалким уязвимое детское тельце, оно росло, питаясь заботами многих. Само о том не подозревая, оно стало призывным кличем, и на зов его сплотились все запасные полки. Целый город стал на службу ребёнку. Так по зову семечка служат ему минеральные соли, оно упорядочивает их и превращает в кору — крепостную стену кедра. Как сказать о семени «слабое», если оно в силах сплотить друзей и подчинить врагов? Неужели ты поверил могутности, кулакам и зычному голосу великана? Он силён лишь на этот короткий миг, правда его мгновенна. Ты позабыл о времени. Время укореняет тебя. А громила? Он уже обречён незримой целостностью, где он лишь крошечная частичка. Ребёнок всегда во главе могучей армии, но ты не видишь этого. Сейчас великан может уничтожить ребёнка. Но не станет. Что за опасность — ребёнок? Но ты увидишь, как ребёнок поставит ногу на голову великана, сокрушив его.CLIX
Всегда ты видишь одно и то же: слабость побеждает силу. Но для короткого мига, именуемого «сейчас», это неправда, и ты закрепил в своём языке кажимость. Как всегда, ты позабыл о времени. Конечно, если ребёнок разозлит великана, великан уничтожит ребёнка. Но ребёнок играет в другие игры, не его дело злить великанов, ему это не интересно. Он занят тем, чтобы жить незаметно. А ещё чаще тем, чтобы его любили. Став подростком, он помогает великану, и тот начинает нуждаться в нём. Потом наступает время творчества, и ребёнок изобретает пращу. Или становится больше и сильнее великана. Или совсем уже просто: ребёнок начинает говорить, к нему стекаются люди, они для него надёжный щит, он поведёт их на великана. Попробуй теперь его ударить, до него и не дотянуться! Если в поле пшеницы я увижу один плевел, знаю: поле побеждено. Знаю: побеждён деспот, войско его и жандармы, если где-нибудь в его царстве подрастает ребёнок, похожий на сына Ибрагима, а вместе с ним возникает новая картина, которая по-иному упорядочит мир, взяв его будто в тугую, будто в железную раму (я вижу, силовые линии уже готовы), знаю, что эта картина, это царство развалились и лежат в руинах — храм разрушило крошечное семечко, потому что семечко оказалось мощным деревом, что тянуло свои корни с неспешностью просыпающегося: он потягивается, напрягая мускулы рук и ног. Один корень пошатнул контрфорс, другой — краеугольный камень. Ствол снёс купол, вышибив ключ свода. Здесь отныне над обращённой в прах вещностью царит дерево, вытягивая из неё соки, питая свой дальнейший рост. Но я знаю: придёт час — и рассыплется в прах древесный гигант. Храм преобразился в дерево, но, возможно, и в лиану. Достаточно крылатого семечка и прихоти ветра.Чем ты станешь, когда время развернёт тебя? Я не знаю, каков город, укрытый стенами. Но меня научили читать. Город сосредоточился на накопленном, а значит, готов к смерти. Я боюсь только тех, кто ходит голым, кто бродит по северу своей пустыни, где нет крепостей. Бродит безоружным. Семя это ещё не посажено в землю, оно не знает своей силы. Глубинные воды Эль Ксур возродили моё войско. Мы — семя, спасённое Господом. Кто сможет противостоять нам на нашем пути? Нам достаточно щербинки в стене, и храм развалится, потому что в семени очнулась мощь дерева. Нам достаточно станцевать танец, и ты — крепость — сдашься на волю мужчины и станешь преданной женой, хранительницей домашнего очага. Ты уже моя, похожая на медовую коврижку крепость, — крепость, слишком гордящаяся собой. Я уверен: дозорные твои спят. Ибо сердце в тебе одрябло.
CLX
«Стало быть, — думал я, — дело совсем не в крепостных стенах. Если я выстроил их и они служат моей власти — значит, я незыблем. Но панцирь мёртвого каймана уже не назовёшь крепостью». Если пастырь клеймит неверов за неверие, можно только посмеяться. Не человек должен прийти в церковь. Церковь должна притянуть к себе человека. Ты же не клеймишь землю за то, что она родила кедр. Видя, как странствуют по миру проповедники новых религий, увлекая за собой людей, неужели ты думаешь, что новая религия обязана жизнью ветру слов, хорошо подвешенному языку, ловкости зазывалы? Я слишком долго слушал людей и понял: смысл языка совсем не в самих словах. Он передаёт тебе от другого новую точку зрения, таящую в себе силу, она сама отыщет в тебе, чем ей напитаться и как прорасти. Есть слова, подобные семенам, они способны втягивать землю и растить кедр. Но ты можешь посадить и оливу, у тебя вырастет оливковое дерево. Кедр, олива разрастутся, питаясь самостоятельно. Чем выше кедр, тем мощнее гудение ветра в смолистых ветвях. Чем больше стая гиен, тем громче их хохот ночами. Но не станешь же ты утверждать, что гудение ветра в ветвях кедра притягивает земные соки, что магией хохота газель превращается в гиену? Гиена съедает газель, кедр тянет из земли соки. Новая вера обращает неверов. Но что могут слова, если не служат языку, способному вместить? Вмещаешь, сумев выразить. Если я выразил тебя, ты — мой. С моей помощью ты будешь сбываться. Отныне я для тебя — язык. Потому я и называю кедр языком каменистой земли — благодаря кедру она становится гудением ветра. И кто, кроме меня, сравнит тебя с деревом, заботясь, чтобы ты сбылся? Всякий раз, когда я вижу, что усилия человека действенны, я не воздаю хвалу громыханью его фанфар: с таким же успехом их можно возненавидеть, можно не слушать; не хвалю его жандармерию — жандармы могут следить, чтобы стоял на ногах мёртвый народ, но не могут родить живой. Я как-то сказал, что сильное царство казнит уснувших дозорных, а ты совершенно ошибочно решил, что суровость питает силу. В слабом царстве спят все, и если король его примется казнить сонных, окажется кровавым шутом — и только. Сильное царство наполняет всех своей силой, всем отвратительны сони. Действенность усилий я не стану объяснять зажигательной речью, побуждениями людей или доводами рассудка, я буду искать, где таится непреодолимая мощь новой, плодотворной целостности, где оно, лицо чудесной мраморной статуи, — ты смотришь на него и становишься иным.CLXI
Ночь. Я поднялся на самый высокий холм округи взглянуть на молчаливую крепость, на гаснущие в сгустившейся мгле костры моих биваков среди песков пустыни. Я хотел понять суть того, что происходит; войско моё — мощь пустившегося в путь семечка, город — мощь накрепко закрытой пороховницы; войско, притянутое магнитом крепости, таит в себе новую картину, она только нарождается, пускает корни, безразлично связывает в будущую целостность извечно существующее, я ничего не знаю о ней и в потёмках ищу признаки таинственного возрастания — не для того, чтобы предусмотреть, для того, чтобы направить, ибо всё вокруг, даже дозорные, погружены в сон. Спит оружие. Но ты, ты — корабль, плывущий по реке времени. Мирным кровом был тебе свет утра, полдня, вечера, он подтолкнул вперёд всё вокруг. После рабочих ладоней солнца ты ощутил дуновение молчаливой ночи. Шелковистой ночи, отданной снам, продолжающей лишь те труды, которым в помощь одиночество; ночи, затягивающей раны, помогающей подниматься сокам, привычно шагать дозорному; ночи, отданной в распоряжение слуг, потому что хозяин лёг отдыхать. Ночи, сглаживающей ошибки, ибо последствия ложного шага отложены до следующего дня. И я — победитель — откладываю до завтра свои победы. Ночь гроздей, ожидающих сбора, ночь отложенной жатвы. Ночь взятых в кольцо врагов, что сделаются только завтра моими. Ночь поставленных на кон ставок, но игроки отдались на милость сна. Спит купец, сделав главным сторожа, что ходит вокруг амбаров. Спит генерал, сделав главным дозорного. Спит капитан, сделав главным рулевого, и рулевой ставит на место Орион, что запутался между мачт и снастей. Ночь переданной в надёжные руки власти и приостановленных дел. И вместе с тем время обманов. Мародёры ночью нагружаются добычей. Риги вспыхивают огнём. Предатели завладевают крепостью. Ночь криков, что будят эхо. Ночь подводных камней для корабля. Ночь видений и чудес. Ночь пробуждения Господа — Господа-татя, ибо любящий всегда дожидается, когда любимая откроет глаза. Ночь, когда слышится хруст суставов. По ночам я всегда слышу хруст суставов, словно потягивается незримый ангел, заключённый в плоть моего народа, и придёт день, когда он освободится... Ночь, обогащающая поля семенем. Ночь терпения Господа.CLXII
Ты говоришь мне о скромной, непритязательной жизни в мирном семейном кругу, с мирными радостями и добродетелями, домашними праздниками и заботливым пестованием детей — ты строишь воздушные замки, мой друг. — Я рад за тебя, — отвечу я. — Но скажи, что ты будешь считать добродетелью? Чему радоваться? Какие чтить божества? Живя по-твоему, каждый живёт в особицу, это дерево питается соками не так, как другое. А подобных себе — где же ты их сыщешь? Ты говоришь, все хотят одного — жить мирно... Согласен. Но посмотри, ведь вы уже ведёте борьбу, охраняя каждый незыблемость своего уклада, желая избегнуть любой случайности, любой грозящей ему опасности. Разве дерево — не борьба семечка? — Но когда мы наконец достигнем желаемого, душевные склонности наши обретут долговечность. Устоятся и нравственные правила. — Согласен! Свершившись, история народа может пребывать неизменной. Ты знал эту девушку юной невестой, юной она и умерла. Умерла с улыбкой. И будет улыбаться вечно, навек оставшись прекрасной, не узнав старости... Но твоё мирное племя — оно или завоюет мир, поглотив всех своих врагов, или само растворится во враждебном мире. Пока оно живо, оно смертно. Ты ошибаешься, считая, что можно жить и оставаться неизменным, что долговечность твоей картины сродни воспоминанию об умершей возлюбленной. Ты возражаешь мне: — Если картина эта полностью воплотилась, став традициями, верованиями, единым укладом, она обретает долговечность, передаваясь от одного поколения к другому. Она будет счастьем, что светится в глазах принадлежащих ей сыновей... — Что ж, — согласился я, — если ты накопил запасы, то недолгое время можешь наслаждаться собранным мёдом. Вскарабкавшийся на вершину горы с полчаса радуется пейзажу, упивается одержанной победой. В его памяти живы камни, по которым он карабкался вверх. Но воспоминание быстро меркнет. И пейзаж теряет интерес. Торжества, конечно, помогают оживить воспоминания. Празднуя, ты словно бы оживляешь вновь трудности и радости возникновения дома, деревни, веры, воскрешаешь в памяти затраченные усилия, принесённые жертвы. Но мало-помалу истирается власть торжества, праздник кажется тебе обветшалым, ненужным пережитком. Так случится, уверяю тебя, случится неизбежно. Твоё счастливое племя станет племенем оседлых и забудется в безжизненном сне. Если ты понадеялся на магию пейзажа, сел и стал любоваться, то рано или поздно соскучишься и почувствуешь, что не живёшь. Откровение веры наполнило тебя жизнью. Ты решил: это тебе подарок. Но что делать с подарком? Рано или поздно ты убираешь его в кладовку. Когда радость погасла, сама вещь оказывается бесполезной. — Неужели мне никогда не отдохнуть? — Отдохнёшь там, где в помощь всё тобой накопленное. В мирном покое смерти, когда Господь соберёт свою жатву.CLXIII
Неизбежно сменяются для человека времена жизни. Друзья твои непременно от тебя устанут. И пойдут к другим, чтобы пожаловаться на тебя. Пройдёт усталость, и они вернутся, простят тебя, и будут снова тебя любить, и снова будут готовы рисковать своей жизнью ради твоего спасения. Если о вероломстве твоих друзей тебе расскажет посторонний, что пришёл к тебе не ко времени и передал то, что тебе совсем не предназначалось, что было тоской по тебе, ты разгневаешься, выйдешь из себя и, когда твои друзья, вновь тебя полюбив, вернутся к тебе, ты их прогонишь. Но если ты и сам то любил, то не любил своих друзей, ты обрадуешься возвращению, обрадуешься, что тебе возвращена благосклонность, и поможешь их благосклонности, устроив праздник. А почему тебе, собственно, не нравится, что в человеческой жизни сменяется весна — летом, лето — осенью? Ведь и в тебе в течение одного только дня столько сменится зим и вёсен и всё, что питает тебя, завися от аппетита, то желанно, любимо, то безразлично, то отвратительно, разве не так? Нет, не в человеческих силах всегда быть сытым одним и тем же пейзажем.CLXIV
Вот и настало время поведать тебе, что же такое человек. В Ледовитом океане кочуют льдины величиной с огромную гору, но на поверхности воды — лишь крошечный гребешок, играющий на солнце. Всё остальное дремлет в глубинах. Слова высвечивают в человеке лишь крошечный гребешок. Веками ковала мудрость ключи, подступаясь к человеку. Нарабатывала понятия, чтобы его объяснить. Время от времени приходит новый мудрец и с помощью нового ключа открывает тебе доступ к ещё неведомому. Он говорит: «ревность» — и обозначает разом целый пучок взаимозависимостей; ревностная страсть к женщине помогает тебе ощутить и томление по воде в пустыне, и множество иных жажд. И я становлюсь для тебя яснее, яснее мой путь, мои заботы, хоть ты, возможно, и не сможешь объяснить словесно, почему жажда заботит меня больше, чем, например, чума. Имей в виду, сильнее всего воздействует не то слово, что обращено к твоей обжитой светлице, — то, что вспышкой света озарит ещё неведомое, выхватив его из немотствующей тьмы. Ты сделал ощутимым дотоле незнаемое, и твой народ устремился к нему. Мы ведь не ведаем, чего с такой настоятельностью алчем. Но я принёс тебе что-то, и ты насытился. А логик смотрит на нас с тобой как на безумцев, логика вчерашнего дня помешала ему нас понять. Упорядочить подземное, проторить для него пути к сознанию — вот в чём я вижу силу, цель, смысл своей крепости. Ибо нужды твои и желания бессвязны и противоречивы. Тебе нужен мир и нужна война, правила игры, чтобы радоваться игре, и свобода, чтобы, играя, наслаждаться самим собой. Изобилие, чтобы почувствовать удовлетворение, и жертвенность, чтобы обрести в ней себя. Ты завоёвываешь добычу ради завоевания и наслаждаешься запасами ради запасов. Любишь здоровье ради ясности разума и любишь одолевать жаждущую плоть, совершенствуя дух и душу. Есть в тебе страсть к домашнему очагу и страсть к побегу на волю. Сочувствие к ранам и стремление ранить самолюбивого из сочувствия к человеческому. Желание растить любовь, оградив её незыблемой верностью, и знание, что любовь существует, несмотря на неверность. Ты хочешь равенства в справедливости и неравенства для восхождения вверх. Из хаоса своих нужд и желаний, из этой земли, усеянной камнями, какое ты вырастишь дерево, чтобы оно вобрало их, упорядочило и вызволило из тебя воистину человека? Какую часовню станешь ты строить из своих камней? Мощь моей крепости — вот то, что я протягиваю тебе как семечко. Вот эту высоту ствола, вот это расположение ветвей. Дерево тем долговечнее, чем плодотворнее распоряжается соками земли. Тем долговечнее царство, чем лучше усваивает то, что ты из себя нарабатываешь. Но для чего крепость из камня, если она панцирь мёртвого каймана?CLXV
— Они охотятся за вещами, как свинья за трюфелем, — говорил отец. — Вещи созданы для охоты. Но сами вещи тебе не в помощь, потому что живёшь ты смыслом, которым их наделили. Смысла вещей не найдёшь, не добудешь охотой, его нужно наработать. Вот мы и нарабатываем его нашими беседами.— Что кроется за этими событиями? — спросили моего отца. — Картина, которую я творю, — ответил отец.
Ты всегда забываешь о времени. За то время, пока ты доверял фальшивой сенсации, она уже в чём-то определила тебя, трудилась, как семя, пустила корни. Ты разуверился в ней, но расти уже будешь по-другому. Вот я убедил тебя в чём-то, и сколько ты нашёл подтверждений моей правоты, совпадающих фактов, красноречивых подробностей. Я предупредил: жена тебе неверна. И ты увидел: она кокетлива, и это правда. Уходит из дома когда вздумается, что тоже правда, хотя до сих пор ты этого не замечал. Затем я скажу, что всё выдумал, но моя выдумка пошла тебе на пользу: она была новой точкой зрения и открыла тебе глаза на реально существующие факты. Я сказал: горбуны переносят чуму. Ты ужаснулся, сколько вокруг горбатых. Раньше ты не замечал их. И чем дольше ты мне будешь верить, тем чаще будешь замечать горбунов. В конце концов ты узнаешь, сколько увечных живёт у нас в городе. Ничего другого я не хотел.
CLXVI
— Я в ответе за каждый шаг каждого человека, — говорил отец. — Но у тебя есть предатели и трусы, — возразили ему. — Что же, ты трусишь и предаёшь? — Да, моей трусостью трусит трус. И моим предательством предаёт предатель. — Как ты можешь предать сам себя? — Факты я представил некой картиной, они не согласились с ней, картина моя, я за неё в ответе, я сделал её явью, а она убедила их в правоте моего врага. Значит, я сослужил службу своему врагу. — А каким образом ты оказался трусом? — Трусит тот, — отвечал отец, — кто отказывается идти вперёд, чувствуя, что беззащитен. Трус кричит: «Река уносит меня!» Смелый чувствует свои мускулы и плывёт. Я называю трусом и предателем того, — заключил отец, — кто винит других за ошибки и жалуется, что враг слишком силён. Никто не понял его. — Как-никак, есть множество обстоятельств, и за них мы отвечать не можем... — сказали ему. — Нет, таких не существует, — сказал отец.Отец взял одного из гостей за руку и подвёл к окну: — Скажи, что тебе напоминает это облако? Гость долго присматривался. — Спящего льва, — наконец сказал тот. — Покажи его своим друзьям. Друзья гостя полюбовались в окно на спящего льва, которого тот показал им. Потом отец отвёл их всех в сторону и позвал к окну совсем другого человека. — На что похоже это облако? — спросил он. Гость долго всматривался в него. — На улыбающееся лицо, — наконец сказал он. — Покажи его своим друзьям. И друзья увидели улыбающееся лицо, на которое показали им пальцем. Затем отец собрал всех гостей вместе и предложил: — Поговорите-ка об облаке, что висит за окном. И гости ожесточённо заспорили: так очевидно для одних было улыбающееся лицо, а для других — спящий лев. — Факты, — сказал отец гостям, — бесформенны, словно облако; вожатый, ваятель, мыслитель придаёт им форму. Формы все одинаково достоверны. — Относительно облака мы с тобой согласны, — отвечали ему, — но относительно жизни... Утром на поле боя ты видишь, что войско твоё ничтожно по сравнению с армией противника. Разве в твоей власти изменить ход битвы? — В моей, — отвечал отец. — Облако занимает пространство, события и факты — время. Если я озабочен, чтобы моя картина мира восторжествовала, я должен печься, чтобы время шло ей на пользу. Я не изменю того, что свершится к вечеру, но завтрашнее дерево вырастет из моего семечка. А оно уже существует, оно существует сегодня. Создавать не означает тотчас воспользоваться уловкой, которую тебе подбросил случай и благодаря которой ты победишь. У твоей победы не будет будущего. Созидание не морфий, что избавляет от боли, но не излечивает болезнь. Создать — значит сделать победу или выздоровление неизбежностью, как неизбежно тянется вверх дерево. Но гости не понимали его. — Логика событий... Отец мой разъярился. — Тупицы! — рявкнул он. — Холощёный скот! Историки! Логики! Критики! Вы похожи на трупных червей, вам никогда не понять, что такое жизнь! Он повернулся к премьер-министру: — Король, наш сосед, надумал объявить нам войну. Мы не готовы к ней. Создать, сотворить — вовсе не значит за один день собрать войско, которого нет. Надеяться на это — ребячество. Нужно создать в короле-соседе того, кто захотел бы нашей любви. — Не в моей власти сделать это. — Я знаю одну певицу, — продолжал отец. — Когда я устаю от тебя, я всегда думаю о ней. Как-то вечером она пела нам об отчаянии преданного и нищего влюблённого, что не смеет признаться в своей любви. Я видел: наш главнокомандующий плакал. Хотя он богат, спесив и насилует девиц без счёта. На десять минут она превратила его в робкого ангела, и он пережил все муки застенчивости. — Я не умею петь, — ответил премьер-министр.
CLXVII
Затеяв спор, ты невольно огрубляешь человека. Например, народ сплочён вокруг своего короля. Король ведёт свой народ к цели, но тебе кажется, что она недостойна человека. И ты вступаешь в спор с королём. Многих ты убедил в своей правоте, но они кормятся службой королю. И пока не появился ты со своей точкой зрения, у них была своя и с их точки зрения можно было любить короля или терпеть. Ты поднял их на самих себя, против хлеба для их детей. Большинство из них последует за тобой, но с усилием, не чувствуя себя вправе посягать на короля, поскольку есть основания и любить его, и терпеть: ведь и в самом деле долг этих людей — кормить своё потомство, а когда колеблешься между одним долгом и другим, на сердце неспокойно. Когда человека одолевают сомнения, руки у него опускаются. Разъедаемый противоречиями, он садится и сидит, дожидаясь, когда же они минуют, так и умирает среди тех же противоречий. А если ты ещё и прибавишь противоречий своим согражданам, они с тоской будут ложиться вечером в свою постель и с отвращением вставать. (Воодушевляет освобождение от пут. Освободить человека — значит помочь ему себя выразить и принять. Значит научить его языку, который будет сродни замковому камню свода и откроет ему, что суть всех его разноречивых устремлений едина.) Кое-кто не последует за тобой вовсе. Эти будут вынуждены оправдаться в собственных глазах, ибо обличаешь ты короля отнюдь не без оснований. Ты принудишь их найти другие основания, которые будут способны потягаться с твоими. Такие всегда найдутся, ибо рассудок ведёшь ты сам и ведёшь куда захочешь. Тебя ведёт только дух. И вот они всё определили, сформулировали и создали себе прочную броню из доводов, тебе теперь к ним не подобраться. И короля, что и думать о тебе не думал, ты подвиг на действия. Он призвал сказителей, историков, логиков, учителей, казуистов и толкователей со всех концов своего царства.Тебя перетолковали, исказили и превратили в отвратительное чудовище, ибо что-что, а это всегда возможно. Обнародовали твою низость, потому что всегда возможно и это. И возникла ещё одна категория людей — прочитав о тебе, они не знали, что и думать, но, будучи людьми добросовестными, порядочными, они поверили портрету, созданному логиками, портрету, на который ты напросился. Их затошнило от отвращения, и они сплотились вокруг короля. Король вновь обрёл для них достоинство истины. Вот почему никогда не нужно бороться «против», бороться нужно «за». Человек ведь не так прост, как тебе кажется. Даже король — и тот отчасти на твоей стороне.CLXVIII
Ты говоришь: «Он — мой сторонник, мы с ним можем сотрудничать. А этот всегда возражает мне, естественно, что он — мой противник, с ним я могу только воевать». Поступая так, ты растишь и укрепляешь своих врагов. А я говорю тебе: «враг» и «друг» — слова и ничего больше. Что-то они, конечно, определяют и помогут тебе разобраться, если встретитесь вы на поле боя, но невозможно уместить человека в слово, у меня есть враги, которые мне ближе друзей, враги, которые мне всех нужнее, враги, которые меня чтят больше друзей. Я влияю на человека независимо от того, что он говорит. Я бы даже сказал, что влияние моё ощутимее для врага, чем для друга: идя в одну сторону, мы реже сталкиваемся, реже говорим, тогда как враг — он идёт против меня и не упустит ни одного моего движения, ни одного слова — он от них зависит. Разумеется, слышит меня каждый по-своему, ибо каждый несёт унаследованный груз прошлого, который никому не под силу изменить. Например, по моей земле течёт река, и рядом высится холм, обороняя мою землю; я не горюю, что есть холм и река течёт на юг. Не станет горевать об этом и завоеватель, если он в трезвом рассудке. Есть холм — я им пользуюсь, есть река — я пользуюсь рекой. Хотя, может быть, было бы куда лучше, если бы холм располагался в другом месте и мощный союзник был бы выгоднее мне, чем сильный противник. Но что сожалеть попусту? Сожалея, что не родился в другое время, в другом месте, — ты даже не мечтаешь, ты набиваешь себя гнилью. Есть только то, что есть, и только с существующим я должен считаться — и вот я влияю на друга и на врага. Влияние моё на друга более или менее положительно, влияние на врага более или менее отрицательно. Делом или силой я стараюсь уравновесить весы, убирая груз с одной чаши, добавляя к другой. Но ты принялся разбирать и судить всех с точки зрения нравственности; для дела, которым ты занят, нравственность ни при чём — однако ты отстранил обидчика, оскорбителя, предателя, вынуждая их и завтра обижать тебя, оскорблять и предавать. А я — я поручу предательство тому, кто меня предал, роль его в шахматной партии определилась, и я могу опереться на него, готовясь победить. Разве знание, каков он, мой противник, — плохое оружие? И если победа моя неоспорима, разве не будет у меня времени его вздёрнуть?CLXIX
Ты упрекнул жену: — Как это так? Я ждал тебя, а тебя не было?! — Не было, потому что я зашла к соседке, — отвечает жена. И правда, она зашла к соседке. Ты упрекнул врача: — Как это так? Тебя не было, когда спасали захлебнувшегося ребёнка?! — Не было, потому что я сидел у больного старика, — ответит тебе врач. И правда, он лечил старика. Ты упрекнул одного из своих сограждан: — Как это так? Ты не служишь нуждам своего царства?! — Я служу другим его нуждам, — ответит он тебе. И правда, он служит ему по-своему. Но имей в виду: за людскими поступками и делами ты не видишь, как растёт дерево. Брошенное в землю семечко задало работы и твоей жене, и врачу, и слуге царства. С их помощью уже создаётся то, что ты намеревался создать. Для кузнеца, чей символ веры — ковка гвоздей, не важно, какие ковать гвозди. Может он ковать гвозди и для корабля. А ты отойди чуть в сторону, чтобы лучше рассмотреть, и увидишь не беспорядок, а растущий корабль. Нет в жизни правоты, нет неправоты, каждый, кто живёт жизнь, её не знает, ибо нет языка, который бы её вместил. Каждый судит о ней с помощью своего обособленного наречия. Жизнь не упускает возможностей. Всюду находит себе пищу, распространяется, завоёвывает. Живя логикой своей ступеньки, можно и забыть, что живёшь. (Дом для женщины — трата времени, а не осуществление себя.) Но где в жизни утечка жизни? Любое дело в ней оправданно. Оно может быть и благородным, и низким, смотря как на него взглянуть. Может быть утечка жизни в человеке, человек может выпасть из жизни. У него могут появиться благородные основания не следовать общему течению жизни. Благородные и логичные. Но значит это одно: жизнь слабо тянет его за собой. Или, например, кузнец бросил ковать гвозди и отправился ломать камень. Он предал корабль. Что мне в твоих доводах, если у нас нет больше общего языка? Князь теперь говорит одним языком, строители — другим, прорабы — третьим, кузнецы — четвёртым, рабочие — пятым.Ты оплатил ваятелю статую. Заплатил ему дорого, и он почувствовал благодарность, не за воздаяние — за признание его заслуг. Статуе нет цены, как нет цены жизни, которой рисковали, — сколько бы ни заплатить, не переплатишь. Статуя стоит того, чтобы быть купленной. Заплатив деньги, ты купил не только статую — душу скульптора.
Хорошо, если занятие, которым ты кормишься, кажется тебе почтенным. Твоя работа — хлеб для твоих детей. Да и как оно может быть низким, если превращается в детский смех? Посмотри, он служит деспоту, но деспот служит детям. Поступки человека двоятся, не можешь и ты однозначно судить о нём. Ты можешь осудить лишь того, кто предал жизнь, она позвала его за собой, но он среди множества шагов не выбрал того шага, что ведёт к ней. Под палящим солнцем человек кладёт на камень камень. Такая у него работа. Столько ему за неё платят... Ох, как он от неё устаёт... Усталость — вот всё, что он получает, укладывая камни, он принял свою усталость и не ропщет. Не в чем его упрекнуть, если только он строит не храм. Ты взращивал любовь к храму, чтобы она взрастила любовь к укладыванию камней. Ибо жизни нужны питающие соки, чтобы расти и облагораживаться. Чтобы узнать, что такое жизнь, нужно перевидать немало людей. Самых разных. Ты словно бы узнаёшь, что же такое корабль, при помощи гвоздей, парусов и досок. Разуму жизнь недоступна. Суть её в том, чтобы длиться и распространяться. Превращаясь в действия и поступки, она сопрягается с разумом. Но не сразу, а постепенно. Иначе как выжить ребёнку? Он так слаб перед лицом мира! Кедру не выстоять против пустыни. Кедр рождается вопреки пустыне и живёт, её поглощая. Никогда не руководит тобой рассудок. С помощью рассудка ты оправдываешь своё поведение. Не ищи разума и в поведении своего противника, он ничуть не разумнее тебя. Не благодаря логике распространяется в пространстве твоё творение, длясь во времени. Почему распространяется оно так, а не иначе? Почему вожатым стало одно, а не другое? Случайность? Но почему случайности не расточили дерева в прах, а укрепили его против весомой тяжести мира?
Обдумыванием ты порождаешь то, чего ещё не было. Ты определил и, значит, помог родиться. Порождённое тобой ищет пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Оно трудится, чтобы сделать собой чужеродное. Тебя восхитили сокровища этого человека. И он почувствовал себя богатым, хотя до этого не ощущал своих богатств, занятый накапливанием своего сокровища. Но ты увидел, назвал, и он стал богачом. Не перекрещивай человека в иного, чем он есть сейчас. Видно, есть настоятельная необходимость, против которой тебе ничего не поделать, быть ему таким, а не другим. Но ты можешь изменить направление его витальной силы, ибо человек переполнен жизнью, в нём есть всё. Твоё дело — найти в нём то, что тебе по нраву. И прорисовывать, не спеша, пока твой рисунок не станет очевидным для всех — и для этого человека тоже. Увидев его, он согласится с ним, потому что соглашался и вчера, но равнодушно, никак ему не помогая. Теперь портрет обозначился, получил имя и заживёт жизнью любого живого существа, ища пищи, стремясь утвердиться и вырасти. Хозяин задаёт рабам и работу, и неработу. Жизнь тоже вынуждает тебя работать то больше, то меньше. И если тебе понадобилось, чтобы работа вытеснила досуг, скажи человеку: «Как ты мудр, взваливая на себя работу, несмотря на тяжесть её и горечь, только благодаря работе обретёшь ты собственное достоинство, ибо она — возможность творчества. Как ты прав, пользуясь любой возможностью творить! И что за беда, если начальник у тебя такой, а не этакий. Не горюешь же ты, что родился теперь или что родился среди холмов...» Ты не потребовал от него, чтобы он работал больше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нём тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживётся, разрастётся, и человек потянется к работе. Или ты хочешь, чтобы было отдано предпочтение досугу. Ты скажешь: — Ведь ты из тех, кто вопреки принуждению и тирании куска хлеба отдаёт работе лишь ту необходимую крупицу времени, без которой бы умер. Как мужественно ты поступаешь! Как ты мудр, ведь если хочешь избавиться от деспотизма начальника, ты заранее должен чувствовать себя победителем. Отказываясь от соглашательства, ты спасаешь душу. Не житейской логике распоряжаться творчеством! Ты не потребовал, чтобы человек работал меньше, не отяготил спором с самим собой. Ты заронил в него истину, что примирила в нём тяжущиеся стороны, и он отдал предпочтение той, в которой ты был заинтересован. Истина приживётся, разрастётся, и человек потянется к бунту.
Поэтому нет у меня врагов. Во враге я выискиваю друга. И враг становится моим другом.
* * *
Я беру все лоскуты разом. Не заменяю одни другими — сшиваю с помощью нового языка. И та же самая жизнь движется по-иному. Что бы ты ни принёс мне из нажитого, я сочту его добротным и подлинным. Печалит картина, которую ты сложил из него. Если моя уложит его лучше — моя картина, которую я создал своим творческим произволом, — ты будешь моим. Потому я и говорю: ты прав, построив стены вокруг своего колодца. Но оглянись: есть и ещё колодцы, которые ты не защитил. Теперь ты живёшь тем, что разрушаешь свою стену, чтобы построить новую. Новую ты строишь вокруг меня, я стал семечком внутри твоей крепости.CLXX
Я осуждаю в тебе тщеславие, но не гордость. Если ты танцуешь, то для чего тебе принижать и хулить себя, равняясь на дурного танцора? Гордость — это любовь к совершенному танцу. Любовь к танцу — это совсем не любовь к себе, танцору. Ты набираешься смысла, танцуя изо дня в день, но то, что ты стал танцором, ничего, совсем ничего тебе не прибавило. Твоё дело танцевать, пока жив, — сбываются только в смерти. Тщеславица исполняется довольства и останавливается посреди дороги; залюбовавшись собой, она замерла, обожая себя. От тебя ей нужны только овации. Мы презираем только самодовольство, мы — вечные номады на пути к Господу, ничто в нас самих нас не насытит. Тщеславица остановила сама себя, решив, что сбылась раньше часа смерти. Ей больше нечего получить, нечего отдать, она — труп. Смирение сердца требует от тебя не приниженности — а открытости. В ней ключ к взаимообменам. Иначе как сможешь ты отдавать и получать? «Отдавать», «получать» — я не умею отделить одно от другого, то и другое — единый путь. Смириться — значит быть послушным людям, значит слушаться божества. Камень подчиняется не камням — храму. Служа, служишь созиданию. Мать смиренна перед ребёнком, садовник — перед розой. Я, король, не стыдясь, послушаюсь работника. В работе на дворе он смыслит больше короля. Я благодарен ему за науку, моя благодарность не роняет меня в его глазах. Ибо естественно, что умение трудиться приходит от работника к королю. Но я ненавижу тщеславие. И запрещаю ему себя славословить. Ибо естественно, что суждение, что хорошо и что плохо, приходит от короля к работнику.Ты встречал в жизни женщин, что сотворили из себя кумира. Чего ждёт эта женщина от любви? Всего. Твоя радость видеть её — для неё почесть. Но дороже почестей жертва: твоё отчаяние будет для неё куда слаще. Она пожирает, не насыщаясь. Прибирает к рукам, чтобы сжечь в свою честь. Она словно печь крематория. Жадна и всегда готова захватить добычу, не сомневаясь, что грабежами добывают счастье. Но наживает лишь прах и пепел. Воистину, воспользоваться отпущенными тебе дарами — значит проторить с их помощью дорогу к другому, а не заманить ими в плен. Твои чувства для неё — заклад, своих она на тебя не потратит. Лишив тебя воздуха, обделив воодушевлением счастья, она тщится тебя уверить, что лишения и есть знак твоей причастности к высокой любви. Но это знак неспособности любить, а вовсе не высота чувства. Если ваятель пренебрегает глиной, под руками у него ветер. Если любовь под предлогом полноты обходится без проявлений любви, она — слово из словаря. Нет, если ты полюбил, я хочу от тебя и клятв, и даров. Что значит — ты любишь свою землю, если как от ненужного избавляешься от мельницы, отары, дома? Как различить лицо любви, что мелькает за полотном жизни, если нет полотна, если нечем его прорисовать? Откуда взяться храму, если нет зримого уклада для камней? Что значит любовь, если нет ощутимого уклада любви? Душу, дерево я обрету постепенно, медленно, упорядочивая землю при помощи того уклада, которому её подчиняют корни, ствол, ветви. И вот оно, дерево. Это дерево, а не другое. Тщеславица пренебрегла ответными дарами, пренебрегла собственным рождением. В любви она искала добычи, которую можно захватить. И любовь перестала быть любовью. Ей кажется, что любовь — подарок, который можно припрятать. Что если ты любишь её — значит, она заполучила тебя в своё распоряжение. Она запирает тебя в себе, ей кажется: она обогатилась. Но любовь не алмаз, которым можно завладеть, любовь — обязательства друг перед другом. Плод взаимно принятого для исполнения уклада. Добротность дороги, по которой ездят туда и обратно гружёные повозки. Тщеславице никогда не родиться. Корни рождения в связующих нитях. Она пребудет бесплодным, бессильным семенем, иссыхая душой и сердцем. Она состарится, и мрачна будет её старость среди тщеты её добычи. Потому что ты ничего не в силах присвоить. Потому что ты не сундук. Ты узел, связавший воедино собственную разноречивость. Ты — подобие храма, придающего смысл камням. Отвернись от неё. У тебя нет надежды сделать её красивее или богаче. Твой алмаз станет украшением её скипетра, короны, знаком её власти. Чтобы залюбоваться алмазом, мало одного алмаза, нужно ещё смиренное, благодарное сердце. Эта не любуется, завидует. Восхищение приуготовляет любовь, зависть приуготовляет пренебрежение. Во имя того алмаза, которым она наконец-то завладела, она будет пренебрегать всеми остальными алмазами земли. И ты ещё ненамного отдалишь её от мира. Не приблизится она и к тебе, твой алмаз вовсе не дорога от тебя к ней и от неё к тебе, он — дань твоего рабства. Вот почему каждый дар, каждая жертва делают её ещё более жестокой и одинокой.
Скажи ей: «Да, я спешил к тебе и радовался встрече. Исполнял твои прихоти. Одаривал подарками. Сладостью любви был для меня твой произвол, во власть которого я себя отдал. Я дал тебе право на всё, чтобы почувствовать себя связанным. Мне нужна связь, корни и ветви. Я позволил тебе распоряжаться собой, чтобы быть тебе в помощь. Так распоряжаются мной розы, которые я выращиваю. Я в подчинении у моих роз. В служении моём нет ничего оскорбительного для моего достоинства. Им я обязан моей любви. Я не боюсь обязательств, напротив — прошу их для себя. По своей воле выбрал я эту дорогу, ибо ничто в мире не понуждало меня. Но ты ошиблась, когда сочла моё служение зависимостью, зависим я не был. Я был великодушен. Ты считала, сколько я сделал шагов, идя к тебе. Питала тебя не моя любовь, а благоговение моей любви. Ты пренебрегла корнем, питавшим мою щедрость. И я от тебя ухожу. Любовь моя послужит смиреннице, озарив светом её жизнь. Я в помощь только той, что в помощь моей любви. Ухаживая за хромцом, я не подольщаюсь к нему, я служу его здоровью. Мне нужен путь — не стена. Ты требуешь не любви, а обожествления. Ты перегородила мне дорогу. Ты встала на ней как кумирня. Мне нечего делать с ней. Я пойду по другой тропе. Я не божок, которому нужно кадить, и не раб, которому нужен хозяин. Кто бы ни притязал на меня, я отстраню его. Я не вещь в закладе, и ни у кого нет закладной на меня. Нет и у меня ни на кого подобных притязаний. Та, что любит меня, дарит, не считая. У кого ты купила меня, чтобы считать собственностью? Я не твой осёл. Может, Господь и обязывает меня хранить тебе верность. Но перед тобой у меня нет обязательств». Если долг солдата — отдать жизнь за царство, долг у него перед Господом, а не перед царством. Господь распорядился, чтобы человек наживал суть и смысл. Суть и смысл этого человека в том, что он — воин царства. Долг дозорных — отдавать мне честь. Мне ли они служат? Я — предлог, чтобы у дозорных существовал долг. Я — узел, связавший обязанностями моих дозорных. И любовь — если долг, то перед Господом. Я увидел скромницу, она краснеет и запинается; чтобы научить её смеяться, нужно радовать её подарками, они для неё — ласковый морской ветер, а не вожделенная добыча. Я проторю к ней дорогу и выведу её на волю. Мне не надо ни унижаться в любви, ни унижать любовью. Я окружу её, словно простор, втеку в неё, словно время. Я скажу ей: «Не торопись узнавать меня, во мне ничего не поймаешь. Я — пространство и время, где ты можешь сбыться». И если я необходим ей, словно земля — семечку, для того чтобы стать деревом, я не пресыщу её своим изобилием. Я воздаю ей почести не ради неё самой. Цепко ухватятся за неё когти моей любви. Любовь моя станет для неё орлом с могучими крыльями. И не меня она будет открывать, но с моей помощью — долины, горы, звёзды, богов. Не во мне дело. Я только тот, кто несёт вперёд и вперёд. Дело не в тебе, ты — тропинка к лугам на заре. Дело не в нас обоих, мы оба — путь к Господу. Ему однажды понадобится наше поколение, и Он возьмёт его.
CLXXI
Не стоит ненавидеть несправедливость: всё в пути, она ещё станет справедливостью. Не стоит ненавидеть неравенство, ибо оно — зримая или незримая иерархия. Не стоит ненавидеть пренебрегающих твоей жизнью, ибо, если ты жертвуешь большему, чем ты сам, ты не жертва, тебя одарили. Ненавидь нескончаемый произвол, который уничтожает смысл любой жизни, ибо смысл жизни в том, чтобы потратить себя на ту вещь, которая сделает тебя долговечнее.CLXXII
Нащупай в настоящем животворное семя, что пребудет и завтра. Обозначь его. Благодаря ему люди ощутят себя значимыми, их труды осмыслятся. В настоящем тебе не нужно от них ничего сверх того, что они дают и так, что отдавали вчера. Не нужно ни большего мужества, ни меньшего; ни больше жертвенности, ни меньше. Не нужно учить их и не нужно клеймить то, что сейчас им присуще. Не нужно ничего в них менять. Нужно только выразить их как можно лучше. Из уже существующих камешков ты можешь сложить желанную мозаику. Люди тоже хотят складывать мозаику, они не знают, что им делать с насыпанными в них камешками. Выразив человека, ты сделался ему хозяином. Ибо направил того, кто искал для себя пути, искал решения и не мог найти. Дух торит дороги. Не будь им судьёй, будь божеством, что направляет. Отыщи каждому место и помоги сбыться. Всё остальное сложится само собой. Так ты заложишь жизненную основу. А она будет питаться, расти и понемногу изменит весь мир.CLXXIII
Всего-то и есть что лодка, затерянная в мирном морском просторе. Но, конечно, есть, Господи, и иная мера, благодаря ей рыбак в своей лодке покажется мне пламенеющим усердием, добывающим из вод хлеб любви ради жены и детей, или сгустком гнева из-за обречённости платить дань голоду. Или муками смертельной болезни, что сделала его комком боли. Малость человека? Как увидел ты, что он мал? Не мерь его цепью землемера. Достаточно лодки, и всё станет огромным. Достаточно, Господи, погрузить в меня якорь боли, чтобы я узнал себя. Ты дёрнешь за верёвку, и я очнусь. А может, человек в лодке терпит от несправедливостей? Но картина всё та же. Та же лодка. Та же мирная гладь. Дневная лень. Что смогу я принять от человека, если не смирю перед ним своё сердце? Господи! Приживи меня к дереву, от которого я плоть от плоти. Утекает смысл, если я в одиночестве. Пусть опираются на меня. И я обопрусь на них. Напряги меня своими неравенствами. Иначе я разлажен и преходящ. А мне необходимо сбыться.CLXXIV
Я говорил тебе о пекаре. Он месит тесто для хлеба, и, пока оно податливо липнет к рукам, теста нет. Но вот, как принято говорить, тесто схватилось. В бесформенной массе появилась упругость силовых линий. Мускулы корней разветвились в тесте. Хлеб нарождается в нём, словно дерево в почве. Ты пережёвываешь свои сложности, но без всякого толку. Перебираешь решения, но ни одно не подходит. Ты несчастен, потому что топчешься на месте, а радость приходит только вместе с движением. И вот, переполнившись отвращением к собственной развинченности и дробности, ты поворачиваешься ко мне, прося избавить тебя от противоречий. Я могу разрешить их, предложив тебе решение. Предположим, ты страдаешь, оказавшись пленником победителя, и тогда я скажу тебе так: ты упростил себя до выбора «за» или «против», ты готов осуществить выбор, но душевный покой, который ты обретёшь, будет покоем или фанатика, или муравья, или труса. Мужество и не в том, чтобы погибнуть, побивая носителей чуждой тебе истины. Да, ты страдаешь и пытаешься избавить себя от страдания. Но ты должен принять его, и тогда ты поднимешься на ступеньку вверх. Сравни свою боль с болью от раны. Ты ищешь средства, чтобы избавиться от нагноения. Но того, кто предпочёл ампутацию лечению, я не назову мужественным, скорее — сумасшедшим или трусом. Я не за ампутацию, я за исцеление. Поэтому с горы, с которой я смотрел на город, я обратил к Господу такую молитву:«Вот они здесь, Господи, они просят меня сделать их значимыми. Они ждут для себя истины, от меня ждут, Господи, но она ещё не вызрела. Помоги мне! Я только начал месить тесто, оно ещё не схватилось. Ещё не проросли корни, и я узнал тяжесть бессонных ночей. Но знакома мне и тяжесть зреющего плода. Ибо всякое созидание поначалу крупица в реке времени, но мало-помалу разрастается и обретает форму. Они несут мне вперемешку свои стремления, желания, нужды. Они загромоздили ими мою строительную площадку, их я должен соединить воедино, их должен вобрать в себя храм или корабль. Но я не пожертвую нуждами одних ради нужд других, величием одних ради величия других. Покоем этих ради покоя тех. Я соподчиню их всех друг другу, чтобы они стали кораблём или храмом. Я понял, что соподчинить означает принять и отвести место. Я подчиняю камень — храму, и он уже не валяется в куче на строительной площадке. Не будет ни одного гвоздя, которым бы я не воспользовался для корабля. Я не придаю значения большинству голосов; большинство людей не видит корабль, он слишком далёк от них. Окажись в большинстве кузнецы, они взяли бы верх над плотниками, и кораблю не появиться на свет. Мне не нужен порядок, царящий в муравейнике. Я могу навести порядок с помощью палачей и тюрем, но человек, взращённый в муравейнике, будет муравьём. Я не вижу смысла оберегать особь, если она не копит опыт и не передаёт наследства. Конечно, сосуд необходим, но драгоценен в нём душистый бальзам. Не хочу я и всеобщего примирения. Примирить всех — значит удовольствоваться тёплой бурдой, где ледяной оранжад[371] смешался с кипящим кофе. Я хочу сберечь особый аромат каждого. Ибо желания каждого достойны, истины истинны. Я должен создать такую картину мира, где каждому отыщется место. Ибо общая мера истины и для кузнеца, и для плотника — корабль. Но настанет час, Господи, и Тебе станет жаль меня за царящий во мне разлад, хотя я принимаю его. Домогаюсь я безмятежности, что воссияла бы над преодолёнными противоречиями, мне не нужно перемирия между соратниками — перемирия, сложенного наполовину из любви, наполовину из ненависти. Если я обижаюсь, Господи, то из-за того только, что не всё ещё уразумел. Если сажаю в тюрьмы и казню, то из-за того только, что не умею приютить. Владелец непрочной истины, утверждающий, что свобода лучше принуждения или, наоборот, принуждение лучше свободы, кипит от гнева, считая, что ему противоречат, но он в плену неуклюжего языка, где слова то и дело дразнят друг друга. Громко кричишь, потому что язык твой неубедителен и ты хочешь перекрыть голоса других. Но на что мне обижаться, Господи, если я добрался до Твоей горы и увидел сквозь пелену слов, какая идёт работа? Того, кто идёт ко мне, я приму. Того, кто взбунтуется против меня, пойму. Пойму, почему он заблудился, и ласково заговорю с ним, постаравшись, чтобы он вернулся. Ласково не потому, что уступаю ему, подольщаюсь или хочу понравиться, — потому, что явственно увидел настоятельность его жажды. Она стала и моей тоже, потому что и заблудшего я вобрал в себя. Не гнев ослепляет — гнев порождён слепотой. Как обижает тебя эта сварливая женщина! Но она расстегнула платье, ты увидел: у неё рак кожи — и простил её. Разве можно обидеть отчаяние? Мир, к которому я стремлюсь, добывается муками. Я согласен на жестокость бессонных ночей, ибо шаг за шагом иду к Тебе, в Ком разрешились все вопросы, Кто всё выразил, Кто есть тишина. Я — медленно растущее дерево, но я — дерево. Благодаря Тебе я вбираю в себя земные соки. Как явственно я ощущаю, Господи, что дух преобладает над разумом. Ибо разум ощупывает вещественное, дух прозревает корабль. И если я зачал корабль, они одолжат мне свой разум, чтобы выявить, вылепить, облечь, укрепить желанное мной творение. С чего им отталкивать меня? Я ничем не отяготил их, наоборот, дал возможность каждому любить любимое. Разве плотнику тяжелее будет строгать доски, если это будут доски для корабля? Даже равнодушные, что до сих пор оставались без места, повернутся в сторону моря. Ибо живая жизнь всегда притягивает к себе и перерабатывает в себя всё окружающее. Если не будет зрим корабль, как узнать, куда направится человек? По вещественности никак не определишь пути. Человеку не родиться, если вокруг не зародить жизни. Но когда уложены камни, душа человеческая погружается в море тишины. Когда семя кедра втягивает в себя землю, я могу предвидеть, как будет вести себя земля. Если знаю строительный материал, знаю строителя и знаю, к чему он стремится, то могу сказать: они пристанут к дальнему острову».
CLXXV
Я хочу видеть тебя устойчивым и основательным. Хочу, чтобы ты был верным. Основа верности — верность самому себе. Чего достигнешь изменами? Медленно наращиваются узлы, что будут питать тебя жизнью, определят направление, станут смыслом и светом. Будто камни, складывающие храм. Разве рассыпаю я каждый день камни, чтобы выстроить храм ещё краше? Если ты продаёшь своё царство ради другого, на взгляд, может быть, лучшего, ты неотвратимо утрачиваешь что-то в самом себе, то, чего не найдёшь никогда. Почему тебе так тоскливо в твоём новом доме? Куда более удобном, лучше обустроенном — доме, о каком ты мечтал в нищете былого? Колодец так утомлял тебя, и ты мечтал о водопроводе. Вот он — водопровод. Но теперь тебе не хватает скрипа во́рота, воды, добытой из чрева земли, что вдруг отражала твоё лицо, когда в колодец ныряло солнце. Не подумай, будто я не хочу, чтобы ты взбирался на гору всё выше и выше, шёл всё дальше и дальше. Но пойми, одно дело — ощутимая победа твоих усилий: водоём, которым ты украсил свой сад, и совсем другое — переселение в чужую раковину. Одно дело — непрестанное совершенствование одного и того же, изукрашивание храма, например, или всё новая и новая листва растущего вольно дерева, другое — равнодушная перемена места обитания. Я перестаю доверять тебе, ибо ты оборвал связь, утратил самое драгоценное своё достояние: оно не в вещах — в осмысленности мира. Я знал эмигрантов, они всегда тосковали. Прошу тебя, прислушивайся к собственной душе, иначе обманешься словами. Этот сделал смыслом своей жизни странствия. Он меняет пространства и измерения, но я не скажу, что он духовно нищает. Его постоянство — странствие. Другой любит свой дом. Постоянство его — дом. И если ему придётся что ни день переселяться, он почувствует себя несчастным. Когда я говорю «оседлый», я не имею в виду тех, кто больше всего на свете любит свой дом. Я говорю о тех, кто больше не любит дома, перестал замечать его. Твой дом — тоже ведь неуклонное сдерживание побед, лучше всего о них знает твоя жена, она обновляет его на заре. Я хочу рассказать тебе, что такое измена. Что ты, как не узел всевозможных связей и привязанностей? Ты существуешь благодаря сопряжённости, связанности. Сопряжённость существует благодаря тебе. Храм существует благодаря каждому из камней. Убери вот этот — храм обвалится. Ты привязан к земле, храму, царству. И благодаря тебе существуют земля, царство, храм. Не твоё дело судить о них, как судит посторонний, что не привязан к ним. А если судишь — судишь самого себя. Здесь твоя боль, но и жизнестояние. Я отступаюсь от того, кто отрекается от согрешившего сына. Сын его — это он сам. Пусть разбранит его, осудит, казня вместе с сыном самого себя, если любит его, пусть бьётся с его истинами, но не ходит из дома в дом с жалобами на него. Если отец отступился от сына, он перестал быть отцом, покой, которого он добился, сузил поле его жизни, покой его — покой мёртвых. Я всегда считал обделёнными тех, кто не знает, с кем они заодно. Я видел, как лихорадочно эти люди искали религию, общину, круг, куда бы их приняли. Их принимали, но единение было иллюзорным. Подлинную общность дают только общие корни. Ты ведь ищешь жизни надёжной, укоренённой, отягощённой правами, обязанностями, ответственностью. Ношу жизни не получишь, будто носилки с камнями от прораба на стройке. А когда бросаешь свою ношу — опустошаешься. Мне по нраву отец, который бесчестье греховного сына принимает за своё, посыпает голову пеплом и кается. Сын — это он сам. Он привязан к сыну и, ведомый им, ведёт его. Я не знаю дороги, что вела бы в одну только сторону. Если ты отказался отвечать за падения, окажешься ни при чём при победах. Если любишь ту, что принадлежит твоему дому, ту, что зовёшь своей женой, а она согрешила, никогда не смешаешься ты с толпой осуждающих. Она твоя, и суди сперва самого себя, ты за неё в ответе. Твоя страна в разоре? Я настаиваю: суди себя, ты — твоя страна. Конечно, окружат тебя любопытствующие чужаки, и тебе придётся краснеть перед ними. Чтобы освободиться от стыда, ты отмежуешься от грехов своей страны. Но тебе, как каждому человеку, нужно быть с кем-то и заодно. С теми, кто оплевал твой дом? «Они правы», — скажешь ты. Очень может быть. Но я хочу, чтобы ты чувствовал, что принадлежишь своему дому. Отойди от тех, кто оплёвывает. Негоже плеваться самому. Вернись домой и помолись. Скажи: «Стыдно мне. Почему лицо моё так изуродовали соотечественники?» Если их позор ты воспринимаешь как свой собственный, стыдишься его и терпишь стыд, ты сможешь повлиять на что-то, улучшить, облагородить. Себя ты облагородишь в первую очередь. Нежелание плеваться не означает сговора с пороком. Ты разделяешь позор, чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних: «Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения...» С чем тут стать заодно? Чужаки ответят, что они заодно с человеком, или с добродетелями, или с Господом. А ты — ты говоришь слова, слова опустели, не обозначая больше связующих нитей; чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошёл в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает: свеча его — молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди — не слово из словаря, люди — это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать: Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди, — я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, — знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, — знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, — суеслов с пустым сердцем. Они не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют, и живят не слова. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, кто вечно на своей стороне, тот упёрся в собственное тщеславие, как в глухую стену. Его заботит, как он выглядит, а не то, что он любит. Он перестал быть связующей нитью — стал вещью, на которую смотрят. Но в вещах нет никакого смысла. Если, стыдясь своих домашних или сограждан, ты утверждаешь, будто сам ты чист, и говоришь, будто обеляешь себя ради их чистоты, ибо вы из одного дома, — ты лжёшь. Ты сбежал из дома, как только появился недоброжелательный чужак, ты обеляешь себя — и только себя. И чужаки вправе спросить тебя: «Раз твои такие же, как ты, где они и почему не плюются вместе с нами?» Нет, ты топишь своих в позоре и позор их пытаешься обернуть себе на пользу. Бывает, конечно, и так, что человек не в силах переносить низость, пороки, позор своего дома, земли, царства и пускается в путь в поисках благородства. Человек этот — свидетельство, что среди сродных ему благородство ещё существует. Значит, жива среди них честь, раз отправила его в путь. Он — свидетельство, что и другие жаждут пробиться к свету. Но опасна и ненадёжна его попытка, душевной высоты ему понадобится больше, чем перед лицом смерти. Он повстречает любопытствующих, и они ему скажут: «Ты и сам такая же грязь». Если он чтит себя, то ответит: «Такая же, но я из неё выбрался». Судьи скажут: «Смотрите, чистые избавляются от грязи! А те, кто остался в ней, сами — грязь». И ему воздадут почести, ему лично, а не его родовому дереву. Он присвоит одному себе славу своих предков. И будет одинок, как бывает одинок тщеславец или смертник. Уходя, ты вступаешь на сомнительный путь. Ибо твои муки совести — свидетельство о живой ещё в твоих согражданах чести. Но ты их всех отсёк от себя. Ты обретёшь верность, лишь расставшись с тщеславным желанием выглядеть в чужих глазах лучше. Ты скажешь: «Я ничем не отличаюсь от них, я думаю, как они». Да, и тебя наградят презрением. Но что тебе до чужого презрения, если ты частичка большого тела? Если можешь влиять на него? Если передашь ему присущие тебе устремления и склонности? Если оно придаст тебе чести, удостоившись почестей? Чего лучшего можно желать? Если у тебя есть основания стыдиться, не показывай своего стыда. Не говори о нём. Грызи его сам. Несварение проходит, если лечишься от него дома. И понимаешь, что оно в твоей власти. Но вот у человека болят и руки, и ноги. Он ампутировал их. Он сумасшедший. Ты можешь пойти на смерть, чтобы ради тебя стали уважать твоих сограждан, но не смей отчуждать их, ты отчуждаешься от самого себя. Хорошо и дурно твоё дерево. Не все его плоды тебе по вкусу. Но есть среди них и прекрасные. Слишком просто было бы льстить себе хорошими и отвергать все остальные. Не упрощай, и хорошее, и дурное от одного корня. Несложно выбрать пышные ветки. Отрубить худосочные. Гордись тем, что прекрасно. Но если уродства больше, молчи. Твоё дело повернуться к корням и спросить: «Что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки?» Чужедальнего сердцем народ отчуждает от себя, и сам он отчуждается от народа. Так оно бывает, и бывает всегда. Ты признал правоту чужака. И хорошо бы стать тебе одним из этих чужих. Но ты не родился на их земле, она для тебя — смерть. Суть твоя причиняет тебе боль. Ты ошибся, пытаясь отделить себя от неё. Что из себя ты можешь выбросить? Болит у тебя здесь, но болеешь-то ты. Я отступаюсь от того, кто отступается от жены, города или страны. Ты недоволен ими? Ты их часть. Ты в них часть, тяготеющая к благу. Твоё дело — увлечь за собой остальное. А не судить, глядя со стороны. Судить возможно двояко. Судить можешь ты со своей стороны, судить, как судья. Но и тебя можно судить. Кому нужен муравейник? Ты отрёкся от своего дома и, значит, отрёкся от дома вообще. Отрёкся от жены и, значит, отрёкся от любви. Ты оставил женщину — тогда откуда возьмётся любовь?CLXXVI
— Пусть будет так, — говоришь ты мне, — ты кричишь во весь голос против вещей, но есть вещи, которые меня облагораживают. Ты возражаешь против стремления к почестям, но есть и унизительные почести. Пойми, дело не в вещах и не в почестях. Значимость их зависит от духа твоего царства. Прежде всего они части целого. Части, вносящие разнообразие. И если ты служишь целому и обогащаешь его, — ты обогащаешься сам. Можно подтвердить это на примере спортивной команды, если только она настоящая. Вот один из команды завоевал приз, вся команда гордится, обогатившись сердечной радостью. Горд за свою команду и чемпион, он возвращается с кубком под мышкой и пылающими щеками. Но если нет команды, а есть группа чуждых друг другу людей, приз значим только для чемпиона. Он презрительно поглядит на тех, кто не получил его. А они позавидуют ему и возненавидят. Чужая удача будет каждый раз ударом в сердце. Теперь ты видишь: один и тот же кубок для одних — возможность стать благороднее, для других — хуже. Служит тебе только тот, кто торит дороги взаимообменов. И ещё пример: мои юные лейтенанты — они мечтают умереть за царство, и вот я сделал их капитанами. Они в ореоле славы, но разве стали от неё хуже? Я помог им стать ещё деятельнее, ещё преданнее. Облагородив их, я облагородил большее, чем они, — царство. Лучше будет служить моему царству и флагман. В день, когда я сделаю его флагманом, своим воодушевлением он воодушевит и капитанов. И ещё пример: счастливая своей красотой женщина, счастливая потому, что одарила счастьем мужчину. Как украшает её бриллиант! Как украшает она любовь! Человек любит свой дом. Дом его так скромен. Но он трудится ради него днём и ночью. В доме не хватает пушистого ковра или серебряного кувшина, из которого наливают воду в чайник, когда пьют чай вместе с возлюбленной перед часом любви. И вот настаёт вечер, когда, наработавшись, он входит в лавку и после многих бессонных ночей, тяжёлых работ выбирает самый красивый ковёр, самый красивый кувшин, как выбирают драгоценную реликвию. Он возвращается домой, порозовев от гордости: с сегодняшнего дня его дом будет воистину домом. Он созывает всех друзей отпраздновать новый серебряный кувшин. Молчаливый, застенчивый, он разговорился во время своего торжества, и меня трогает его радость. Человек этот вырос в собственных глазах и ещё преданней будет служить своего дому, потому что дом стал ещё прекраснее. Но царства, которому ты служишь, нет, если почести, знаки отличия или богатства ты забираешь себе и только себе, их словно бросают в бездонный колодец. Ты поглощаешь их. В тебе просыпается жадность, и ты всё ненасытнее пестуешь в себе алчность. Ты не понимаешь, откуда горечь, что приходит к тебе вечерами, когда ты оглядываешь свои сокровища, которых так неукротимо жаждал. «Тщетны земные блага, — твердишь ты, — тщетны!..» Тот, кто кричит о тщете вещественного, служит одному себе. И, конечно, ничего не найдёт.CLXXVII
Я заговорю с тобой, и с моей помощью тебе откроется очевидное. Я верну тебе твои божества. Кто-то верит в ангелов, кто-то в демонов, кто-то в духов. Достаточно, чтобы они народились, и вот они уже трудятся. С мига, когда ты постиг, что же такое милосердие, оно начинает привлекать к себе человеческие сердца. У тебя есть родник. Но не каменный обод чаши, истёртый многими поколениями, не журчание и не запас воды, собранный в эту чашу, словно урожай в корзину (твои волы приходят к ней на водопой и пьют), нет, не сама по себе вода, журчанье, молчаливая чаша, не прохлада воды в ладонях — прохлада не только ночью, когда в воде дрожат звёзды, такие освежительные на вкус, — значима божественность твоего родника, она осеняет и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие волов, и утоление жажды, её ты и чувствуешь, её не теряешь среди дробности вещей. Ибо драгоценнее всего радование роднику. Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчанье в ночной тишине. Не важно, что останется он где-то далеко-далеко: мне достаточно будет разбудить тебя. Подарок мой будет драгоценнее золотого обода кольца с бриллиантом, потому что дорого нам не то, что мы используем, — дорого предвосхищение праздника или воспоминание о нём. Вот и хозяин царства идёт полевым просёлком (чем ему царство сейчас в помощь?), и всё-таки он — хозяин, а не слуга, на сердце у него забота и о стадах, и о хлеве, и о спящих пока фермерах, и о зацветающем миндале, и о будущих тяготах жатвы; никого, ничего он сейчас не видит, но за всё ощущает себя в ответе. Вот она, власть Божественного узла, что связал воедино разноликую дробность мира, превратил её в божество царства, смеющегося над стенами и стенаниями бездн. В твоей ночи я хочу видеть и тебя хозяином, пусть ты умираешь в пустыне от жажды, пусть влагу твоей жизни иссушила скупость засыпанного песком колодца, но тебя не оставит божество твоего родника. И если я говорю тебе, что журчанье родника — это стук сердца яблонь, кедра, оливы, ибо он питает их жизнью (ты увидишь, как умирают деревья, стоит замолчать воде), то говорю это, чтобы передать тебе сокровище, чтобы ты уподобился моему воину: он спокоен и уверен в себе в той пустыне, куда я пришёл на заре рассевать свои семена, спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которой словно бы и нет на свете, оттого что она крепко спит, но голос её, её дыхание — живительный ток для сердца. Больше всего на свете не хочу я, чтобы ты убивал своих хрупких богов, они умрут беззвучно, словно голубки, не оставив ни пёрышка. Ты и не заметишь, что погубил их. Останется обод чаши, и вода, и её журчанье, и оловянный водосток, и каменная мозаика, и ты, что перебираешь всё это, желая понять и не понимая, что же ты всё-таки потерял. Ты не потерял ничего вещественного, кроме жизни этого вещества. Порукой моей правоты — слово в поэме, ставшее для тебя откровением. Я могу присоединить и его к тем божествам, что наживаются так постепенно. Медленно перевоплощается в божество и твоя деревня, сейчас она задремала, припрятав в запас зерно и солому, прибрав лопаты, цепы и мотыги; дремлет вместе с невеликимгрузом желаний, соблазнов, гнева и жалости; с древней старухой, что, будто перезрелое яблоко, готова скатиться с этого дерева; с младенцем, что вот-вот готов появиться на свет; с преступлением, что всколыхнуло её, будто вспышка болезни; прошлогодним пожаром, о котором ты вспомнил, залечивая оставленные им раны; с ратушей, с именитыми гражданами, — они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь рыбачья лодка с малозаметной под звёздами судьбой. Но вот я сказал тебе: «родник твоей деревни», и сердце в тебе встрепенулось, ты сделал шаг вперёд, и ещё один, и мало-помалу твой путь откроет тебе лик Господа, который только и может насытить тебя и удовлетворить; от одной вехи к другой пойдёшь ты к Тому, Чьё присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к Тому, Кто суть и смысл той книги, откуда я беру отдельные слова, к Нему — Мудрости, к Нему — Бытию и Жизни, к Нему, Который возвращает тебе всё востребованное, Кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вещную дробность мира, чтобы в ней появился смысл, — к Господу, Который обожествил и родники, и деревни. Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мёд, он не в вещественности — в осмысленности всех вещей на свете. Теперь тебе так не терпится жить, но дороги к жизни ты отыскать не умеешь. Я знал садовника, он умирал, не успев обиходить свой сад. Он спрашивал: «Кто обрежет мои деревья?.. Кто посадит цветы?..» И просил продлить ему дни, чтобы навести в саду порядок. У него были прекрасные цветы, затаившиеся в кладовке семена, лежали в сарае лопаты и грабли, способные разбудить силу земли, острый нож на поясе, умеющий омолаживать усталые деревья, но без него всё это было инструментами, предметами, вещами, а не священной утварью, необходимой для обряда богослужения. Вот и с тобой, мой народ, сталось то же, что с утварью садовника, с тобой и с твоими хранилищами — с твоей соломой, зерном, устремлениями, милосердием, тяжбами, спорами, умирающими старухами, ободом колодца, мозаикой, журчанием воды. Ты не можешь стать единым целым со своей деревней, со своим родником: развязался магический Божественный узел, а алчущее сердце сыто лишь пищей духа.CLXXVIII
Перестав слушать людей, я услышал их. Одни мудры, другие — нет. И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнём щёки и в душе смуту — чёрный комок, подобравшаяся пантера. Она уже сжалась иссиня-чёрной молнией, сейчас ударит. Они похожи на вулканы с безудержной и бесполезной мощью. Но таков же и огонь солнца, а благодаря солнцу цветут цветы. Ты улыбнулся с утра любимой, потянулся к ней с поцелуем, и одно за другим всё происходящее исполнилось смысла. Нужен магнит, чтобы собрать тебя воедино и породить заново. Рождение — всегда открытая рана. Это видно по дереву, на взгляд оно — дремотная размеренность и неспешность, окружившая себя, будто царством, душистым ароматом, но в один миг его мощь может стать пищей пламенеющего пожара. Знаешь, из тебя, из твоих вспышек гнева, ровностей, хитростей, тревожной лихорадки, что делает тебя таким трудным к вечеру, я хочу вырастить умиротворённое дерево. Не отсекая от тебя лишнее, потому что так я растоплю ледник и превращу тебя в гниющее болото, но собрав воедино, как семечко, которое, став деревом, хранит солнце. Я сею духовность, и она взрастит тебя, будто семя, ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность. Я не говорю: «Приди ко мне, и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, придам форму», я говорю: «Приди ко мне, и ты породишь сам себя». Ты протянешь мне свою разноликую дробность, — и я верну тебе тебя цельностью. Не я буду идти посредством тебя, ты сам пустишься в путь. Я помог, внеся в тебя соразмерность. Так вот, женщина эта горяча и озлобленна. Как озлобляет душу жестокость душных ночей, когда без толку поворачиваешься с боку на бок, разбитый, оставленный, несчастный. Бестолковый дозорный разорённого города. Я знаю, ей не управиться со своим разладом. Она зовёт сказителя и приказывает: «Пой!» Он поёт. «Не то! — говорит она. — Убирайся!» И зовёт другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает. В изнеможении будит подругу: «Тоска смертная! Сказками её не развеять...» И любовь — один, другой, третий... она обирает одного за другим. Она ищет в каждом себя цельной и сбывшейся, но как найдёшь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других. Но в тишине приду я. Я — незримый сшиватель. Я ничего не переменю в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскуту значимость и смысл, я — незримый любовник, помогающий сбыться.CLXXIX
Скрипка без скрипача, счастливая возможностью издавать звуки. Я видел: рад ребёнок, трогая струны и удивляясь своим пальцам. Что мне до случайного звука струны: я хочу, чтобы ты обжил сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет, ты пренебрёг становлением. Ты бредёшь и пробуешь наугад то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычайный звук. Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение (как будто оно яблоко, которое можно подобрать) и, ухватив его, вернуться поэтом. Но я хочу прочно укоренённого семени, пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в вечернем ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен? Ты сказал, что чтишь любовь. Говоришь, что чтишь справедливость. (Справедливость вообще, а не справедливые поступки.) И во имя справедливости легко идёшь на несправедливости. Чтишь милосердие — и без труда становишься жестоким, служа ему. Чтишь свободу, но сажаешь в тюрьмы несогласных с тобой. А я? Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюблённых, но не любовь. Точно так же, как не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные творения. Всё начинается с дела — созидай, постигай, твори. Рано или поздно придёт воздаяние. Но те, что любят возлежать в парадной постели, желают заполучить в своё распоряжение главное, не преодолев дробности. Так курильщик гашиша за несколько су опьяняется творчеством. Кто они, как не гулящие, отданные на волю всех ветров? Как снабдишь их любовью?CLXXX
Я не люблю толстосумов, но принимаю их как ступеньку более высокую по сравнению с вонючей, грубой помойкой, как обещание, что мой город станет красивее. Помню, что противостояний нет, что от совершенства веет смертью. Принимаю плохих скульпторов, надеясь на появление хороших, дурной вкус как путь к хорошему, внутренние запреты как путь к свободе и толстосумов как путь к дальнейшему облагораживанию, но не ради них самих, не во имя их — принимаю ради тех, кого они способны кормить. Толстосум платит ваятелю за статую, он — житница насущного, где хороший поэт поклюёт зерна, необходимого для поддержания жизни. Зерно украдено у земледельца, украдено, потому что в обмен предложены стихи, но крестьянин посмеётся над стихами; или статуя: её он, возможно, не увидит, но, не будь грабителей-толстосумов, у меня не было бы и ваятелей. Что мне за дело, если житница приобрела обличье человека? Человек — путь, кладь, повозка. Но ты продолжаешь упрекать меня, говоря, что дурно, если склад зерна станет складом стихов и статуй, закрытым для взгляда простых людей. Я отвечу: опасаешься ты напрасно, тщеславие склонит толстосумов выставлять напоказ свои сокровища, а что касается их дворцов, то они и так у всех на виду; но запомни и другое — облагораживает душу не использование готового, а творческое горение; я ведь рассказывал тебе о царстве, что прославилось умением танцевать, хотя ни толстосуму в серванте, ни простолюдину в музее не сохранить станцованный танец, танец не превратишь в запас. Ты возмущаешься, что у девяти из десяти меценатов нет никакого вкуса, что они поощряют слюнявых поэтов и бездарных скульпторов! Я отвечу: до их вкуса мне мало дела, но если я хочу, чтобы дерево моё расцвело, я принимаю всё дерево целиком, — пусть стараются десять тысяч бездарных скульпторов, тогда появится и один, стоящий. Значит, мне и нужно десять тысяч житниц с дурным вкусом и только одна, которая знает толк в вещах. Но противостояний нет, а значит, нет и однозначности, море вызывает к жизни корабли и топит их. Толстосум может и не быть путём, повозкой и кладью, он может пожирать свой народ из одного-единственного наслаждения переваривать пищу. Желательно, чтобы море не топило корабли, принуждение не сковывало свободу, бездарность не уничтожала даровитости, толстосум не пожирал царство. Тут ты интересуешься, каким образом я намереваюсь избавить нас от грозящей опасности. Нет у меня мер. Ты не спрашиваешь, как управлять камнями, чтобы они сложились в храм. Храм рождают не камни — архитектор: он заронил семя, оно — притянуло камни. Я должен жить, творить, проторить стихами дорогу к Господу, она поведёт мой народ, сделает его усердным и заставит зерно в житницах и толстосумов служить Господней славе. Не подумай, что я озабочусь спасением житницы только потому, что она обрела обличье человека. Не буду спасать и вонь, хоть она и присуща золотарю. Золотарь — путь, кладь, повозка. Не подумай, что мне интересно, за что люди возненавидели несхожее с ними. Люди — путь, кладь, повозка. Мне нет дела до славословия и лести одних, до ненависти или восторгов других, в каждом из людей я служу Господу. Я стою на склоне моей горы, я один, будто вепрь, недвижим, словно дерево, что в бегущей реке времени перерабатывает каменистое дно в пригоршню цветов с семенами и бросает их в ладони ветра, — с ними улетает в свет слепой перегной, — я вне призрачных противоречий в своём бессрочном изгнании, ни «за», ни «против», не с этими и не с теми, я над кровными узами, партиями, заговорщиками, я сражаюсь за дерево один против всего того, из чего составлено дерево, ради всего того, из чего составлено дерево, я — во имя дерева, и кто возразит мне?CLXXXI
Вот и ещё одна сложность: привести мой народ к свету истины я могу лишь при помощи дела, никак не слов. Жизнь до́лжно строить как храм, тогда и увидишь её в лицо. Но что сделать из череды одинаковых дней, похожих на уложенные в ряд камни? Однако, состарившись, ты скажешь: «Я праздновал праздники моих отцов, выучил моих сыновей, потом женил их, и нескольких из них, взрослых и крепких, Господь взял к Себе, чтобы они и дальше трудились ради Его славы, и я похоронил их». Дни твои — чудесные семена, что преобразуют землю в песнопение и протягивают его солнцу. Ты и зерно преображаешь в свет, светящийся в глазах любимой, когда она улыбается тебе, а потом молится. И когда я рассеваю семена, они сродни вечерней молитве. Я тот, кто идёт не спеша и разбрасывает семена под взглядом звёзд, но, если я окажусь слеп или заносчив, как мне узнать своё предназначение? Из зерна вырастет колос. Колос преобразится в человеческое тело, из человека родится храм во славу Господа. И тогда я могу сказать об этом зерне, что в его силах собирать камни. Для того чтобы земля стала храмом, достаточно одного крылатого семечка в ладони ветра.CLXXXII
Я не начну с того, что всё знаю и понимаю, я просто пойду и оставлю за собой след... Я принадлежу царству, оно — мне, нас не разделить. Если я жду чего-то, то только от того, что заложил собственными руками, я — отец своих сыновей, они — плоть от моей плоти. Я не великодушен и не скуп, не жертвую собой и не подвигаю на жертвы — и если погибну на стенах города, то погибну за самого себя, ибо и я — часть моего города. Ибо естественно умереть из-за того, чем жил. Но ты пытаешься найти, словно товар в лавке, живую радость, которая даётся только в вознаграждение. Ведь и город среди песков становится для тебя алым гранатом, потому что он — вознаграждение, и ты не устаёшь наслаждаться его ароматной мякотью и с наслаждением приникаешь к нему. Ты бродишь по его рынкам, наслаждаясь пёстрым развалом овощей, душистыми пирамидами мандаринов, что тщательно выстроены, словно столицы посреди провинции; но притягательнее всего для тебя пряности, магической силой они равны бриллианту, раз щепотки сладкого перца довольно, чтобы привлечь издалека вереницу парусных судов, каждый под своим флагом, чтобы заставить тебя вспомнить и морскую соль, и гудрон портов, и запах кожаных ремней, что овевал твои караваны посреди нескончаемого безводья, когда ты вёл их к неведомому чуду — к морю. Поэтому я и говорю, что поэзию рынка пряностей ты создал сам, своими мозолями, ссадинами, мучениями собственной плоти. Но что ты найдёшь, если нет у тебя победы, которую ты празднуешь, если сжигаешь ты избыточные запасы масла? Боже мой, да испив однажды воды из колодца Эль Ксур!.. Да! Мне нужно праздничное торжество для того, чтобы вода сделалась песнопением... Так вот я и буду идти. Я пускаюсь в путь без большой охоты, но моя житница — перевалочный пункт для зерна, и я уже не могу различить, для накопления она или для траты. Я хотел посидеть и насладиться покоем. Но оказалось, что нет покоя. Теперь я знаю, что ошиблись те, что надеялись на возможность почивать на лаврах прошлых побед, воображая, будто можно запереть и сделать запас из победы, тогда как победа, будто ветер: попробуй запереть его — ветра нет. Безумец, любя журчанье воды, закрывает её в бутылке. Ах, Господи! Я стараюсь быть путём и повозкой. Езжу туда и обратно. Тружусь, как осёл или лошадь, с упрямым терпением. Я не вижу ничего, кроме земли, которую перекапываю, а потом, завязав фартук, вижу только зерно, золотящееся у меня под руками, зерно, предназначенное для сева. Тебе, Господи, выдумывать весну и проращивать зёрна во имя Твоей славы. И вот я иду против течения. Я обрёк себя на печальное хождение по кругу, словно дозорный, которому хочется спать, который мечтает о супе, но один раз в год Бог дозорных шепчет ему: «Как прекрасен этот край... сколько верности в дозорном... как он зорок в своём бдении!» Тебе воздаётся за твои сто тысяч шагов по кругу. Я приду тебя навестить. Мои руки возьмут твоё оружие. Но вместе с твоими, как поддержка твоим. И ты ощутишь себя щитом, укрывающим всё царство. И моими глазами с высоты стен ты увидишь красоту города. Ты, я, город станем единым целым. И любовь откроется тебе, как жгучая рана. И если костёр обещает быть прекрасным, если красота его — достойная плата за твою жизнь, которую ты собирал полешко к полешку и сложил поленницу, я позволю тебе умереть.CLXXXIII
Семя кедра может посмотреть на себя и сказать: «Как я прекрасно, полно сил и жизненной мощи! Я — уже кедр. Лучше кедра, ибо я его суть». Но я, я говорю, что оно пока ещё пустое место. Оно — повозка, кладь, путь. Оно — переключатель. Так пусть совершит переключение. Пусть, не торопясь, подведёт землю к дереву. Пусть выстроит кедр во славу Господа. Я буду судить, каково оно, по его кроне. И точно так же смотрят на себя люди: «Я такой или этакий...» Они кажутся себе сокровищницей. В сокровищницу, где сложены необыкновенные богатства, непременно ведёт дверь. Достаточно найти её на ощупь. Случай поможет, и хлынут потоком стихи. А ты, застыв в неподвижности, будешь слушать их голос. Так поступает негритянский колдун. С видом знатока рвёт он случайные травки, собирает что ни попадя. Складывает всё в большой котёл и варит безлунной ночью. Приговаривая слова, слова и снова слова. Он ждёт, что от его котла изойдёт незримая сила и опрокинет войско, что движется к его хижине. Но нет силы. Он вновь принимается за дело. Изменяет слова. Меняет травы. И желание его не пропадает втуне. Видел и я, как древесное тесто и чёрный отвар опрокидывали царство. Я имею в виду мою грамоту с объявлением войны. Я видел котлы, из которых вылетала победа. В них изготовляли порох. Видел, как слабое дрожанье воздуха, вышедшее из одной груди, поджигало мой народ, словно пожар. Так призывали к бунту. Видел я и расположенные особым порядком камни, благодаря им плыл корабль тишины. Но я никогда не видел, чтобы что-то получилось из случайно собранных предметов, если не было объединившей их воедино человеческой души. От стихов я могу заплакать, но куча детских кубиков с буквами не выжала ни у кого ни одной слезинки. Непроросшее семечко — пустое место, сколько бы ни восхваляло оно себя за будущее дерево, на которое пока себя не потратило. Конечно, ты стремишься к Господу. Но из того, кем ты можешь стать, совсем не следует, что сейчас ты уже таков. Всплески твоих желаний бесплодны. В знойный полдень семечко, даже если оно семя кедра, не даст мне тени. Жестокие времена пробуждают спящего ангела. Продираясь сквозь нас, разрывает он свои пелены и слепит глаза светом! Ох уж эти наши тесные, скудные языки, пусть ангел вместит всех нас и сольёт воедино! Пусть ангел возопит вместо нас. Возопит, призывая то, чего нет. Возопит, ненавидя бунты и мятежи. Возопит, требуя хлеба. Пусть преисполнит значимости жнецов, или жатву, или ветер, что гладит ниву, или любовь, или ещё что-нибудь, нуждающееся в постепенности и неспешности. Но ты, грабитель, отправляешься в весёлый квартал и затеваешь сложную игру, надеясь заманить любовь и заставить её отозваться, — любовь откликнется на простое прикосновение твоей жены к твоему плечу.Согласен, лишь магия веками установленного уклада ведёт тебя к поимке добычи — добычи, что ничем не похожа на ловушку, добычи вроде трепещущего счастьем сердца; северяне ловят её раз в году, с помощью запаха смолы, украшенной ёлки и горящих свечек. Но я назову ложной магией, ленью и непоследовательностью помешивание в твоём котле случайных травок в надежде на чудо, которого ты не приготовил. Забыв сбыться, ты пытаешься назначить встречу с самим собой. Не надейся. Бронзовые двери затворились перед тобой.
CLXXXIV
Мне было грустно, печалили меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Никакое добро тебе не в помощь, ибо ты попираешь его, желая возвыситься. Да, дерево ищет в земле соков, чтобы питаться ими и преображать в себя. Ты тоже питаешься. Но, кроме пищи, что может быть тебе в помощь? Гордость питается невещественным, и ты нанимаешь людей, чтобы они прославляли тебя. И они прославляют. Но хвала их тебе не в радость. Пушистые ковры украшают дом, и ты отправляешься за коврами в город. Ты набил коврами свой дом. Но и ковры тебе не в радость. Ты завидуешь соседу, у него не дом — королевский дворец. И ты отнимаешь у соседа дворец. Ты в него вселился. Но того, что искал, не нашлось и во дворце. Есть должность, которой ты домогаешься. Ты пустился в интриги. И вот она твоя. Но и должность похожа на необжитый дом. Для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые ты можешь разложить в нём, считая его своим. Да и что значит «своим»? Ничего, коль скоро ты однажды умрёшь. Важно вовсе не то, чтобы был он твоим, этот дом, лучше был или хуже, важно, чтобы ты был из этого дома, только тогда он покажет тебе дорогу и твоему дому будет принадлежать твоя династия, твой род. Радует не вещь — дорога, которую она тебе приоткрыла. Иначе как было бы просто хмурому бродяге-себялюбцу порадовать себя изобильной, роскошной жизнью, ходи себе туда и сюда перед королевским дворцом и тверди: «Я — король. Вот он, мой дворец». Но и для хозяина дворца дворец со всей его роскошью в эту минуту мало что значит. Хозяин занимает сейчас в нём одну только комнату. Может, прикрыл глаза, а может, зачитался или заговорился и, значит, не видит и комнаты. Вышел в сад и повернулся к дворцу спиной, не видя ни колонн, ни арок. И всё-таки он — хозяин дворца, он хранит его в своём сердце весь целиком: и тишину пустого зала совета, и мансарду, и погреба, и, возможно, чувствует себя облагороженным. Да, конечно, нищий может поиграть в хозяина замка, — что, кроме образа мыслей, отличает его от короля? — может важно расхаживать взад и вперёд, словно бы облачив душу в мантию. Но игра есть игра, воображаемые чувства мгновенно свернутся и исчезнут, а вместе с ними улетучится и мечтание нищего. Заговори я с ним о кровавой сече, его мантия упадёт, и ему расхочется играть. Мгновенно развеивается и туман счастья, в который тебя погрузила песня. Всё телесное ты можешь присвоить себе, переварить, приживить. Но напрасно ты пытаешься присвоить, переварить и приживить духовное. Честно говоря, радости пищеварения невелики. Да и невозможно приживить к себе дворец, серебряный кувшин или друга. Дворец останется дворцом, кувшин кувшином, а друзья будут жить своей жизнью. А я, я — хирург, и из нищего, что пытается походить на короля, приглядываясь к дворцу или к чему-то лучшему, чем дворец, — к морю или к чему-то лучшему, чем море, — к Млечному Пути, но ничего не в силах присвоить и окидывает мрачным взором пространство, — из него я высвобождаю подлинного короля, хотя, на взгляд, нищий остался нищим. Но ничего и не нужно менять на взгляд, потому что одинаковы между собой и король, и нищий, одинаковы, когда сидят у порога своего жилища мирным вечером, когда любят и когда оплакивают утраченную любовь. Но один из них, и, возможно, тот, что здоровее, богаче, у кого больше и ума, и сердца, пойдёт сегодня вечером топиться в море, и нужно удержать его. Так вот, чтобы из тебя, вот такого, каков ты есть, высвободить иного, не нужно снабжать тебя чем-то зримым, вещественным или как бы то ни было тебя изменять. Нужно обучить тебя языку, благодаря которому ты увидишь и в окружающем, и в себе самом такую нежданную, такую берущую за душу картину, что она завладеет тобой и поведёт, — представь, ты мрачно сидишь перед кучей деревянных финтифлюшек, не зная, что с ними делать, и вдруг прихожу я и обучаю тебя игре в шахматы, — каким сложным, стройным, увлекательным языком начинаешь ты говорить. Потому я и смотрю на людей в безмолвии моей любви, потому и не упрекаю их за тоску и скучливость, они не виноваты, виновен скудный язык, который каждый из них освоил. Я знаю: победителя-короля, что вдыхает знойный ветер пустыни, отличает от нищего, что дышит тем же зноем, только язык, но я буду несправедлив, если, не обучив нищего новому языку, стану упрекать его за то, что он не дышит, как король, победой. Я хочу дать тебе ключ, отпирающий пространство.CLXXXV
И один, и другой, я вижу, толкутся возле житницы мира, возле собранного мёда. Они похожи на чужаков в некрополе, для них всё мертво — но город этот жив и чудесен, только огорожен высокими стенами, — они похожи на иноземцев, что слушают стихи на неведомом языке, на равнодушных, что глядят мимо красавицы, за которую другой бы отдал жизнь, а этим и влюбиться лень... Я научу вас укладу любви. Для любви необходимо божество. Я видел, как в схватке из-за колодца воин, что мог бы выжить, позволил ночной темноте задёрнуть свет жизни; он потерял лисёнка, который долго жил его нежностью и сбежал, повинуясь голосу природы. Воины, мои воины, однообразен ваш роздых, однообразны тяготы. Чтобы отогреть вас, нужно, чтобы ночь стала ночью возвращения, пригорок таил надежду, сосед оказался долгожданным другом, барашек на углях — торжеством в честь дня рождения, слова — стихами гимна. Нужен красивый город, или музыка, или победа, чтобы вы преисполнились собственной значимости, нужно, чтобы я научил вас, словно детей, складывать из ваших камешков победоносный флот, нужна игра, чтобы ветер радости встрепенул вас, словно листву деревьев. Но вы в разладе с собой, в отсутствии. Пытаясь найти себя, вы обречены находить пустоту. Что вы, как не узел связей, привязанностей? Вот они истаяли, и вы смотрите на пустынный перекрёсток. Не на что надеяться, если любишь лишь самого себя. Я рассказывал тебе о храме. Камень служит не себе и не другим камням — они все вместе служат взлёту души, что возвышает их и служит им. Может быть, ты сможешь жить любовной преданностью королю, если станешь королевским солдатом, ты и твои товарищи. «Господи! — молил я. — Дай мне силу любить! Любовь — узловатый посох, что так в помощь при подъёме в гору. Помоги стать пастухом, чтобы смочь их вести».Я расскажу тебе, каков смысл сокровища. Он незрим и ничего не имеет общего с вещностью. Видел и ты приходящего ввечеру странника. Он вошёл себе в харчевню, поставил палку в угол и улыбнулся. Его окружили завсегдатаи: «Откуда путь держишь?» Ты понял, как могущественна улыбка? Не пускайся в путь, ища поющую лагуну дальнего острова, — готового тебе подарка от моря, подарка, обшитого пенным кружевом, — ты не найдёшь её, если не превзошёл морского уклада, пусть даже я поставлю тебя на золото её песчаной короны. Бездумно проснувшись на груди возлюбленной, ты обретёшь одну возможность — позабыть любовь. Получая подарки, ты пойдёшь от забвения к забвению, от смерти к смерти... О поющей лагуне ты мне скажешь: «Не вижу в ней ничего такого, ради чего стоило бы в ней поселиться и жить...» Но во имя любви к ней экипаж целого корабля готов пойти на смерть. Спасти тебя не означает обогатить или облагодетельствовать тем, чем ты сможешь воспользоваться. Нет, спасти — значит подчинить тебя, словно любимой жене, правилам игры. Как ощутимо одиночество, когда пустыне нечем занять меня! К чему песок, если не манит вдали недостижимый оазис, напоив всё вокруг благоуханием? На что безграничная даль горизонта, если со всех сторон не теснят племена варваров? На что ветер, если не шушукаются вдали враги? На что дробность вещей, если нет больше картины? Но мы сядем с тобой на песок. Я заговорю с тобой о пустыне, и ты увидишь такую вот картину, а не иную. Изменится всё вокруг, и ты изменишься, ибо каждый зависим от своей вселенной. Разве ты останешься прежним, если, сидя дома, узнаешь от меня, что дом твой тлеет? Или услышишь вдруг шаги возлюбленной? Или поймёшь, что идёт она не к тебе? Не говори мне, что я питаюсь иллюзиями, я не призываю тебя поверить — призываю увидеть. Что такое часть без целого? Камень вне храма? Оазис без пустыни? Если ты живёшь в сердцевине острова и хочешь узнать, что он собой представляет, нужен я, который бы рассказал тебе о море. И если живёшь посреди наших песков, нужен я, чтобы рассказать тебе о далёкой свадьбе, необычном приключении, освобождённой пленнице, приближении врагов. Не говори мне, что счастливая свадьба в дальнем шатре не бросила блик торжества и на твои пески, ибо кому известен предел её могущества? Я буду говорить с тобой, следуя принятым у тебя обычаям, сообразуясь со склонностями твоего сердца. Моим даром станет значимость окружающего тебя мира, зримая сквозь него дорога и желание пойти по ней. Я — король, я дарю тебе розовый куст, только он и может тебя облагородить, ибо я потребую от тебя розу. С этого мига ступень за ступенью строится лестница к твоей свободе. Ты начнёшь копать землю, рыхлить её, будешь вставать на заре, чтобы её поливать. Ты будешь заинтересованно следить за тем, что рождается от твоих трудов, оберегать свой куст от тли и гусениц. Как взволнует тебя появившийся бутон, каким праздником станет раскрывшаяся роза! Ты сорвёшь её и протянешь мне. Я приму её из твоих рук, ты застынешь в молчании. Что тебе делать с розой? Ты обменял её на мою улыбку... Ты идёшь домой, счастливый и просветлённый улыбкой своего короля.
CLXXXVI
Они не чувствуют, в чём смысл времени. Хотят рвать цветы, которые ещё не раскрылись, которые ещё и не цветы вовсе. Или берут расцветший где-то вдалеке, роза эта для них не венец долгого, кропотливого обряда, — а просто вещь, пригодная для купли-продажи. Спрашивается, много ли будет от неё радости? А я? Я иду к далёкому саду. В воздухе зыблется шлейф корабля, гружённого спелыми лимонами, каравана с ношей мандаринов, благоуханного острова, что ещё там, за морем. Я не получаю готовое, мне дано лишь обещание. Сад словно страна, что предстоит завоевать, юная жена, что впервые в твоих объятьях. Сад открывается мне. Там, за невысокой оградой, земля, родящая мандарины и лимоны, земля, по которой буду ходить я. Но ничто на земле не вечно, исчезает аромат мандаринов, лимонов, улыбка. Но я — знающий, для меня всё исполнено значимости. Я жду часа сада, как дожидаются часа свадьбы. А они не умеют ждать, вот почему у них нет доступа к поэзии, время для них враг, а оно омолаживает желания, украшает цветок, вынашивает яблоко. Они думают насладиться вещью, но радует только дорога, что увиделась сквозь неё. Я иду, иду и иду. И если попадаю в сад — на родину благоухания, — присаживаюсь на скамейку. Смотрю. Вот листья, они опадают, вот цветы, они вянут. Я вижу: одно умирает, другое нарождается. Я ничего не оплакиваю. Я — само бдение посреди открытого моря. Нет, на терпение это не похоже, потому что у меня нет цели, — скорее это радость ощущать себя в пути. Мы идём с моим садом от цветов к плодам. От плодов к семенам. От семян к цветам будущего года. Меня не вводит в заблуждение вещественность. Ей не дано быть божеством. Я беру лопату и грабли, творя обряд сада, и чувствую: я священнодействую. Но те, что не принимают время в расчёт, вечно сражаются с ним. Ребёнок для них вещь, они не ощущают, что он совершенствуется (он — путь к Господу, и поставить предел этому пути невозможно). А им хотелось бы малыша навек сохранить малышом, будто в нём скоплено про запас детство. Повстречавшись с ребёнком, я вижу, как силится он улыбнуться, краснеет, как хочется ему убежать. Я знаю, что́ пробивается в нём. И кладу ему руку на лоб, словно бы умиротворяя волнение моря. Они говорят: «Я вот такой. Такой и этакий. Есть у меня то и это». Они никогда не скажут: «Я — плотник, торю дорогу дереву, что обручилось с морем. Я иду от праздника к празднику. Я — отец, я родил детей и рожу ещё, жена моя не бесплодна. Я — садовник, служу весне, ей в помощь мои лопата и грабли. Я стремлюсь к...» Но они стоят на месте. Нет корабля, нет и смерти как мирной гавани. В голод они скажут тебе: «Мне нечего есть. У меня подвело живот. Подвело животы и у моих соседей. Какая там душа! У меня сосёт под ложечкой». Они знать не знают, что страдание сопутствует выздоровлению, или выяснению отношений со смертью, или перерождению, или необходимости преодолеть неразрешимое противоречие. Страдание для них не перерождение, не преодоление, не будущее выздоровление, не смертная скорбь. Оно для них неуют, неудобство, и только. И радость у них — скудная, минутная радость сытости, они набили живот, удовлетворили желание, другой они не знают, им неизвестна просторная радость странника, узнавшего вдруг, что он — путь, кладь, повозка для вожатого всех вожатых. Шаг за шагом движется караван, но не в монотонности пути его суть. Ведь подтягивая верёвки, закрепляя готовый развязаться узел, подгоняя ленивых, раскидывая для ночёвки лагерь, добывая воду для верблюдов, ты творишь обряд любви, приуготовляя себя к осенённому зеленью пальм оазису, что увенчает твоё странствие, приуготовляя себя к сладостному знакомству с городом, что начнётся для тебя с лачужек бедной окраины, но и они осиянны светом, ибо город — твоё божество. Нет предела, за которым иссякла бы мощь твоего божества. Существовать оно для тебя начинает с камней и колючек. Камни, колючки — священная утварь, первые ступени ведущей вверх лестницы. Лестницы в спальню любимой жены. Строчки стихотворения. Травы волшебного зелья. Ибо потом своим и ободранными коленями ты добываешь город. И видишь: камни, колючки — уже город, как яблоко — это солнце, вмятины в глине — толчки сердца ваятеля. Ты знаешь, пройдёт месяц, и дорожный кремень обратится в мрамор, колючки — в розы, сушь — в родники. Как остановиться в творении, если каждый шаг твой созидает город? Я всегда говорю моим погонщикам, когда мне кажется, что они устали: «Вы — камневозы, вы строите город с голубыми прудами, вы — садовники, сажаете мандариновые деревья, они уже оранжевые от мандаринов». Я говорю им: «Вы творите обряд. Потихоньку пробуждаете к жизни несуществующий город. Из песка, что у вас под руками, лепите нежных, стройных девушек. Прислушайтесь, ваши камни и колючки благоухают амброй, как возлюбленная». Но эти замечают только насущное. Близорукие скудоумцы, они видят гвоздь в доске — не корабль. В караване, идущем по пустыне, видят шаг, шаг и ещё шаг. Любая женщина для них шлюха, потому что их минутная прихоть хочет заполучить её на дармовщинку, но к возлюбленной ты идёшь по камням, продираясь сквозь колючки, её обещают тебе пальмы, тихо-тихо стучишь ты к ней в дверь. И тебя, что пришёл из такого трудного далека, встречают как чудо, ты похож на воскресшего из мёртвых. Твой долгий путь преображает женщину в расцветшую розу, пыль дней оборачивается каплями росы, каждая одинокая ночь прибавляет ей по лепестку, и вот она переполнена благоуханием, и ты открываешь в ней всю юность мира. Только так возникает любовь. Благодарность газелей получают только те, что набрались терпения их приручить. Я ненавижу в них разумность, она пригодна для счетоводов. Они только и делают, что считают ту мелочь, которую забрала у них пролетевшая секунда. Можно жить, бесконечно идя вдоль крепостной стены, и видеть один камень, второй, третий. Но если ты ощутил существо времени, ты не упрёшься ни в этот камень, ни в другой, не будешь стараться получить причитающееся тебе от камня — ты войдёшь в город.CLXXXVII
Я — обживающий. Вы голы на ледяной земле. Скорбный народ мой, затерянный в ночи, цвель на трещиноватой коре склона, что задержал каплю влаги, спускаясь в пустыню. Я сказал тебе: «Вот Орион, вот Большая Медведица, Полярная звезда». И ты запомнил свои звёзды, между собой вы говорили друг другу: «Вот Большая Медведица, Орион, Полярная звезда», говорили: «Неделю вела меня Большая Медведица», и понимали друг друга, а значит, жили в обжитом пространстве. Обжитым был и замок моего отца. «Сбегай в подвал за инжиром», — приказывал он мне, мальчишке. И я сразу ощущал сладкий запах спелого инжира и мчался со всех ног. Вот я сказал тебе: «Полярная звезда», и внутри у тебя словно бы повернулась стрелка компаса, ты различил бряцанье сабель северного племени. И если я предназначил восточное плоскогорье для празднеств, южные солончаки для казней, а отвоёванную пальмовую рощу для отдыха караванов — то ты уже живёшь у себя в доме. Ты хочешь иметь колодец, чтобы он служил твоим нуждам, — тебе нужна вода. Но присутствие воды куда менее значимо, чем её отсутствие. Кто не умирал от жажды, не родился к жизни. Лучшим жителем будет тот, кто иссыхал от пустынного безводья, мечтая о знакомом колодце, слыша в горячечном бреду скрип ворота, а не тот, кто всегда пил вдоволь из водопровода и не подозревает, как сладка колодезная вода, к которой ведут звёзды. Я чту жажду не потому, что она открыла тебе телесную необходимость воды, а потому, что принудила тебя читать звёздную карту, ловить ветер, присматриваться к следам врага на песке. Пойми главное. Речь не о том, чтобы лишениями и надругательством над жизнью заставить тебя ценить жизнь дороже. Просто, лишив тебя воды, я делаю главным в тебе желудок. Но я хочу, чтобы жажда и возможность утолить её приобщили тебя к священнодействию: ты идёшь при свете звёзд, скрипит ржавый ворот, и его песня преображает твою дорогу в молитвословие: вода — необходимость для желудка, но она питает и душу. Ты не вол в хлеве. Этот хлев можно переменить на другой, та же кормушка, та же подстилка из соломы. Волу в нём не лучше, но и не хуже. Но твоя пища должна питать не только тело, но и душу. И если ты умираешь с голоду, а друг распахнул перед тобой дверь, подтолкнул к столу, налил в кувшин молока и разломил хлеб, ты впиваешь его улыбку, еда становится для тебя священнодействием. Конечно же, ты насытился, но ещё и расцвёл благодарностью за человеческое добросердечие. Я хочу, чтобы хлеб был дружеством, а молоко дышало теплом родственности. Хочу, чтобы ячменная мука пахла празднеством жатвы. Вода полнилась пением ворота или светом звёзд. Я люблю своих воинов, и мне нравится, когда они, будто намагниченная стрелка компаса, тянутся к дому. Не из стремления обделить их теплом в походе я дорожу их привязанностью к жене, не потому, что стою за непорочность, — мне дорога обжитость пространства, они знают сердцем, где север, где юг, где восток, где запад, они знают по крайней мере хоть одну звезду — звезду, что ведёт к любимой.Но если вся земля словно весёлый квартал, где, захотев утолить любовную жажду, можно стукнуть в любую дверь, где любая женщина тебе по вкусу и хороши подряд все дороги, ты побредёшь на авось по земной пустыне и для жизни тебе не сыщется места. Мой отец ведь кормил, поил и не отказывал в девушках берберам, но они превратились в бессчастных волов. Но я — обживающий пространства, и ты не коснёшься своей невесты раньше, чем будет отпразднована свадьба, чтобы постель была победой. Да, случается, от любви умирают, если нет возможности соединиться, но смерть во имя любви — та же любовь, и если из сочувствия к влюблённым я избавлю их от препятствий, крепостных стен и установленного уклада, благодаря которым вытачивается лицо любви, я не помогаю им любить, я даю им право позабыть о любви. Убирать на пути препятствия — такое же безумство, как уничтожать бриллианты, пожалев тех, у кого их не будет, жестокость желания не требует сострадания. Если им нужно, чтобы женщина была любимой, я должен спасать их любовь.
Я — обживающий. Я — намагниченный полюс. Семечко дерева, молчаливо направляющее вверх ствол, протягивающее корни и ветки, растящее цветы и плоды, такие, а не другие, такое царство, а не другое, такую любовь, а не другую. Я ращу любовь таким образом не из желания кого-то обделить или кем-то пренебречь, а потому, что она не случайная находка, словно вещь среди прочих вещей, она — венец священнодействия, плод уклада, суть её сродни сути дерева, что вбирает в себя и преодолевает дробность. Я — осмысленность каждой вещи. Я — часовня, я — суть камней.
CLXXXVIII
На что понадеяться, если тебе не видно света, излучаемого не вещью, а смыслом? Я вижу, ты грустно застыл у двери. — Что с тобой? Ты не знаешь и принимаешься жаловаться на жизнь: — Жизнь меня больше не радует. Спит жена, отдыхает осёл, зреет зерно. Тупое ожидание мне в тягость, тоскливо мне жить и скучно. Ребёнок, растерявший игрушки, не умеющий видеть незримое. Я сажусь возле тебя и учу. Печалит тебя утраченное время, снедает тоска от того, что не сбылся. Часто говорят: «Нужна цель». Хорошо, что ты плывёшь, ты нарабатываешь себе берег. Скрипучий ворот нарабатывает тебе воду для питья. Копая землю, нарабатываешь золото нивы. Любя дом, жену, нарабатываешь детские улыбки. Медленно расшивается золотой ниткой наряд, нарабатывая праздник. Но что наработается, если ворот ты крутанул ради скрипа, сшил одежду, чтобы сносить, и любовью занимался, чтобы позаниматься любовью? Что бы ты ни делал, всё износится очень быстро, ничего не вернув тебе взамен. Ты как будто попал на каторгу, куда я отправляю нелюдь. Там, на каторге, долбят землю только для того, чтобы долбить. Один удар заступом, ещё один, и ещё, и ещё. От долбёжки в людях ничего не меняется. Они плывут и не видят берега, очерчивая круг за кругом. Они ничего не нарабатывают, они не путь, не кладь, не повозка, увлекаемая к неведомому свету. Но пусть будет над тобой то же палящее солнце, перед тобой — та же тяжкая дорога, на лбу — тот же пот, но раз в году ты будешь находить чистой воды алмаз, всё изменилось, сияющий свет стал твоим божеством. Алмаз придал смысл твоей тяжкой работе заступом. И ты уже умиротворён, словно дерево, тебе открыт доступ к смыслу жизни, который состоит в том, чтобы подниматься тебе со ступени на ступень всё ближе к Господней славе. Ты перекапываешь землю ради зерна, шьёшь ради праздника и долбишь камень ради алмаза, а те, что кажутся тебе счастливыми, богаче тебя только знанием о Божественном узле, что связует всё воедино. Тебе никогда не узнать покоя, если ты ничего не преобразишь на свой лад. Если не станешь путём, кладью, повозкой. Только так бежит кровь по жилам царства. Но ты захотел, чтобы чтили тебя самого. Ты стараешься урвать у мира частичку, которая тебе послужила бы. Но что ты найдёшь, если нет и тебя? Добытые тобой вещи ты бросаешь беспорядочной кучей в помойную яму.Ты ждёшь, чтобы пришло к тебе что-то со стороны, чтобы явился ангел и оказался тобой. Но что даст тебе этот двойник? К тебе словно бы заглянет сосед, и только. Однако я вижу: не похожи между собой спешащий к больному ребёнку, торопящийся к любимой и тот, кто идёт в пустой, холодный дом, хотя никак их не отличишь на взгляд; поэтому я и назначаю встречу с тобой, вижу гавань за пределом вещественности, значимой только для взгляда, и тогда всё меняется. Я стараюсь быть семенем, вырастающим из работы, человеком, вырастающим из ребёнка, водой, добытой из пустыни, алмазом, преодолевшим капли пота. Я понуждаю тебя строить в себе свой дом. Когда дом будет готов, в нём появится житель, что оживит твоё сердце.
CLXXXIX
Народ мой возлюбленный — вот она, мука, что вошла мне в сердце, когда я отдыхал на горе, похожей на каменную мантию. Пожар вдалеке, но я вижу пламя, чувствую запах гари. «Куда идут они? И куда я должен направить их, Господи? Если я буду распоряжаться ими, они останутся такими, какие есть. Распоряжаясь, растишь упрямство в том, кем распоряжаешься, — другого я не видел, Господи! Но как поступить мне с семечком, если из него не растёт дерево? Как сладить с рекой, если не течёт она к морю? С улыбкой, Господи, если ею не начинается любовь? Что мне делать с моим народом? Ах, Господи! Из поколения в поколение жили они в любви. Складывали сказания. Строили дома, украшали их пушистыми коврами. Продлевали свой род. Растили детей, а сработавшиеся поколения укладывали в корзины, что ты приготовил для своей жатвы, Господи. Они собирались вместе в дни праздников. Молились. Пели. Бежали. И отдыхали, добежав. Ладони их твердели от мозолей. Глаза смотрели, радовались, а потом наполнялись тьмой. Знали они и ненависть. Считались друг с другом. Ссорились. Изгоняли, забросав камнями, князей, рождённых их же племенем. Занимали их место, изгоняли друг друга. Ах, Господи! Как похожа была их ненависть, приговоры и пытки на страшный и мрачный обряд. Он не страшил меня, Господи, с моей вершины он похож был на стоны и скрип корабельных досок. Или на родовые муки. Господи! И деревья, когда растут, теснят и душат друг друга, прорываясь к солнцу. А солнце, оно вытягивает из земли весну и хвалу себе создаёт деревьями. Лес состоит из деревьев, хотя они враждуют друг с другом. И ветериграет на лесной арфе. Ах, Господи, близорукому скудоумцу ничего не открыть в этих распрях. Сейчас они легли отдыхать. Отложены до будущего лживые речи, притязания, счёты. Задремала ревность. Господи! Я оглядываю невозделанные ими земли и охвачен смятением, словно в преддверье истины, она ещё не открылась мне, но, чтобы она была, я должен её постичь. Господи, вот художник, он пишет, но что знают его пальцы, его уши, волосы? Щиколотки, бёдра, рука? Ничего. Творение, что сбывается, понуждает их двигаться и пламенеет, рождаясь от противоречивых усилий; близорукий скудоумец видит неслаженные движения, размахивание кистью, пятна краски. Что знают кузнец, плотник о корабле? Ничего не знает и мой народ, если я начну расспрашивать каждого по отдельности. Что знают богатый скупец-толстосум, министр, палач и пастух? Но если и есть кто-то среди них, кто видит дальше других, кто ведёт всё стадо на водопой, — то, верно, та, что рожает, или тот, что приготовился к смерти, но никак не книжник, не крючкотвор с испачканными чернилами пальцами, им неведома медлительность вызревания. Главное происходит в стороне от них, однако плотник, обстругавший доски, видит: доски стали палубой — и вырастает в собственных глазах. Отведя пелену низких страстей, я вижу: скупец нажил богатство и родовое гнездо. Министр — взяточник, ничтожество, обирала, нажившийся на чужом добре, стал меценатом — он всё отдаёт золотых дел мастерам и резчикам по кости, и они режут слоновую кость, чеканят золотые украшения. Тот, кто несправедливо казнил, породил горькую страсть к истине и справедливости. Тот, кто отнял камни у храма, разбередил мечту — непременно построить храм. Я видел, как, попирая людские страсти, воздымало храмы презрение к насущному. Видел, как рабов-камневозов хлестали бичи надсмотрщиков. Видел, как старший над рабами крал причитающуюся им мзду. Ах, Господи, будь я близорукий скудоумец, я бы не увидел ничего, кроме подлости, глупости и алчности. Но с моей горы я вижу: поднимается храм и осиян лучами».CXC
Я узнал, что рисковать своей жизнью и согласиться на смерть — не одно и то же. Я встречал юнцов, которые с презрительным высокомерием относились к смерти. И всегда находились женщины, что восхищались ими. Ты вернулся с войны, тебе по вкусу восторженное сияние женских глаз. Принимая испытание железом, ты ставишь на кон собственное мужество, мужество — единственное, чем ты располагаешь и чем рискуешь. Так играют в кости, — рискуя всем своим достоянием, — оно где-то далеко, но сделало маленькие игральные кубики драгоценными; ты зажал их в руке и с восторгом безумия швырял на стол, будто раскинул равнины, пастбища и пашни твоего поместья. Человеку приятно вернуться вспять и погреться в лучах своей победы, плечи ему отягощает завоёванное оружие, и, возможно, расцвёл на нём кровавый цветок раны. Несколько минут он излучает свет. Да, несколько минут, ибо жить победой невозможно. И стало быть, смертельный риск не что иное, как страсть к жизни. Любовь к опасности — любовь жить. А победа — это риск потерпеть поражение, который ты преодолел своей творческой силой, ведь рискует и тот, кто управляет норовистой лошадкой и заставляет себя оказаться укротителем. Но я хочу от тебя большего, солдат призван питать царство, и одно дело — пойти на смертельный риск, другое — согласиться на смерть.Я хочу, чтобы ты стал веткой дерева и был у него в подчинении. Хочу, чтобы ты гордился своим деревом. Смертельный риск — подарок, который ты даришь только себе. Тебе нравится дышать полной грудью, слепить девушек своей победой. Согласившись рисковать собой, ты непременно расскажешь, как это было, — риск для тебя товар, и ты хочешь обменять его. Так бахвалятся мои капралы. Восхваляют они только самих себя. Одно дело — поставить на кон своё достояние, взять его всё целиком и зажать в руке, ощутимое, вещественное, такое в эту секунду зримое — с копнами соломы, убранным в амбары зерном, волами на пастбище и деревнями, выдыхающими горьковатый дым, свидетельство живой жизни, и совсем другое — ощутить как ненужные и отказаться от тех же амбаров, волов, деревень и продолжать жить дальше. Одно дело — рискуя своим достоянием, придать ему вес и ощутить всю его драгоценность, другое — устранить его, как устраняет одежду купальщик, не глядя, скинул он и сандалии и торопится слиться с морем. Ты, чтобы слиться с морем, должен умереть. Ткать и ткать полотно своей жизни, подобно тем древним старухам, что ослепли, расшивая церковные пелены, которыми они одели своего Господа. Они сами — одеяние Господа. И чудом их рук льняная нить преобразилась в молитву. Ты — путь, кладь, повозка, ты жив только тем, что преображаешь. Дерево преображает землю в ветви. Пчела — цветы в мёд. Твои труды — чёрную землю в золотое зарево зёрен. Мне важно, чтобы твой Бог стал для тебя явственней хлеба, который ты кладёшь себе в рот, чтобы, чувствуя Его рядом, ты томился желанием слиться с Ним целиком, чтобы брак ваш был браком по любви.
Но ты всё порушил, разметал, растратил, ты забыл, что значит сотворить праздник, и решил, что сделался богаче, день за днём истребляя готовое. И случилось это потому, что ты не понял, что же такое время. Набежали историки, логики, критики. Они ощупали, перетрогали вещи, предметы и факты, не умея видеть сквозь них, посоветовали тебе наслаждаться ими. И ты отказался от поста, без которого нет праздничного пиршества. Отказался пожертвовать частью зерна, но только жертва, сожжённая в день празднества, окружает его сияющим ореолом. Ты погряз в выгадывании по мелочам и не догадываешься, что миг может вместить в себя целую жизнь.
CXCI
И вот я стал размышлять о согласии принять смерть. Логики, историки, критики отдали первенство материалу, из которого будет строиться часовня (ты поверил, хотя красивый серебряный кувшин больше скажет уму и сердцу, чем из чистого золота некрасивый). Не ведая, что утолит тебя, ты вообразил, будто счастье в обладании, и теперь изнемогаешь, стаскивая в кучу камни, что могли бы стать прекрасной часовней и одарить тебя счастьем. Ибо достаточно и одного-единственного камня, чтобы согреть душу и сердце, но на камне должен быть лик твоего божества. Ты похож на человека, что, не умея играть в шахматы, копит золотые и слоновой кости фигурки, смотрит на них и скучает, зато другой, кому божественные правила открыли тонкость игры, наслаждается её блеском, двигая грубые чурочки. Пристрастие к счёту не позволяет тебе оторваться от вещей, ты не видишь картины, которая из них составлена и значима прежде всего. Потому ты и привязан к жизни, как к накапливаемой толще дней, а будь твой храм строен и чист линиями, неужели ты сокрушался бы, что на него пошло так мало камней? Не стремись удивить меня количеством, не говори, сколько камней потрачено на твой дом, сколько пастбищ и голов скота в твоём поместье, сколько драгоценностей у твоей жены, сколько у тебя любовниц. Сколько — меня не интересует. Я хочу знать, какой ты выстроил дом, усердны ли работники твоего поместья и радостен ли их ужин после дневных трудов. Я хочу знать, какую любовь ты пестуешь и на что более долговечное, чем ты сам, тратишь свою жизнь. Я хочу, чтобы ты сбылся. Хочу судить о тебе по делам твоих рук, а не по ненужным делу вещам, которые так возвышают тебя в собственных глазах. Заговорив о смерти, ты вспомнил об инстинкте самосохранения. Мы инстинктивно страшимся смерти, и ты не раз наблюдал, как животные стремятся выжить во что бы то ни стало. «Стремление выжить, — твердишь ты мне, — берёт верх над любым другим стремлением. Дар жизни бесценен, и мы спасём его любыми средствами». Если так, то для тебя естественно стать героем, защищая свою жизнь. Ты будешь мужественным в осаде, завоевании, грабеже. Тебе вскружит голову хмель силы в тот миг, когда поставят на кон твою жизнь. Но ты никогда не согласишься умереть незаметно, безмолвно, унеся с собой тайну, полученную как дар. Однако посмотри: отец бросился в морскую бездну, потому что в ней тонет его сын, личико его мелькает время от времени на поверхности, бледное, словно луна в просвете облаков. Я спрошу тебя: «Что же, над этим человеком инстинкт самосохранения не властен?» — Властен, — ответишь ты. — Но инстинкт — вещь сложная. Действует он и в отце, и в сыне... В военном отряде, который посылают на смерть. Но отец, он привязан к сыну... Ответ твой путан, изобилен словами. Но вот что скажу тебе я: — Конечно, инстинкт самосохранения существует. Но он только часть инстинкта более могущественного. Главное в нас — инстинктивное желание жить вечно. Тот, кто живёт телесной жизнью, печётся о теле. Тот, кто жив любовью к ребёнку, печётся о ребёнке, продлевая им свою жизнь. Тот, кто живёт любовью к Богу, ищет вечности, поднимаясь к Нему. Жаждешь ты не неведомого — жаждешь обрести то, что значимей, прочнее и долговечнее тебя, и для каждого самым значимым становится что-то своё. Каждый любит что-то своё и по-своему. И я могу обменять твою жизнь на то, что для тебя любимей и значимей, ни в чём тебя не обездолив.CXCII
Ибо что ты знаешь о счастье, полагая, будто дерево живёт ради самого себя — дерева в плотном кольце коры? Нет, дерево — источник крылатых семян, от поколения к поколению оно преображается и становится всё краше. Оно двигается, но не так, как ты, — как пожар по воле ветра. Ты сажаешь кедр на вершине горы, и вот твой кедровый лес век за веком разбредается в разные стороны. Чем считает себя дерево? Корнями, стволом, листвой. Ему кажется, ради себя ветвит оно свои корни, но оно — путь и повозка. С его помощью земля приникает к солнечному мёду, пускает почки, раскрывает цветы, растит семена, а семя переносит жизнь, словно огонь, незримый до поры до времени. Если я засеваю ветер, я пускаю по земле пожар. Но ты медленно переводишь взгляд. Видишь неподвижную листву, мощь крепких ветвей; и дерево кажется тебе оседлым, живущим самим собой, созревающим внутри себя. Близорукий скудоумец, ты видишь всё наоборот. Отойди на несколько шагов и прибавь скорости маятнику дней, ты увидишь, как семечко вспыхивает языком пламени, от него загорается другое, и бежит огонь, высвобождая из шелухи будущий лес, ибо лес и в тишине пламенеет. Ты уже не видишь дерева — этого, того. Ты понимаешь, что корни не служат ни тому, ни этому, а только пожирающему и созидающему огню, понимаешь, что густая сень листвы, одевшая твою гору, — сама земля, оплодотворённая солнцем. И селятся зайцы на лужайках, и гнездятся птицы на ветках. И ты уже не знаешь, кому из них служат корни. Они — ступенька и переход. Почему же ты считаешь дерево тем, чем не считаешь листву? Ты никогда не скажешь: «Семя живёт собой. Оно завершено. Стебель живёт собой. Он завершён. Цветок, в который он преображается, живёт собой, он завершён. Семечко, которое он выносил, живёт собой, оно завершено». И ещё раз ты повторишь всё то же о новой поросли, что упрямо пробивается сквозь камни. На чём ты остановишься? Где завершение? Я вижу только, как земля тянется и тянется к солнцу. Незавершён и человек, незавершён мой народ, и я не знаю, куда он идёт. Закрываются амбары, запираются двери с приходом ночи. Спят дети, спят старики, старухи, что я знаю об их пути? Так трудно нащупать его и обозначить в переходе от лета к осени, — прибавилась ещё одна морщинка у старухи, несколько слов у ребёнка, чуть-чуть изменилась улыбка. Совершенство и несовершенство человека осталось неизменным. И всё-таки я вижу, оглядывая поколения, что ты, мой народ, — мало-помалу пробуждаешься и узнаёшь сам себя. Само собой разумеется, каждый думает о своём. Так оно и должно быть. Важно, чтобы чеканщик сосредоточился на кувшине. Геометр на геометрии. Король на управлении. Ибо каждый — это возможность двигаться дальше. У кузнецов свой ритм, своя песня, у плотников своя, хотя те и другие трудятся, строя корабль. Но корабль с надутыми парусами им должна подарить поэзия. Они не разлюбят ни гвоздей, ни досок, напротив, оценят их ещё дороже, если поймут, что сбудутся и завершатся в крылатом лебеде, питаемом морским ветром. Самая высокая твоя цель не мешает тебе подметать поутру комнату, бросить в землю ещё одну горсть ячменя после стольких уже посеянных, учить сына ещё одному слову, ещё одной молитве, делать ещё и эту насущную работу, вот и воздушный корабль поможет тебе не пренебрегать привычными досками и гвоздями, а любить их. Я хочу, чтобы ты ощутил: еда, работа, молитва, ребёнок, праздник в домашнем кругу, вещи, которыми украшаешь дом, — только путь, только повозка. Настаивая на том, что они — возможность, средство, я поощряю в тебе не пренебрежение к ним, а любовь: повороты дороги, запах шиповника, камни и спуски дороже тебе и роднее, если они не загадочный лабиринт, неведомый, неуютный, а знакомая, радостная дорога к морю. Я запрещаю тебе ворчать: «На что мне подметать, тащить эту тяжесть, кормить ребёнка, читать книгу?» Как нет плохого в мечтах моего дозорного об ужине, а не о царстве, так нет плохого и в постоянном приготовлении себя к озарению — визиту, о котором не предупреждают заранее, но на миг оно обостряет твой взор и слух, преобразив скучное подметание в служение высокому, смысл которого не уместится в слове. Каждое биение твоего сердца, страдание, желание, вечерняя печаль, еда и работа, улыбка и усталость в череде дней, пробуждение и сладкое погружение в сон имеют смысл только благодаря божеству, что мерцает тебе за ними. Вы ничего не найдёте, если превратитесь в оседлых, веря, будто сбылись и завершены, сами запас среди накопленных запасов. Нет на земле запаса — тот, кто перестал расти, умирает.CXCIII
Равенство губительно. Ты говоришь: «Разделите эту жемчужину. Каждый из ловцов мог найти её». И море перестало быть чудом, сокровищницей тайн, предуготовленных судьбой. Погружение в воду уже не магический обряд сродни священному паломничеству, не поиски таинственной чёрной жемчужины, что посылается раз в столетие. Да, я требую: урезай себя на протяжении года, экономь, собирая и копя припас к празднику, но дело совсем не в том, что праздник — главное, праздник длится считанные секунды, праздник — взрыв, победа, улыбка короля; дело в том, чтобы, готовясь к нему, предвкушая, вспоминая о предыдущем, ты оживил, одухотворил каждый день. Хороша только та дорога, что вывела к морю. Опасаясь взрыва, ты роешь убежище, но смысл не в убежище, бьются не ради битвы — ради победы, и целый год ты готовишь дом к посещению короля. Я не хочу, чтобы ты равнял себя с тем или с другим во имя умозрительной справедливости, тебе не стать равным ни старику, ни подростку, равенство всегда прихрамывает. Делёжка жемчужины никого ничем не одарит. Прошу, откажись от причитающейся тебе ничтожной доли, и пусть тот, кому достанется жемчужина целиком, вернётся домой, сияя улыбкой, ответит на вопрос жены: «Догадайся!» — томя её любопытством и наслаждаясь счастьем, которым одарит её, едва только разожмёт кулак... Погляди, все стали богаче. Поверь, в ловцы жемчуга идут не только из желания заработать. Легенды о любви, что рассказывают тебе мои сказители, приучают тебя любить любовь. Легенды прославляют красоту, и в каждой женщине появляется что-то от красавицы. Ибо если существует на свете хоть одна женщина, ради любви которой стоит умереть, облагорожены и окутаны прелестью все женщины на свете, в каждой может таиться необычайное сокровище, будто чёрная жемчужина в море. К каждой ты будешь подходить с бьющимся сердцем, будто ловец жемчуга к коралловой лагуне, в которую предстоит погрузиться. Конечно, будни кажутся тебе несправедливостью по сравнению с праздником, ожиданием которого ты живёшь. Но поверь, будущий праздник окутывает будние дни особым ароматом, и ты становишься богаче. Конечно, ты несправедлив к себе, отказавшись от доли в жемчужине соседа, но его находка наделяет волшебной притягательностью твои будущие поиски, — так озаряет пустыню серебро родника, далёкого оазиса, о котором я тебе говорил. Ах! Твоя справедливость хочет, чтобы один день походил на другой, один человек на другого. Если твоя жена кричит слишком громко, ты можешь развестись с ней, чтобы взять другую, которая не будет кричать. Ибо ты — шкаф для подарков и пока ещё не получил своего. Но я хочу длить и длить любовь. Любовь существует только там, где выбор бесповоротен, ибо для воплощения нужны границы. Радость засады, охоты, ловли иная, чем радость любви. Ты — охотник. Женщина для тебя добыча. Вот почему, попав тебе в руки, она больше ничего для тебя не значит, — ты её уже поймал. Что для поэта написанное стихотворение? Значимо для него ещё не написанное. Но если я запер двери дома за новобрачными, им придётся искать свой путь. Твоё назначение теперь — быть мужем. Назначение твоей возлюбленной — быть женой. Я наполняю это слово весомым смыслом, и ты говоришь: «Моя жена...», чувствуя всем сердцем его значимость. Ты откроешь для себя иные радости. И иные страдания тоже — как без этого? Твои страдания — залог твоих радостей. Ради своей жены ты можешь умереть, потому что она — это ты, так же как ты — это она. Из-за добычи ты умирать не станешь. И верность твоя — верность верующего, а не усталость охотника. От верности из усталости веет скукой — в ней нет света. Конечно, есть ловцы, которые так никогда и не выловили жемчужины. Есть мужья, которые обретут только горечь в постели, которую для себя выбрали. Но и нищета неудачников — залог волшебного свечения моря. Оно драгоценно для всех, и для тех, кто ничего не нашёл, тоже. Несчастье несчастливых в браке — необходимое условие волшебного свечения любви, а оно драгоценно для всех, и для тех, кто несчастлив, тоже. Ибо вдохновение, горечь и тоска живущих в любви драгоценнее тупости вола, для которого любви не существует. Разве, мучаясь от жажды в пустыне, ты хочешь забыть о воде? Нет, ты хочешь представлять её и сожалеть о ней. Вот она, тайна, которую мне открыли. Есть и другая: всегда получаешь то, ради чего старался. Ты можешь бороться «за», можешь — «против». Но если воюешь из ненависти к божествам своего врага, то будешь стремиться уничтожить врага и сберечь себя. Себя ты сбережёшь, войну проиграешь. Сражаются беззаветно и принимают смерть только из любви к своему божеству. Облагораживает, питает, воодушевляет то, что пленило и держит в плену, ибо ты жаждешь этого, добиваешься, плачешь. Состарившись и перестрадав своё горе в улыбку, мать жива памятью о любви к умершему ребёнку. Если я, желая избавить тебя от страданий, уничтожу условности, помогающие существовать любви, что я тебе подарю? Пустыня без колодца — лучше ли она для тех, кто сбился с тропы и умирает от жажды? Поверь, родниковая вода, ставшая стихами и зазвеневшая в твоём сердце, утешит тебя и тогда, когда ты, обручившись с пустыней, приготовишься сбросить бренную свою оболочку, она прольёт на тебя мирный свет, источаемый не вещественностью, а её смыслом; ты улыбнёшься мне, если я тебе напомню о сладостном журчании воды. Как же тебе не последовать за мной? Я — тот, кто придаёт тебе значимость. Жаждой я одухотворяю для тебя песок. Открываю любовь. Из благоухания строю царство.CXCIV
Я хочу открыть тебе глаза — ты не видишь, в чём значение обряда. Несущественное дополнение, красивая оболочка — так ты его воспринимаешь. Тебе кажется: правила сковали влюблённого, правила, что установил какой-то взбалмошный бог, тут он поощрил тебя, тут урезал, будто глядя из своей вечной жизни, для которой не нужны твои чувства, но нет, становление по правилам формирует тебя, понуждая быть таким или этаким; препятствуя тебе, тебя творят, ибо только обретя границы, ты начинаешь существовать. Ведь и дерево задано силовыми линиями семечка. И картина, если она пленила тебя, тоже принуждение. Она становится новой точкой зрения, той точкой, откуда ты увидел всё по-новому, она всему задала иной тон. И теперь ты по-иному воспринимаешь пищу, отдых, молитву, игру, любовь. Нет отдельностей, ты не сумма различных частиц, ты неделимая их взаимосвязь. Я пожелал изменить нос на лице, которое изваял мой ваятель, но должен был изменить и ухо, точнее, я изменил впечатление от носа и впечатление от уха тоже. Так вот, если я принуждаю тебя раз в год совершить паломничество и поклониться пустыне, воздав честь журчащему водой оазису, что спрятался среди складок её барханов, ты ощутишь таинственное воздействие своего странствия и на свою жену, и на работу, и на дом. Распахнув перед тобой звёздное небо, я изменю тебя, и ты будешь совсем по-другому относиться к своему рабу, королю и к смерти. Ты корень, рождающий листву, и, если возникают изменения в корне, меняется и листва. Я ни разу не видел человека, которого изменили бы логические доводы, не видел, чтобы его изменил пафос косоглазых пророков. Но, прикоснувшись к самой сути человека с помощью условностей обряда, я обнажаю её для лучей моего света. Во имя любви ты отметаешь запреты, которые её сковывают. Но эти запреты и помогли родиться любви. Жажда любить, что возникла в тебе по милости запретов, уже любовь. Жажда любви и есть любовь. Желать того, чего в тебе нет, ты не можешь. Если нет уклада семейной иерархии, поощряющей братскую любовь (любовь не рождается от тесноты за обеденным столом), никому не жаль, что он мало любит своих братьев. Ты можешь мучиться прошлой любовью, страдать из-за женщины, что от тебя ушла, но никогда не впадёшь в отчаяние, поглядев на случайную прохожую и подумав: «Как я был бы счастлив, если бы полюбил её...» Если ты плачешь о любви — любовь в тебе родилась. А правила, запреты, созидающие любовь, помогают понять, что плачешь ты именно о ней. Но тебе кажется, что любовь воспламенила тебя сама собой, хотя запреты и правила, ставшие для тебя муками и радостями, и есть воплощение любви, — так родник в пальмовой роще сделал для тебя невыносимой жестокость бесплодных песков; отсутствие родника — сестра его присутствия. Ты не оплакиваешь того, чего не можешь себе представить. Создав родник, я создал и пустыню. Подарив тебе бриллиант, создал и нищету. Чёрная жемчужина, которую находят раз в год, толкнула тебя на бесплодные поиски. И вот чужая находка кажется тебе несправедливостью, грабежом, обидой, и ты хочешь уничтожить чёрные жемчужины, желая избавиться от их власти. Но пойми, ты стал богаче, узнав, что они существуют, и что тебе за дело, в чьих они руках? Подумай, с каким чувством ты смотрел бы в бесформенную пустоту моря?Они обнищали, возжелав равенства у кормушки в хлеве. Пожелав, чтобы им служили. Если твой идеал — толпа, в каждом из людей ты укореняешь присущее толпе. Но если ты чтишь в каждом человека, то человека ты и укореняешь, и вот уже люди следуют дорогой божества. Мне больно, что люди извратили в себе истину, ослепли и не видят очевидности, а она в том, что море рождает корабль и то же море — деспот для корабля; принуждения и запреты — оковы для любви, но они же рождают любовь и её поддерживают, оковы, мешающие тебе стремиться вверх, стремят тебя вверх. Ибо нет взлёта без преодоления сил тяготения. Но те, что двинулись в путь, говорят: «Мы идём вверх, но нас теснят, нам мешают!» Они разрушают препятствия, и пространство лишается перепадов. Разрушив замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла, они бестолково топчутся на ярмарочной площади.
Потому и стали они толковать о духовной пище, которую необходимо включить в рацион, чтобы оживить душу, облагородить сердце. Кормя людей из кормушки, они превратили их в волов на привязи и развеяли человека в прах. Поступили они так из любви к человеку, стремясь освободить его, снять с него оковы, возвеличить, исполнить света и благородства, и, увидев коросту, одевшую душу и сердце, ужаснулись. Но что другое извлечёшь из разброда, который ты создал? Желая встряхнуть бездушных, ты запоёшь песню галерника, бледные призраки былого забрезжат в них, и они пригнутся, опасаясь удара. Смутным эхом отзовутся в них и твои стихи, звуча всё глуше и глуше, пока не замрут. Пройдёт ещё время, и песню галерника они не услышат, позабыв о давних ударах бича; покой в хлеве пребудет нерушимым, потому что ты отнял у моря его власть. Глядя на стадо, тупо жующее свою жвачку, ты затоскуешь об осмысленной жизни, о смерти — вечной тайне, пробуждающей дух. Ты станешь искать потерю, словно вещь среди прочих вещей. Напишешь несколько гимнов во славу пищи и будешь надсаживаться, повторяя: «Я ем, вот я ем...», но вкус хлеба останется тот же. Откуда тебе знать, что твою потерю не найти, словно вещь среди прочих вещей, что не возместить её воспеванием самой добротной вещественности, ибо нет в дереве места, где помещалась бы его суть; тот, кто ищет суть в чистом виде, имеет дело с пустотой. Неудивительно, что ты изнемог, отыскивая страсть к совершенствованию у оседлых, — её нет. «Заронить желание совершенствоваться, — говорил мой отец, — значит разбудить жажду. Остальное придёт само собой». Но ты снабжаешь готовым пойлом сытые животы. Любовь — это взывание к любви. Совершенствование — тоже. Основа его и есть жажда. Но как поддерживать жажду? Мы хотим одного: пьяница тянется к водке. Не из-за пользы: водка несёт ему смерть. Взращённый определённым укладом будет тянуться к нему. В нас заложено инстинктивное стремление к постоянству, оно сильнее инстинкта выживания. Я не раз видел, как умирали крестьяне, оторвавшись от своей деревни. Видел газелей и птиц, умиравших, попав к людям. И если оторвать тебя от жены, от детей, от твоих привычек, погасить огонёк, которым ты жил, — он светил тебе даже сквозь стены, — может случиться так, что ты не захочешь жить. И тогда, желая спасти тебя, мне придётся позаботиться о царстве духа, в нём возлюбленная будет ждать тебя, подобно зерну, спрятанному в житнице. И вот ты живёшь и живёшь, ибо нет предела терпению. Дом, которому ты принадлежишь, в помощь тебе и в пустыне. Возлюбленная всегда тебе в помощь, пусть далёкая, пусть спящая. Непереносим для тебя развязавшийся узел, распавшийся мир. Ты умираешь, если умерло твоё божество. Оно питает тебя жизнью. И жив ты только тем, из-за чего готов умереть. Если я одушевил тебя высокой страстью, ты будешь передавать её из поколения в поколение. Научишь своих детей распознавать любимое лицо в рутине вещественности, царство — в дробности гор, домов и стад, ибо только царство и возможно любить. Невозможно умереть во имя вещей. Долг смертью платится не тебе — ты путь, кладь, повозка, — а царству, ты тоже в подчинении у царства. И если царство существует, ты готов умереть, защищая его целостность. Ты готов умереть ради смысла книги, но не за чернила и бумагу. Ты и сам связующий узел, значимо не твоё лицо, тело, достояние, улыбка — то, что взращивается тобой, та картина, что возникла благодаря тебе и благодаря которой ты сбываешься. Ты творишь её целостность, она и есть ты сам. Редко когда говорят о своей картине: нет таких слов, чтобы, обозначив, передать её другому. Трудно говорить и о возлюбленной. Ты назвал мне её имя, но именем не пробудить во мне любви. Я должен её увидеть. Обозначить, выявить твоё царство могут только твои труды. Не слова. Но ты видел кедр. Я говорю: «Кедр» — и передаю тебе ощущение его величия. Я окликнул кедр в тебе, и он встрепенулся смолистой хвоей. Заставляя тебя служить любви, я окликаю в тебе любовь — иного средства я не знаю. Но когда кормёжку приносят в стойло, какому богу ты захочешь служить? Бога знают и мои старухи, тратя глаза на снование иголки. Ты велел им беречь глаза. Глаза им больше не в помощь. Ты остановил преображение. Но во что преобразятся те, кого ты так старательно кормишь? Ты можешь пробудить в них жажду обладания, но иметь не значит преобразиться. Можешь пробудить страсть к вышитым пеленам. И они сделаются сундуком, хранящим пелены. Как пробудить в них жажду к снованию иголки? Только такая жажда — жажда по-настоящему жить. В молчании моей любви я пристально наблюдал за моими садовниками и пряхами. Я заметил: дают им мало, спрашивают с них много. Будто на них, и только на них, возложены судьбы мира. Я хочу, чтобы каждый дозорный был в ответе за всё царство. Дозорный и тот, кто обирает гусениц у себя в саду. И та, что вышивает золотой ниткой. Свет нитки едва мерцает, но вышивальщица украшает своего Господа, и Господь в расшитых одеждах бдит над ней и оделяет её Своим светом. Я знаю один только способ взрастить человека: нужно научить его различать сквозь вещество вещественности целостную картину. И ещё заботливо поддерживать жизнь богов. В чём привлекательность игры в шахматы? В подчинении правилам. А ты захотел снабдить игроков рабами, которые бы выигрывали за них. Ты хочешь подарить каждому по любовному письму, потому что видел: получая их, люди плачут или смеются, — но ты удивлён, почему к твоим письмам люди так равнодушны. Мало дать. Нужно сотворить того, кто получит. Чтобы шахматы радовали, нужно вырастить игрока. Чтобы любили, должна существовать жажда любви. Богу нужен алтарь. Понуждая моих дозорных ходить сто шагов туда и сто обратно по крепостной стене, я строю в них царство.
CXCV
Прекрасна та поэзия, что преобразится в поступки, воодушевив в тебе всё, даже мускулы. Поэзия — моё священнодействие... Но соблюдение правил, обычаев, обязательств, возведение храма и торжественное шествие по дням года — тоже поступки, только другого рода.* * *
Я писал для того, чтобы обратить тебя в свою веру, дав тебе почувствовать, пусть едва ощутимо, благо преображения и позволив на него надеяться.Конечно, ты мог читать меня рассеянно и ничего не пережить, ничего не почерпнуть. Конечно, можно исполнить обряд и не очнуться, не пуститься в рост. Душевная скупость легко отстранится от благородства, таящегося в обряде. Я совсем не рассчитываю, что в каждый свой час ты будешь мне послушен, как не рассчитываю, что мой дозорный в каждый свой час будет исполнен усердия к царству. Мне достаточно, если среди многих часов один будет моим. И может случиться, что дозорного, от которого я не требую неустанного усердия, в час, когда он мечтает об ужине, посетит озарение, ибо дух не бдит неусыпно, иначе ты ослепнешь, но морю придаёт смысл чёрная жемчужина, неведомо кем и когда найденная, году придаёт смысл праздник, а жизни — смерть. Что мне за дело, если мой обряд искажается теми, у кого искажено сердце? Во время военных походов я видел, как чёрный колдун, обуянный жадностью, заставлял своё племя приносить дары деревянной палке, выкрашенной в зелёный цвет. Что мне за дело, если колдун роняет свой сан? Скульптор, смяв глину, сотворил жизнь.
CXCVI
Человек этот требует благодарности: он сделал им то, сделал это... Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и длишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: «Я дарил вчера, и со мной благодарность за эту заслугу». Я отвечу: «Заслуга эта была бы твоей, если б вчера ты умер. Но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного человека, каким ты был вчера, ты сделался сегодня скупердяем. Сегодня умрёт скупердяй». Ты — корень, питающий дерево, оно живёт благодаря тебе. Ты связан с этим деревом, оно сделалось твоим долгом. Но вот ты, корень, говоришь: «Больно много я потратил соков!» А дерево засохло. Так ли уж лестна корню благодарность от смерти? Если дозорный устанет всматриваться в горизонт и заснёт, умрёт город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биения твоё сердце. Житница не запас — перевалка. Ты удобряешь землю и вместе с тем её обираешь. И ошибаешься относительно всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляется тебе музейным залом, полным творений. В тот же зал ты хочешь поместить и свой народ. Но нет вещей, нет творений самих по себе. Вещь зависит от языка того, кто о ней говорит. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца чёрная жемчужина — три разные, не похожие друг на друга вещи. Алмаз — драгоценность, когда ты его нашёл, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме, украшая праздник. В череде будних дней алмаз — та же галька. Об этом прекрасно знает владелица бриллиантов. Она запирает их в шкатулку и прячет далеко-далеко — пусть спят. Она достанет их в день рождения короля. Он станут олицетворением её гордости. А получила она их на свадьбу, и они олицетворяли любовь. В день, когда старатель разбил породу и увидел алмаз, он был олицетворением чуда. Как радуют нас цветы. Но самые прекрасные я бросил в море, поминая погибших. Их не видел никто.Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто...» Будь он мёртв, я согласился бы почтить его. Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами, ты столько дал людям...» Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать? Дающие, излучающие — мне нет до них дела. Чем хороша ненасытность короля, который требует и требует жертв? И чем хороши подданные, постоянно готовые на жертвы? Возвеличивание такого короля означает унижение его подданных. Но если король меня унижает, я плачу ему презрением. Зато если король принял меня в свой королевский дом, он возвысил меня. Величие моего государя — моё величие. Что я мог дать людям? Я такой же, как они. Малая их частичка, что размышляет о треугольниках. С моей помощью люди думают о геометрии. А я с их помощью ем каждый день хлеб. Пью молоко их коз. Обуваюсь в кожу их волов. Я отдаю что-то людям, но всё, что имею, получил от них. Как распознать, чего больше: отданного или полученного? Чем больше я отдаю, тем больше получаю. И царство моё становится всё благороднее. Грубый торгаш — и тот не минует дарения. И он не в силах замкнуть свою жизнь собой. Он находит себе куртизанку, дарит ей бесценные изумруды. Куртизанка блистает. И он чувствует себя в ореоле её блеска. Ему приятен светящийся ореол. Но он мало чем обогатился, став слугой куртизанки. Другой отдал себя королю. “Чей ты?” — “Королевский”. И воистину просиял».
CXCVII
Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже о дородном министре с пухлыми веками, том самом, что предал меня и под пытками отрекался и клятвопреступничал, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя, и меня? Если ты принадлежишь дому, царству, Богу, ценой собственной жизни ты спасёшь собственную суть. Скупец так принадлежит своим сокровищам. Редкостный бриллиант стал для него божеством. Он умрёт, защищая его от грабителей. Но не таков обширный чревом. Как божество он чтит самого себя. Бриллианты принадлежат ему и ему прибавляют чести, но он им не принадлежит. Он — черта, стена, тупик. И если ты грозишь ему смертью, во имя какого из богов может он умереть? У него только и есть что живот. Любовь, выставляющая себя напоказ, — низменная любовь. Любящий молча созерцает своё божество и говорит с ним безмолвно. Ветка нашла свой корень. Губы — грудь. Сердце — слова молитвы. Что мне до чужих мнений и оценок? Скупец тоже прячет от всех своё сокровище. Любовь молчит. Толстая мошна бьёт в литавры. Да и что такое избыток, если не выставить его напоказ? Что за кумир, если нет поклонников? Расписная доска, прикрытая тряпкой на стене хранилища. Мой дородный министр с пухлыми веками всегда говорил: «Моё царство, мои стада, мои дворцы, мои золотые шандалы, мои женщины». Он всем был необходим. Обогащал обожателей, что простирались перед ним ниц. И бестелесный ветер чувствует, что существует, клоня колосья. «Я есть, — думает он, — потому что клоню». Но мой министр не довольствовался благоговением — наслаждался он и ненавистью. Вдыхал — будто аромат, ибо и она твердила: «Ты есть. Ты существуешь, раз заставляешь страдать». И он катился по телу народа, словно карета. Он был бурдюком, надутым низкопробным словесным ветром. Чтобы быть, нужно растить дерево, благодаря которому сбудешься. Ты — путь, кладь, повозка. Чтобы верить тебе, нужно понять, во что веришь ты, каково оно, твоё божество. Мой министр был ямой для накапливания запасов. И я сказал ему: — Долго слышал я от тебя: «Мой... мой... мой...» — и по доброте своей обернулся на бой твоего барабана, подозвал и смотрю. Вижу склад всевозможных товаров. Что принесло тебе твоё богатство? Ты кладовка, сундук и в той же мере, как они, полезен и существуешь. Тебе приятно слышать «Сундуки ломятся». Но сам ты, собственно, что такое? Если я прикажу отрубить тебе голову из удовольствия посмотреть на выражение твоего лица, что переменится в царстве? Сундуки твои останутся на месте. Что прибавляешь ты к своим богатствам? Чего они без тебя лишатся? Толстяк не понял вопроса, обеспокоился и засопел. А я продолжал: — Не подумай, что я пекусь о справедливости, которая всегда относительна. Сокровища, скоплённые в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да, ты ограбил моё царство. Любое семечко грабит землю, силясь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил. Меня не тревожит, что шерстяной плащ и хлеб, пропитанные потом пастуха и пахаря, достались ваятелю. Пот их преобразился в каменное лицо статуи, и не важно, увидят они эту статую или не увидят. Грабит житницы и поэт, он ест хлеб, но не жнёт и не сеет. Он питает собой поэзию. Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. Но я сотворил царство, и в нём они — сыновья. Покажи мне, чему ты служишь — статуе, дереву, поэзии, царству? Ибо ты — путь, кладь, повозка... Тверди хоть тысячу лет «моё... моё... моё...» — что узнаю я о твоей дороге? Как послужил ты своим поместьям, драгоценным камням и золоту? Не подумай, что я растапливаю ледник, заботясь о болоте. Никогда я не попрекну семя жадностью, с какой втягивает оно в себя соки. Оно будоражит почву, оно не помнит себя, и дерево, которое оно высвободит, ограбит его. Ты награбил, но что проросло и ограбило тебя? Прекрасна королева далёкого царства. Алмазы, выстраданные её народом, украсили её корону. Бродяги и нищие её царства, забредя в чужую сторону, издеваются над тамошними бродягами. «Ваша королева — ободранка, — говорят они. — А вот наша сияет, будто лунный свет и яркие звёзды...» Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместья только для того, чтобы прославить своё толстое брюхо. Ты воздвиг кумирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на неё материала. Ты объединил многое, но не возвысил, а принизил. Жемчужина на пальце беднее манящего обещания моря. Я уничтожу твой узел, он возмущает меня, твою кумирню я превращу в унавоженную землю для растущих деревьев. Но что мне делать с тобой? Что делать с семечком от дерева, которое обезобразило землю, как обезображивает тело язва?И всё же мне не хотелось бы, чтобы тощую справедливость путали с той высотой, которой служу я. Я говорю: «Случилось так, что взяточничество, воровство, всяческая низость собрали сокровища, которые иначе были бы рассеяны и ничему не служили. Сокровище возвышает своего обладателя, но гораздо важнее, чтобы обладатель возвышал своё сокровище. Я могу его отобрать, разделить и превратить в хлеб для моего народа, но народ мой многочислен, и мало чему поможет один сытый день. Если дерево выросло и оно добротно, я превращу его в мачту моего корабля, но не пущу на дрова ради часа тепла. Что он даст, этот час? Зато спуск корабля на воду будет для всех великим праздником. Вот и это сокровище я хочу превратить в чудо, что радовало бы сердца многих. Я хочу вернуть людям вкус к чудесам. Благо, если нищий ловец жемчуга — не так-то просто достаются эти жемчужины со дна моря — поверит в чудодейственность жемчужного зерна. Все ловцы станут куда богаче от той единственной жемчужины, что мягко светится в чьих-то руках раз в году, скудная прибавка к трапезе по справедливом разделе всех жемчужин мало их обрадует. Манит в морскую зыбь чужая жемчужина».
CXCVIII
Я ищу высокой справедливости, ищу высокого применения низостью скоплённому сокровищу, ибо всегда стою за храм, а не за отдельный камень. Не хочу вместо ледника — лужи, вместо храма — кучи камней, не хочу разграбления сокровища. Единственное ограбление, которое я чту, — ограбление земли семенем, семя ограбит и себя и умрёт ради дерева. Я не стремлюсь обогатить каждого на кроху, прибавив одну жемчужину — куртизанке, меру зерна — пахарю, козу — пастуху, золотую монету — скупцу. Ничтожно это обогащение. Я хочу, чтобы уцелела полной сокровищница. Всё вокруг тогда засветится её отблеском, словно море, манящее жемчужиной. Сотворив божество, не делишь его, каждому оно достаётся целиком. Но ты оскорблён в своей жажде справедливости. — Бедны и пастух, и пахарь, — говоришь ты. — По какому праву лишаешь ты их достояния? Во имя каких выгод должны они отказаться от него? Во имя какого бесполезного для них божества? Я должен распоряжаться плодами моих трудов. Захочу — накормлю сказителя. Захочу — отложу излишек для праздника. Но по какому праву, вопреки моему желанию, на моём поту и крови ты собираешься построить часовню? — Твоя справедливость, — отвечу я тебе, — призрачна и недолговечна, она пригодна лишь для этой ступеньки. Разве спрашиваешь ты у земли, хочет ли она растить зерно? Земля не знает, что такое зерно. Она — земля, и только. Ты тоже не можешь хотеть тебе неведомого. Ты равнодушно смотришь на проходящую женщину. С чего тебе в неё влюбляться? Хотя, возможно, она и есть твоё счастье. Кто сожалеет о том, что ему неинтересны треугольники? Не сожалеет никто и о своём несожалении. И справедливо, потому что сожаление это было бы нелепо. Дело зерна прибавить значимости земле. Она становится землёй, рождающей пшеницу. Не собирается и зерно преображаться в стремительность мысли, сияние глаз. Оно — зерно, и только. Дело человека питаться хлебом, претворяя его в усердие и вечернюю молитву. Вот и мой пахарь не собирается поливать своим потом землю, взращивая поэзию, геометрию, архитектуру, он ничего не смыслит в них, они для него чужие. Свой труд он захочет потратить на усовершенствование плуга, и это естественно: он — пахарь. Но я оберегаю не камни, а храм, не землю, а дерево, не плуг пахаря, а постижение. Я чту творческое начало, пусть на первый взгляд оно — сама несправедливость, ибо притеснило камень во имя храма. Но вот храм построен, теперь ты видишь, что он — смысл камней и возданная им справедливость?Видишь, что дерево — это облагороженная земля? Видишь, что от геометрии перепало что-то и работяге, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом. Я пекусь о человеке не с помощью обессмыслившихся припасов и не при помощи равенства, что чревато ненавистью. Солдат и полководец равны у меня перед царством. Бездарный ваятель трудится наравне с даровитым ради прекрасного шедевра гения, плохие работы — ступеньки лестницы, ведущей к хорошим. Но тебя всё же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен. Ты мечтаешь о царстве, где каменотёс, грузчик, кочегар вдохновлены поэзией, геометрией, ваянием и добровольно отдают тебе излишки, чтобы ты кормил своих поэтов, геометров, ваятелей. Мечтая, ты спутал цель с путём её достижения. Да, конечно, я хочу облагородить грубого, необразованного работягу. Да, будет прекрасно, если он взволнуется геометрией. Но, близорукий скудоумец, ты захотел всё успеть за короткую человеческую жизнь, ты не понял, что должен проложить дорогу, чтобы задуманное тобой осуществлялось, шагая по ступенькам поколений. Вот оно, главное твоё заблуждение. Теперь ничего не остаётся, как воспевать погибших в борьбе с морем, — хрупок был парусник, на котором они отправились искать для своих сыновей царство островов. Ты сделал главным бескорыстие погибших, вместо того чтобы продолжать искать пути и понемногу завершить начатое. Нет, ты воспеваешь и воспеваешь солдат, погибших на крепостной стене и ничего не получивших взамен своей отданной жизни. Воспеваешь старца, что сажает кедр, хотя ему самому никогда не посидеть в его тени. Да, и пахари, и пастухи другого поколения утешатся твоей песней. Медленно пускает корни в сердце поэзия, тень от кедра предназначена сыновьям. Я рад, если жертвы окупаются, но не требую, чтобы воздаяние стало правилом. Жертвенность всегда путь к благородству и признак его. Вот уже третий год я строю и оснащаю мой корабль. Запах древесины, стук молотков не великое воздаяние. Торжество настанет ещё не скоро. Есть корабли, которых быстро не оснастишь. И если ты перестал поощрять в людях жертвенность — значит, доволен построенными кораблями, усвоенными познаниями, посаженными деревьями, созданными статуями, значит, ты счёл, что настало время обжить чужую раковину, осесть в ней и потреблять наготовленное. А я тогда поднимусь на самую высокую из своих башен и пристально всмотрюсь в горизонт: близок час приближения варваров. Я уже говорил тебе: нет сделанного, нет запаса. Есть устремление, путь, подъём... Пахари когда-нибудь догонят геометров — и возместят себе пролитый пот, — тогда, когда геометры перестанут творить. Если ты догоняешь друга, а идёте вы с одинаковой скоростью, другу нужно остановиться, если он хочет, чтобы ты его догнал. Но я уже говорил тебе: равенство, остановка — всё наступит в час смерти, дальше идти бесполезно, и накопленное послужит тебе, ибо Господь убирает зерно в житницу. Потому мне и кажется справедливым не делить сокровище.Есть только одна справедливость: спасать то, чем ты жив. Справедливость к твоим божествам. Но не к отдельным людям. Бог в тебе, и я спасу тебя, если твоё спасение послужит Его величию. Но я не могу спасти тебя, пожертвовав ради тебя божеством. Ибо ты и есть твоё божество. Если будет нужно, я спасу ребёнка, пожертвовав матерью, ибо поначалу он был частью её, теперь она его часть. Спасу сияние царства, пожертвовав пахарем, спасу семя, жертвуя землёй. Буду спасать чёрную жемчужину — досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя замерцало всё море, — спасать от тебя, вопреки твоему желанию разделить её, потому что богатство твоё окажется смехотворным. Буду спасать смысл любви, чтобы ты мог приобщиться ей, вопреки твоему пониманию любви, — она для тебя что-то вроде приобретения или покупки товара, — такая любовь оставит тебя нищим. Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя, жаждущего, телесно или духовно, даже если ты умираешь. Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая её, приобщить тебя жизни, навязывая смерть, — это неправда, словесное противопоставление запутывает суть, тщась её выразить. (Приходит время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть «за» или «против».)
* * *
Так вот, мне не кажется справедливым обратить сокровище в прах и вернуть каждому украденное у него: жемчужину — куртизанке, козу — пастуху, меру зерна — пахарю, золотой — скупцу; справедливым мне кажется возместить душе то, что было отнято у плоти. Это возмещение ты получаешь, когда, весь в поту, напрягая мускулы, режешь камень и вот наконец совладал с ним, одержал победу, — ты отряхиваешь руки, отходишь, наклоняешь голову, прищуриваешься, смотришь, и тебя обжигает улыбка Бога. Конечно, грубую и простую делёжку можно облагородить. Жемчужину, козу, меру зерна, золотую монету, что сами по себе не великая радость, ты мог бы получить в день праздника как дары, увеличивающие торжественный ритуал. Малоинтересные вещи стали бы даром короля, даром любви. Я знал владельца розовых плантаций, который пожертвовал бы всеми своими розами ради одной увядшей, которую носил у сердца в полотняном мешочке. Но кто-то из моих подданных может обмануться, простодушно поверив, будто радует само по себе зерно, коза, золотой и увядшая роза в мешочке. Мне хочется всё расставить по местам. Могу и я заменить сокровище воздаянием. Вот я пожаловал дворянство: генералу — за победу, садовнику — за новую розу, врачу — за лекарство, строителю — за корабль. По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, оправданной, справедливой, внятной для разума, но ничего не дающей сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что возмещением несправедливостей ничего особого не дождёшься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь: «Теперь всё правильно». Ты привёл всё в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучика света, потому что так оно и должно быть: несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений почтён. И если жена спрашивает тебя вечером у порога: «Ну, что нового в городе?» — ты, обо всём позабыв, отвечаешь: «Ничего». Не сообщать же ей, что солнце освещает дома, река впадает в море... Я отклонил предложение моего министра юстиции, он настоятельно предлагал одаривать моим сокровищем добродетель. Отклонил отчасти потому, что, одаривая, ты и разрушаешь то, что намеревался поощрить, отчасти потому, что министр мой относился к добродетели, словно к редкому фрукту, и подыскивал для него достойный футляр, — порочность его не была чрезмерной, в ней была доля изысканности, всегда и во всём мой министр ценил прежде всего качество. — Я буду преследовать за добродетель, — ответил я. Он застыл, недоумевая, и я разъяснил: — Я упоминал о своих полководцах в пустыне. Их жертвенность среди песков вознаграждена любовью к этим пескам, мало-помалу она освещает их сердца. Я обрёк их на нищету, но она превратилась в роскошь. Если твоим добродетельным девам будут в радость короны из позолоченного картона, восхищение зрителей и свалившееся вдруг богатство, в чём их добродетель? Девочке весёлого квартала ты платишь за более щедрый дар. Отклонил я и предложение архитекторов. «Послушай, — сказали они, — своё бесполезное сокровище ты можешь потратить на возведение чудесного храма, который прославит царство. На поклон к нему века и века будут стекаться караваны паломников». Да, действительно, я не люблю насущного, которое ничем не обогащает. Чту дары пространства и тишины. Куда нужнее лишнего амбара мне кажется близость звёздного неба и моря, — хотя не выскажешь словами, что же именно они дали душе. Но из тёмного городского квартала, где ты задыхаешься, ты рвёшься к ним. К чудесному странствию. Не важно, что оно невозможно. Тоска о любви — уже любовь. Ты уже спасён, если попытался пуститься в путь по направлению к любви. Я не верю в раздобывание. Тебе не раздобыть ни радости, ни здоровья, ни подлинной любви. Не раздобыть звёзд. Не раздобыть храма. Я верю в храм, который грабит тебя. Верю в храм, который растёт, выжимая из людей пот. По городам и весям рассылает он своих апостолов, и они хранят тебя во имя своего Бога. Верю в храм жестокого короля, который вмуровывает в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку. И надсмотрщики с бичами превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьёт твой пот и пожирает плоть. Но взамен он обращает тебя в свою веру. Только вера может стать тебе истинной платой. Ибо камневоз жестокого короля тоже получает право на гордыню. Он стоит, горделиво скрестив руки, у форштевня каменного корабля, который стал грозной преградой пескам в неспешной реке времён. Величие храма служит и камневозу тоже. Ибо Бог, единожды явленный, открыт каждому, и открыт целиком. Я верю в храм, рождённый радостным ощущением победы. Ты оснащаешь корабль для вечности. И каждый, кто строит этот храм, поёт. Храм тоже будет петь. Я верю в любовь, что приняла обличье храма. Верю в гордыню, что сделалась храмом. Поверил бы, если б ты смог его построить, в гневный храм. Ибо я видел деревья, чьи корни питались любовью, гордыней, хмелем победы и яростью. Они вытягивали из тебя сок, питались и росли. Но ты предлагаешь жаждущим корням скудную пищу — ты предлагаешь им золото. Золотом умеет насыщаться лишь склад с товарами. Пройдёт век, ветреный, дождливый, и склад исчезнет. Так отверг я сокровище как возможность обогащения, отверг как возможность воздаяния, отверг как возможность построить каменный корабль, но так и не нашёл лучезарной картины, в которой оно могло бы преобразиться, облагородив людей, и задумался в тишине. «Оно что-то вроде навоза и удобрения, — решил я. — Глупо было бы искать в нём чего-то другого».CXCIX
Я просил Господа научить меня и вернуть мне, по своей неизречённой милости, воспоминание о караванах, что шли к святому городу, хоть и не понимал, чем поможет мне лицезрение верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого. Я увидел тебя, мой народ, — по моему приказу ты готовился к паломничеству. И будто неизречённой сладости мёд была мне хлопотливость последнего вечера. Ибо есть странствия, которые готовишь будто корабль, — построив, ты его оснащаешь, — они сродни статуе или храму и нуждаются в инструментах, в твоей изобретательности, в расчётах и силе рук, ибо снаряжаешь ты его для летящего ветра. Так готовишь ты свою дочь, сперва ты растил её, учил, журил за пристрастие к безделушкам, но пришёл час отдать её супругу, и ради того, чтобы в этот час она была прекраснее всех, ты разоряешься ради неё на льняную ткань и золотые браслеты, потому что отправляешь свой корабль в море. Так, уложив припасы, заколотив ящики, завязав мешки, ты по-королевски идёшь среди верблюдов, погладишь одного, сунешь лакомый кусочек другому, нажмёшь коленом, помогая потуже завязать ремень, взгромоздишь на верблюда кладь и с гордостью увидишь, что она не съезжает ни вправо, ни влево, зная, что верблюды будут долго раскачивать её в пути, спотыкаться о камни, опускаться, отдыхая, на колени, но твоя кладь будет сохранять равновесие, — так дерево раскачивается на ветру, не опасаясь растерять груз зреющих апельсинов. Я смакую твоё рвение, мой народ, ты готовишь для себя кокон сорокадневного пути по пустыне; я не вслушиваюсь в ветер слов, зная, что не обманываюсь в своём знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в безмолвии моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не в восторге от будущего паломничества, что в самых чёрных красках расписываете прошлогоднее: высохшие колодцы, знойный ветер, змеи, что таятся в песке, будто незримые нервы, грабители, болезни, смерть; я знаю — говорит в вас стыдливость любви. Хорошо, мой народ, что ты, восхищаясь золотыми куполами святого города, скрываешь свой трепет перед Господом, ибо Господь для тебя не подарок и не припрятанный впрок припас, Он — торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий.И если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагородить, как иной раз рассуждают корабелы о парусах, ветре и море, — я не доверяю им, опасаясь, что они недосмотрят за досками и гвоздями, словно отец, что начал слишком рано молиться о красоте для своей дочери. Я люблю песни кузнецов и плотников: они славят не запас, что сам по себе ничто, но путь, ведущий к кораблю. Вот корабль оснащён, паруса наполнены морским ветром, и пусть мои моряки поют не о волшебном острове — о морских опасностях, — тогда я поверю: они победят. Они узна́ют, каковы они, при помощи страданий, пути, повозок, клади. А ты окажешься слепцом, если, доверившись жалобам и проклятиям, которые тешат их сердце, встревожишься и пошлёшь им сказителей с медовыми устами, которые не будут петь о смерти в пустыне, а только о красоте заката. Что мне до счастья? Оно бесформенно. Ведёт меня откровение любви. Караван отправился в путь. Вот оно, таинственное переваривание пищи, тишина, кромешная тьма кокона, отвращение, сомнения, боль, ибо любое преображение — боль. В этот час не пристало тебе воодушевление — только верность, хотя ты, ничего не понимая, потерял в себе опору и ни на что в себе не полагаешься, — тот, каким ты был вчера, обречён на смерть. Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви. Мучительно воспоминание о ветке под окном, о кукареканье петуха во дворе. Ты шепнул себе: «Я из своего дома», потому что в пустыне оказался бездомен. Вспомнил ты и своего осла, которого будил поутру, лошадь, собаку, таинство общения с ними, — они тебе отвечали. И вместе с тем были словно бы замурованы в чём-то своём, и ты не знал, дорожат ли они своим кровом или тобой. Из далёкой дали твоего отлучения тебе так необходимо потрепать своего осла по холке, погладить по храпу, может быть, для того, чтобы приободрить его, будто слепца в глубинах его ночи. И конечно, в день, когда иссякший колодец предложит тебе лишь зловонную грязь, сердце твоё сожмётся, ты вспомнишь доверчивое лепетанье родника возле дома. Так запеленает тебя кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле её нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берёт один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция — твои любезности, до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя, — на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребёнок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ, и усердие твоё при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода. Отдавал огнедышащей песчаной буре, и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня: слова утешения здесь излишни. — Наступит вечер, похожий на синеву моря, — мог бы сказать я. — Задремлют барханы, будто стога. Ты будешь идти в прохладе по твёрдому влажному песку... Но на губах у меня останется привкус лжи, своими выдумками я призову к существованию в тебе кого-то, непохожего на тебя. Поэтому в безмолвии моей любви я без обиды слушаю твои проклятья. «Возможно, Ты прав, Господи! Возможно, завтра, Господи, выживших Ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев! Сейчас мы словно пригоршня скорпионов, обведённых огненным кругом!» Такими они и должны быть во славу Твою, Господи! Вдруг, будто взмахом сабли сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков всё тепло до капли. Ледяные лучи звёзд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей к земле. Что мне сказать им? Разгорится заря, хлынет свет. Тепло солнца, будто кровь, разогреет замёрзшее тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно растекается по жилам... Но они ответят мне: — Вместо нас Господь, может, и посадит тут завтра сад со счастливыми цветами и по своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы — несжатая полоска ячменя, которую треплет ветер. И они должны быть такими во славу Твою, Господи! Я отошёл в сторону от страдальцев и так стал молиться: — Господи, благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное, я — хирург, починяю тело, оно издаёт крик. Я знаю, в них вмурованы и запасы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло ещё время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме разъедающей кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою! И я повёл свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками. И наконец мы сделали поначалу ничем не отличимый от других бессчётных шагов, отданных пространству, волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священнодействие пути. Благословенный шаг среди всех прочих шагов: распался кокон и отдал крылатое своё сокровище царству света.
Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к певучему стиху, отвесными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог, не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полёт. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самое себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересёк свою пустыню. У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, но ты должен проторить к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы; как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священнодействие игры. Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие — ковка гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу — гладкую доску, выкованный гвоздь, — но она обрадует твоё сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не променяешь бревно, если жаждешь построить корабль. Но я видел: человек, играя в шахматы, тайком позёвывал и отвечал на ход противника так безразлично-снисходительно, словно его, давно зачерствевшего сердцем, принудили возиться с детьми. — Гляди, какой у меня флот! — говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки. — Прекрасный флот, — соглашается зачерствелый сердцем, тупо глядя на камешки. Самолюбивому тщеславцу, что не пожелал всерьёз вжиться в священнодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведёшь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль. Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает, в силу утончённости, песню корабля песне плотников и кузнецов, а когда корабль оснащён, спущен на воду и летит вперёд с толстощёкими парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поёт о волшебных островах, — да, конечно, острова — главное и в ковке гвоздей, и в обстругивании досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрёг ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто, едва взглянув на первый гвоздь, зашлёпает по тёплой жиже мечты, воспевая разноцветных колибри и сумерки на коралловом атолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу ноздреватый ломоть хлеба, а не сладкий компот, я в него не верю, я — с островов дождя, где живут серые птицы, и, чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что всколыхнёт во мне бесцветное небо и серых птиц. Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев разброд и разноголосицу, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном — с пятью лепестками алого цвета, я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове, плотном и весомом; я своими руками извлёк его из морских глубин. То же скажу я и о любви. Книжный червь славит её вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. Отдельная, частная привязанность проторила мне к ней дорогу. У неё свой собственный голос. Особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в своё отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа. Потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка, она сворачивает здесь и здесь, она белая от пыли, с шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придёшь. Умирающий от жажды идёт в мечтах к роднику. И умирает.
То же скажу я и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь: я зеваю. Ты никуда меня не привёз. Ты сообщил: «При кораблекрушении утонуло десять детей...» Что мне арифметика? Я не запла́чу в десять раз сильнее, если число погибших удвоится. Вдобавок со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы всё-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми. Я заплачу о том ребёнке, к которому ты приведёшь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные, благодаря твоему ребёнку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех на свете детях — обо всех на свете людях. Однажды ты рассказал мне о конопатом хромоногом мальчишке, он пришёл в деревню неведомо откуда, и жители деревни возненавидели безродного попрошайку. — Зачем нам этот уродец? — возмущались они. — Чирей на благородном лице нашей деревни. Повстречав его, рассказчик спрашивал: — Эй ты, конопатый, у тебя что, отца нет? Тот молчал. В друзьях у него были только козы, бараны, деревья, и рассказчик, бывало, задавал ему и такой вопрос: — Чего не играешь со сверстниками? Тот молча пожимал плечами. Сверстники швыряли в него камнями: урод-хромонога, пришёл из уродской страны, где всё плохо и всё не так! Иногда он отваживался подойти к играющим; красивые, складные мальчики вставали враждебной стенкой: — Вали отсюда, краб ползучий! Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал уродовать нашу? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоят на ногах! И ты видел, как молча поворачивался и отходил хромоножка, припадая на больную ногу. Повстречав его опять, ты спрашивал: — Эй ты, конопатый, у тебя что, нет матери? Он молчал. Быстро взглядывал на тебя исподлобья и краснел. Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи, ты не мог понять, откуда в нём спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным. Пришёл день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь: — Хромое отродье! Пусть ищет себе места где хочет, нечего ему делать в нашей деревне! Ты защитил его и спросил: — Эй ты, конопатый, неужели у тебя и брата нет? Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза: — Да! У меня есть брат! Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своём старшем брате, его родном брате, а не чужом. Он — воин и где-то в далёком далеке несёт службу царства. У него замечательный конь, гнедой, а не какой-то ещё, и на этого гнедого коня брат посадил его позади себя — его, хромоножку, его, конопатого, в день, когда праздновали победу В победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он приедет, его старший брат. Он посадит его на коня, его, хромоножку, его, конопатого, и пусть тогда на него посмотрит вся деревня. «Но на этот раз, — сказал мальчишка, — я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит! И все будут на меня смотреть. А я буду командовать: «Направо! Налево! Быстрей!..» Брат не откажет мне. Он любит, когда мне весело! И мы будем с ним вдвоём!» Он уже не был ненавистным хромоножкой, весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне в день победного торжества. И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку, он сидел на низкой ограде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями: — Бегать и то не умеешь, хромонога! Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были заодно. Ты тоже знал, как обделены его враги, они видят в нём только хромого, только урода, а на самом деле он — любимец старшего брата, который ездит на боевом коне. Пусть не сегодня, но брат отмоет его от плевков, загородит своей славой, как крепостная стена от камней. Ветер мчащегося галопом коня облагородит тщедушного уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. На сегодня он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. И он, хромой, будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры: «Бегай с нами, раз у тебя такой брат...» И он попросит брата, чтобы тот посадил и других мальчишек на коня, впереди себя, всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними суров из-за их невежества. Он будет их любить и скажет: «Всякий раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать его рассказы о битвах...» Он приник к тебе, потому что ты — знаешь. Для тебя он уже не пустое место, не ничтожество, за ним ты видишь его старшего брата. Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды, тёплого солнца. Взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. Втоптал в неизбывную грязь. Ты взял и сказал ему: «Малыш, ищи себе другую опору, потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне». Как расскажешь ему, что его брата выгнали из армии, что, покрытый позором, ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему швыряют камни? Рассказчик добавил: — Я же и похоронил его, он утопился в пруду. Он не мог жить в мире без солнца... И тогда я заплакал над человеческим горем. И благодаря веснушчатой мордашке, этой, а не другой, благодаря боевому коню, гнедому, а не кому-нибудь иному, благодаря прогулке на этом коне в день победного торжества, а не в какой-нибудь другой день, благодаря насмешкам этой деревни, а не другой, благодаря пруду, в котором, как ты сказал мне, плавали утки, а по берегу было разложено выстиранное тряпьё, я увидел Господа — вот как далеко зашла моя жалость, — потому что вёл ты меня тропой подлинности и говорил вот об этом мальчишке, а не о другом. Не ищи света как вещи среди вещей, ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом. Старательно смазывая ружьё, воздавая должное и ружью, и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу, и своей чести, ты приуготовляешь в себе озарение, мой дозорный! Передвигая шахматные фигуры, принимая всерьёз правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты приуготовляешь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты — если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев, этой лживой поэзии сентиментальной гусеницы, — ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг, по внезапному биению сердца, поймёт: предыдущий шаг его был шагом к чуду. Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти открыть скрытые в тебе запасы счастья. Но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещественности. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на ладонях водяные мозоли, о геометрии звёзд и как завязать узлом верёвку, если кладь твоя съехала набок. Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом, — поэзия узлов для него вдохновенней поэзии составления букетов, изготовления украшений для танцовщиц. Есть узлы, способные удержать на месте корабль, но развяжет их даже ребёнок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота лебединой шеи, и ты можешь держать пари с приятелем, что он развяжет его без труда. Если приятель примется за работу, ты можешь спокойно сидеть в сторонке и посмеиваться: этот узелок из тех, что доводят до бешенства. Не забудет учитель, в совершенстве владея своим искусством, и лёгких петель, которыми ты перевьёшь подарок для любимой. Хитрость завязанной ленты в том, что развязать её можно одним движением, словно сорвать цветок. «Она увидела твой подарок, — скажет он, — и восхищённо вскрикнула». И он тоже вскрикнет, а ты отведёшь глаза, потому что погонщик мало похож на влюблённую девушку — хром, кривонос и вдобавок ещё и косит. Нет, я не буду пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе — и совершенно напрасно — ничтожными. Матрос сделал искусством завязывание узлов, благодаря ему простая верёвка послужила канатом для буксира или спасением. Раз игра подчас становится для нас возможностью подняться выше, я приравниваю игру по значимости к молитве. Но разумеется, мало-помалу, по мере течения дней, твой караван изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на верёвках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звёздам. Тогда вокруг каждого сгущается мёртвая тишина, каждый становится дерзок на язык, туг на ухо и чёрств сердцем. Не тревожься. Это разрывается кокон. Ты обогнул ещё одно препятствие и поднялся на холм; камни и колючки пустыни, от которых ты мучился, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: «Вот оно!» И твои сотоварищи по каравану бегут к тебе. Всё изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер, что слепит и скрипит на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам сторицей, но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают бельё в голубой воде, ни даже величием куполов, что венчают святой город, — чем-то неуловимым: малой звёздочкой, — солнце благословило шпиль, и звёздочка засверкала превыше всех куполов. Но как она ещё далека! Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона, осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть, впереди ещё скалы, с которых можно упасть, и пески, пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мёртвые — последняя пища солнца. И всё-таки вы выносили в себе радость, она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей; вас обрадовала незримая звезда, она бледнее, чем Сириус в ночь самума[372], такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят её, настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет; так вот мигание этой звезды и даже не мигание, а для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска, и вот этот отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания, за всё воздано вам сторицей, потому что один из вас, вглядевшись вдаль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и, указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!» Свершилось. На взгляд, ты ничего не получил. Но ты получил всё. Теперь ты напоен, накормлен, исцелён от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть, я видел святой город и умру счастливым». Я веду речь не о контрасте, из-за которого после нищенства счастьем кажется тощее благополучие и блаженством утоление жажды после алчбы. Я же сказал: караван ещё в пути и путь опасен. Разве говорил я, что пустыня выпустила его из своих объятий? Не веду речь и о каких-то переменах судеб, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, паломники добросовестно творили священнодействие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник — праздник, замерцавший вдали золотой пчёлкой. Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след и понял: сладостна смерть среди соплеменников. Всё вокруг осталось прежним, новым был полустёртый след на песке. Он всё переменил. Что же увидел я, о народ мой, сострадая тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как, потеряв сам себя, ты брёл по пескам под знойным солнцем, как выплёвывал песок, бранил соседа и, браня его, страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками. А затем показал тебе отблеск отблеска золотой пчёлки, и ты преисполнился благодарности и любви. Дары мои невесомы. Но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь армия кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка!
CC
Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядюшки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе чёрную жемчужину из глубин моря, миновав священнодействие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты — семя. Нет для тебя подарков. И поэтому я хочу утешить тебя — тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей: нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно западает тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом, и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров, и она может остаться каменистой пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твоё быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости, режь дерево. Нет дерева, собирай камни. Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсёк от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребах, набитых алмазами. Но для того, кто шёл и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты? Горюя, ты просишь подарков, а не возможностей. Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему недодали любви, ошибается в понимании любви: любовь никогда не была подарком, который получают. Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы. И королеве совсем не обязательно знать о тебе, для того чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблён в звёзды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путём, кладью, повозкой. Пчелой расцветшей звезды. Он добывал свой мёд. Я видел: он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звёздам может не хватать геометра. Саду — садовника. Но тебе не может не хватать звёзд, садов, гальки, выброшенной из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ. И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных. Они с аппетитом ужинают. Шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов бдения. Они рады, что избавились от ярма. Ярмо — их недруг. И это так естественно. Недруг — и в то же время неизбежный, необходимый, насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о воине, что светится светом любви. Говорил о влюблённом, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню бесчувствия? Он молит: «Позаботься о моей любимой или позаботься о моём доме, детях...» И поэтому тебе драгоценна его жертвенность. Я наблюдал за беженцами-берберами, они не шутили, не подтрунивали друг над другом. Не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб. Противодействия, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив её пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее. Вкуснее рту, горлу, желудку, и ничему больше. Так вкусен ужин для моих дозорных после тяжкой и неприятной работы. Разыгравшийся аппетит — причина их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизнь и для моих берберов, кормя их только по праздникам... Но дозорного взращивают часы бдения. Хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных нечто иное, нежели воловье стремление к кормушке и обожествление желудка. Ужин их — причащение хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, что бдение и обнимающий город взгляд благодаря им возвеличат хлеб. Хлеб — он ведь тоже разный, есть один хлеб и есть другой. Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в весёлом квартале женщин, рассказывая им: «Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули, я и ухом не повёл, не шевельнулся». И с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, счёл стыдливость любви похвальбой бахвала. Знай: дозорный, рассказывая байки о своём стоянии на посту, озабочен не возвеличиванием себя — ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит город. Он умрёт ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать своё божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек. И своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без труда вводя всех в заблуждение, ради того, чтобы прикоснуться к затаившемуся в глубинах самих себя роднику любви. И если красотка скажет: «Вот незадача, мало вас уцелеет после войны!» — ты услышишь, как охотно они с ней согласятся. Согласятся, изрыгая ругательства и проклятия. Но втайне слова красотки им приятны, словно признание. Ибо умрут они ради своей любви. Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочутся тебе в лицо! За дураков ты их, что ли, принимаешь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за их кровь?! Хотя храбрости им не занимать, ясное дело! Так тщеславятся они. Из любовной стыдливости разыгрывают бахвалов. И правы, потому что иной раз ты обманываешь их. Пользуясь их любовью к городу, отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя уверить, что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого. Но с любовью, без лишних слов, спасут твой город и с наглой усмешкой, будто кость собаке, бросят тебе твои спасённые амбары, потому что и они часть города.CCI
Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да, я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там поместил реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время всё измерить, всё перечислить! Мне важно, чтобы ты увидел мир с той горы, которую я выбрал. Ты увлёкся моей работой, пошёл дальше меня. Ты поддержал меня там, где я дал слабину. Я рад. Тебе кажется: раз ты разбил меня в пух и прах, то и я немедля ополчусь на тебя, — ты ошибся. Ты из породы логиков, историков, критиков — они обсуждают форму носа и уха, но не видят лица целиком. Что мне за дело до формулировки закона, до конкретики определения? Разработать их — твоё дело. Если я хочу заразить тебя страстью к морю, я рассказываю тебе о плывущем корабле, о звёздной ночи и волшебном царстве ароматов, рождённом дальним островом. «Наступает утро, — говорю я тебе, — и ты (пусть ничего вокруг, на взгляд, не изменилось) попадаешь в обитаемый мир. По морю плывёт невидимый ещё остров, похожий на корзинку, полную пряностей». И ты видишь, что твои матросы, патлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон, неповоротливому сознанию нужно весомое гуденье, но тонкая струна в душе уже всё уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, сулящему розы... И на море, в зависимости от ветра, ты ловишь благоуханье любви, отдыха или смерти. Но ты останавливаешь меня. Корабль, который я описал, не выдержит бури, нужно перестроить его вот так, а можно вот этак. Я соглашаюсь. Измени! Я ничего не понимаю в гвоздях, в досках. Потом ты отвергаешь пряности, которые я тебе пообещал. Твои научные познания доказывают, что пряности должны быть совершенно иные. Я соглашаюсь. Я ничего не смыслю в ботанике. Главное для меня, чтобы ты построил корабль и собирал для меня далёкие острова. Пусть даже ты пустишься в путь ради того, чтобы меня опровергнуть. И опровергнешь меня. Я первый поздравлю тебя с триумфом. А потом, в безмолвии моей любви, пойду и навещу портовые улочки. Какими они стали после твоего возвращения? Преображённый священнодействием поставленных парусов, звёздной книги и палубы, которую необходимо драить, ты, вернувшись, поёшь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю, ты хочешь, чтобы и они пустились в путь. А я? Я стою в тени, я слышу твою песню и, довольный, тихо ступая, ухожу. Ты не можешь всерьёз уличить меня в ошибке, не можешь опровергнуть, уничтожить меня. Я — питающая среда, не вывод умозаключения. Разве возможно убедить в ошибке скульптора, доказать, что вместо воина он должен был вылепить женское лицо? На тебя будет смотреть женское лицо или воин... Они просто будут перед тобой. Если я увлёкся звёздами, я уже не тоскую о море. Я занят звёздами. И когда я творю, что мне до твоих возражений? Ты тоже мой материал, а я леплю невиданное ещё лицо. Поначалу ты будешь протестовать. «Да это лоб, — скажешь ты мне, — а вовсе не плечо». — «Возможно», — отвечу я. «А это нос, а не ухо». — «Возможно», — отвечу я. «Глаза», — скажешь ты, не соглашаясь со мной, отойдёшь, приблизишься, посмотришь справа, потом слева, чтобы раскритиковать то, что я делаю. Но рано или поздно придёт минута, и перед тобой предстанет моё творение: такое вот лицо, а не иное. И ты замолчишь. Что мне до ошибок, в которых ты меня уличил? Истина запрятана куда глубже. Слова для истины — дурнаяодежда, любое из слов можно опровергнуть. Язык мой неуклюж, и я часто противоречу сам себе. Но это не значит, что я ошибся. Я всегда отличаю ловушку от добычи. О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино — божество, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловки, на первый взгляд несвязны, но внутри них я сам. Я просто есть, и всё тут. Если женщина наряжена в платье, я же не раздумываю, настоящие или нет на платье складки. Вот она идёт, она красива, плавно двигаются складки на её платье, собираются, распрямляются и всё-таки сохраняют гармонию. Я не знаю, есть ли логика в складках платьях. Но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн желания.CCII
Я заговорю с тобой о Млечном Пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал: «И на устроенную так усадьбу смотрят звёзды». И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же: слева сарай, в нём осёл. Справа дом, в нём жена и дети. Перед домом сад с оливами. За твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие, — ведь и в своих тогда больше смысла, — ты постучишься к другу. Выздоровление его ребёнка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами. И бессонница твоя становится бдением. Смерть твоего друга для тебя смертельна. Но если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую парчу, или новый кувшин, или благовония, или ещё что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. И если с наступлением утра тебе нужно приниматься за дела, ты поднимаешься и сонный идёшь в сарай будить осла в стойле, ты поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперёд, выводишь на дорогу. Ты идёшь, дышишь, вокруг тебя поля и холмы — картина, насыщенная силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами, пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним из них не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроем. В твоём владении — целая страна, полная лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но всё-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому. Но я проложил ещё одну дорогу в твоём царстве, и у тебя появилась ещё одна возможность смотреть и вперёд и назад, и вправо и влево: я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростёртому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковёр времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты почувствовал себя древнее на тысячу лет или, напротив, новорождённым младенцем, и это ещё одна дорога, которую я проторил для тебя, о мой человеческий колосок под светом звёзд. И если сердце твоё потянется к любви, ты подойдёшь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синеву неба, и скажешь своей жене в тесном своём квартале, где задыхался от недостатка воздуха: «Вот мы с тобой одни, ты и я, под взглядами звёзд». И по мере того как будет прибывать воздух, ты будешь дышать всё глубже и очищаться. Станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и, раздвинув камни, тянется к небу; похожим на пробуждение, — и, несмотря на хрупкость, на уязвимость, в тебе очнётся сила, способная повлиять на ход веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир (скорее, шуршит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме: вернулся с войны сосед и выходит замуж соседка), то окажется, что я расширил в тебе душу и она стала чутче слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звёзды сложатся для тебя в небывалую мелодию.CCIII
Ты сказал: «Эти широкопалые жилистые руки из камня безобразны». Не согласен. Я должен увидеть статую, прежде чем судить о руках. Если это юная девушка в слезах, то прав ты. Старый кузнец? Руки его прекрасны. И точно так же я не сужу того, кого не знаю. Ты говоришь: «Он низок, солгал, бросил, ограбил, предал...» У меня есть жандармы, чтобы определить, каков поступок, у них есть книга, где все поступки разделены: этот белый, а этот чёрный. Но жандармы обязаны поддерживать порядок, а не судить. Точно знает капрал, что добродетель — это умение держать строй, но и капрал никому не судья. Да, мне нужны и капралы, и жандармы, но уклад для меня важнее справедливости, потому именно он создаёт человека, которого будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад во имя справедливости, я уничтожу человека и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришёл ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, — тогда бы я попросил моего жандарма перелистать его учебник, — ты спрашиваешь, презирать тебе этого человека или уважать. Мне случалось уважать того, кого я казню, и казнить того, кого уважаю. И не я ли тысячу раз вёл моих солдат против моего возлюбленного врага? Точно так же, как я знаю счастливых людей, но не знаю, что такое счастье, я не знаю, что такое воровство, убийство, развод, измена, если это не конкретный поступок конкретного человека. Но немощен ветер слов и не вмещает глубинную суть человека, как не вмещает и главного в статуе. Да, этот человек восстановил тебя против себя, возмутил, оскорбил (возможно, подспудными импульсами, какие, бывает, таятся в музыке, и ты тогда затыкаешь уши). Своё неодобрение ты поместил в оболочку его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали заодно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату, и сопутствующую закату печаль, говорит: «октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда, бесшумно подкравшись, я обратил сон недруга в вечный, я сцеплю одно слово с другим и скажу, например: «прикосновение снежной сабли», чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что сопутствовала свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок, который станет для меня сродни образу в произведении. Твоя обида должна стать когтем. Должна обрести лицо. Никому невтерпёж жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей. Раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни. Вооружившись своими творениями, рвёмся в атаку. Твоя жена не устаёт пересказывать твои низости. И если приятельница её пожмёт плечами, найдя, что упрёки ничего не стоят, она не успокоится. Она будет искать другие. Она просто ошиблась в повозке. Плохо подобрала картинки. Ведь обида её не может ошибаться, она же есть. Точно так же ты обсуждаешь с врачом свои болезни. Ты предлагаешь одну болезнь, другую. У тебя есть соображения, чем ты болен. Он доказывает тебе, что ты ошибся. Что ж, возможно. Он говорит, что ты здоров. Вот тут ты возражаешь. Ты мог плохо изобразить свою болезнь, но подвергать сомнению то, что она существует?! Никогда! Врач — да он просто осёл! И от описания к описанию ты будешь прорываться к свету определённости. И сколько бы ни отрицал, ни отбрасывал твои описания врач, он не сможет убедить тебя отбросить твою болезнь, потому что ты чувствуешь: она есть. Твоя жена будет чернить и чернить твоё настоящее и твоё прошлое, твои желания и твои верования. Не имеет смысла бороться против когтей. Подари ей изумрудный браслет. Или высеки её. Но мне жаль тебя, когда ты то ссоришься, то миришься: ты стоишь совсем не на ступеньке любви. Любовь — это встреча в тиши. Любить — значит созерцать. Наступает час, и мой дозорный преображается в город. Приходит час, и ты получаешь от своей возлюбленной нечто, что не связано ни с этим её движением, ни с другим, ни с этой чёрточкой, ни с другой, ни с этим её словом, ни с другим, — ты получаешь нечто исходящее от Неё. Наступает час, и одного её имени тебе достаточно, словно молитвы, к которой нечего прибавить. Приходит час, когда ты ничего не просишь. Ни губ, ни улыбки, ни ласковых рук, ни ощущения её присутствия. Тебе достаточно, что Она ЕСТЬ. Наступает час, и тебе не нужно спрашивать себя, задумываться, стараясь понять это её движение, слово, решение, отказ, молчание. Ибо Она ЕСТЬ. Но вот жена требует, чтоб ты оправдался. Она устроила суд над твоими поступками. Она спутала любовь и собственность. Зачем отвечать? Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности, таким, каков ты есть.CCIV
Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя без меры, сочтя таланты, дарованные мне свыше, самоценными, тогда как они всего лишь предуказание пути, и вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скаредность сердца и тела и не желал её знать. Я поджигал лес, чтобы на час согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист пуль над ухом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал каждой из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута. Я посмеялся над книжным червём, он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно, он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не преходящим. Будто есть цель, а не цепь перемен — свидетельство текущей жизни. Презирал я и низменность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели. Обывателей я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства. В сражениях я рубился отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулёжки страха, но мне совсем не понравится, если историографы моего царства представят меня ветряной мельницей с саблей, — никогда я не был только клинком. И если я обходил стороной брезгливцев, что едят, зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если историографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, — никогда я не был только желудком. Я — дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Всё мне в помощь, всё выше я тяну мои ветки. Но я понял, что был не прав в своём отношении к женщинам. Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя: ничего не смысля в священнодействии игры, он с жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь. В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели в гневе, я понял, что был волом у кормушки. Но разве я бабник, Господи?! Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое — странствовать по горам на носилках, выбирая самый красивый из пейзажей. Но вот обозначились очертания голубой равнины, и тебе уже стало скучно, но ты приказываешь нести тебя дальше. Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит день и ночь? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: «Ты, господин мой», но слова быстро прискучивают, и хочется иной песни. Дай я тебе десяток тысяч женщин, одну за другой, и ты очень быстро истратишь особую чёрточку каждой, и тебе их будет мало, и снова ты ощутишь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра. Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из неё ни черпай, что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими заводями, островерхими горами, потаёнными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем, не уставая, проговорить всю жизнь, и я удивлялся, Господи, скудости запаса, с которым приходила ко мне и та, и другая женщина, мне едва хватало её запаса на ужин. Я не считал их, Господи, пахотной землёй, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжёлые башмаки, взяв плуг, лошадь, борону и лукошко с зёрнами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне, — нет, я низвёл их на роль кукол, которых выставляют старейшины захудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь своё царство, — ясноглазая куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучи движения рук, протягивающих яблоки, простодушны слова и голосок, но ты вмиг исчерпаешь эти дары, выскребешь до дна мёд, потрепав румяную, свежую щёчку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка — пахотная земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до неё добраться. Но я хотел собирать от улья к улью готовый мёд, я не искал необозримого пространства, которому поначалу нечего тебе предложить, которое требует от тебя одного: идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними. У меня был друг, единственный подлинный геометр, он был мне учителем, к нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, — для того, чтобы взглянул; и от одного его взгляда они смотрелись по-другому, — потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи; из подвластной ему вещественности он извлекал такой вот плод, а не иной, не расчётами, не взвешиванием — присущей ему особенностью движений, заданным в нём направлением в пространстве, — я ощущал в нём пространство, искал его, как ищут морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него, если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками? Господи! Ту, что я ввожу в свой дом, ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шёл с ней рядом и открывал её. — Господи, — сказал я, — только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преображения, которого не дождаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. Торжество наполненных закромов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца. Ибо настал час, и ты убрал в амбар силу, что воспламенит твои чёрные квадраты земли, убрал холм семян, окружённый ещё ореолом золотой пыли, будто славой, что не успела смолкнуть. Ах, Господи, — сказал я, — я ошибся дорогой, я блуждал среди женщин, словно шатун-бродяга. Мучился возле них, словно в бескрайней пустыне, ища оазис, который был не любовью, который был вне любви. Я искал скрытое в них сокровище, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска, она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой: смотрел Твоей истине в лицо и не узнавал её. Я походил на безумца, что крадётся ночью к развалинам, прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, прикладывает ухо к тяжёлым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, о Господи, ища сокровище, как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину; старик так ищет юность, скупец — богатство, влюблённый — залог любви, гордец — залог гордыни, честолюбец — славы, и все они — праха и суеты сует, ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда созидания. Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из чрева руин не извлечёшь ни славы, ни богатства, ни любви. Как безумец, что бесплодно копает землю ночь за ночью, ничего не обрёл и я в своём сластолюбии, ином, чем сластолюбие скряги, но столь же тщетном. Опять и опять я оставался с самим собой. Мне тоскливо с самим собой, Господи, и наслаждения мои омрачают и утомляют меня. Я хочу творить священнодействие любви, праздник её приведёт меня на иную ступень. Ибо всё, чего я ищу и жажду, чего ищут все на свете люди, не на ступени вещественного, которое у них под руками. Вне священнодействия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню; радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, — радость в священнодействии, благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь неё иное. Господи! Я смотрю на свою жену, обнажённую, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с тёплой нежной грудью, и почему же мне не решить, что дана она мне в подарок? Но я понял Твою истину. Та, что спит, та, что вскоре я разбужу, едва дотронувшись упавшей от меня тенью, не должна быть стеной, о которую я буду биться. Она может быть дверью, ведущей в иное. Я не должен расточить её на хаос черт, чёрточек, на хорошее и дурное, ища немыслимое сокровище. Я должен трудиться над её целостностью, над прочностью в ней связующих нитей в безмолвии моей любви. Что сможет тогда огорчить меня? Огорчается красавица, получив в подарок украшение: изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля — самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства. Ибо я не живу вещественным, я живу смыслом вещей. Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном мешочке, кувшин, может быть, латунный, для чаепития перед часом любви, — как заменишь их, если они — часть священнодействия? Совершенно только божество, и если грубый кусок дерева причастен к служению божеству, то и он приобщён к совершенству. И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все её достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие — красивее, или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я тоскую, а вот эта так трогательно произносит: «Ты, мой господин...», в её устах слова эти звучат музыкой для души и сердца... Но спите спокойно, несмотря на всё своё несовершенство, несовершенные жёны. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбовавшись, вскоре наскучу, вы — путь, кладь, повозка. И я не устану сбываться.CCV
Понял я и что такое праздник. Он миг твоего перехода с одной ступеньки на другую после долгого священнодействия, которое подготовило твоё перерождение. Вот священнодействие строительства корабля. На протяжении долгих дней он — дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преображается в невесту моря. Ты обручаешь их. Это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду. То же и твой ребёнок. И праздник его рождения. Ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши, оттого что он родился. Ты будешь ждать преображения, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род, это и будет праздник. Праздник и собранная жатва. Праздник закромов. Праздник семян. Но потом приходит праздник весны, когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро. И снова ты ждёшь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закромов. И так без конца, от праздника к празднику, до самой смерти, потому что нет наготовленного запаса. Но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идёшь дальше, других праздников я не знаю. Ты шёл долго-долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнате, куда ты вошёл, ты не проживёшь дольше, чем в другой. И я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведёт куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда высвободишься из кокона. Ты — едва теплящийся очаг, не каждый час посещает озарение дозорного. Озарение я приберегаю для дня, когда слава трубит в трубы и бьёт в барабаны. С помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание, но и сон тебе тоже нужен. А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на чёрную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скоплённой в нём прохлады. Зыбь моих шагов, я — пловец, неутомимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь. Медленно проплывают мимо меня стены приёмной, и, если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на чёрную, я тружусь не спеша, будто колодезник, что, копая колодец, вытаскивает грунт. Сильными руками помогает он натянутой верёвке. Я знаю, куда я иду, моя родина уже не здесь. Из одной приёмной в другую продолжаю я своё странствие. Стены в них вот такие. И украшены таким вот орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами. Касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная. Всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине. И всё же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами, что-то вспомнив. Так же спит мой дворец, убаюканный полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили свежее бельё в корзину и теперь, взявшись вдвоём за ручки, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело завершилось там, за хлопнувшей дверью. Там почтили какую-то обязанность. Что-то закончили. Теперь, наверное, и там заслужили отдых. Впрочем, что я знаю об этом? Моя родина уже не здесь. Из коридора в коридор, золотая плитка, чёрная плитка, огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора. Звон серебряных кувшинов, он мне небезразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия — вскипающее молоко, а может, ребёнок, что вскрикнул, а может, желание помириться после короткой ссоры. Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку. И вот ты бежишь, чтобы длилась и длилась смиренная молитва... Шаги смолкли, молоко спасено, ребёнок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочут под нос молитву. Опасность отражена. Рана вылечена. Забывчивость исправлена. Какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь. Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мёд своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в её запах. Дальше сандал сундуков. А тут просто свежевымытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство, узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел теми же царствами. Но я иду и не думаю о них. Моё царство уже не здесь. Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моём приближении в стену. И я милостиво спрашиваю: «Покажи, что у тебя в корзине», ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольники шоколадных рук снимают с головы корзину. Опустив глаза, он воздаёт мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат. Потом улыбаюсь. Ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольники шоколадных рук ставят на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. «Что горит в этой озарённой светом лампе? — думаю я. — Как пожар, разгораются и бунт, и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего дворца? За его стенами?» Я смотрю на своего раба, его всё ещё носит по волнам бушующего моря. «Да-а, — думаю я, — велика загадка человека!» И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, ибо родина моя уже не здесь. Я прошёл покои, где отдыхают. Прошёл зал совета, где шаги мои умножило эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился в последнюю приёмную. Когда я не торопясь шёл по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель. Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения; дозорные мои, без сомнения, спали, в полдень мой дворец будто улей, наполненный сном: всё замерло в нём, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть, не тревожит забывчивая, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брюзга, что не устаёт поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устаёт блеять, из уснувшего города всегда несётся неведомый зов, на самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных, наскоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них. Моя родина уже не здесь. Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза и замер на миг у порога: так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля. Круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники. Нарезанные полоски моих жатв. Меловой запах земли. Здесь совсем иные мелодии: гуденье пчёл, стрекотанье цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешёл в другой. Ибо захотел вкусить полдень моего царства. Ибо только что родился на свет.CCVI
О том, как я навещал моего друга — единственного подлинного геометра. Как трогало меня тщание, с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пению воды в нём, пробовал на вкус первый глоток... Как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что, ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии. — Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня... Геометр не отвечал мне. И когда наконец нашёл, что чай готов, и с удовлетворением наполнил наши пиалы, сказал: — Из знающих... что это значит? Неужели гитарист не пьёт чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему мне не должно нравиться пение воды и священнодействие чаепития, воздающее честь моему другу королю... Он помолчал, подумал. — Что я знаю?.. Мои треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай. Зато наслаждение чаем немало открыло мне в моих треугольниках... — Что ты такое говоришь, геометр?! — Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о её движениях, что кажутся музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях, губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной? Я объясняю, отчего так сладостна её улыбка. Но сначала она улыбнулась... Я не стану переворачивать груду камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва — пустой звук. Не стану размышлять и о добродетели, изучая каменную кладку. Не стану искать в солях земли объяснения, что такое апельсиновое дерево. Ибо апельсиновое дерево — пустой звук для солей земли. Но, глядя, как растёт дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли. Сначала я должен полюбить. Охватить цельность. Потом я пойму и ту вещественность, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещественности, если нет во мне того, что её превосходит и к чему я устремлён. Поначалу я разглядываю треугольник. Потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием. Исходя из своей любви ты и создаёшь свой уклад, заботясь, чтобы усердие было поймано им, как добыча в ловушку, чтобы оно не оскудевало в царстве. Какому ваятелю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник? Прежде всего я подчиняюсь созерцанию. И если могу, потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить, отказ от любви — глупая претензия гордыни. Я восхищался и той, и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше моего смыслили в улыбках. Ты видел улыбки? — Конечно, видел, геометр... — Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на её улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр и другим неуловимым движением погружает в иную стихию, тебе кажется, что полыхает пожар, хочется вынести её из огня, ты уже её спаситель, — так много в ней вдруг тревоги, смятения. Оттого, что её творения исчезают бесследно, оттого, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет выстроить другие... — Что же она открыла тебе о соотношении линий? — Важны не линии, важны связующие нити, их я и должен прежде всего научиться нащупывать. Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, склонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорождённый, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что причиняет тебе боль, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен. И ты отходишь к окну, пряча слёзы. А за окном — просторы полей. И будто пуповину, ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещественностью. Ячменные поля, пшеничные, цветущая апельсиновая роща — все они готовятся питать твоё тело. Трудится и солнце, что с начала веков вертело, будто мельница, воду. Ты слышишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря ему город утолит свою жажду, строят новый взамен старого, который износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цоканье ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь ток жизни, что питает собой всё вокруг и длит во времени. И медленно вернёшься к кровати. Оботрёшь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь ещё, возле тебя, но так отвлечена смертью. Поля не поют ей песни строящегося акведука, дорога песни двуколки и копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов не нужен ей, и твоя любовь тоже. И тогда тебе приходят на память друзья, что так любили друг друга. Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шутки, нуждаясь в совете и просто в нём самом. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Но их развело досадное недоразумение. И они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чём не сожалели. Сожаление о любви — уже любовь. То, что они получали друг от друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали калеками, уменьшились, но не замечают этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считают, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль лавчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернёт их к житнице, что насыщала их пищей. Та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если её больше нет? Но ты, ты проходишь как садовник. Ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева, — с его точки зрения, ему всего хватает: оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения бога деревьев, который срезает ветки там, где необходимо. И ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину. Ты миришь. И вот они вновь пылают взаимным усердием. И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и, одной рукой поддерживая голову, поднёс другой к бескровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьёт. Я — путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю её или исцеляю, — нет, я словно бы пришивал на живую нитку её к тому, чем она была, — к полям, колосящимся хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для неё солнечная мельница поворачивала журчащую воду. Теперь немного и для неё строился акведук. Для неё теперь заскрипела двуколка. А поскольку этим утром она стала ребёнком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей, игрушек, друзей, я сказал ей: «Послушай...» И она узнала копытца ослика. Она засмеялась, и ко мне повернулись лучи её солнца, ибо ей захотелось любви. Я — геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. Ты говоришь: «Вот и здесь точно так же, как...» И проблема решилась. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал: «И тут точно так же, как...» И вылечил её. Я постарался сделать понятным, что и падающий камень, и звёзды — одно и то же, больше я ничего не сделал. Я постарался сделать понятным соотношение линий и сказал: «В треугольнике это так, и тут то же самое...» От решения одних проблем к решению других я иду к Господу, который решает все вопросы. Шёл и я не спеша, возвращаясь от моего друга. Я больше не сердился, не гневался, — гора, на которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, делёжки. Я вижу — то, что считается неразрешимым противоречием, лишь необходимое условие для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня — залог свободы, в обуздывании любви — залог любви, в моём возлюбленном враге — залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придаёт только море. От замиренного врага к замиренному врагу — и от нового врага к следующему иду я вверх, в гору, к Господу, к Его тишине, и знаю: не забота моря быть ласковым к кораблю, иначе не будет моря, а корабль станет плотиком для прачек; знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь, проживая эту беспощадную войну, которая и есть залог мира, оставлять по пути мёртвых, которые и есть залог жизни живых, принимать лишения, которые и есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, которая и есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста и по Твоей воле я не знаю ни мира, ни любви вне Тебя, ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным моим врагом, что царствовал на востоке от меня, примиримся, потому что достигнем завершения; ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая, примирюсь, потому что мы достигнем завершения, ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не противоречат друг другу любовь и условия, что живят любовь.CCVII
Да, конечно, иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться, несправедлива. Но если ты будешь против этой несправедливости, разрушая одну ступеньку за другой, растечётся большая лужа там, где когда-то сиял ледник. Ты желаешь их видеть похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью. А я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести. Возьми игру в шахматы: в ней есть победитель и побеждённый. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унизить побеждённого. Что делать, таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь: «Какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры. Его победа — только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощёк, более гибок, более волосат, менее лохмат?..» Но я видел побеждённых, которые день за днём, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Ибо ты становился богаче оттого, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Она как лежащая в море жемчужина. Не ошибись насчёт зависти, и она — силовая линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награждённый уходит, красуясь, неся на груди подаренный мной камешек. Ты завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть не что иное, как стремление уравнять. И решаешь: «Пусть все носят камешки на груди». Кто, спрашивается теперь, захочет так себя разукрасить? Ты живёшь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду. — Ну и пусть, — скажешь ты. — Зато я уменьшил человеческое страдание. Я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли. Ты судишь, считая главной зависть, она болезненна. И стало быть, предмет зависти — зло. Ты уничтожаешь всё, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребёнок тянется к звезде и с криком требует дать её. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду. То же и с драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей. Ты говоришь: «Они принадлежат всем». И, разумеется, твой народ пройдётся вдоль витрин в дождливый день. И позевает над коллекцией изумрудов, которая отныне — не часть священнодействия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои изумруды отличаются от бутылочного стекла? Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе, но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. То же произойдёт и с женщинами, если ты постараешься их обезопасить. Как бы ни были они красивы, они превратятся в восковых кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От него исходит прелесть прошлого или его печаль, но он не уязвляет жестокостью желания. Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его в оформление витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом. И если теперь ты сожжёшь один из них в день торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжёшь ровным счётом ничего. Не ты принесёшь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрёк алмаз на смерть в ночи под сводами храма, ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм — тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, которая тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройтись по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно одарить. Он — вещь, предмет с инвентарным номером, его можно убрать на склад. На тот или на другой. Его размагнитили. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл? А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нём. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче оттого, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть — проявление новой силовой линии. Но тебе царство кажется совершенным, если утомлённый путник умрёт посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти: направо или налево, вперёд или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди, красного одеяния. Ты увидишь, как он зевает в лавочке с материями, дожидаясь, пока я придам им цену, проторив пути для его желаний. Оттого, что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый... или, поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюёт на смысл моих цветов, как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито-зелёный, но и им недоволен, потому что не так уж он зелен. И вот ты видишь, как горделиво он шествует по городу в своём ядовито-зелёном плаще, попирая твою иерархию цветов. И всё-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь. — Я, — говорил отец, — созидаю праздник. Собственно, не праздник, а некую связующую нить, силовую линию, и уже слышу смех моих противников, они готовят свой праздник вопреки моему. Но всё это единая связующая нить. Мои противники тоже укрепляют её и длят. Я поддержу их торжество, продержав их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьёз относятся к своему священнодействию. И я к своему тоже.CCVIII
И опять начинался день. Я стоял посреди него, словно моряк, сложив руки на груди, вдыхая запах моря. Море, которое бороздить мне, это море, а не другое. Я стоял, будто скульптор перед глиной. Этой глиной, а не другой. Так стоял я на своей горе и так молился Господу: — Господи, над моим царством занимается день. Утро это свободно и готово для игры, словно эолова арфа. Господи! Таким, а не иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены тонкорунными овцами, гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню. А вдали пурпуровые пески, где цветёт одно только солнце. Такое лицо у моего царства, а не другое. В моей власти повернуть немного русло рек, чтобы оросить пески, но не сейчас. В моей власти заложить здесь новый город, но не сейчас. В моей власти одним дуновением ветра на семена высвободить лес торжествующих кедров, но не сейчас. Сейчас я взволнован отошедшим прошлым, оно такое, а не иное. И эта арфа готова заиграть. На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с патриаршей мудростью моё царство, где всё разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке? Из-за чего гневаться, горевать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уто́к для моего полотна. Вот поле для моей пахоты. Вот арфа для моей песни. Когда идёт хозяин своего царства на заре по своей земле, ты видишь: он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку. Его не возмущают ни колючка, ни камень. Он украшает свою землю и чувствует только любовь. Когда женщина распахивает поутру дверь своего дома и выметает мусор, она не возмущается пылью. Она украшает свой дом и чувствует только любовь. Жаловаться ли мне, что гора стоит у этой границы, а не у другой? Здесь, будто играя в лапту, отражает она наскоки кочевников из пустыни. И это хорошо. А там — дальше, где царство моё не защищено, я воздвигну свои крепости. Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарёй я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступление, вынашивающие измену, оттачивающие ложь, но есть и другие, тратящие себя на труды, сострадание, справедливость. И конечно же, я, украшая мою землю, отброшу и камень, и колючку, но без ненависти и к тому, и к другой, чувствуя только одно — любовь. Я обрёл мир, Господи, молясь Тебе. Я побывал у Тебя и вернулся. Я чувствую себя садовником, что медленными шагами идёт к своим деревьям.Да, всё бывало в моей жизни: я и гневался, и горевал, и ненавидел, и жаждал мести. В сумерках проигранных битв или бунтов, всякий раз, когда я чувствовал своё бессилие и был словно заперт в самом себе из-за невозможности действовать по своей воле, глядя на моё беспорядочное войско, которое больше не слышало моего слова, на мятежных генералов, что находили себе новых властителей, на безумных пророков, что слепой рукой тащили за собой гроздья уверовавших, я испытывал искушение гневом. А ты? Ты хочешь исправить прошлое? С опозданием изобретаешь счастливое решение? Мечтаешь отыскать дорогу, которая спасла бы тебя, но время ушло, и ты просто-напросто портишь то, что зовут мечтой. Конечно, он был, этот генерал, который, согласно своим расчётам, посоветовал тебе атаковать с запада. Ты перекраиваешь историю. Убираешь советчика. Атакуешь с севера. Так, тяжело дыша, ищут тропу среди горных скал. «Ах, — вздыхаешь ты в обнимку со своей мечтой-калекой, — если бы этот не сделал, тот не сказал, третий не спал, четвёртый не верил или отказался верить, если бы этот был, а этого не было, то я бы победил!» Но все они вместе смеются над тобой, потому что стереть их уже невозможно, как невозможно упрёком смыть пятно крови. И тогда тебе хочется отдать их на растерзание палачу, чтобы всё-таки избавиться от них. Но хоть размели их в муку на всех мельницах царства, ты не уничтожишь их, они всё равно были. Ты слаб и вдобавок низок, если бегаешь по своей жизни в поисках виноватых и, надругавшись над тем, что зовут мечтой, выдумываешь по-иному сбывшееся прошлое. От чистки к чистке ты отдашь весь свой народ могильщику. Вполне возможно, что этот способствовал поражению, но почему его не осилили те, что способствовали победе? Потому что их не поддерживал народ? А почему народ предпочёл дурных пастухов? Потому что они лгали? Но лгут везде и всегда, потому что всегда выговаривается и ложь, и правда. Потому что они платили? Но платят всегда, и всегда есть подкупленные. Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои посулы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но если жители соседнего царства изношены сердцем, то болезнь, которую я им предлагаю, войдёт к ним через того или через этого, — того, кто соблазнится первым. Передаваясь от одного к другому, она заразит всё царство, потому что моя болезнь была как раз по ним. Заболевшие первыми — в ответе ли они за порчу царства? Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами. Они есть, но они — что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдёт себе других. Если болезнь, лоза за лозой, отравляет виноградник, я не виню первую лозу. Даже сожги я её, нашлась бы другая, которая открыла бы двери порче. Если гниёт царство, всё помогает ему гнить. Пусть большинство просто-напросто попустительствует, — что же, считать их непричастными? Я сочту убийцей и равнодушного, который, видя, как ребёнок тонет в луже, не пытается его спасти. Но я буду питать собой бесплодие, если, попирая то, что зовётся мечтой, примусь за лепку сбывшегося прошлого, казня взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства и, переходя от следствия к следствию, уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездеятельными, и я поставлю им в вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов я захочу уничтожить в человеке всё, что может быть подвержено болезни, почву, на которой может расцвести её посев. Но заболеть может всё. И каждый — почва, плодородная для любого посева. Значит, мне придётся уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, ибо будет очищен от зла. Ведь я и говорил, что совершенство — добродетель мёртвых. Совершенствование, будто удобрением, пользуется бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от ошибки к ошибке. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение созидается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина являет себя, как являет себя дерево. У меня под руками только земля для пахоты, она не растит ещё моего дерева. Я пришёл и живу сейчас. Прошлое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идёт к своей земле. Я не стану упрекать её за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что мне до колючек? Я избегаю ненависти не от снисходительности, но потому, Господи, что принадлежу Тебе, в Котором всё, что есть, есть сейчас, и всё, что есть, сущностно. Сущностно для меня в каждый миг существования и моё царство. И каждый миг для меня есть начало. Я вспоминаю мудрые слова моего отца: «Смешно, если семечко жалуется на дурную землю, на которой выросло салатом, а не кедром. Оно было семечком салата». И ещё он говорил: «Косой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, кто не косит. И теперь он всем рассказывает, что некосые перепортили всех девушек».
Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны неправедности, заблуждениям, стыду, которые преображают. Смешон плод, презирающий дерево.
CCIX
Смешон и тот, кто надеется отыскать своё счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало, а он всё умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах, он похож на дикаря, что вцепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук. Смешон и тот, кто, увидев, что сопряжение слов в моём стихотворении покорило тебя мне, что и красота статуи покорила тебя скульптору, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя тоске гитариста, поверил, будто надо всем властвуют слова, мрамор и ноты, и вот он принимается вертеть их и так и сяк, но не может поймать эту власть, ибо не в них она таится, а он громыхает всё громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе безусловно пробуждается чувство; но оно пришло бы к тебе, грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства — чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлёк его из тебя мой жандарм, крепко наступив тебе на ногу. Если я хочу повести тебя за собой, сказав «октябрьское солнце» или «прикосновение снежной сабли», я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самим материалом ловушки; разумеется, я не возьму расхожего, рыночного товара, вроде поэтических слов «грусть», «сумерки», «любимая», — от него тебя сразу стошнит, вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец», конечно, оно непременно сделает своё дело и ты станешь менее радостным, но до глубины души оно тебя не проймёт, так что волей-неволей, для того чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придётся описать какие-нибудь необычайные пытки. Чтобы слова всё же выжали из тебя эмоцию: власть слов невелика, если одним из них удаётся нажать кнопку воспоминаний, то у тебя разве что наполнится рот слюной, — так вот, выжимая из тебя словами эмоции, я принимаюсь лихорадочно множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем мог бы достичь грубый сапог моего жандарма. Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти, пятясь, в зал приёмов, где ты дожидаешься меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступлю как грабитель: успех извлеку из разрушения, ибо, придя к тебе вот так же во второй раз, я тебя уже не удивлю, больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к вседозволенности в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съёжишься в тусклом, изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзией в безъязыком мире, ещё способной извлечь из тебя стон жалобы, будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма. Нет на свете противников. Нет одиночек. Нет человека, который бы всерьёз отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивнее ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов и лунного света. «Я — тень, — говорит тебе твоя тень, — я обхожусь без света». Но она существует благодаря ему.CCX
Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно, у тебя клептомания и ты суёшь в карман золотые безделушки, что попадаются тебе на глаза, но ты ещё и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии. А любя свои золотые безделушки, спрячу их. Возможно, доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идёт в нём на праздник. Редкостные камни овевают её ореолом таинственной значимости. Но ты ещё и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайнам о них перед тобой умолчу. Возможно, ты просто мой друг. Я приму тебя просто из любви к тебе, такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если голоден, накормлю. Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот поступок, и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам. О словах и поступках я буду судить по тебе. Но и ты должен так же принять меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью хилого ветра слов. Я — гора. Гору можно созерцать, всматриваясь. Тачка вряд ли тебе в помощь. Как же я объясню тебе то, что не было услышано твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблаговидными. Я рассказывал тебе о моих воинах в пустыне. Молча смотрел я на них вечером, накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность их рвения и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности?.. Так ли они должны были говорить! Но я опасаюсь патетически глаголющих воинов. Если он готов умереть за своего капрала, то скорее всего умереть ему будет некогда, раз он так занят творением своего чувствительного повествования. Я не доверяю гусенице, влюблённой в крылья. Она не найдёт времени запеленаться в кокон. Я глух к ветру слов и в моём солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг — это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он — особое царство и неистощимый родник. Он может молчать и переполнять меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова всё дразнятся и дразнятся, показывая друг другу язык...CCXI
Мне опять довелось встретиться с тем пророком, у него жёсткий взгляд, дни и ночи он лелеет свой священный гнев и вдобавок ещё косит. — Нужно, — сказал он мне, — спасать праведников. — Да, — сказал я. — Самый совершенный должен быть возведён в образец. Лучшую статую лучшего из скульпторов ты ставишь на пьедестал. Ребёнку читаешь лучшие стихи. В королевы выбираешь красивейшую из красивых. Ибо совершенство — стрелка, указывающая направление. Направить необходимо, пусть не в твоих силах достигнуть совершенства. Но мой пророк воспламенился: — Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей. — Пожалуй, ты перехватил, — остановил я пророка. — Каким образом ты хочешь отделить цветение от дерева? Облагородить жатву, уничтожив навоз? Спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и неторопливый рост дерева. И говорю тебе: в основании совершенства царства — бесстыдство. — Ты возвеличиваешь бесстыдство! — И твою глупость тоже, ибо хорошо, если добродетель предстаёт нам как желанное и достижимое улучшение. Мы должны создать образ праведника, пусть в жизни такого быть не может, во-первых, потому, что человек немощен, а во-вторых, потому что полнота совершенства, где бы она ни осуществилась, влечёт за собой смерть. Но хорошо, если предуказанный путь предстаёт в виде цели. То есть ты отправляешься в путь за недостижимым. В пустыне мне приходилось тяжко. И поначалу казалось, что сладить с ней невозможно. И тогда дальний бархан я преображал в долгожданную гавань. Я добирался до неё, и она теряла своё могущество. Тогда я перемещал счастливую гавань к горбатым холмам, что виднелись на горизонте. Доходил до них, и они теряли свою магическую власть. А я выбирал следующую цель. И так от цели к цели преодолел пески. Бесстыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям, — просвети их — и получишь стыдливых скромниц, — либо тем, кто нарочито попирает стыд. Но и в бесстыдстве основа — стыд. Бесстыдство живёт им и его утверждает. Когда идёт пьяная солдатня, ты видишь: матери прячут дочерей и запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоём недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, и их как будто не будет вовсе, и если девушки у тебя будут купаться в чём мать родила, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства (целомудреннее всех покойники). Стыдливость в моём царстве — это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. Целомудрие — сбережение собранного мёда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моём царстве. — Стало быть, ты поощряешь свою пьяную солдатню выкрикивать мерзкие непристойности?! — Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость целомудрия. Но чем жёстче моё принуждение, тем притягательнее для них распутство. Преодоление отвесной скалы слаще подъёма на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю, который и не думает защищаться. Там, где существует понятие «снасильничать», тебя так и тянет дерзко взглянуть женщине в лицо. Я сужу о напряжённости силовых линий в царстве по суровости наказания, которое призвано умеривать аппетиты. Если я перегораживаю горный поток, мне придётся воздвигнуть стену. Стена эта — свидетельство моего могущества. Но для пересыхающей лужицы мне хватит и картонной перегородки. На что мне кастрированные солдаты? Я хочу, чтобы они всей силой напирали на мою стену, чтобы были мощны и в грехе, и в добродетели, которая есть не что иное, как облагороженный грех. — Так что же, тебе по нраву их пороки? — возмутился пророк. — Нет. Ты опять ничего не понял, — ответил я ему.CCXII
Мои тупые, очень тупые жандармы решили меня обмануть. — Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта, нужно истребить её. — А как вы узнали, что эти люди принадлежат к одной секте? И жандармы рассказали мне — оказывается, эти люди поступают одинаково, они схожи между собой по таким-то и таким-то признакам, и они указали мне место их сборищ. — А как вы догадались, что именно они причина порчи нашего царства? И жандармы рассказали мне о совершённых ими преступлениях, о взяточничестве, о насилиях, подлой трусости и уродстве. — Я знаю другую, ещё более опасную секту, которую никому пока ещё не удалось разоблачить. — Какую секту?! — вскинулись мои жандармы. Ибо жандармы родились на свет, чтобы действовать кулаками, они сохнут, если у них недостаток деятельности. — Секта меченых, у них на левом виске родимое пятно, — ответил я. Жандармы мои не поняли и заворчали. Жандарму, чтобы бить, понимать ведь необязательно. Он ведь бьёт кулаком, а кулакам не положено мозгов. Но один из них — в прошлом плотник — кашлянул разок, другой. — Ничем эти меченые между собой не схожи, и нигде они не собираются. — Да, не собираются, — согласился я. — Но это-то и опасно. Они незаметны. Однако стоит мне издать указ, который обнаружит их для общества, и общество осудит их, ты увидишь, они будут держаться вместе, селиться рядом, возмущаться против справедливого народного гнева, и всем станет ясно, что они принадлежат к одной секте. — Так оно и есть, — согласились мои жандармы. Но бывший плотник снова кашлянул. — Я знаю одного такого. Он человек мягкий. Широкой души. Честный. Он получил три ранения, защищая царство. — Очень может быть, — согласился я. — Если женщинам свойственна ветреность, неужели не найдётся среди них ни одной рассудительной? Оттого, что генералы громогласны, разве нет среди них ни одного застенчивого? Мало ли какие бывают исключения? Заметив пятно на виске — покопайся в прошлом этого человека. Ты увидишь: он — как все, а значит, как все меченые, виновен во всевозможных грехах: похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве. Ты же не станешь утверждать, что все остальные меченые не знают этих пороков? — Знают! Знают! — закричали жандармы, и у них зачесались кулаки. — Когда на дереве гниют апельсины, кого ты обвинишь — дерево или апельсины? — Дерево! — закричали жандармы. — А несколько здоровых плодов оправдывают дерево? — Нет! — закричали жандармы, которые, слава богу, любили своё дело, а их делом было никого не прощать. — Значит, мы будем только справедливы, если очистим наше царство от этих злодеев с родимым пятном на левом виске. Но бывший плотник опять кашлянул. — Какие у тебя возражения? — спросил я, тогда как его сотоварищи с поистине профессиональным чутьём многозначительно поглядывали на его левый висок. Один из них, ткнув в подозрительного пальцем, даже спросил: — А тот, знакомый... может, твой брат... или отец... или ещё кто из семейства? И все жандармы недовольно заворчали. И тут я взъярился: — А ещё опаснее секта проходимцев с родимым пятном на правом виске! Потому что о них мы не подумали. Значит, они скрываются ещё лучше. Я уж не говорю, как опасны лишённые родимых пятен! Как они ловко избегают опознавательных знаков, потому что наверняка составили заговор. От секты к секте я уничтожу всю секту людей, потому что именно они — источник всех преступлений: похищений, насилий, взяточничества, обжорства и бесстыдства. А поскольку жандармы не только жандармы, но ещё порой и люди, то с них-то я и начну необходимую нам чистку. Я приказываю жандарму сгноить таящегося в нём человека в потайном застенке моей крепости. И мои жандармы засопели, задумавшись, но сопели они без видимых результатов, потому что размышляют они при помощи кулаков.Жандармы ушли, я удержал плотника. Опустив глаза, он разыгрывал полнейшую невинность. — Я разжаловал тебя из жандармов! — сказал я ему. — Истина для плотника сложна и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом, которое ему противится; такая истина не для жандармов. Если приказ гласит, что черны те, у кого имеется родимое пятно, у моих жандармов при одном только упоминании о нём должны чесаться кулаки. Такие жандармы мне нравятся. Мне нравится, что старшина судит о твоей добродетельности по умению держать строй. Если позволить старшине прощать тебе неповоротливость из-за того, что ты поэт, прощать твоего соседа, потому что он верующий, соседа соседа, потому что он невинный барашек, — восторжествует справедливость. Но вот наступила война, и мои необученные солдаты бросились в бой беспорядочной кучей, и их уничтожили. То-то они благодарны старшине за уважение к ним! Так вот, я отправляю тебя к твоим доскам, боясь, что твоя любовь к справедливости там, где ей нечего делать, прольёт однажды невинную кровь.
CCXIII
Ко мне пришёл человек и спросил меня, что такое справедливость. — Знаешь, — сказал я ему, — я кое-что знаю о справедливых поступках, но о справедливости я не знаю ничего. Справедливо, чтобы кормили тебя в соответствии с твоей работой. Справедливо, чтобы лечили, если ты болен. Справедливо, чтобы ты был свободен, если помыслы твои чисты. Но на этом очевидность кончается... Справедливо то, что соответствует укладу. Я требую, чтобы врач шёл и через пустыню, если надо перевязать раненого, пусть рана будет всего лишь царапиной на локте или коленке. А раненый — нечестивцем. Так я возвожу в закон уважение к человеку. Но если моё царство воюет с царством нечестивцев, я требую, чтобы мои воины пересекли пустыню и выпустили кишки исцелённому нечестивцу. Так я возвожу в закон уважение к царству. — Государь... я не понимаю тебя. — Мне нравится, если кузнецы, заворожённые поэзией гвоздей, украдут молотки плотников, чтобы приспособить их для ковки. Мне нравится, если плотники станут сманивать кузнецов, желая, чтобы те служили доскам. Мне нравится, если зодчий, распоряжающийся и теми и другими, окоротит плотников, защищая гвозди, и кузнецов, защищая доски. Всё это напряжённые силовые линии, они создадут корабль. Но чего мне ждать от равнодушных плотников, которые славят гвозди, от равнодушных кузнецов, которые хвалят доски? — Стало быть, ты чтишь ненависть? — Я перевариваю её, очищаю и чту любовь. Однако бывает и так: для того чтобы люди столковались между собой, им нужно отвлечься и от гвоздей, и от досок и повстречаться на корабле. И я отошёл в сторону и обратил к Господу такую молитву: — Противоречащие друг другу истины — истину врача и истину солдата — я принимаю как преходящие, Господи, и, думаю, не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не сливаю вместе, превращая в тёплое пойло, ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и лечили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары. Что мне за дело, если дразнятся, показывая язык друг другу, слова? Ибо возможно, что только вот эта ловушка, части которой так не подходят друг другу, поймает желанную мне добычу — человека с такими достоинствами, а не другими. Я ищу на ощупь Твои силовые линии, Господи! С моей ступеньки они не очевидны. Я могу сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну полной грудью. Я работаю подобно скульптору, он обрадовался, нажав левым пальцем на глину посильнее. Почему — он объяснить не может. Однако именно так он наделил глину властью. Я тянусь к Тебе, Господи, словно дерево, повинуясь силовым линиям, заложенным в семечке. Слепой, Господи, ничего не знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое преображение болезненно. Господи, по Твоему милосердию я карабкаюсь к Тебе по склону, чтобы сбыться. Ты не снизойдёшь до своего творения, Господи, я познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечка. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст явившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре. Что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях — гусенице, о корабле — кузнецу. Достаточно, если зодчий воодушевлён творческим замыслом и создал силовые линии корабля. Зародыш — силовые линии крыльев. Семечко — силовые линии дерева. А ты, Господи, просто-напросто есть. Одиночество моё, Господи, по временам будто лёд. И я прошу Тебя о знамении в ледяной пустыне моего одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знамение тщетно, ибо если Ты на одной со мной ступеньке, то как Тебе заставить меня расти дальше? А с собой, Господи, таким, каков я есть, мне делать нечего. Поэтому я иду, обращая к Тебе безответные молитвы, и поводырём мне, слепцу, только слабое тепло на старых моих ладонях. Я пою Тебе хвалу за безответность, Господи, ибо, если найду то, что ищу, значит, я сбылся. Если Ты снизойдёшь вдруг к человеку лёгким, ангельским шагом, значит, он уже сбылся. И не будет больше ни строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить. И не выметет свою комнату, не поцелует любимую. Если он увидит Тебя, Господи, то станет ли от Тебя удаляться и славить Тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я любуюсь храмом и не вижу камней.Господи, я стал стариком, во мне слабость дерева, чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей. Меня тяготит мысль, что я принуждён и убивать, и исцелять разом, ибо Ты, Господи, вменил мне в долг превозмочь все противоречия, что сделали столь жестокой мою судьбу. Принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к другой ради того, чтобы приникнуть к Твоему молчанию, Господи! Господи, прошу Тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага, что покоится на востоке от моего царства, и геометра, моего единственного друга, — я, который — увы! — уже перешёл перевал и оставил за перевалом своё поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы станем едины, Господи, во славу Твою, заснув в раскрытой ладони песков, где я так неустанно трудился.
CCXIV
Удивительно мне твоё пренебрежение к земле. Ты ценишь лишь произведения искусства: — Как неотёсан твой друг, как ты можешь дружить с ним? Как выносишь его недостатки? Терпишь запах? Я знаю только одного человека, который был бы достоин тебя... И дереву ты сказал бы: «Для чего ты опускаешь корни в навоз? Чтить можно только цветок и плод». Но я живу только тем, что преображаю. Я — путь, кладь, повозка. А ты бесплоден и подобен смерти.CCXV
Неподвижно стоите вы, ибо, уподобившись кораблю, что, причалив к пристани, расцветил причал привезёнными грузами — золотой парчой, алым перцем, слоновой костью, — к нам причалило само солнце и заливает мёдом света пески, начиная день. Вы застыли в неподвижности, дивясь краскам зари, что играет над холмом, прячущим колодец. Неподвижны верблюды, неподвижны их тени-великаны. Ни один верблюд не шевельнётся, они знают: скоро дадут пить. Но пока всё застыло в ожидании. Воды ещё не дают. Ещё не принесли огромные кувшины. И, уперев в бока руки, ты вглядываешься в даль и спрашиваешь: «Чего они там замешкались?» Те, что спускались в нутро колодца и освобождали его от песка, отложили лопаты в сторону и скрестили на груди руки. Они улыбнулись, и ты понял: вода есть. Что такое человек в пустыне, как не слепой щенок, что, тычась, ищет материнский сосок? Успокоился и ты, и улыбнулся. И погонщики улыбнулись, глядя на твою улыбку. Всё вокруг улыбнулось — залитые солнцем пески, твоё лицо, лица твоих помощников и, похоже, твои верблюды, тоже там, внутри, под ворсистой корой, ибо ведомо и им, они скоро напьются, а пока, предвкушая наслаждение, они застыли в неподвижности. Пора рассвета сродни редкостному мигу в открытом море: прорвалась завеса туч, и хлынуло солнце. Ты почувствовал вдруг, как близок Господь, и не ведаешь сам — почему, видно, от щедрот расточаемой вокруг благодати (благодать источает и живой колодец, в пустыне колодец всегда подарок, ожидаемый всегда и всегда нежданный), видно, от блаженного предвкушения воды, ощущая его, вы и замерли пока в неподвижности. Ибо стоят неподвижно, скрестив на груди руки, те, что отбросили свои лопаты, они не двигаются. И ты, уперев в бока руки, стоишь неподвижно на холме и смотришь на ту же отдалённую точку на горизонте. Не пустились в путь верблюды с огромными тенями, что выстроились в цепочку на песчаном склоне. Нет ещё тех, что несут водопойные желоба, откуда все будут пить, и ты продолжаешь спрашивать: «Чего они там замешкались?» Ничего ещё не осуществлено, всё только обещано. И вы живёте пока улыбкой. Да, скоро вы насладитесь водой, которая будет для вас удовольствием — любовью. А сейчас люди, пески, верблюды, солнце — одно целое, их слила воедино круглая дыра посреди камней, и если все они разнятся между собой, то не больше, чем разная утварь единого священнодействия, предметы ритуала, слова песнопения. А ты — верховный жрец, что будет главенствовать, ты — генерал, что будет распоряжаться, ты — будущий церемониймейстер, ты стоишь пока неподвижно, уперев в бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопойные желоба, чтобы все напились. Ибо недостало ещё одной чаши для священнодействия, одного слова для стихотворения, одной пешки для победы, одной приправы для праздничной трапезы, генерала для свадьбы и камня для часовни, чтобы наконец все увидели её и преклонились. Но где-то там идут те, что несут водопойные желоба, и, когда они наконец появятся, ты им крикнешь: «Эй, вы там, а ну поторапливайтесь!» А они не ответят. Они взберутся на холм. Встанут на колени, чтобы приладить то, что принесли. И тогда ты взмахнёшь рукой. Заскрипит верёвка, что помогает земле рожать воду, и, качнувшись, медленно двинется в путь процессия верблюдов. А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками и гортанно командовать. Так начнётся священнодействие утоления жажды при неторопливо подымающемся солнце.CCXVI
И опять пришли ко мне логики, историки, критики и принялись выводить от следствия к следствию логические теории и подтверждать их весомыми доводами. Теории получались безукоризненными. И одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека. Дав им наговориться, я спросил: — Прежде чем стрекотать о человеке, сказали бы мне, что, по-вашему, важно для человека и что в человеке важно... И они застрекотали опять, сладострастно забрасывая меня новыми схемами, ведь стоит предложить любителям слов новую возможность поговорить, они ухватят за гриву любимого конька и поскачут по неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеня и сияя саблями, вздымая облако пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не прискачут. — Так вот, — сказал я им, когда они спешились, ожидая похвалы (люди этого племени бегут не на помощь, а для того, чтобы их заметили, услышали их топот, залюбовались головокружительными кульбитами и кувырками, и поэтому, заранее предвкушая похвалу, принимают скромный вид), — так вот, как я понял, вы собираетесь позаботиться о самом важном в человеке и для человека. Но если я правильно понял, ваши теории и системы поощряют в человеке как главное толщину его живота, — конечно, живот существен, но он — средство, никак не цель, благополучием живота вы обеспечиваете надёжность повозки, — вы печётесь о здоровье человека, и оно существенно, но и здоровье — средство, а не цель, состояние внутренних органов всё равно что состояние колёсиков в механизме. Стало быть, вы печётесь о количестве повозок. Конечно, и я хочу, чтобы царство было многолюдно, чтобы люди в нём были сыты и здоровы. Но очевидное — ещё не главное, ибо ваши подопечные пока не более чем материал, дробная вещественность. Так как же поступать с ней? Куда вести? Что дать, чтобы она росла и облагораживалась? Ибо всё — только путь, кладь, повозка... Они говорили мне о человеке, как говорили бы о салате. И главное достоинство этого салата было в том, что он не переведётся у меня в огороде. Что им ответишь? Близорукие скудоумцы всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда — смыслом стихотворения. И я добавил: — Я люблю подлинность, люблю основательность. Не терплю, когда калечат мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность. Я не похож на деляг, чьи головы туманит мечтательный хмель, — ибо прежде всего я чту опыт. Умение танцевать я ставлю выше умения брать и давать взятки, скупать драгоценности, злоупотреблять служебным положением; от танцев куда больше удовольствия, и назначение их куда более очевидно. Накопленным тобою богатствам потом всё равно придётся искать применение, а поскольку танец трогает человеческое сердце, ты возьмёшь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но, ничего не смысля в танцах, ты выберешь бездарную и, значит, ничего не приобретёшь. А я? Я смотрю, я вслушиваюсь, — но в безмолвии моей любви не слушаю слов, — и могу поклясться: нет для человека ничего драгоценней запаха воска в один-единственный, необыкновенный вечер, золотой, светящейся на восходе или закате пчёлки, чёрной жемчужины, ничьей, спрятанной пока в глубине моря. Да и сами деляги, — я видел это, — своё с трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями по службе, скупкой, продажей, рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций и проверку счетов, так вот, своё богатство они вкладывали в орех величиной с ноготь, на вид он сродни гранёной стекляшке и зовётся бриллиантом, — ценностью его наделило священнодействие поиска в тёмных глубинах земли и то же священнодействие сделало драгоценным запах воска, мерцание золотой пчёлки. Ценой собственной жизни будут спасать деляги бриллиант от грабителей. Главный дар был открыт мне — дар дороги, которую нужно преодолеть, чтобы настал праздник. Чтобы судить о твоём благородстве, я должен знать, что ты празднуешь и что твой праздник говорит сердцу, ибо каждый праздник — веха на твоём пути, преодолённый порог, оставленный позади кокон; он то, откуда ты идёшь, и то, куда ты пришёл. Только так я могу узнать, что ты за человек и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота, преуспеяние, приумножение и здоровье. Но для того чтобы направить тебя вот по этой дороге, а не по другой, нужно, чтобы ты возжаждал вот этого, а не иного; твоя жажда и будет залогом твоего роста, она облагородит тебя, направит твои шаги, пробудит творческий дух. Достаточно страсти к морю, чтобы облагородить тебя и дождаться от тебя кораблей. Я должен знать, чего заставляешь ты жаждать жителей своего царства. Ибо любовь — это жажда любви, благородство — стремление к благородству, радость от чёрной жемчужины — надежда, что однажды и ты добудешь её из морских глубин.CCXVII
Нет, не думай, что целое — это сумма отдельных частей. «От этих нам ждать нечего, — сказал ты, придя ко мне. — Они грубы, жадны, себялюбивы, подлы и вдобавок трусы». Ты и о камнях мог бы сказать мне, что они грубы, шероховаты, недвижимы, непробиваемы, а между тем именно из них творят нечто совершенно иное: статую или храм. Я убеждался не однажды, что целое ни в чём не подобно составляющим его частям. Поговори с каждым в любом из соседних племён и убедишься: каждый в отдельности ненавидит войну, не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит воровства, занят собственным домом, до блеска полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь: «Мирно их царство, они живут любовью к миру...» Однако царство их похоже на супницу, где, не утихая, кипят войны. И доброта, нежность, жалость к животным, восхищение цветами, присущие каждому из жителей, — необходимые компоненты колдовства, ведущего к скрежету клинков в точности так же, как снег, ёлка и горячий воск наколдовывают взволнованное биение твоего сердца, но и там, и здесь добыча ничуть не похожа на ловушку. А как судить о дереве по его частям? По составляющим его элементам? Разве, говоря об апельсиновом дереве, ты коришь его за черноту корней, горечь древесины, клейкость или шероховатость коры, за кривизну веток? Что тебе до того, из чего это дерево сложено? Об апельсиновом дереве ты судишь по апельсинам. И в точности то же самое я скажу о тех, кого ты изгоняешь и преследуешь. Каждый по отдельности он вот такой — такой или вот этакий, но что мне за дело до того, каков по отдельности каждый в толпе. Дерево время от времени приносит мне души, похожие на клинок, они отдадут тело пыткам, но не согнутся, вопреки трусости большинства; приносит оно изредка и столь прозорливый взгляд, что он сквозь тщету оболочек прозревает истину, будто сквозь кожуру — мякоть плода, прозорливые вопреки низменным вкусам большинства смотрят из окна своей мансарды на звёзды и живут, питаясь лучом света, — и мне довольно этой малости. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни. Дерево — условие существования плода, камень — храма, люди — условие существования той единственной души, что озарит светом всё племя. И поэтому доброту, мечтательность, любовь к дому мне так легко переодеть в военные сапоги, ибо именно они необходимые компоненты для кипящей супницы войны, несмотря на своё с ней несходство, именно они, а вовсе не чума, не преступление и не голод. Я прощаю людям их недоброту, немечтательность, нелюбовь к дому (похоже, они слишком долго кочевали), прощаю, потому что, может быть, именно так нарождается в ком-то благородство. Так как мне предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого? Логики в переходе с одной ступеньки на другую нет.CCXVIII
Эти люди, приукрашивая себя, хотят тебя уверить, будто днём и ночью одушевлены страстью. Врут. Соврёт дозорный на крепостной стене, если вдруг начнёт повествовать тебе о своей негасимой любви к городу. Он думает об ужине. Соврёт поэт, если будет твердить тебе день и ночь об опьянении поэзией. И у него временами болит живот, и тогда на стихи ему наплевать. Соврёт влюблённый, утверждая, что день и ночь молится на свою возлюбленную. Его отвлечёт блоха, куснув его. Или обычная скука, и он зевнёт. Врёт путешественник, рассказывая, что днём и ночью восхищался необыкновенными красотами. В сильную качку его тошнило. Врёт праведник, говоря, что днём и ночью созерцает Господа. И у Господа есть приливы и отливы, как у моря. Он оставляет иногда праведника, и Он тоже бывает сух, будто обнажившаяся галька. Врут те, кто говорят, будто день и ночь оплакивают своих мёртвых. Можно ли оплакивать их день и ночь, если и любить их день и ночь было невозможно? Если при жизни с ними ссорились, от них уставали, не чувствовали к ним любви? Конечно, мёртвый всегда ближе живого, ибо он уже сбылся и нет в нём больше противоречий. Но ты не верен и своим мёртвым. Врут все, кто не признаётся, что временами бывают опустошены и равнодушны. Врут, потому что не вникли в суть вещей. Слыша об их негасимом рвении, ты веришь в их преданность и начинаешь сомневаться в своей, краснеешь за собственное бесчувствие. Ты меняешь голос и выражение лица, если ты в трауре и на тебя смотрят. Но я знаю, неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она — свидетельство немощи твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вещественностью — картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, не знающий, что такое шахматы. Ему невдомёк, сколько они таят в себе. Но если изредка — за вашу преданность кокону — тебя или дозорного, поэта, верующего, влюблённого или путешественника вознаградят озарением, не жалуйся, что не видишь постоянно того, что так высоко вознесло тебя. Ибо озарение бывает столь пламенным, что может сжечь зрящего. И праздник не может длиться все дни подряд. Так что ты не прав, коря и осуждая людей за бесчувственность, осуждая, ты похож на косоглазого пророка, что день и ночь раздувает в себе священный пламень гнева. Я знаю: священнодействие, утонув в обыденности, покажется мёртвой рутиной. Стремление к добродетели обернётся однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ширмой для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и поспать. Стану ли я жаловаться, что он так бездеятелен? Я ведь знаю: дерево совсем не цветок — оно неистощимая возможность цветения.CCXIX
Я хотел взрастить в тебе любовь к брату. Но с любовью взрастил и боль разлуки с ним. Хотел взрастить любовь к жене. И взрастил боль разлуки с нею. Хотел взрастить любовь к другу, взрастил боль разлуки с другом; стоит выкопать колодец, как рождается тоска по колодезной воде. И я понял: разлука с женой, другом, братом для тебя больнее любых других бед, — и решил исцелить тебя, научив не разлучаться. Ибо далёкий родник для умирающего в пустыне от жажды слаще, чем мир, где вообще нет родников. И даже если ты изгнан из своей земли навеки, услышав, что дом твой сгорел, ты заплачешь. Близость дальнего благотворна: тебе кажется, дерево тянет к тебе издалека свои ветки и дарит тень. Я решил исцелить тебя, ибо я — обживающий и хочу показать тебе, где жить. Помни сладость любви по прощальному поцелую — ты поцеловал жену, потому что утренний луч позолотил твои апельсины, уложенные пирамидой на спине осла, и, позолотив, позвал в дорогу, торопя не опоздать на рынок. Жена тебе улыбнулась. Она стоит на пороге, приготовившись, как и ты, приняться за свою работу, она подметёт дом, вычистит кастрюли и примется за стряпню, думая о тебе, стряпая как сюрприз что-то вкусненькое. «Лишь бы он не вернулся слишком рано, — думает она, — а то мне не успеть, и не получится у меня никакого сюрприза». Вы неразлучны, хотя кажется, на взгляд, что ты ушёл далеко-далеко, а она не хочет, чтобы ты возвращался. Но куда ты ушёл, раз твоё странствие служит дому? Ты трудишься ради радости и веселья в нём. На свой заработок ты задумал купить ковёр из пушистой шерсти и серебряный браслет жене. Поэтому ты и поёшь дорогой, ты пребываешь в мире любви, хоть и кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостиной осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что ещё очень рано. Ты ближе к своей жене, чем в час досуга, когда сидишь на пороге и смотришь вдаль, не думая даже обернуться и порадоваться своему царству, мечтая, как повеселишься на свадьбе в дальнем селенье, думая о своём друге или завтрашних трудах. Но вот ты проснулся окончательно, тебя разбудилтвой ослик, ему вздумалось проявить усердие, и его копыта дробнее застучали по камням дороги, цоканье показалось тебе песенкой, и ты наслаждаешься начавшимся утром. Ты улыбаешься. Потому что уже выбрал лавочку, где купишь серебряный браслет. Знаешь ты и старика хозяина. Он обрадуется тебе, потому что вы с ним друзья. Расспросит о жене, о её здоровье, потому что она у тебя изящная, хрупкая. Он наскажет о твоей жене столько хорошего, так проникновенно, так прочувствованно, что и самый неотёсанный болван, наслушавшись его похвал, сочтёт её достойной золотого браслета. Но ты только вздохнёшь. Ничего не поделать, такова жизнь. Ты не король. Ты торгуешь овощами. Вздохнёт и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы отдадите дань почтения недостижимому золотому браслету, и тогда хозяин покажет тебе серебряные, те, что ему больше всего по душе. «Браслет, — примется он объяснять тебе, — должен быть тяжёлым. А золотые, они ведь лёгкие. Смысл браслета мистический. Он — звено в цепи, что привязывает вас друг к другу. И, любя, сладко чувствовать тяжесть цепи. Вот жена твоя изящно приподняла руку и поправила покрывало, она почувствовала тяжесть браслета, и у неё стало легко на сердце». Из задней комнаты он вынесет тебе самые тяжёлые браслеты, попросит убедиться в их тяжести, взвешивая их на ладони, полузакрыв глаза и прикидывая, будут ли они тебе в радость. И ты тоже взвесишь браслет на ладони и тоже прикроешь глаза. Ты похвалишь браслет и ещё раз вздохнёшь. Ничего не поделать, такова жизнь. Ты не караванщик богатого каравана. У тебя один ослик. И ты покажешь на ослика, что ждёт у порога, ослика, который не так-то силён, и скажешь: «Богатства мои так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустился рысью». Вздохнёт и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы почтите тяжёлый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой лёгкие, потому что, в конце концов, самое главное в браслете чеканка, и чеканка должна быть тонкой. Он покажет тебе и тот браслет, который ты задумал купить. Ибо ты всё решил заранее, как мудрый государственный муж. И отложил часть заработка на ковёр из пушистой шерсти, на новые грабли, на пропитание... Вот теперь вы танцуете сложный танец всерьёз, старик ювелир знает людей и, если догадается, что ты у него на крючке, ни за что не выпустит из рук леску. И ты говоришь, что браслет для тебя слишком дорог, и уходишь. Он зовёт тебя обратно. Он твой друг. А жена у тебя такая красивая, ради твоей красивой жены он сбавит цену. Он себе не простит, если такой чудесный браслет попадётся неуклюжей дурнушке. Ты нехотя возвращаешься. Медленно-медленно, будто идёшь себе и гуляешь. Недовольно поджимаешь губы. Взвешиваешь на ладони браслет. Они, в общем-то мало чего стоят, если не тяжелы. И серебро, оно всегда такое тусклое. Ты ещё не решил, купить ли тебе невзрачный браслет или чудесную пёструю ткань, которую ты приметил в одной из лавок. Но опасно выказать и слишком большое пренебрежение, если торговец потеряет надежду что-то тебе продать, он разочаруется и позволит тебе уйти. И тогда тебе придётся краснеть, путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться. Конечно, тот, кто ни бельмеса не смыслит в людях, сочтёт, что здесь танцует скупость, — нет, тут танцует любовь. Услышав разговоры об осле, овощах, философствование о серебре и золоте, добротности и тонкости его отделки, видя, как ты уходишь и возвращаешься, он сочтёт, что сейчас ты далеко-далеко ушёл от дома. Но именно сейчас ты и живёшь в нём. Ты исполняешь ритуальный танец любви, танец дома, и, значит, как ты можешь быть вне дома или любви? Твоё отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не отъединяет — сближает. И можешь ли ты мне указать границу, за которой отсутствие становится отъединением? Если ритуальный танец насыщен и напряжён и ты въяве видишь божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твоё божество воодушевляет тебя, кто разлучит тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне: «Отец умер, не достроив левое крыло дома. Я достроил его. Не кончил сажать деревья. Я посадил их. Мой отец завещал мне своё дело. Я продолжаю его». Или: «Он завещал мне быть верным королю. Я верен ему». И я чувствую: отец в этом доме жив. О друге и о тебе. Если не в нём и не в тебе — питающий вашу любовь корень, если один и тот же Божественный узел связывает для вас воедино дробный и разноликий мир, то нет расстояния, нет времени, которое могло бы вас разлучить, ибо от божества, которое вас объединило, не отторгнут вас ни мир, ни мор, ни смерть. Я знал старика садовника, он рассказывал мне о своём друге. Долго-долго они жили, как братья, пили по вечерам чай, праздновали праздники, спрашивали друг у друга совета, делились тайнами. Со временем слова потеряли для них былую цену, и когда, окончив дневные труды, они вечерами прогуливались вместе, то шли молча, поглядывая на цветы, сады, небо, деревья. И если один кивал головой на розу, то другой наклонялся и, увидев проеденный гусеницей лист, тоже огорчённо покачивал головой. И одинаково радовались они раскрывающимся бутонам. Но случилось так, что купец нанял друга этого садовника на несколько недель погонщиком в свой караван. На караван напали разбойники, его занесло в другую страну, а дальше войны, бури, кораблекрушения, нищета, болезни и труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, перенося от одного сада к другому, пока не оставили краю света. И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания, мой садовник получил от своего друга письмо. Бог знает, сколько лет оно странствовало. Бог знает, сколько повозок, всадников, кораблей и караванов везли его с упорством морских волн, пока не принесли к нему в сад. И вот утром, сияя от счастья и желая им поделиться, мой садовник попросил меня прочитать полученное письмо, как просят прочитать любимое стихотворение. С жадностью ловил он на моём лице впечатление от чудесного письма. А в письме было всего несколько слов, потому что садовникам по руке лопаты и грабли, а не перья. «Этим утром я подрезал мои розы...» — прочитал я в письме и задумался о главном, которое не вместить в слова, и наклонил голову в точности так же, как мои садовники. Мой садовник потерял теперь и сон, и покой. Каждого расспрашивал он о далёких странах, плывущих кораблях, караванах и воинах между царствами. Три года спустя случилось так, что мне пришлось снаряжать посольство на другой конец света. Я позвал своего садовника и сказал: «Ты можешь послать своему другу письмо». Пострадали мои деревья, пострадали овощи в огороде, зато настал праздник у гусениц, потому что садовник целыми днями сидел за столом, писал, зачёркивал и снова писал, прикусив язык от старательности, будто малый ребёнок, — ему хотелось высказать самое главное, самое важное, передать своему другу себя целиком во всей своей явственной подлинности. Нужно было перекинуть мост через пропасть, воссоединиться с частичкой самого себя, преодолев время и пространство. Ему нужно было высказать свою любовь. И вот, краснея и смущаясь, он принёс мне и попросил прочитать свой ответ, желая увидеть на моём лице слабый отблеск той радости, что озарит получателя, желая на мне проверить действенность своего откровения. И я прочитал (нет для тебя драгоценнее того, на что ты тратишь себя всю свою жизнь. Помнишь старух, что проглядели глаза, следя за танцем иглы, расшивая пелены для своего Господа?). Так вот, я прочитал то, что доверил своему другу мой садовник с помощью неуклюжих старательных букв, — молитву, исполненную горячей веры, высказанную в корявых словах: «Этим утром и я подрезал мои розы...» И я замолчал, потому что ощутил самое главное ещё яснее: они славят Тебя, Господи, соединясь в Тебе над своими розовыми кустами, сами не подозревая об этом. Ах, Господи, я молюсь за себя, ибо и у меня есть труд, я, по мере своих сил, просвещаю мой народ. Я получил от Тебя тяжкий труд, Господи, и нет у меня той небольшой и каждодневной работы, какую мне легко было бы любить, — я обживаю, я натягиваю связующие нити, но они неосязаемы, хотя и даруют радости сердцу, ибо сладко возвращаться в свой дом, а не куда-то ещё, слышать привычные голоса и утешать ту, что плачет о потерянном браслете, хотя плачет она о смерти, что разлучит её со всеми браслетами. Но Ты обрёк меня ещё и на молчание, научив ценить не ветер слов, а глубинную суть; увидев её, я склонился над тоскою людей и пытаюсь исцелить их. Да, Ты пожелал сберечь моё время, которое я бы мог расточить на болтовню и словесную пыль из-за потерянного браслета (дело ведь не в браслете — в смерти), расточить на ловлю любви или дружбы. Но и любовь, и дружба завязывают свой узел только в Тебе, и только в Твоей власти позволить мне до них дотянуться через Твоё молчанье. Что мне в помощь, если знаю, что не в Твоих силах явить мне Себя на моей ступеньке, если ничего не жду от ангела из балаганчика? Что? Если говорю и с пастухом, и с пахарем, отдавая им многое, но ничего не получая взамен? Если улыбкой воодушевляю дозорного, ибо я — царь, узел, связавший воедино царство, на которое они тратят свою жизнь и которое вознаграждает их моей улыбкой. Но чего мне ждать от ответной улыбки дозорного, Господи? Я бужу любовь не к себе, Господи, мне не важно, равнодушны они ко мне, ненавидят ли, любят, они должны меня чтить, чтобы прийти к Тебе, ибо я бужу любовь только к Тебе, Господи, и они, и я питаемся этой любовью, и Тебе я передаю её, как передаю преклонение колен дозорного своему царству, ибо я не стена, о которую бьются, я семя, что вытягивает из земли листву. Но по временам, — ибо нет для меня царя, который мог бы вознаградить меня улыбкой, и иду я одиноким до того часа, когда Ты снизойдёшь принять меня и растворить в тех, кого я люблю, — я устаю от своего одиночества, и мне хочется стать одним из всех и затеряться среди людей моего народа, — я ещё не очистился до конца. Видя, как счастлив мой садовник дружбой со своим другом, мне хочется порой покориться божеству садовников и тоже сделаться садовником в моём царстве. Ведь и мне случается не спеша спуститься по ступеням моего замка в предрассветный сад и навестить свои розы. Я оглядываю их так внимательно, наклоняюсь к неловко изогнувшемуся стеблю, я, который в полдень будет решать: казнить или миловать, воевать или жить в мире. Быть или не быть царствам. И, с трудом разогнувшись, потому что я уже стар, я говорю в своём сердце слова, что слышны и понятны всем садовникам на свете, живым и мёртвым: «Этим утром и я подрезал мои розы...» Что мне за дело, если это моё послание будет странствовать долгие годы? И мне даже не важно, найдёт оно адресата или нет. Не в послании суть послания. Чтобы быть заодно с моими садовниками, я поклонился их божеству — розовым кустам на заре. Господи, не то же ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идёт ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд, они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я противоположными путями, протянув ладони, идём по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони Тебя одного, Господи! Я окончу свой труд, облагородив душу моего народа. Мой возлюбленный враг окончит свой и облагородит свой народ. Я думаю о нём, и он думает обо мне. Хотя нет у нас общего языка, чтобы мы с ним встретились, ибо по-разному мы с ним и милуем, и казним, разные у нас уклады и разные суждения, но мы можем сказать, он мне, я — ему: «Этим утром и я подрезал мои розы...» Ибо Ты, Господи, общая для нас мера. Ты — узел, что связал воедино несхожие деяния!Антуан де Сент-Экзюпери
Je suis ail voir mon avion ce soir, Le pilote, On peut croire aux hommes (textes reunis, tablis et present s par Alban Cerisier);Этим летом я ходил посмотреть на свой самолет. Пилот. Можно верить в людей
Предисловие
Может быть, эти три текста части одного? Может быть, это этапы или фрагменты некоего целого, в котором Антуан де Сент-Экзюпери объединяет личные воспоминания с размышлениями морального характера, продолжая передавать свои убеждения и распространять опыт? Или, может быть, их сродство связано только с тем, что они были написаны в одно время, где-то в середине 30-х годов? К этому времени у Сент-Экзюпери было опубликовано только два романа, «Южный почтовый» и «Ночной полет», но известность автора, получившего за второй роман премию Фомина, была уже очень велика. На протяжении последующих десяти лет известность Сент-Экзюпери будут поддерживать его многочисленные статьи в прессе, которые станут потом основой его книги «Планета людей». Вновь публикуемые тексты близки общей тональностью, выбором рассказанных случаев да и стилем к тому, что Сент-Экзюпери писал именно в этот период. Большинство листков, на которых сделаны его записи, носят фирменный знак кафе «Лини», завсегдатаем которого он стал после своего возвращения в Париж в 1933 году. Сент-Экзюпери приходил туда чуть ли не каждый вечер и сидел, ведя нескончаемые беседы с приятелями или заполняя размашистым почерком листок за листком. По существу, мы не можем с точностью определить, для кого и для чего предназначались эти тексты. Мы получили их в виде рабочих заметок, явно не в окончательном варианте, но, судя по малому количеству правки, все-таки близком к окончательному. Обращение к публике в «Пилоте» говорит о том, что этот текст — лекция, и, вполне возможно, одна из тех лекций, который Сент-Экзюпери читал во время своего турне по странам Средиземноморья в ноябре 1935 года. Он совершил его вместе с друзьями Жаном-Мари Конти и Андре Прево. Из рапорта верховного комиссара Франции в Сирии и Ливане, отправленного министру иностранных дел, мы узнаем, что пилот-писатель провел в Бейруте 14 ноября «непритязательную беседу весьма изысканным языком, в котором не чувствовалось ни искусственности, ни натужности», и «очень удачно передал психологию работающего на авиалинии пилота». Описание подходит для найденного текста, хотя размышления писателя сосредотачиваются скорее вокруг проблем стилистического и литературного характера, чем психологического. Эти проблемы, как мы знаем, стали крайне актуальными для писателя после появления критических статей о его романе «Ночной полет». Организовать турне с чтением лекций предложил Жан-Мари Конти, молодой инженер, выпускник политехнического института, товарищ Сент-Экзюпери по компании Аэропосталь. Писатель в это время работал в отделе пропаганды компании Эр Франс, участвуя в различных престижных акциях и давая технические консультации при съемках документальных фильмов. Уверенные в финансовой поддержке молодой компании — что подвергает сомнению в своем отчете верховный комиссар, — трое молодых людей перелетают из города в город на борту личного самолета Сент-Экзюпери — великолепной машины ярко-красного цвета — и читают лекции. От Касабланки до Марселя — таково было их путешествие, во время которого они побывали в Алжире, Тунисе, Триполи (12 ноября), Бенгази, Каире, Александрии, Дамаске, Бейруте, Адане, Стамбуле, Афинах (22 ноября), Бриндизи. Лекции, о которых мы очень мало знаем — кроме рассказа Нелли де Вогюэ, других свидетельств о них не сохранилось, — скорее всего проходили с большим успехом. Писатель собирал полный зал, и полученных средств вполне хватало троим друзьям на каждодневные нужды. Сент-Экзюпери не отличался ораторскими способностями, зато был великолепным рассказчиком, публика ему аплодировала. Ливанские франкофоны не поставили ему в вину даже охрипший голос и кашель… В Египте он подхватил бронхит и не без успеха лечился от него по дороге. Писатель Жан Прево, которому мы обязаны первым опубликованным рассказом Сент-Экзюпери, назвал своего друга «мастером на воспоминания». Характеристика лучше всего соответствует именно тридцатым годам. До этого у Сент-Экзюпери был необыкновенно счастливый период, длившийся пять или шесть лет. Период, когда он работал в компании Аэропосталь, а она процветала технически, коммерчески и… человечески. Потом ее деятельность была приторможена, а потом и вовсе прекратилась — сказался кризис 1929 года и очень громкий политико-финансовый скандал вокруг ее владельца. А на Сент-Экзюпери после успеха «Ночного полета» обрушилась еще и критика коллег. Сент-Экзюпери исполнилось тридцать, он недавно женился и в своих журналистских статьях без конца обращается к недавнему прошлому. Похоже, что именно в это время он активнее, чем когда-либо, старается осмыслить полученный бесценный опыт. Хотя его сотрудничество с гражданской авиацией продолжается. Он вернулся из Латинской Америки в феврале 1930 года, а в мае уже снова летает на африканской линии, еще остававшейся в ведении Аэропосталь. Когда Аэропосталь окончательно разваливается, Сент-Экзюпери получает место летчика-испытателя у Латекоэра на юге Франции и работает там до 1933 года. Однако главное для него уже позади. Чары рассеялись, состояние благодати миновало. Но осталось редкостное сокровище — сгусток переживаний, чувств необыкновенной яркости, напряженных картин. На их основе сформируется впоследствии практическая мораль, возникнет парение духовного поиска, забьет неиссякаемый источник вдохновения… Детство писателя и линия с ее миссией и чувством долга переплетутся, превратившись в прошлое. Жизнь будут напрягать отныне два полюса — стремление вновь обрести домашний очаг и желание принадлежать душой и телом полному риска существованию коллег-летчиков. Если в конце двадцатых годов Сент-Экзюпери был романистом, писавшим о линии, то в тридцатые он становится ее неутомимым летописцем и создает золотую легенду о подвигах своих товарищей, которые торили и пролагали небесные пути. В бесконечном припоминании, конечно же, не лишенном повторов, но проникнутом живой связью со своим временем, Сент-Экзюпери черпает материал для своих размышлений о моральных проблемах, нащупывает ответы на вопросы, которые не дают ему покоя: как прожить свою человеческую жизнь со смыслом? Что нужно сделать, чтобы на земле можно было жить по-человечески? Он осмысляет прожитое, и эту своего рода «паузу» завершат «Планета людей» и «Военный летчик». «Пауза» была нелегким периодом в жизни писателя, но во время нее вызрели два его шедевра. Все статьи, заметки, наброски этого периода, в том числе и публикуемые сейчас, отмечены неким родством, их роднит, по замечанию Нелли де Вогюэ, «упорное стремление автора извлечь из самых разных фактов один и тот же урок». Вот почему не нужно удивляться, находя во вновь опубликованных текстах мотивы, эпизоды, темы, размышления, уже встречавшиеся в других произведениях, написанных Сент-Экзюпери. Так, например, описание плато в Сахаре между Кап-Джуби и Сиснеросом и метеоритов, лежащих на толще спрессованных ракушек, появится сначала в четвертом очерке серии «Полеты и посадки», опубликованном в «Пари суар» («Вечерний Париж») в конце 1938 года, а потом, через год, в «Планете людей» (глава «Самолет и планета»). Рассказ о ночи, проведенной в форте, который охраняет старый сержант и пятнадцать сенегальцев, был опубликован сначала в «Марианне» в 1932 году («Пилот на линии»), потом в другом варианте в «Пари Суар» («Полеты и посадки»), а затем в третьей версии в «Планете людей» («В пустыне»). А впервые Сент-Экзюпери напишет об этой ночи в письме к Анри де Сегоню от 14 февраля 1927 года из Дакара. Что касается фрагмента о детских играх «Шевалье Аклен» и «Колдунья», то они возвращают нас к великолепным страницам из «Военного летчика», когда пилот группы 2/33 в разгар войны, которая охватила Францию, вспоминает о своем детстве и няньке из Тироля по имени Паула. Если мы будем перечитывать письма и произведения Сент-Экзюпери, мы найдем сотни соответствий с вновь опубликованными фрагментами. То же можно сказать и о размышлениях относительно писательства и литературы, эхо которых мы найдем в «Пилоте», где ведется речь в том числе и о том, каким образом адекватно передать опыт, почерпнутый в полете (особом времени, когда человек управляет самолетом, а значит, воспринимает тысячи нюансов поведения мотора, расшифровывает тайные сообщения звездного неба и земли, над которой летит). Сент-Экзюпери ведет здесь подспудную полемику с критиком, который заподозрил, прочитав «Ночной полет», что автор выдумывает свои состояния. Счел, что писать правдиво о своем ремесле невозможно, так как реальность ремесла и реальность литературы лежат в совершенно разных плоскостях. Пытаться совместить эти плоскости — значит лишить себя той и другой. Фальсифицировать отношения с вещами, людьми, словами… Эта точка зрения совершенно неприемлема для молодого писателя. Воодушевленный страстью к своему ремеслу, он ищет и находит свой оригинальный голос, благодаря особенностям своего ремесла, благодаря своему участию в событиях, которые он описывает. Неужели только слепой Гомер способен описать Троянскую войну? Анализ стиля Поля Морана, писателя, ставшего в каком-то смысле воплощением литературного модернизма, явления по сути своей космополитического (хотя автор «Планеты людей» не ощущает себя причастным к подобному универсализму), помогает Сент-Экзюнери прояснить свою писательскую позицию. На этом анализе он строит свою защиту. Впервые он воспользовался таким анализом в письме к одному из своих друзей, критику Вонжамену Кремьё, написанном в ноябре 1931 года. Сент-Экзюпери разбирает фрагмент первого романа Морана «Льюис и Ирен» (1924): «Мне кажется произвольным образ М. „автобусное желе“, предназначение которого передать пробку на дороге. Хватило бы и „пробки“. Что прибавит мне в данном случае холод, липкость и эластичность желе? Неужели вы думаете, что шофер такси, утомленный за день бесконечными пробками, увидит их во сне в виде желе? Скорее он увидит их в виде куч из камней. И этот образ мне кажется более литературным и точным, чем образ, сплетенный из одних слов. Образ должен опираться на личностное видение и ощущения, только тогда он может присниться». Образы прозы Сент-Экзюнери не несут в себе ничего искусственного, они органично вырастают из ощущений пилота, они порождения его плоти и крови. В этом их правомерность и убедительность. Образ — это непосредственная передача, более правдивая, адекватная, полная, чем любое объяснение". Сент-Экзюпери называет образное мышление символическим, отличая его от аналитического, технического и литературного. Образ вбирает в себя все, он не обманывает. Он подлинность эмоции, вылившейся в слова. Летчик, который не обладает даром слова, тоже признает его своим, не ощущая в нем фальши. Образ-символ не имеет отношения к литературе, если литературу (читать продуктом мастерской, где занимаются искусством словоплетения и смыслоплетения. Если не искать в литературе связи с действительностью, с жизненным опытом, если считать, что для литературы не нужна правда, а достаточно правдоподобия. Сент-Экзюпери иллюстрирует свою мысль образом летчика, раскачивающеюся на трапеции среди звезд, и в письме к Бенжамену Кромке, и в "Пилоте". Сент-Экзюпери вновь и вновь возвращается к этим размышлениям, невольно свидетельствуя, как глубоко задела его критика. Он возвращается к ним, повторяя вновь и вновь свои доводы, словно меняет повязки на ране. Отзвуки их есть даже в "Письме к заложнику", но эти страницы, написанные в 1941–1942 гг. в Нью-Йорке, Сент-Экзюпери не включил в окончательный текст. Он сравнивал стиль Леона Верта и Поля Морит: "Современные мы возненавидим фальшь какого-нибудь Морана, который ловчит, искажая суть вещей, не имея другой цели, как только привлечь внимание к искусному в манипуляциях автору. Но зато мы с жадностью ребятишек, столпившихся вокруг плотника, будем смотреть, как работает Верт. Вот она, доска. Простая и совершенная. Каждое движение плотника — забота о доске. Разве суетится плотник, стараясь, чтобы на него посмотрели?" Свой вывод Сент-Экзюнери обобщает, относя ко всей "романской" литературе, по его мнению, ее творцы слишком заняты самоанализом. Прочитав с большим удовольствием "Нимфу с верным сердцем" Маргарет Кеннеди, он подводит такой итог: "Они (писатели) не удосуживаются спрятаться за своими героями. Любая "романская" книга — это портрет автора. Она всегда самоочищение, если пользоваться понятиями Фрейда". Читая письма Сент-Экзюпери к его родственнице, Ивонне де Лестранж, которая дружила с Андре Жидом, мы с особенной остротой понимаем, что его размышления как о прошлом, так и о своем месте в литературе порождены глубокой душевной травмой, тоской, которая гнездится в душе. В письме от И сентября 1931 года из Сент-Этьена он признается Ивонне, что не испытал особой радости, вновь оказавшись в Сахаре, поскольку не поглощен целиком и полностью своей работой и делами местных жителей. Он уже не способен чувствовать себя заодно с племенем, которое живет рядом, а когда-то он так любил чаепитие в шатрах соседей-мавров. Теперь ничего его здесь не радует, и он пытается понять, что же произошло и что такое, собственно, путешествие — что, кроме зрелищной экзотики, может быть в нем полезного и плодотворного. "Мне кажется, чтобы почувствовать страну, народ, среду, нужно принять местный уклад, обычаи. Только они укореняют. Тоскливо жить вне общепринятых условностей, тебя словно бы лишают реальности". Восприимчивый, вбирающий, Сент-Экзюпери, попав в Сахару в первый раз, жил в соответствии с чужим укладом и точно так же осваивал потом стиль жизни Южной Америки. Но, вернувшись в Африку, когда сама профессиональная деятельность стала менее интересной, он уже не ощутил былого обаяния пустыни, не счел нужным жить жизнью местных племен, не вменил себе в обязанность соблюдение их условностей. То же самое переживают вернувшиеся на родину изгнанники и те, кто очень долго путешествовал: их радостно изумляют полузабытые обычаи, а заботы близких или соотечественников совсем не близки. В яблоко проник червячок. Отправившийся в путешествие лишился под ногами почвы; вернувшись, он не сможет ощущать своими своих. "Это особенно чувствуется, когда возвращаешься в Париж. Моран становится очень Мораном (и это неприятно). Жироду очень Жироду (что, собственно, не так уж важно). И очевидно, совершенно очевидно, очевидно до зубной боли, что, открыв что-нибудь из Анри Бордо, наткнешься на страшную глупость. Ты как будто в аптеке, где давно изучил все этикетки. Уже знаешь заранее, что будешь пить. И пить не хочется. И это несправедливо. Ты бы ничего этого не замечал, если бы не двигался с места". Интересно, что делает Моран в размышлении об изгнаннике. И откуда там взялся Анри Бордо? Наверное, Моран упомянут потому, что его стиль и мода на него кажутся Сент-Экзюпери проявлением конформизма, потому что сам он решил не иметь ничего общего с подобной литературой. Вопреки претензии на новизну, язык этой литературы стал уже общепринятым, и он его отвергает, не хочет принять его, признать своим. И ощущает себя изгнанником вдвойне — выбрав жизнь странника, он отлучил себя от своей среды, а от коллег по литературе отлучен тем, что не признает их язык своим. И второе свое изгнанничество он ощущает тем острее, чем чаще ему дают его почувствовать. Опасение, что заблудился, что пошел по кривой дороге, рождает тоскливое ощущение. Маленький Принц спасся бегством и обречен на скитания: возможно ли для него возвращение? Возможно ли положить предел страданиям разлуки? Если читать историю Маленького Принца внимательно, то ясно — вопрос повисает в воздухе. Именно поэтому в "Южном почтовом" три смерти, это грустный роман о невозможности убежать и о невозможности вернуться, короче, о невозможности жить. Сент-Экзюпери как-то сказал: "Я спрашиваю себя, не углубишься ли в жизнь серьезнее, живя в уединении со старой служанкой, чем бродя по всему свету, как брожу я". Он продолжает размышлять на тему, уже присутствующую в "Южном почтовом" ("Что с вами станется за порогом дома — корабля, для которого утекающие часы исполнены смысла, как для форштевня утекающая вода"), И его размышления — вновь начало творчества, источник неизбывной печали и… посыл, который поможет написать ему столько чудесных писем любимым женщинам — матери, жене, подругам, с которыми расстался. Письма, умоляющие об утешении на этой странной земле, о которой неведомо — можно на ней жить или нет. Письма, пронизанные чувством вины по отношению к тем, кого он однажды решится покинуть. В них рождаются размышления об укладе, обычаях и языке, который их передает. Именно обычаи, в конечном счете, торят путь к подлинным ценностям, втайне накапливают таланты, как девственные пески Сахары метеориты, а расстеленное иод яблоней полотно — яблоки. "Мы знаем одно — нам неведомо, что именно для нас Плодотворно. […] Если вот эта религия, вот эта культура, эта шкала ценностей, эта форма деятельности — эта, а не другая — помогает полноте человеческих достоинств, высвобождает в нем благородного рыцаря, о котором он и не подозревал, то значит, эта шкала ценностей, эта культура, эта форма деятельности соответствуют подлинной человечности". Революция, жажда революции справедливы; консерватизм Сент-Экзюпери полон нюансов, он видит справедливость в революциях. Но, подхватив сопоставление Бенжамена Кремьё между "Завоевателями" Андре Мальро и "Ночным полетом" ("НРФ". Октябрь, 1931), говорит о том, что революционные чаяния остаются в области теории и истории, они — манок и обреченына провал. И вот еще одна дилемма — по-настоящему путешествовать можно, только усваивая чужие обычаи, но покинув родную почву, отказавшись на какое-то время от своего, человек уже не принадлежит больше ничему, он теряет самого себя. Освобождение, которое сулит путешествие, и обретение домашнего уюта при возвращении — два равнозначных миража. Оторвавшись от царства привычного, летчик со временем осознает, что единственная для него возможность возрождаться и возвращаться к самому себе — это осваивать все новые территории и выполнять все новые задания. Он обречен на своеобразное бегство вперед, но его порыв, его стремление жертвовать собой ради себе подобных питается запасом рвения, накопленным в том краю, откуда он родом и куда может вернуться только во сне, в стихах, в рисунках или в своем любящем сердце. Размышления Сент-Экзюпери приводят его к своеобразной мистике: человек жив лишь взаимосвязями, которые ведает и ощущает только он, его утешение и дом за пределами этого мира. Вне этих пределов человек обретает "-нет, не искупление, но достойную и долгую жизнь. Так наконец примиряются литература и профессиональная деятельность, поэзия и самолет. "Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет. Я-то знаю, чего ждут от самолетов, от кораблей. Знаю, какие глубинные источники хотят в себе оживить. Плоть и душу протягивают другому солнцу, просят: согрей! Помоги прорасти! Словно давно уже ощущают себя засеянным полем, которому не терпится дать всходы…" Альбан СеризьеТексты соответствуют рукописным автографам А. де Сент-Экзюпери. Некоторые слова остались непрочитанными и помечены как таковые. Вариант прочтения предлагается в квадратных скобках. Пунктуация и орфография в случае необходимости были выправлены. Благодарим за щедрость и благожелательность тех, кто сделал возможной публикацию этих текстов.
Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет
Этим вечером я ходил посмотреть на свой самолет. Я-то знаю, чего ждут от самолетов, от кораблей. Знаю, какие глубинные источники хотят в себе оживить. Плоть и душу протягивают другому солнцу, просят: согрей! Помоги прорасти! Словно давно уже ощущают себя засеянным нолем, которому не терпится дать всходы. Мы пытаемся с детства убежать от старения, но на деле боимся измениться. У меня была подруга. Я заходил к ней иногда ближе к вечеру, и мы, глядя на огонь в камине, сидели и разговаривали. Удивительно мы с ней дружили! Путешествовали. Хотя беседовали совсем не о Китае или Индии. Многозначительной становилась незатейливая песенка с граммофонной пластинки, терпкий аромат вина. И если кто-то еще — друг или подруга — присоединялись к нам, они тоже включались в беседу, все, что ни происходило, наполнялось смыслом, становилось драгоценным сокровищем. Хозяйка помогала нам сделаться [мудрее]. Путешествие — это ведь в первую очередь постижение нового языка, новых правил игры. Открываешься и приближаешь к себе магию мира. Мы отыскивали, находили, приобщались к чудесному. Святая святых всевозможных чудес — пухлый альбом, сокровищница моей приятельницы: причудливые карикатуры, билеты на метро, описания островов, не упомню, что еще. Листаешь, и вдруг фотография парусника, и сразу слышишь шорох крыльев, перелетаешь в царство грез. Радость нежданных сближений. Для нас двоих мы создали особую цивилизацию. В какую-то минуту я стал отдаляться от нашего мирка. Искал того, что называл про себя настоящими чувствами. Возненавидел тесные кружки, книги в духе тридцатых годов, игры, правила. Я искал человеческую подлинность. Но понял: без условностей игры человеческое исчезает. Жизнь нуждается в дрессировке, нет правил, и утек смысл. Уничтожая правила и условности, уничтожаешь язык общения. Я и в двадцать лет отличал, где чувство, а где притворство, но не понимал, что чувства всегда настоящие, притворных чувств не бывает. Кажется, что без утеснения правил любовь будет обращаться только к достойному, но на деле вместе с этими утеснениями исчезла и любовь. Определенные правила игры настраивают душу на определенный лад, дают возможность видеть все в определенном свете, придают жизни определенный смысл. Щит языка избавляет живущих от забот о будущем. Я немало размышлял о мнении, которое, как мне казалось, таило в себе некоторую загадку: "Не жившему в восемнадцатом веке не узнать, что такое сладость жизни". Я-то считал, что эта пресловутая сладость обрела себе убежище в словах и, не завися от людей, будет существовать себе и дальше. Она упрочится, завладев какой-то материей, и крестьяне с крестьянками, усвоив ее вместе с языком, проживут в реальности пастушеские идиллии. Но вот я услышал знаменитые […] и […][373], и ощутил — до меня дотянулся последний луч ласкового солнца, и оно закатилось навсегда. Я был удивлен и растроган, что все-таки почувствовал эту ласку, едва ощутимая, она мне сказала о невозвратной гибели целого мира. И еще я понял, что сопротивляется революциям, стоит насмерть, защищаясь от святотатства — идеалы, условности, иерархия. Само но себе это все бессмысленно и несправедливо, посягает на будущность человека, искажает его счастье (так принято говорить, хотя никто не знает, что такое счастье). Я считал "справедливыми" революции, и они справедливы. Но со временем я понял другое: борются, чтобы спасти человека, но в борьбе этот человек погибает. Погибает целая человеческая раса, целая цивилизация. То, что происходит, непоправимо, и претерпевающие революцию не сомневаются, что гибнет род человеческий. Желал выяснить для себя, что же происходит во время революций, я подобрал сравнение — мне кажется, даже больше, чем сравнение, думаю, когда речь идет о любви, происходит то же самое. Мужчина потерял любимую, он страдает, он в растерянности. Если у него заработало воображение, он начинает ощущать ее "присутствие", погибшая любовь превращается в религию, человек отказывается с ней расстаться. Он не позволит отвлечь себя. Как бы ни старались близкие, он замкнется в своей скудной игре внутри себя. Отстранится от жизни. Перестанет существовать, потому что тому, чем обусловлено его поведение, наполнены мысли, нет места в мире. Он вывел сам себя за пределы этого мира. Если воображение не заработало, но мужчина жил этой женщиной, он покончит с собой. Ведь что бы он ни делал, ни думал, ни чувствовал, ведет к пустоте. Он лишился своей картины мира. Каждая дружба полноценна, забирая лишь небольшую частичку нас самих. Но всепоглощающая любовь забирает человека целиком, и с исчезновением любимой он уничтожен, он лишается языка, на котором только и мог говорить. Не слышит больше отзыва. И не хочет жить. Он понимает, что со временем выздоровеет, что ему опять найдется место в жизни, что новые отношения свяжут его с внешним миром, но ему это безразлично, потому что его уже нет. Этот будущий человек ему так же безразличен, как прохожий на улице. Как разбудить в нем желание жить? Замещение в этом случае невозможно. Изменить язык — значит изменить человека. И тот, кто не принял участия в революции, тоже не может представить себе жизнь "после". Революция — это гибель некоего смысла жизни. Человек может отдать предпочтение реальной гибели[374]. Поэтому мне всегда казалось, что трагедия русского генерала-изгнанника не в том, что он изгнанник, и не в том, что разорился. Политическая несправедливость вызывает в человеке естественный гнев, обиду, стремления, которые поддерживают в человеке жизнь. Можно жить ощущением несправедливости и даже раздувать ее в себе, чтобы жить ею дальше, но нельзя жить дальше, если ты утратил язык: если слова больше ничего не обозначают[375], все вокруг обессмысливается, если слова лишены подоплеки. Все награды старого служаки враз обесценились. А этот старичок генерал, когда-то такой преданный, вполне, может быть, был бы доволен своей тусклой жизнью, если бы в ней сохранялся смысл, если бы и за ним оставалось отведенное ему место. Но вся его жизнь обесценена. Старость всегда страдает среди молодых, новые условности, новые правила игры не дают им возможности общаться. Тремя четвертями своей популярности Моррас обязан яблоневым садам Франции, милоте провинциальных [нрзб] и вечным горам, он предлагает молодежи надежный язык-убежище, язык взаимного понимания, язык, на котором беседует вечность. Но пусть нас все задевает, пусть царапает каждая вновь появившаяся колонна, теснит каждая железнодорожная ветка. Подлинность? Да, и она есть в каждом новшестве. Подлинность, но еще, возможно, и жизнь. Мальро. "Завоеватели". Гарин потерпел поражение и усомнился в себе. Улучшила ли участь людей революция? Критика отметила — и отчасти справедливо, — что Мальро интересовало только революционное действие, но я заметил и еще кое-что. Гарин отказался от одной системы условностей и заменил их другой. Революционной. Отвергнув старую, утратив ее, он никогда уже не ощутит ее вкуса (слишком горд и деспотичен). Но революция потерпела поражение, и новой системы у него тоже нет. [У мавров ветер с песком и пулями.] Он на пороге человеческого… Я приведу несколько примеров, чтобы проиллюстрировать то, что мне кажется самым главным, а именно: внешние формы — язык, который усваиваешь, произвольные правила, которым следуешь, любые ограничения, которые сами по себе ничего не значат, — позволяют человеку осознать самого себя, испытать те или иные чувства, словом, жить определенной внутренней жизнью, особенной жизнью, какая не может возникнуть на основе другой культуры. Если определять еще более точно, то суть определенной культуры в том, что она позволяет человеку прожить именно такую, а не другую человеческую жизнь. Поняв это, я понял и вот еще что: у туриста не может возникнуть контакта с окружающим его миром (разовью это позже). Разумеется, просмотр звукового документального фильма и поездка в Азию — разные вещи, хотя разница, между прочим, не так уж и велика. У путешественника, безусловно, есть преимущества перед зрителем, он участвует в зрелище всеми отпущенными ему от природы чувствами, не только зрением и слухом, но и обонянием, осязанием. Запахи, ароматы, легкость, тяжесть, жара, холод и мало ли что еще. Всей кожей он ощущает новизну окружающей среды и все-таки никуда не двигается. Как не почувствовать разочарование, вернувшись? Константинополь, где твоя поэзия? Африка, где тайны? Туристу приходится искать и находить какие-то особые магические действа, которые произведут на него впечатление и дадут понять, что находится он очень и очень далеко. Хотя рядом с ним мир не менее волшебный и таинственный, чем мир искусников-факиров, но он за ледяной тончайшей и непреодолимой пленкой. Если примешь без спора новые условности, тогда ты войдешь в него. Тогда ощутишь то глубинное обновление, которое избавит тебя наконец от ветхого человека, потому что путешествие осуществляется не в пространстве, оно осуществляется в самом себе. Но иногда и туристу удается стать странником, например, Жиду в Конго. Особый род человеческой чуткости позволил ему усвоить суть закона каст, который сродни чувству сословного достоинства в Европе, и путешествовал он, уже оснащенный необходимым языком условностей. Приведу несколько примеров из своего раннего детства. Мне было тогда лет шесть или восемь. Нас было пятеро братьев и сестер, и мы играли только в те игры[376], которые придумывали сами, и очень дорожили ими. Я вспоминаю наш маленький мирок с самым живым чувством, ощущаю его в себе как след невозвратимо ушедшей культуры, благодаря которой прожил свой восемнадцатый пек, где было так сладко жить, но его никогда не вернуть, ключ к былому общению с миром утрачен навсегда. Мир общается с нами неизбежно грубо. Но наш собственный ум способен переустроить и его. У наших игр были названия. Я помню некоторые из них: "Шевалье Аклен", "Колдунья". И вот в чем было их особое очарованье, вот что держало нас так долго, задержавшись даже в памяти. В "Шевалье Аклена" мы играли в парке большого имения. Играли только в определенный час, вернее, минуты, когда после знойного душного дня наконец нависала гроза, когда парк сотрясал первый порыв холодного предгрозового ветра. Кончалась наша игра с первыми каплями дождя. Правила игры были очень сложными, мы должны были очень быстро бегать, с каждым мгновеньем все быстрее, потому что, помимо выполнения разных заданий, в игре был еще и мистический смысл: наши взаимоотношения с приближающейся грозой, радость, умещающаяся всего в несколько минут, развязка, которую мы ждали с замиранием сердца, она знаменовалась первыми каплями дождя, что падали на наши разгоряченные, мокрые от пота щеки, мгновенно успокаивая нас. В "Колдунью" мы играли на огромном чердаке и только во время ливней, когда дождь барабанил со всех сил по крыше и вода текла потоками по оконным стеклам. Ливень усиливал ощущение уюта, сухости и тепла на нашем чердаке, а зыбкий зеленоватый, почти что подводный свет придавал старым балкам,висящей паутине, сваленному в беспорядке старью необходимую таинственность. И этой игре придавал особую прелесть внезапный конец — первый проблеск синевы, луч солнца обрывал ее, делал невозможной, несуществующей) потому что нам немедленно было нужно бежать в парк и играть там в игры, которые играются только в парке, только после дождя, когда с листьев еще падают капли. Но солнце уже светит вовсю, и трава кажется нестерпимо зеленой, сверкающей, чуть ли не прозрачной. "Колдунья" была игрой неторопливой и всякий раз новой. Состояла она в придумывании разных персонажей, которым мы давали разные имена… Я знаю, что наши игры рождались благодаря внешним принуждениям. Как только начинался дождь, нас загоняли в дом под крышу; как только показывалось солнце, нас выставляли с любимого чердака, потому что дети должны дышать свежим воздухом. По именно эти внешние принуждения, распорядок, который нельзя было отменить, вынуждал нас продолжать игру и мысленно, позволяя вступить в общение, очеловечить и грозовой ветер, и озон, и тяжелые, набухшие дождем ветки. Мы были вынуждены их очеловечить. Вез внешних принуждений подобные отношения не возникли бы. Эти принуждения помогали нам жить особой жизнью. А теперь, когда я, взрослый человек, думаю о грозе, о солнечной погоде, о необходимости подняться на чердак, во мне возникают только зрительные, слуховые или тактильные ощущения, по они не имеют никакого продолжения и тут же исчезают, так как их не подкрепляет никакая внутренняя умственная работа. Но бывает, что свежий запах озона или черные громады туч и трепещущая листва деревьев неожиданно напомнят мне о "Шевалье Аклепо", вернут в детство, и я, подчинившись на миг забытым законам-правилам, вновь становлюсь жителем забытой цивилизации, с печалью ощутив ее глубинную человечность[377]. Я хотел бы рассмотреть и другой пример, взятый уже из моей профессии: скука в полете. Если я лечу как пассажир, то очень скоро принимаюсь зевать. Пейзажи, которые разворачивает передо мной Испания Во время пути от Тулузы до Касабланки, не имеют для меня большого значения. Я имею в виду, что они никак не воздействуют на мою внутреннюю жизнь, она от них не зависит и никак не меняется. Отсутствие значимых точек, крупных планов, слишком яркое солнце — все делает полет монотонным. Но стоит мне перестать быть пассажиром и вести самолет в качестве пилота, мне не до скуки. И не в том дело, что мне приходится работать руками, я привык и многое делаю механически. Дело и не в ответственности — охранник порохового склада может невыносимо скучать, — дело в том, что между мной и пейзажем внизу начинают работать отлаженные связи, и все вокруг приобретает для меня значение. Начинает действовать так называемая небесная топография, куда более значимая, чем земная, но куда менее явная, зачастую опирающаяся лишь на признаки. Белая полоса на море в этом месте говорит, что подует такой-то ветер, который на такой-то вот высоте сулит такую вот погоду. А вот эта темная масса внизу свидетельствует о новой стратегической задаче, знаменуя трехмерное пространство, куда предстоит войти. Этот ветер будет меня поднимать, этот тормозить, а в сумерках я смогу определить по виду крепости, исчезнет ли горизонт или, наоборот, будет виден совершенно отчетливо. Так жестокая необходимость заставляет весь мир говорить со мной и наполняет мою жизнь смыслом. Работая в компании Аэропосталь, я летал на пиши Касабланка — Дакар. Летали мы тогда над враждебной нам Сахарой. Летали на старых "бреге" четырнадцатой модели, производства 1916 года, с весьма ненадежными моторами. Страхуясь на случай поломки, мы летали группами по два самолета. Если один аппарат терпел аварию и падал вниз, второй экипаж спасал его от воинственных мавров. Случалось, что, не найдя подходящей площадки для посадки, терпел аварию и сопровождающий самолет, и тогда летчиков убивали или брали в плен, и они ждали, всматриваясь долгие дни в пустое небо, зная, что где-то там, в этом синем океане, уже движется самолет, отправленный на их поиски. Я уверен: спроси любого из моих товарищей, которые хоть немного, но летали в те времена, какой период в своей жизни кажется им лучшим, они назовут именно то давнее время, потому что тысячи нитей связывали тогда пилота с землей, потому что тогда были значимы даже малейшие детали. (Например, клочки скудной травы в Сахаре свидетельствовали, что здесь прошел дождь, а еще, что скорее всего именно здесь и находятся кочевники со своими верблюдами и, конечно же, ружьями.) Что может быть однообразнее пустыни Сахары? Но условия, в которых мы летали, устанавливали с этой пустыней такие мощные, такие разнообразные связи, что наша внутренняя жизнь становилась несоизмеримо богаче. Возьмем, например, песок. Так ли уж сильно меняется его цвет? Но когда мотор у тебя может отказать в любую секунду, ты все время помнишь о возможной посадке и пристально следишь за песчаными полосами внизу. Малейшее изменение цвета говорит тебе о состоянии песка: сухой он или влажный, тверд или зыбуч. Как важны были для нас эти оттенки, как они были зримы. Все описанное мной можно выразить одной фразой: "Ненадежный мотор делает Сахару нескучной". Хочу подчеркнуть два пункта. Выведенная мной аксиома, которая для меня неоспорима, вовсе не означает, что ненадежные моторы лучше надежных. Все мы без колебаний выбрали бы хороший мотор. Мы все были против плохих моторов. Но вот тут-то и кроется главная проблема. Ведь я, уже все понимая, все-таки, ни секунды не колеблясь, выбираю надежный мотор, хотя знаю, что ненадежный доставлял мне больше радости, напрягая меня до крайности, делая мою внутреннюю жизнь необычайно интенсивной. Это первое. И второе. Я подчеркиваю, речь идет не о приобретении знаний, хотя само собой разумеется, что необходимость, которая заставляет летчика внимательно наблюдать за песком, увеличивает его знания о песке. Теперешние летчики не знают о песке и десятой доли того, что знали мы, но знания сами по себе нейтральны и не обладают психологическим воздействием. Воздействуют на внутреннюю жизнь внешние принуждения, произвольные и неоспоримые. Несмотря на все мои познания о песке, если я смотрю на него сегодня, я скучаю. Еще один фактор: мавры. Мы покидали крепости испанцев и отправлялись пить чай в шатры к тем разбойникам, которых сумели приручить. Сидя в этих шатрах, я чувствовал себя счастливым. До чего ослепительно сверкал песок у входа и как тяжело нависала вылинявшая синева неба. Шатер создавал тень, и в этой тени выделялись пестрые халаты, смуглые лица и блики света от медных подносов и чайников[378].Мы были чужими и поэтому должны были соблюдать местные обычаи, и мы разувались у входа, чтобы войти в шатер. Завтра братья этих людей могли взять кого-то из нас в плен, и поэтому мы должны были вникать во все, что у них происходило, — выслушивать истории о кровной мести, об отношениях с рабами. Понемногу участвовать в их жизни. И участвуя, ощущали себя счастливыми, потому что менялись и молодели. Человека живит жажда омоложения. Она питает упование на жизнь вечную, на воскрешение во плоти, о нем мечтал Фауст. Все мечтают обновиться. Мечтает омолодиться и путешественник, он сидит в каюте корабля, ощущает вибрации двигателей, надеется и ждет, когда в нем начнется глубинное обновление[379]. Два года тому назад, вернувшись из Южной Америки, я, храня счастливые воспоминания о полетах с почтой, снова попросился на линию Касабланка — Дакар. Так явственно жило во мне ощущение этой надежды, растворенной в воздухе и неведомо почему бывшей главным нервом нашей жизни. Мы словно бы соприкасались с особым магическим миром. (Туристу никогда с ним не соприкоснуться.) С двумя моими товарищами, Гийоме и Ригелем, я потерпел аварию и провел ночь в Мавритании, в маленьком форте, откуда старик-сержант с отрядом из пятнадцати сенегальцев наблюдал за пустыней, как наблюдают с маяка за морем. Мы провели эту ночь, сидя на башне, опустив ноги в пустоту безграничной пустыни. В этой бескрайности таился язык, знакомый морякам, и я потихоньку начал постигать его. И вдруг ночь перерезал вой одинокого шакала, — нота, знак, разом открывший нам, как далек от нас горизонт и как нежданно то, что мы можем встретить, сидя в ожидании неведомого[380]. В зыбком мраке ночи казалось, что воют даже волны песка. Я сохранил живую память об этой жизни, мы тогда постоянно говорили о чуде, по-другому никак не назовешь этого ощущения — ощущения близкого чуда, близкой дружбы, чего-то неведомого, идущего из пустыни[381]. Я помню, как приземлялся на плато Рио дель Оро. На площадки этих усеченных конусов с такими отвесными склонами, что до них не добирался не только ни один европеец, но ни один человек вообще, и только ветры миллионы веков подряд выветривали горные вершины. Поверхность этих выветренных гор была всегда [нрзб.] и однородна, и тянулась иной раз на сотни километров. Она была гладкой, совершенно гладкой, без малейшей неровности и сложена из крошечных ракушек, без единой травинки, без единого камешка. Слой ракушек достигал трех сотен метров, и по мере того, как мы спускались к подножию плато — а такое иной раз бывало возможно, по причине разлома, — ракушки, становясь все древнее и хрупче, крепче спаивались и внизу превращались в камень, в котором мы, не будучи геологами, уже не различали никаких ракушек. И вот это девственное, гладкое, будто скатерть, плато, обращенное к звездам, не знавшее ни следов зверей, ни следов человека, наполняло меня ощущением пространственной, небывалой тишины. И еще значимости отдельной личной судьбы, потому что человек на нем ощущает себя особой ценностью, которую словно бы достали из породы, единственной, под взглядами звезд на этом голом нетронутом полотне — полной противоположности густому лесу или болоту, в которых напор жизни лишает человека веры в себя, веры в собственные мысли. Здесь он отдален от тягостной родственности, где ощущает себя только ячейкой. Ночью на плато в одиночестве среди каменного холода под холодным светом звезд так явственно чувствуешь свое тепло и свои мысли. В этом случае тоже можно сказать об оболванивании, о фаршировке мозгов — на это я и отвечаю: да, условности, благодаря которым я испытываю все эти чувства, были мне навязаны, пришли ко мне извне[382]. Язык условностей заставил пережить меня все эти чувства — и в самом деле можно сказать, что фаршировка мозгов имела место, — но! — я повторю: не будь у нас этого языка, мы бы вообще ничего не почувствовали. И вот что я еще помню: не только удивительные алтари, на которых мы вдруг оказывались, не только редкостный песок, который мы пересыпали в руках и который казался нам дороже золотого и радовал, будто драгоценное сокровище, обрадовало меня и сравнение, которое пришло мне в голову после первой прогулки, оживив фантазии и мечты: полотно, расстеленное под звездами. Я тогда видел другое полотно — на траве, под яблонями, ожидающее зрелых яблок. Сколько бы ни лежало оно, ничего из окружающего не касалось его, ни кусты, ни цветы, ни земля, ни кротовые кучки, — только спелые яблоки. И вдруг я споткнулся о камень — это-то на спрессованных ракушках высотой в триста метров, — и камень показался мне дороже алмаза. Я взял его в руки. Он был черным, походил на металл, со странной поверхностью, похожей на застывшую лаву. Я поднял голову, чтобы посмотреть, что за яблоня роняет такие камни, — стояла ночь, сияли звезды, и я мгновенно, без малейшего усилия понял, что в руках у меня аэролит, подтверждал это и ракушечник толщиной в триста метров под моими ногами. Тысячи тонн спрессованных документов подтверждали, что этот единственный небольшой камешек был заблудившейся звездой, которая погасла. И конечно, я сразу подумал, что под этой небесной яблоней должны быть и еще яблоки. И тут же отправился на поиски. Сердце у меня замирало в предвкушений чудес, и я в самом деле нашел сначала один, он был более квадратным, потом, на расстоянии метра от него, второй, а потом и третий. И вот о чем еще мне сказали мои находки — на полотно, которое собирало все падающие яблоки, за миллионы и миллионы лет упало всею четыре, свидетельствуя, как скудны звездные дожди, как скупы небесные колодцы. И вот под этими звездами, на песке, казавшемся в лунном свете снегом, я так остро чувствовал свое одиночество, и не менее остро то, что я жив — тепло своего, тела, биение своего сердца (жизнь возникла как чудо, она появилась на земле и т. д… а следом и мысль)[383].* * *
Итак я вернулся из Южной Америки и в один прекрасный день поднялся в воздух в Касабланке, чтобы лететь в Дакар. После недели полетов я понял, — хоть и не мог догадаться почему, — что здесь я ничего не найду, что искать обновление мне придется в другом месте, потому что ни Мавритания, ни Сенегал мне не помогут. Они больше не брали меня за живое[384]… Мало-помалу я понял, в чем дело. Я жил в Южной Америке, следовал там обычаям то Бразилии, то Патагонии, вникал в разные местные сложности, в тысячи особенностей разных человеческих семейств, и теперь мне не так-то было легко ощущать истории моих мавров под шатрами как единственно важные; вражда к племени Аит Туеса уже не открывала мне тайн ислама, мне стало трудно принять их сторону и все правила их игры. Глядя на эту вражду, я вспоминал ссоры дворников в Лон-ле-Сонье или в Карпентра и ничего не мог с собой поделать. Множество людей жили совсем по-другому, и забыть об этом я не мог. Хотя всегда знал, что этот племенной мирок, его замкнутая вечность, его чувства столь же значимы, как мирок преподавателей Коллеж де Франс и их интеллектуальные интересы. Дело было не в том, что я сравнивал две цивилизации между собой, а в том, что, опираясь и на ту, и на другую, уже не мог погрузиться в одну из них, как в единственно существующую. И если в шатре пахло грозой, и люди с трудом сдерживали бушевавший в них гнев из-за того, что Мурад выпил вина, я уже не мог гневаться вместе с ними. Я отвергал их правила игры. Но не из высокомерия, а из-за недостатка гибкости, из-за того, что все имело вкус подогретой пищи: нельзя уезжать, а потом возвращаться. Когда ты попадаешь в новый для тебя мир, ты жадно осваиваешь его особенности, следуешь условностям, увлеченный неведомым, но повторять все по второму разу — значит играть комедию, и все это ощущают. Я чувствовал ту печальную безнадежность, которую может ощутить лесной брат, который привык обороняться против зверей, против людей или управлять большой провинцией, но вот приехал погостить во Францию и видит свою родню, которая недовольна легкомыслием соседа но площадке или модой выщипывать брови. Дело не в том, что кто-то из них не прав, дело в том, что они говорят на разных языках. И если у лесного брата не достанет смирения, которое позволяет принять чужой мир, он на следующий же день с отвращением уедет обратно в джунгли. Со мной происходило обратное, но по той же причине. Мир ощущался мной как абстракция, а во мне работало одно измерение — изучение, которое дает примерно столько же чувств и возможностей для внутренней жизни, сколько и словарь, — общаться с миром в качестве туриста значит прогуливать свои финансовые затруднения, недовольство любовницей и хронический ревматизм по восточному базару, а не по лесу. (Изучение тоже дает возможность испытать эмоции, но не само но себе, а тем, как организован его процесс.)Я не говорю здесь о туристе, который меняет спальные вагоны, останавливается в роскошных отелях и проводит вечера с соотечественниками за стаканчиком виски и священнодействием бриджа, кто получает от путешествия примерно столько же, сколько зритель документальных фильмов, — я говорю о настоящем туристе, вполне возможно, бедном, он едет туда, где в самом деле нужно побывать, ночует там, где все ночуют, и его вместе со всеми кусают блохи, помогая ему почувствовать себя одним из тех, среди которых он путешествует. Но если он продолжает жить по своим правилам, убивает блох, а не отпускает их, и чтит законы семьи, он поддерживает тончайшую, но герметичную ледяную перегородку, которая разделяет ЭТИ миры. Он тоже не путешествует, если путешествие понимать как обновление. Но вполне возможно, он привезет из путешествия более яркие фантазии, а балансируя на двух разных точках зрения, увидит смешным то, что до этого его не смешило, увидит особую выразительность в зрелищах, которые придутся ему по вкусу, хотя эта выразительность будет плодом игры слов, плодом мнимых отношений между разными точками зрения. Я не хочу сказать, что мне кажется, будто обычному туристу легче, чем туристу из спальных вагонов, наладить общение с новым миром, но ему в силу необходимости предоставлено больше возможности принять чужие условности, потому что, находясь в более тесном общении, он будет испытывать неудобство, не приняв их. В глубине души он может с ними не соглашаться, но, следуя им, даже внутренне отвергая, человек все равно приобретает новое качество. Ум тут ни при чем. Так ребенок, получив пощечину, может открыть в себе чувство собственного достоинства. Нарываясь на удары, он постигает иное измерение[385]. И вот, если я из-за тумана вынужден был лететь очень низко и мавры стреляли в меня, я не испытывал к маврам ровно никаких чувств. Мавры пребывали для меня абстракцией. Из опыта я знал, что сухие щелчки выстрелов сопровождают самолет, мавры уменьшались до сухих щелчков. Никаких движений души или сердца не возникало по этому поводу. Но вот однажды ночью я почувствовал необычайное счастье…
Пилот
Я назвал свою лекцию "Пилот" вовсе не потому, что хочу посвятить ее особенностям своего ремесла. Речь пойдет совсем не об умении управлять самолетом. Воздушная стратегия интересна разве что профессионалам. Не буду я пересказывать всякие истории, случающиеся в полетах. Не буду описывать Рио-де-Жанейро в лучах закатного солнца. Украшать, расцвечивая зеленым, синим и розовым, воздушные пейзажи, на деле весьма однообразные. То главное, чему учит самолет человека, который сделал его своим ремеслом, нельзя передать набором почтовых открыток или учебником управления мотором. И это естественно. Не передашь, что такое Африка, историями о сафари.* * *
Все вы, я думаю, так или иначе путешествовали. Многих из вас путешествия, вполне возможно, разочаровали. Моран, например, скорее всего в шутку пожаловался, что никак не может уехать достаточно далеко, назвав свою книгу "Всюду земля". И действительно, в наши времена нетрудно вернуться обратно, куда бы мы ни уехали. Но если путешествие вас разочаровало, то, значит, вы хотели уехать как можно дальше от самого себя и понадеялись на дальние страны. Когда вы сидите на террасе кафе на Бульварах и воображаете себя в Китае, вы ощущаете его дальность во всей полноте. Но переместившись в Китай по-настоящему, вы перевезете туда свои привычки, понимания и взгляды, ревматизм, если им страдаете, и уже не будете чувствовать, что уехали так уж далеко. Вы ждали от путешествия омоложения, но не омолодились. Надеялись на ощущения, которые испытывали в детстве, на ту эмоциональную сосредоточенность, с какой ребенок вбирает в себя окружающий мир, но, повзрослев, вы закрылись и воспринимаете окружающее всего-навсего как зрелище. Вы откликаетесь на экзотику, а она враг истинного путешествия, потому что удивляет отличием чужого уклада от вашего собственного, а вечно новое мы постигаем, лишь вникнув в чуждое. Если бы вы приняли чужой уклад, подчинились ему, были бы вынуждены следовать чуждым обычаям, если бы […] Путешествуют не в пространстве, путешествуют внутри самих себя. Новое место чарует нас в той мере, в какой обновляет нас. Ни чувства, ни краски, ни сердце не обладают больше возможностью изменить нас. Вникнуть в жизнь чужой страны означает постепенно поддаться изменению, которое она тебе навязывает, начать по-иному думать и чувствовать, родившись таким образом во второй раз. Подобное мощное омоложение и влечет к себе человека. Чувствуя эту возможность, он пускается в путь. Ждет от путешествия многого, а получает мало. Возвращается и говорит, что Азия его разочаровала. Он считает, что побывал в Азии, а на деле посмотрел страну, как смотрят документальный фильм. Хотя в просмотре участвовали и чувства. Он ощущал вкус и запах, а не только зрение и слух, как в кино. И все-таки путешествия не случилось, был просмотр. Потому что путешествует тот, кто осваивает новый язык, а не присутствует на спектакле. Всякий раз, когда я начинаю думать о путешествиях, мне вспоминается одно и то же. Однажды я сидел в баре. Было около двух часов ночи, и никого, кроме меня, там не было. Я позабыл бы, что путешествую, если бы не тихий плеск моря, что тихо толкалось в борт корабля, не вентилятор с большими лопастями, что тихо жужжал у меня над головой своеобразным символом неизбежности. Бармен читал. Тишину не оттеняли ни шорох шагов, ни шепот. Ни одно дуновение ее не тревожило, хотя целых четыре двери бара смотрели в темноту, в ее тяжелый душный бархат. Ни единого звука, и только вдалеке негромкое бульканье моря, похожее на бульканье самовара. Я зевнул. Подумал, что пора идти в каюту, и потянулся, прислонившись затылком к деревянной обшивке. Вдруг всем телом я ощутил вибрацию турбин. И в ту же секунду передо мной словно бы предстала подспудная работа двигателей, скоростное вращение роторов, топка, жадно пожирающая мазут. А море было так спокойно, так лениво, что мне очень трудно было поверить, что нужно такое немыслимое количество усилий, чтобы превозмочь это море и эту ночь. Мне показалось, что главная цель этих усилий именно вибрация, похожая на биение сердца, которая оживляет металл, деревянную палубу, обшивку, наполняя их таинственной жизнью. Мне показалось, что работает тело корабля, что оно только на поверхностный взгляд неподвижно, а на самом деле в постоянном изменении, молодеет или стареет. II немыслимое количество усилий тратится, чтобы одолеть что-то несравненно более серьезное, чем ночь или море. Я встал, вышел на палубу, оперся руками о решетку. Корабль казался недвижимым, потерявшись во тьме, что обняла океан. Передо мной не было ничего, кроме темноты, и мне нечем было обновить свой багаж воспоминаний — ни запаха, ни звука, ни цвета. Я не понимал, чего я собственно жду и что ждет меня — разочарование или неожиданность, когда спустя две недели мы причалим к берегу. Но вибрация передавалась мне через планки палубы, пронизывала меня насквозь, настаивая, что я уже не тот, каким был, что я в пути. Граница неведомого мира, к которому, отправляясь в путешествие, ты стремишься, все отодвигается от тебя, и, путешествуя, ты никак не можешь ее перейти, но я чудом пересек ее. И мне было уже неважно, что ждет меня за причалом, материя мира вокруг меня обновилась.* * *
Полет начался трудным взлетом, а взлетал я в десять вечера из Сент-Этьена. У меня есть две возможности передать вам эти трудности: первая не ставит никаких литературных задач и состоит в том, чтобы дать достаточно сведений, которые позволят вам почувствовать себя на моем месте. Сейчас я попробую это сделать. Я взлетал в абсолютной темноте, не видя горизонта, дул ветер с песком, впереди находились песчаные дюны высотой метров в двадцать. Самолет был полностью загружен, и его было трудно поднять по следующим причинам: с малым углом подъема я бы врезался в дюны, с большим — самолет, потеряв скорость, упал бы на землю. Чем больше загрузка самолета, тем точнее должен быть угол подъема. Не видя горизонта, не видя земли, я понятия не имел, под каким углом взлетаю. Все физические ощущения на самолете обманчивы (об этом мне придется еще говорить). С другой стороны, все данные о скорости, угле подъема, крене, центробежной силе виража тут же появлялись на приборной доске, и я мог оторваться от земли, найдя правильный угол но отношению к искусственному горизонту. Когда вокруг полная тьма, ощущение движения исчезает, и вы отрываетесь от земли в полной "неподвижности". Происходящее не связывается со скоростью, которую увеличиваешь, с препятствиями, которые преодолеваешь (чтобы передать вам это ощущение, не прибегая к образам, нет другого способа, кроме как посадить вас управлять самолетом ночью). По мере того, как возрастала скорость (я фиксировал возрастание бегущими секундами), нажиму моих рук на рычаги управления самолет отвечал изменением амплитуды. И… И я не передал вам пока и сотой части того, что вам нужно знать, чтобы оказаться на моем месте, и я спокойно мог бы вам сказать: и вот произошло то-то, а затем то-то. Но если бы я и сумел передать вам все необходимые сведения, возникла бы не одна стилевая неувязка. Во-первых, курс вождения самолета очень утяжелил бы книгу в целом, а любителям технических сведений все равно было бы предпочтительнее изучить все-таки руководство, изложенное четким специальным языком. Во-вторых, технические сведения не дают возможности передавать драматизм событий — мгновенное обжигающее ощущение потребует многословного описания, зато затяжной процесс уложится в несколько коротких слов. Такое изложение не увлечет вас, вы ничего не почувствуете. И по сути, главного я вам не передам. Главное вовсе не в передвижении рукояток, не в следовании технике действий, а в том, что происходит со мной. История, которой я всерьез хочу с вами поделиться, моя личная история. Ведь даже если бы мне удалось, благодаря всем специальным сведениям, посадить вас на свое место, вы вряд ли бы что-то почувствовали, вы оказались бы в середине муляжа, в мертвом музее Гревен. Мои ощущения мгновенны, я не успеваю облечь их в слова. Слишком они глубинны, слишком личностны. А если вдруг у меня в мозгу возникают некие соответствия, не важно — технического характера или нет, они не имеют отношения к самолету. Обычно возникает картинка, образ. И этот образ, не важно, с чем связанный, передает самое существенное. Я уверен, что эта сущность требует именно этого образа, зато суть воспоминания во сне может быть передана десятью самыми разными символическими картинками. Если мне снится весло, значит, мои мускулы определенным образом напряглись и вспомнили некое напряжение, сходное с тем, какое необходимо при взмахе весла. Часть, общая для реальности и для символического образа, и есть самая действенная, она затронула мою чувствительность, она способна воздействовать на мой темперамент, она свидетельствует о свойственной мне внутренней жизни, а не о наборе абстрактных идей, она запечатлелась во мне явственнее, чем событие как таковое. И если случится так, что этот образ окажется для вас понятнее, чем реальность техники, если он войдет в соответствие с вашим внутренним опытом, то он и будет лучшим передатчиком, переводчиком. Разве нет? Эти образы вовсе не литература. У самого необразованного из пилотов в трудный для него миг может возникнуть образ, точно так же непроизвольно, как ему снятся сны. Образ будет мыслью его тела, более подлинной, чем слова. Благодаря образу я передаю вам личностную особенность моих ощущений, то, что произвел именно мой организм, а не то, что в теории я мог бы почувствовать. Если с наступлением сумерек я проникаюсь особой нежностью к деревням внизу, то происходит это по причине оптики, о которой вы не имеете понятия и объясняя которую я вас сейчас утомлю: дело вот в чем — вечером тени удлиняются, и каждый предмет, ограниченный тенью, видится более отчетливо. С высоты при ярком дневном свете земля кажется серой, зато к вечеру все вновь обретает краски. Согласитесь, зеленая равнина больше схожа с равниной, деревня с красными крышами больше деревня. Вместе с тем мелкие подробности стираются, пейзаж обретает порядок, которого днем в нем не было. Без мелочей все выглядит значительнее, а став значительным, обретает и особый смысл: дом — это дом всерьез. Продолжая свои объяснения, я могу рассуждать еще очень долго и занять своими рассуждениями целых десять страниц. Но суть пережитого — нежность, что окутала мир облаком, сквозь которое по-иному видится жизнь. И если вы тоже растрогались, я рад, потому что хотел, чтобы и вы ощутили ту же нежность. Передать ее мог бы и другой образ, таящий в себе ту же суть. Ведь на самом деле я не хочу обсуждать с вами особенности оптики, не хочу толковать о деревне, я хочу вас растрогать, хочу поделиться ощущением наступающих сумерек во время полета и сделать это как можно живее. И когда я рассказываю о взлете, я ведь тоже хочу поделиться своими ощущениями. Итак, я продвигался вперед, но движения не чувствовал и судил о нем косвенно, лишь по отвлеченным значкам, и мне казалось, я пребываю в неподвижности. Однако время от времени самолет, набирая скорость, вздрагивал все сильнее и сильнее, и тогда я ощущал, будто металлическая масса вокруг меня изменялась и обретала собственные возможности. Неосторожной попытке моих рук ускорить движение самолет ответил бы на пятой секунде слабым подпрыгиванием, на десятой прыжком повыше, а на пятнадцатой капотажем, его скорость к этому времени равнялась бы ста двадцати пяти км в час, и он бы разбился. Но я не думал ни о скорости, ни о прыжках, ни о капотаже, с каждой секундой во мне росла мощь внутреннего напряжения, которое передавалось моим рукам, и они словно бы заряжались от электрического конденсатора; мне казалось, будто я формирую взрывчатое вещество, и, по мере того как сжатие увеличивалось с каждой секундой, и приборы на доске словно бы сообщали мне, как идет химическая реакция, управлять ими нужно было все более и более бережно. Поначалу все шло как обычно. Мы часто взлетаем в темноте, и наработанный опыт помогает чувствовать себя вполне комфортно. Но внезапно лампа, которая освещала левую часть доски приборов, перегорела, а я еще не оторвался от земли. С этого мига у меня оставались только руки, которые должны были все понимать и в которых сосредоточилась вся моя жизнь. Вот тогда-то я и почувствовал, что готовлю взрывчатое вещество. Это не было сравнением, именно взрывчатку я и готовил. Главным событием, которым я хотел поделиться, был мой отрыв от земли. И я мог бы сразу передавать вам свои ощущения, обойдясь без технических деталей. Я ничего бы не исказил: в ночной темноте для меня все вот так и происходило, это была сама правда, явственная, неоспоримая. Таким был первый возникший у меня образ. Разумеется, приблизительный, может быть, не слишком удачный. Любой образ можно отбросить, не потому что в нем чего-то не хватает, в нем хватает всего, но потому что в нем, кроме необходимого, есть и лишнее. Успешно взлетев, я все-таки опасался дюн, хотя понимал, как держать самолет под тем углом, который выбрал и который мог оказаться вполне удачным. Я поднял голову и заметил над собой несколько слабо светящихся звезд, остальные загораживала песчаная [гора]. Звезды я сделал своими ориентирами. Одну старался удержать справа от стойки на капоте, другую у верхнего крыла слева. Песчаная гора пыталась заслонить их тоже, болтанка заводила их за крылья. Невероятных усилий стоило мне удерживать их на месте, а значит, удерживать и самолет, сохраняя намеченный курс. Я вдруг показался сам себе гимнастом, который раскачивается на трапеции. В голове у меня зашевелились слова, не в качестве литературного сравнения, а бессознательно, как шевелится что-то с похмелья или со сна: "Я качаюсь на звездных качелях". И как много общего было с цирком — сверкающие огоньки, покачивание, равновесие, которое готов потерять и находишь вновь. Слова несли в себе физическую и зрительную память. Они гораздо правдивее любых технических выкладок о равновесии передавали мое состояние. Однако с литературной точки зрения этот образ был весьма несовершенен. Но не потому, что он книжный, а потому, что требовал от читателя слишком много технических познаний, чтобы он воспринял его как точный. Можно было бы пойти но совсем уж ложной дороге, оставить в покое необходимость соблюдать равновесие и обойтись искусно-искусственной конструкцией, сообщив, что я поднимался все выше и выше по лестнице звезд. Но я такого не люблю. Я продолжал полет, а трудности все множились и множились. Неожиданно отказало радио, а оно мне было очень нужно: как иначе свяжешься с пунктом посадки, крошечным местечком в Сахаре, похожим на плот в океане? Как без радио его найдешь? Если я взял хоть несколько километров в сторону, слабого мерцания огоньков в густой темноте я уже никак не мог заметить. К тому же местечко находилось на оконечности мыса, перелети я мыс, я летел бы уже над морем. Но пока я летел и летел. Должен был бы приземлиться два часа назад, но по-прежнему не замечал внизу ни одного огонька. То ли мой самолет тормозил сильный ветер — не видя земли, я никак не мог судить об этом, — то ли — и это было гораздо вероятнее,[386] — я уже перелетел через пункт своего назначения и вот уже два часа, уменьшая запас горючего, углублялся, сам того не подозревая, в открытое море. Время от времени над горизонтом появлялись спавшие до этого звезды. Не ведаю, по каким оптическим причинам, они были необычайно яркими. И всякий раз я держал курс прямо на них. А они очень быстро исчезали. Мы с наблюдателем обменивались сообщениями, уточняя маршрут. "Проверим, конечно, но мне все же кажется, что это звезда…" Мы плавали в межпланетной пустоте, в пустоте абсолютной, и мне вдруг показалось, что я не смогу отыскать среди еле видных звезд-обманок той единственной, на которую можно приземлиться, нашей обжитой, обитаемой земли. Мысль не была риторической фигурой, не была образом, она отражала реальность, и я мог бы спросить наблюдателя: "А может, земля — вот та звезда справа?" И он бы не засмеялся. Можно счесть мое ощущение банальным или патетическим и выспренним. Можно упрекнуть меня в вычурности (мое ощущение далеко от любых технических данных), в надуманности, заподозрить в претензии на поэтичность, но на деле сказанное передает реальность и ничего больше. Суть реальности. Я имею право пользоваться языком техники — любой техники, — чтобы передать то, что я ощутил. Важно одно: при передаче не должно утратиться то непередаваемое, чем нагрузила меня реальность, мое послание не должно оказаться пустопорожней игрой словами, словами, которые породили слова. Ослепительное слово Морана изничтожает предмет (сейчас я уподобился Морану; вместо "изничтожает" я мог бы сказать "мешает видеть", мысль осталась бы той же, но выражена была бы менее эмоционально. Употребив слово "изничтожает", я прибавил ощущение жестокости, и не просто жестокости, а намеренной, целеустремленной… "мешает видеть" было бы нейтральным выражением. Я мог бы сказать по-другому: "прячет предмет", глагол "прятать" тоже звучит нейтраль но, и не выводит на сцену фокусника с плащом. Но я мог бы вывести и фокусника, если бы захотел, и сделал бы это намеренно. Выводя на сцену фокусника, строит свои образы Моран. Они производят впечатление точности, но это точность зрительной картинки, а не точность передачи предмета или явления). Я ни разу не встречал у Морана сглаженного, незаметного слова, главная забота которого передать смысл происходящего. Моран непременно скажет: "горе грызло ее" вместо "она горевала". У меня есть замечательный пример сдержанности слов перед значимостью того, что они выражают, это последнее четверостишие стихотворения Рене Гиля:* * *
Образ, по-моему, что-то вроде транспортного средства и может повезти нас в две совершенно противоположные стороны, может в обобщенной форме, под фальшивой личиной довести до нас подлинность того, что хочет передать автор, или увести куда-то, сосредоточив на картинке, как это случается у Морана или в рассуждениях Морраса. В первом случае образ помогает сделать очевидным некое переживание или впечатление (в противовес реальному миру), во втором — сосредотачивает внимание на процессе сравнения. Поскольку в основе образности лежат разные типы чувствительности (у Морраса, например, образы едва заметны, скромны, часто строятся на метафорическом употреблении глагола и гораздо реже на сравнении), То мы не замечаем, что формирует их одинаковое движение мысли. Я вспоминаю одну статью из "Аксьон франсез" — воистину шедевр, — в которой "поток событий" предательски повлек за собой географические термины вроде "водораздела", "паводка" и других, но они только замедлили восприятие сути статьи, так как вызывали в воображении природные явления, плохо соотносясь с психологией, ради которой были привлечены. Аналогичный эффект я замечал иной раз и у Валери, построение рассуждения у него напоминает математический трактат, и его выводы по части психологии производят впечатление безупречных, но безупречность относится все-таки к математическим аналогиям, а не к той материи, о которой он трактует. Если привлеченный мной образ (понятие "образ" я употребляю в самом широком смысле) хоть в какой-то мере искажает то, что я стремлюсь передать, я не вижу смысла в этом образе; я не понимаю, как можно частичку истины заменить фальшью, пусть более эффектной на взгляд, но не содержащей и крупицы подлинности. Совсем иное те образы, которые, произвольно выплывая из любой области человеческой деятельности, позволяют донести то непередаваемое, что ты уловил в явлении; в этом случае может понадобиться не просто более яркий, более конкретный, а не отвлеченный глагол, не сравнение, а целое отступление, как это бывает у Жироду, когда он ловит то неуловимое, что таится в атмосфере.Можно верить в людей
Можно верить в людей, пока ты молод, пока мир — создание твоего воображения. Позже неизбежно приходит чувство отвращения, не потому что общество так уж плохо, а потому что ты никак не можешь надеяться, что дело кончится добром. В какой бы системе ты ни оказался, тебя ждет гибель… Человека питает божественность восемнадцатого века, которую сберег маленький городок, замкнувшийся в своих стенах, пастухи, живущие в горах Моро, катакомбы. Юноша, глядящий из своего "испано", как старухи берут из источника воду,далек от них, будто от Китая, но о чем-то догадывается и чувствует себя бедняком. Ни ты, ни я не почувствуем себя счастливыми, если, живя другими условностями, примем участие в их игре. Старинная опера нас не порадует, хотя вряд ли она глупее кино. Но нам не играть больше в ту игру. Не обрести покоя. Разве что признать главной игрой бридж, согласиться, что бридж и есть жизнь, а мы обречены на бессмысленное блуждание между столами, наблюдатели за чужой игрой, зная, что столы служат только карточным играм. И все-таки. Все-таки. Именно так осуществляется поиск истины. И сколько нужно примирить противоречий… Если я пытаюсь создать социальную систему, в которой человек сможет жить благополучнее, в которой техника, которая уже прижилась в мире и не может быть из него изъята, будет спасать его, а не закабалять, то от чего я в первую очередь должен буду отказаться и ради чего — ради электрического подогрева воды и возможности добраться от Парижа до Пекина в три дня? Это главные ценности? Не думаю. Те, кто ратуют за абстрактные будущие поколения, неизбежно сведут к минимуму (по сути, они защищают […] что-то вроде мелкого служащего, который наслаждается рыбной ловлей и фильмами про Бубуля с Мильтоном[387]). По возвращении блудный сын, возможно, скажет себе после стольких пройденных путей, поисков и блужданий, открытий и постижений: вот она, подлинность, потому что здесь я существую и здесь могу рассказать о своих странствиях. И его воспоминания, превратившиеся в мертвый груз знаний, снова обретут краски, исполнятся смыслом, вызовут сочувствие, негодование или зависть — сейчас, а не тогда, когда он был нищим скитальцем. Невозможно быть жалким, если тебя никто не жалеет, богатым, если тебе никто не завидует. Если нет различия в ступенях, нет системы мер, то нет и чувства гордости, ничтожества или всемогущества. Вот что мне показалось самым поучительным в России: обувью богатого француза восхищались, но ей не завидовали. Только вернувшись, блудный сын отправился в скитание, пока он скитался, он жил домом. Вернувшись, он странствует по бескрайнему миру и претерпевает тяготы странствия. Вечером он целует отца, целует мать, желает спокойной ночи ссохшимся тетушкам, которые служили для него незримыми опорами, придавая каждому его поступку смысл, превращая один в скандал, другой в любовь, и отправляется спать. Точно так же переход с одной социальной ступени на другую, от бедности к богатству, ощутим только во время перехода. Но когда он свершился, человек больше не ощущает радости. Пока ты беден, богатство — часть твоей мечты. Но когда ты осуществил мечту… Цель, которая достигнута, всегда оставляет чувство разочарования. Но то молоко, на котором человек вырос, выстраивает его жизнь и придает ей смысл. Отсюда же ненависть к чужакам. Как опасен этот блудный сын, вернувшийся издалека, если рисует дальние страны яркими красками, если не судит о них, исходя из веками установленных правил. "Представьте себе, что в Китае скорее солгут, чем ответят "нет"…", и все покатились со смеху. И ссохшиеся тетушки тоже усмехнулись. Но если он вернулся и молчит, или рассказал о любви с сиамской девушкой не как о насилии, которое допускают иссохшие тетушки для абстрактных стран (они потеряют сознание, если жиголо ущипнет их за ягодицу), но насилие, кровь, резня неотъемлемы от завоевателя, это фон в глубине картины… а он говорит о любви, подразумевая любовь, и сразу становится опасным изгоем, дурным семенем, потому что нет ничего уязвимей, чем система условностей, и ее охраняют с безжалостной жесткостью. Как быстро разлагается общество, стоит допустить в него новый росток! Как опасен апостол! Вся семья — отец, мать, иссохшие тетушки, двоюродный братик, которого нужно уберечь от вредного влияния, идут на приступ, они судят сатира, убийцу, вора и обрекают в нем на смерть чужака. Сжигают книгу. Они не говорят: это преступление заслуживает смерти, они говорят: смертный приговор успокаивает нас, свидетельствуя о чудовищности преступления, выставляя его напоказ, исторгая преступника из нашего тела, позволяя нам и дальше жить мирно в окружении горшков с цветами; симпатизируя экзотике, мы примем и лимон из Азии, но только заключенный в тюрьме горшка, обреченный на бесплодие карточкой с надписью "Лимон, Индокитай", встроив его таким образом в общество. Антропометрия, благодаря которой и лицо убийцы, и лицо сатира обретают свое место, перестав вызывать тревожные сомнения, став вне всякого сомнения лицом убийцы, вора, сатира, опознанными антропометрически, так нужна нам, она позволяет нам жить в покое. Джунглям среди нас не место. "Образчик" — рекомендует нам наклейка. "Образчик" — рекомендует общественное мнение. Образчик фальсификатора и смутьяна, который способен был бы открыть нам странные и неведомые пути. По сути, ненависть к чужаку, что так нам по вкусу, оберегает вовсе не наших девушек — девственных или нет, кто это знает? — а образ девушки, особое мужское чувство перед девственной невинностью и слезы матери в канун свадьбы. Ее, она должна стать женщиной, и становится. Его, он должен почувствовать, что получает с неба звезду. Ничто другое не может дать ему почувствовать, что он получает звезду с неба. Законники позволяют мужчине получить с неба только одну звезду. Лучший из моих друзей говорил мне: "Революции, просыпающееся человечество… Мне кажется ложной не столько решение, сколько проблема: поиск драмы, чтобы выковать в испытаниях человека. Не надо далеко ходить за драмами, они интимнее, незаметнее, они постоянно с нами — болезни, любовь, смерть, деньги. Как насыщена драмами жизнь семьи, которая кажется такой мирной среди зеленеющих виноградников". Так-то оно так… Но в китайских деревнях младенцев отдают свиньям, детей сдают в государственные приюты, и, если ваш лучший друг тонет в Яндзы и кричит, зовя на помощь, вы смотрите, думая про себя, что лучше утонет он, чем вы, и спорите с соседом на несколько монет, утонет он или выплывет. По существу, драмы буржуазной жизни вовсе не главное, общий уклад насыщает их смыслом. Когда три ваших иссохших тетки, незыблемые опоры, и маленький кузен держатся за уклад, они делают это бессознательно, не ради того, чтобы защитить жизнь ребенка, которого вытолкнули на свет, но ради трусов, которые будут улыбаться вокруг колыбели, из гордости, из |якобы] родительского чувства. Защищая царство долгих болезней, которые подчиняют себе весь дом, и больной становится подобием вездесущего бога, его не видно, но он царит повсюду, все говорят шепотом, все ходят на цыпочках. Защищая гудение колоколов, что передают ветру весть о том, что суета человеческая наконец умиротворена. Потому что все, что считали самым главным, на деле оказалось хрупким и уязвимым, и хорошо бы людям постараться с самого начала не искать в жизни драм. Итак, основы. Но что такое пропасть, если нет головокружения?
Антуан де Сент-Экзюпери Южный почтовый
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Радиограмма. 6.10. Тулуза. Всем аэродромам: почтовый Франция – Южная Америка вылетает Тулузы 5.45. Точка.Небо, чистое, как вода, вымыло и высветило звезды. Потом настала ночь. Сахара, дюна за дюной, разворачивалась под луной. Нам светит эта лампа, ее отраженный свет не выхватывает предметы, но творит их, насыщая каждый каким-то мягким веществом. Под нашими приглушенными шагами – роскошный плотный песок. И мы идем с непокрытой головой, отдыхая от солнечного песка. Ночь: этот кров… Но как нам было поверить в покой? Пассаты без устали мчались к югу. Они подметали шуршащий, как шелк, пляж. Это были уже не европейские ветры, которые покрутятся-покрутятся и утихнут; нет, они проносились над нами, как над экспрессом на полном ходу. Иной раз их прикосновение было так жестко, что казалось, повернувшись на север, на них можно опереться и тебя поднимет и унесет к неведомой цели. Какая скорость, какое смятение! Солнце завершало свой круговорот, и снова наступал день. Мавры вели себя мирно. Те, что отваживались приблизиться к испанскому форту, изъяснялись жестами и, как дети, играли ружьями. Это была закулисная Сахара: здесь непокорные племена утрачивали таинственность и выступали лишь в роли статистов. Мы жили с ними бок о бок, и они казались нам нашим собственным, самым будничным отражением. Вот почему мы не чувствовали себя затерянными в пустыне; нам нужно было бы вернуться домой, чтобы почувствовать одиночество, посмотрев на него со стороны. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Мы не могли отойти от форта дальше, чем на пятьсот метров, за которыми начиналась непокоренная страна. Наши ближайшие соседи – в Сиснеросе, в Порт-Этьене – в семистах, в тысяче километров от нас, были, как и мы, словно руда пустой породой, окружены Сахарой. И они вращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их чудачествам, но между нами простиралось непроницаемое молчание, как между обитаемыми планетами. Сегодня утром мир для нас пришел в движение. Радист вручил нам наконец радиограмму: две мачты, врытые в песок, раз в неделю связывали нас с миром. Почтовый Франция – Америка вылетел Тулузы 5.45. Прошел Аликанте 11.10. Это говорила Тулуза. Тулуза – головная точка линии. Далекий бог. За десять минут новость доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир и потом распространялась дальше на юг до Дакара. На линии в пять тысяч километров все аэропорты были подняты на ноги. С возобновлением передач около шести часов вечера нам снова сообщалось: Почтовый приземлится Агадире 21.00. Вылетит Кап-Джуби 21.30. Подсветка ракетой Мишлена. Точка. Кап-Джуби приготовить обычные сигнальные огни. Точка. Держать связь Агадиром. Подпись: Тулуза. Из обсерватории Кап-Джуби, затерянной в сердце Сахары, мы следили за далекой кометой. К шести часам вечера забеспокоился юг: Из Дакара Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: срочно сообщите сведения почтовом. Из Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10. Где-то гудел мотор. Его гул старались уловить от Тулузы до Сенегала.
II
Тулуза. 5.30. Самолет резко тормозит в воротах ангара, распахнутых в ночь и в дождь. Прожекторы по пятьсот ватт вырывают из темноты предметы, жесткие, обнаженные, с резкими контурами, как на витрине. Под сводом ангара каждое произносимое слово резонирует, продолжает звучать, наполняет собой тишину. Блестящие покрышки, моторы без единого масляного пятна. Самолет как новенький. Сложнейший часовой механизм, к которому только что пальцами изобретателей прикасались механики. Теперь они, сделав свое дело, отходят в сторону. – Живее, господа, живее. Мешок за мешком почта исчезает в чреве машины. Быстрая проверка: – Буэнос-Айрес… Натал… Дакар… Касабланка… Дакар… Тридцать девять мешков. Точно? – Точно. Пилот одевается. Свитер, шарф, кожаный комбинезон, меховые сапоги. Сонное тело еле ворочается. Его подгоняют: «Давай! Скорее…» Тяжелый и неуклюжий, он втискивается в кабину, не гнущиеся в толстых перчатках пальцы едва удерживают часы, высотомер, планшет с картами. Водолаз вне своей стихии. Но едва он садится за штурвал, все становится легко. К нему поднимается механик. – Шестьсот тридцать кило. – Пассажиры? – Трое! Не глядя, он берет их под свою опеку. Начальник аэродрома поворачивается к рабочим: – Кто закреплял капот? – Я. – Двадцать франков штрафу. Начальник аэродрома в последний раз проверяет готовность машины: все в образцовом порядке, все движения рассчитаны заранее, как в балете. Самолет, стоящий сейчас в полной готовности в ангаре, через пять минут будет в небе. Этот рейс вычислен так же точно, как спуск на воду корабля. Недостает крепежного винтика – ужасающий недочет. Прожекторы по пятьсот ватт, тщательность, придирчивость осмотра – все это для того, чтобы полет от аэродрома до аэродрома в Буэнос-Айресе или в Сантьяго был результатом законов аэродинамики, а не делом случая. Чтобы, несмотря на бури, туманы, торнадо, несмотря на множество ловушек, которые таятся в клапанах, в распределителях, – во всей этой косной материи, – догнать, перегнать и оставить далеко позади товарные, скорые, экспрессы, пароходы! И в рекордное время приземлиться в Буэнос-Айресе или в Сантьяго… – На вылет! Летчику Бернису вручают бумагу: план битвы. Бернис читает: «Перпиньян передает: небо ясное, ветра нет. Барселона: буря. Аликанте…» Тулуза. 5.45. Мощные колеса давят на тормозные колодки. Под ветром, поднимаемым винтом, трава на двадцать метров за самолетом стелется и струится, как вода за кормой. Бернис одним движением кисти дает волю буре или усмиряет ее. Теперь гул нарастает повторными волнами и становится той насыщенной, почти твердой средой, в которой оказывается замкнутым тело самолета. И когда пилот чувствует, что этот гул, переполняя его, позволяет овладеть стихией, которая до сих пор ему не подчинялась, он говорит себе: есть! Потом он смотрит на черный, задранный в небо, как гаубица, капот. За винтом брезжит рассвет. И тогда, медленно выруливая против ветра, летчик дает полный газ. Самолет, подстегнутый винтом, срывается с места. Первые скачки по упругому воздуху сглаживаются, и тогда кажется, что земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. Воздух, сначала не осязаемый, потом текучий, теперь становится твердым, и, опираясь на него, пилот взмывает вверх. Деревья, окаймляющие аэродром, расступаются, открывая горизонт, и исчезают. С высоты двухсот метров еще видишь детские игрушки – стоящие торчком деревца, раскрашенные домики и леса, похожие на густой мех: обитаемая земля… Бернис ищет наиболее удобный наклон спины, точное положение локтя, он спокойно располагается в кабине. Позади него – низкие тучи над Тулузой, словно темные своды вокзала. Теперь он уже все меньше и меньше сопротивляется рвущемуся вверх самолету, он понемногу высвобождает силу, которую сдерживал в кулаке. Каждым движением кисти он выпускает волну, и она, как прилив, приподнимает и подхватывает его самого. Через пять часов – Аликанте, а вечером – Африка. Бернис задумался. Он спокоен: «Все в порядке». Вчера с вечерним экспрессом он оставил Париж: какой странный отпуск. От него осталась лишь смутная память о каком-то непонятном смятении. Тревога придет потом, сейчас он отбрасывает назад это прошлое, как будто оно продолжает жить где-то вне его. Сейчас ему кажется, что он заново рождается с новым светающим днем, что он – ранняя птица – помогает созданию этого нового дня. Он думает: «Сейчас я только рабочий. И я налаживаю почтовую связь с Африкой». А для рабочего, начинающего строить мир, этот мир каждый день рождается заново. «Все в порядке…» Последний вечер в парижской квартире. Сложенные кипами газеты и стопки книг. Сожженные письма, связки разобранных писем, сдвинутая мебель. Каждая вещь оторвана, извлечена из жизни и выброшена в пространство. И это смятение сердца, не имеющее уже никакого смысла. Он приготовился к завтрашнему дню, словно к дальнему плаванию. Он, как в Новый Свет, отчаливал в следующий день. Столько незавершенных дел еще привязывало его к самому себе. И вот внезапно он оказался свободен. Бернису даже страшно сознавать себя таким безоружным, таким обреченным. Под ним уплывает Каркассон – пристанище на случай вынужденной посадки. До чего хорошо прибран мир, когда глядишь на него с высоты трех тысяч метров. Все уложено по местам, как в ящике с игрушками. Дома, каналы, дороги – игрушки взрослых людей. Благополучный, разграфленный на квадратики мир: каждое поле окаймлено забором, каждый парк окружен стеной. Вон Каркассон, где каждая лавочница живет жизнью своей прабабки. Нетребовательное, ограниченное счастье. Человеческие игрушки, в порядке расставленные в витрине. Мир под стеклом, выставленный и разложенный как напоказ, аккуратные городки на развернутом рулоне карты, которую неотвратимо, словно прилив, несет на него медленно движущаяся земля. Вот он один. Циферблат высотомера отражает солнце. Яркое и негреющее. Движение педали – и ландшафт уплывает. Этот свет – мертвый, эта земля – кажется мертвой: все, что составляет сладость, аромат и хрупкость живых вещей, – уничтожено. И все-таки под кожаной курткой – твое теплое и смертное тело, Бернис! Под плотной кожей перчаток – чудесные руки, умевшие так нежно ласкать твое лицо, Женевьева… Испания.III
Сегодня, Жак Бернис, ты с уверенностью хозяина пересечешь Испанию. Перед тобой одна за другой встанут знакомые картины. Ты с легкостью пробьешься среди грозовых туч. Барселона, Валенсия, Гибралтар – их несет на тебя и отбрасывает назад. Хорошо. Ты скатаешь в рулон свою карту, и отработанное пространство сгрудится позади тебя. Но я вспоминаю о твоих первых шагах, о моих наставлениях накануне твоего первого почтового рейса. На рассвете тебе предстояло взять в руки мысли целого народа. В свои неумелые руки. И перенести их, как сокровище под плащом, через тысячи препятствий. Почта, сказали тебе, – это драгоценность, она дороже жизни. И она так хрупка. Малейшая неосторожность, и пламя испепелит и развеет ее по ветру. Я помню канун твоего боевого крещения. – Ну а что тогда? – Тогда ты постараешься долететь до пляжа Пенисколы. Но берегись рыбачьих баркасов. – А потом? – Потом до Валенсии ты всегда найдешь удобную аварийную площадку: я обведу их красным карандашом. В крайнем случае садись в высохшие русла. Сидя перед развернутыми картами, под зеленым абажуром нашей лампы, Бернис снова чувствовал себя школьником. Но его теперешний учитель открывал ему живую тайну каждого клочка земли. Неведомые страны уже не были мертвыми цифрами, – это были настоящие луга в цветах, где надо опасаться вон того дерева, это были настоящие песчаные пляжи, где в сумерках надо избегать рыбачьих баркасов. Ты уже понимал, Жак Бернис, что мы никогда не узнаем ни Гренады, ни Альмерии, ни Альгамбры, ни мечетей, но мы познакомимся с ручейком, с апельсиновым деревом, с их самыми скромными признаниями. – Так слушай: если погода хорошая, иди напрямик. А в дурную погоду, при низкой облачности, бери влево и углубляйся в эту долину. – Я углубляюсь в эту долину. – А потом выходи к морю через это ущелье. – Я выйду к морю через ущелье. – Не давай воли мотору: здесь острые утесы и скалы. – А если он забарахлит? – Выкарабкаешься! И Бернис улыбался: молодые пилоты – романтики. Налетит какая-нибудь скала, точно камень из пращи, и поразит насмерть. Бежит ребенок, но чья-то рука ударяет его по лбу и опрокидывает… – Да нет же, старина, нет! Человек всегда выкарабкается. Бернис был горд такой наукой: в детстве он не смог выудить из «Энеиды» ни одного секрета, который уберег бы его от смерти. И учитель, проводивший пальцем по карте Испании, не был человеком, который умеет чуять и находить подземные ключи: палец учителя не обнаруживал ни клада, ни западни, ни той пастушки на лугу. Какую ласку излучал сегодня этот заправленный маслом светильник! Такой струйкой масла можно успокоить морское волнение. На дворе завывал ветер. Наша комната и в самом деле была островком в необъятной вселенной, вроде харчевни моряков. – Стаканчик портвейна? – С удовольствием… Комната пилота – какое ненадежное убежище, как часто приходилось сооружать тебя заново! Накануне вечером дирекция оповещала нас: «Пилот Х. назначается в Сенегал… в Америку…» И вот приходилось в ту же ночь рвать все связи, заколачивать ящики, лишать комнату всех признаков собственного присутствия – фотографий, книг – и бросать ее такой безликой, словно в ней не обитал даже призрак. Иной раз приходилось в ту же ночь разомкнуть объятия двух рук и, истощив силы какой-нибудь девчонки, не уговорами, – потому что ни одну не уговоришь, – но утомив ласками, к трем часам утра тихонько погрузить ее в сон, покорную не разлуке, а горю, и сказать себе: «Ну вот она и смирилась, она плачет…»Чему же ты научился потом, Жак Бернис, в своих скитаниях по свету? Самолету? В самолете движешься так медленно, просверливая дыру в твердом кристалле. Особенности каждого города мало-помалу стираются: надо приземлиться, чтобы оценить его своеобразие. Теперь ты знаешь, что все эти богатства исчезают прежде, чем ты успеешь к ним прикоснуться. Время смывает их, как морской прибой. Что же за человек рождался в тебе по возвращении из первых рейсов, и почему тебя охватывало желание поставить его рядом с призраком того нежного мальчугана? В первый же свой отпуск ты уговорил меня навестить наш коллеж: и вот в Сахаре, где я жду твоего самолета, Бернис, я с грустью вспоминаю об этом посещении нашего детства. Белая вилла среди сосен, сначала в одном, потом в другом окне загорался свет. Ты говорил мне: – Вон класс, где мы писали наши первые стихи… Мы вернулись издалека. Мы запахивали в наши тяжелые плащи всю вселенную, а в глубинах нашего существа бились неуемные сердца путешественников. В плотных перчатках, в прочной броне, стиснув зубы, мы вступали в неведомые города. Навстречу, не задевая нас, проносились человеческие толпы. Для прирученных городов у нас были в запасе белые фланелевые брюки и теннисные рубашки. Для Касабланки, для Дакара. В Танжере мы ходили с непокрытыми головами: в этом сонном городе не было нужды в доспехах. И вот мы зрелыми мужами вернулись в коллеж. Мы боролись, страдали, перелетали над бескрайними землями, любили женщин, иной раз играли в орла и решку со смертью, и все это мы делали только ради того, чтобы избавиться от страха, так угнетавшего нас в детстве, – страха перед штрафным заданием или перед отсидкой лишний час в классе; всего лишь ради того, чтобы субботним вечером безбоязненно выслушать чтение отметок за неделю. Вот в вестибюле послышался шепот, потом возгласы, потом, наконец, поднялась старческая суетня. Наши учителя выходили нам навстречу в золотом свете ламп, с пергаментными лицами, но с такими светлыми глазами: оживленными, приветливыми. И мы тотчас же поняли: им ясно, что мы уже из иного мира. Таков был обычай: «старички» являлись в школу уверенно и безбоязненно, беря реванш за все детские страхи. Их не удивляло ни мое энергичное рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса; они сразу стали обращаться с нами, как с мужчинами; они побежали за бутылочкой старого самосского, о котором раньше не смели бы и заикнуться. Мы расселись за вечерней трапезой. Они жались друг к дружке под абажуром, как крестьяне вокруг камелька, и мы поняли, что они слабы. Они были слабы, потому что стали снисходительны, и наша детская леность, которая неминуемо должна была ввергнуть нас в порок, в беду, превратилась вдруг в их глазах всего лишь в ребяческое баловство, – оно вызывало у них только улыбку; потому что наше тщеславие, которое они так рьяно подавляли, сегодня вечером считалось похвальным, чуть ли не благородным. Мы даже удостоились признания нашего учителя философии. Декарт, пожалуй, построил всю свою систему на логической ошибке. Паскаль… Паскаль был безжалостен. А сам наш учитель философии состарился, так и не разрешив, несмотря на все старания, извечной проблемы свободы воли. И вот он, всячески предостерегавший нас от детерминизма, от Тэна, считавший Ницше опаснейшим врагом выпускников коллежа, теперь винился перед нами в своей преступной слабости к Ницше. Он волновал и его. А реальность материи?.. Он ничего толком не знал, он колебался… И вот учителя стали расспрашивать нас. Мы ведь вышли из этой теплицы на бурные просторы жизни, и мы должны были рассказать им о том, какая же погода на земле. И правда ли, что мужчина, любящий женщину, становится ее рабом, как Пирр, или ее палачом, как Нерон? Правда ли, что Африка с ее пустынями и синим небом такая, какой ее рисовал учитель географии? И закрывают ли страусы глаза, чтобы спастись от опасности? Жак Бернис чуть опускал голову, потому что он владел великими тайнами, но учителя выпытали эти тайны. Они захотели узнать от него об опьянении борьбой, и о реве мотора, и о том, что для счастья нам уже недостаточно, как им, подрезать по вечерам розы. Теперь настала его очередь толковать им Лукреция и Екклезиаста и давать советы. Бернис, пока не поздно, учил их, сколько нужно запасти провизии и воды, чтобы не погибнуть в случае вынужденной посадки в пустыне. Второпях он забрасывал их последними советами: как летчику спастись от мавров, как уберечься от огня. И вот они покачивали головами, еще встревоженные, но уже понемногу обретая уверенность и гордость, потому что именно они поставили на ноги это новое поколение. Наконец-то они прикасались руками к героям, которых издавна чтили; увидев их воочию, они могли теперь спокойно умереть. И они заговорили о Юлии Цезаре-ребенке. Но, рискую их опечалить, мы рассказали о разочарованиях и горечи вынужденного бездействия после тщетной борьбы. И пока самый старый учитель дремал, мы поделились с ними очень грустным открытием, что последние истины существуют, может быть, только в книгах. Впрочем, учителя и без нас уже знали об этом. Они пришли к такому жестокому выводу на собственном опыте: они ведь преподавали людям историю. – Что занесло вас в наши края? Бернис ничего не ответил, но старые учителя были знатоками человеческих душ, и, переглянувшись, они задумались о любви…
IV
Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но вот самолет теряет высоту, и она одевается. Снова ее покрывают леса, долины; ее холмистая поверхность – словно застывшая морская зыбь; земля дышит. Гора, над которой летит Бернис, – грудь спящего великана, и она вздымается, чуть не задевая самолет. Теперь земля совсем близко и смена ландшафтов ускоряется, как поток, на который смотришь с моста. Связанный воедино мир разваливается. Леса, дома, деревни отрываются от гладкого горизонта и относятся назад. Вот показывается аэродром Аликанте, покачивается, устанавливается; вот колеса касаются земли, она затягивает их, как прокатный стан, заостряет. Бернис с трудом вылезает из кабины – ноги затекли. На мгновение он зажмуривается; в ушах все еще ревет мотор, в глазах мелькают яркие картины земли, тело все еще пронизано вибрациями машины. Потом он входит в контору, медленно садится к столу, отодвигает локтем чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал самолета 612. «Тулуза – Аликанте: продолжительность полета – 5.15». Он останавливается, его одолевают усталость и сон. До него доносится какой-то невнятный шум. Словно где-то судачат кумушки. Входит водитель «Форда», просит извинить, улыбается. Бернис удивленно рассматривает эти стены, эту дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в какой-то спор, которого не понимает, который не то начинается, не то заканчивается. Все это похоже на мираж. Но дерево у входа все-таки насчитывает тридцать лет. Вот уже тридцать лет, как оно свидетельствует о реальности этой картины. «Мотор в порядке». «Самолет кренит вправо». Он кладет перо и думает: «Я хочу только спать». Дремота стягивает ему виски, его одолевает сон. Светлый пейзаж под ярким янтарным солнцем. Аккуратно разделанные поля и луга. Направо – деревенька, налево – крошечное стадо, и надо всем – голубой свод неба. «Дом», – думает Бернис. Он вспоминает, с какой ясностью он внезапно почувствовал: этот пейзаж, это небо, эта земля построена, как дом. Родной, хорошо прибранный дом. Каждая вещь в правильном вертикальном положении. Никакой угрозы, ни единой трещинки в этой цельной картине: словно сам он слит с этим пейзажем. Так старым дамам, сидящим у окна своей гостиной, кажется, что они бессмертны. Свежая зеленая лужайка, садовник неторопливо поливает цветы. Они водят глазами за его спиной, внушающей им такую уверенность. Натертый паркет пахнет воском, и этот запах восхищает их. Как хорошо, когда в доме порядок: прошел день со своими ливнями, ветром и солнцем, и после всего этого разве что осыпалось несколько роз. – Пора. Прощайте. И Бернис вылетает. Бернис входит в бурю. Она бьет по самолету, словно кирка каменотеса: ему не впервой, он пройдет. В голове Берниса только самые элементарные мысли, мысли, управляющие действиями: выйти из кольца гор, куда его засасывает торнадо, где стена налетающего порывами дождя до того непроницаема, что вокруг не видно ни зги. Прорваться через эту завесу, пробиться к морю! Толчок! Авария? Самолет внезапно накренился влево. Бернис удерживает его сперва одной рукой, потом обеими руками, потом всем телом. О, черт! Машина всей тяжестью устремляется к земле. Все пропало! Еще мгновение, и из этого опрокинутого дома, который он едва успел обжить, он будет выброшен навсегда. Равнины, леса, деревни взовьются к нему по спирали. И весь видимый мир растворится в дыму, улетучится вихрями дыма. Дым! Детская игрушка, развеянная по ветру… – Ну и натерпелся же я страху! Бернис ногой ударяет по тросу педали: что? Заклинилось? Отказала? Нет. Все снова в порядке. Движение ноги восстанавливает мировое равновесие. Ну и приключение! Приключение? От этой секунды ничего не осталось, кроме какого-то привкуса во рту, кисловатого привкуса мяса. Но он успел взглянуть в лицо смерти. И все стало обманчивой иллюзией: дороги, каналы, дома – игрушки взрослых людей!..Обошлось. Кончено. Здесь ясное небо. Как и предсказывала метеосводка. «Небо на одну четверть затянуто перистыми облаками». Метеосводка? Изобары? «Облачные системы» профессора Бьеркнеса? Да это же небо народного гулянья: ну конечно. Небо 14 июля. Лучше бы просто сказать: «В Малаге праздник». Каждому жителю отпущено по десять тысяч метров чистого неба над головой. Неба, возносящегося вплоть до перистых облаков. Никогда еще этот аквариум не был таким прозрачным, таким огромным. Как в заливе, в вечер регаты: синее небо, синее море, синие утесы и синие глаза капитана. Лучезарный праздник! Готово. Тридцать тысяч писем спасены. Авиационная компания наставляла: почта – драгоценность, почта – дороже жизни… Еще бы! Ею живы тридцать тысяч любовников… Потерпите, любовники! Письма летят к вам в вечерних огнях. За спиной Берниса плотные облака, сбитые циклоном в густое месиво. А впереди нарядная солнечная земля, яркий ситец полей, ворсистая шерсть лесов, морщинистая парусина моря. Над Гибралтаром будет ночь. И тогда левый разворот в сторону Танжера оторвет Берниса от Европы – огромного ледяного затора, сносимого течением… Еще несколько городов, выросших на бурой земле, и потом Африка. Опять несколько городов из черного теста, и – Сахара. Сегодня Бернис будет присутствовать при вечернем туалете земли. Бернис устал. Два месяца тому назад он летел в Париж на завоевание Женевьевы. Вчера он вернулся на работу, осмыслив свое поражение. Эти равнины, эти города, эти уплывающие вдаль огни ему уже не принадлежат. Он сбрасывает их с себя. Через час покажется свет танжерского маяка: и до самого танжерского маяка Бернис будет вспоминать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Я должен вернуться назад и рассказать о двух прошедших месяцах, иначе что же останется? Когда слабое волнение, поднятое событиями, о которых я поведаю, уляжется; когда расходящиеся, как на озерной глади, круги сомкнутся над героями этих событий, которых они просто вычеркнули; когда притупится сначала острая, потом менее острая и, наконец, слабая боль, – мир снова покажется мне прочным. Может быть, я уже решусь побывать в местах, которые связаны с такими жестокими воспоминаниями о Женевьеве и Бернисе и которые теперь уже не вызовут во мне ничего, кроме легкого сожаления.Два месяца тому назад он летел в Париж, но после такого долгого отсутствия уже не находишь своего места: словно ты загромождаешь собой весь город. Он был теперь всего лишь Жаком Бернисом, одетым в пропахший нафталином пиджак. Его тело казалось ему неуклюжим, неповоротливым, а багаж, аккуратно составленный в уголок, подчеркивал всю ненадежность и недолговечность его пристанища: эта комната еще не была обжита, она не была завоевана белым бельем, книгами. – Алло… Это ты? Он ведет перекличку друзьям. Возгласы, поздравления. – А, выходец с того света! Браво! – Ну что? Когда увидимся? Как нарочно, сегодня друг его занят. Завтра? Завтра гольф. Не хочет ли он присоединиться? Нет! Ну тогда послезавтра. Увидимся за обедом. Ровно в восемь. Тяжелой походкой он входит в дансинг, пробирается среди «жиголо», пальто сковывает его, как скафандр. Они проводят ночь в этих стенах, как пескари в аквариуме, они сочиняют мадригалы, танцуют, то и дело подходят к стойке выпить. В этой зыбкой среде, где он один не потерял рассудка, Бернис чувствует себя крепко стоящим на ногах грузчиком-атлетом. Его мысли не встречают отклика. Он протискивается между столиками к свободному месту. Глаза женщин, на которых задерживается его взгляд, опускаются, словно гаснут. Молодые люди ловко отстраняются, уступая ему дорогу. Так ночью по мере приближения дежурного офицера из рук часовых падают сигареты.
Мы каждый раз снова обретали этот мир, как бретонские моряки обретают свою деревушку с почтовой открытки и свою слишком верную невесту, почти не постаревшую за время их отсутствия. Та же картинка из детской книжки. И когда мы находили все на прежнем месте, в таком слепом повиновении судьбе, нам почему-то становилось страшно. Справившись о друге, Бернис слышал: – Ну что сказать? Он все такой же. Дела его идут помаленьку. Сам понимаешь… Жизнь… Все были в плену у самих себя, послушные им самим неведомой узде; не то что он – беглец, бездомный мальчишка, волшебник. Лица его друзей, пожалуй, чуть-чуть осунулись, чуть-чуть постарели за две зимы, за два лета. Вон женщина в уголке бара: Бернис ее узнает. На лице ее едва заметная усталость от стольких притворных улыбок. И бармен тот же. А Бернису стало бы страшно, если бы кто-нибудь, окликнув его, воскресил в нем того прежнего, уже умершего Берниса, Берниса без крыльев, Берниса до побега. За время отпуска вокруг него мало-помалу строился пейзаж, подобно стенам тюрьмы. Пески Сахары, скалы Испании постепенно отходили, как бутафория, сквозь которую начинал проступать реальный мир. Как только он перелетал границу, Перпиньян расстилал перед ним свою равнину. Равнину, которую еще освещало солнце: оно лежало косыми вытянутыми лучами, с каждой минутой меркнущими, как сквозной парчовый покров, раскинутый то там, то сям по траве, становящийся все более тонким, все более прозрачным, и наконец эти лучи даже не гасли, а улетучивались. И тогда равнину затягивал зеленый ил, темный и мягкий под синим небом. Как спокойное морское дно. И вот, приглушая мотор, Бернис погружался на это морское дно, где все недвижно; где все обретает – реальность и долговечность стены. А потом переезд в автобусе из аэропорта на вокзал. Сидящие против него люди с замкнутыми суровыми лицами. С положенными плашмя на коленях заскорузлыми руками, в которых запечатлелась вся жизнь этих людей. Он сидел рядом с крестьянами, возвращавшимися с поля. А вон девушка в дверях, поджидающая какого-то мужчину: одного из сотни тысяч; она уже похоронила сотни тысяч надежд. А там мать, баюкающая младенца, уже отдавшаяся ему в неволю; у нее отрезаны все пути к бегству. Вернувшись на родину самой потаенной тропой, заложив руки в карманы, без чемоданов, простым пилотом почтовой линии, Бернис сразу же оказывался в самом сердце вещей. В самом незыблемом мире; чтобы перенести здесь какую-нибудь стену или прирезать кусок земли, потребовалось бы двадцать лет судебной волокиты. И это после двухлетнего пребывания в Африке, после всех ландшафтов, вечно меняющихся и подвижных, как морская зыбь; но за ними постепенно проступал тот древний ландшафт, единственный, вечный, тот, из которого он однажды возник и в котором он – скорбный архангел – обретал истинную родину. – А тут все по-старому… Он боялся, что найдет все изменившимся до неузнаваемости, а теперь страдал оттого, что все осталось прежним. Ни от встреч, ни от друзей он уже не ждал ничего, кроме безотчетной скуки. В разлуке воображение разыгрывается. При расставании отрываешься от привязанностей с болью в сердце и вместе с тем с непонятным чувством, будто оставляешь за собой клад, сокровище, припрятанное впрок. Эти расставания изобличали порой такую неутоленную жажду любви! А потом, звездной ночью в Сахаре, как он мечтал об этой далекой ласке, все еще теплящейся под покровом ночи и времени, словно зерно; ему иной раз казалось, что он только чуть отошел в сторонку, чтобы посмотреть на свое спящее сокровище. Опершись на разбитый самолет, перед волнистой грядой дюн, перед этим убегающим горизонтом он стерег свою любовь, как пастух… – И вот что я нахожу!
Однажды Бернис написал мне: «…Не стану рассказывать тебе о моем возвращении: я в своем мире, когда мне откликаются чувством на чувство. Но никто не откликнулся. Я был похож на того паломника, который добрел до стен Иерусалима с опозданием на одну минуту. Его порыв и вера угасли: и он уперся в немую стену. Этот город вокруг как стена. Мне хочется снова уехать. Помнишь наш первый вылет? Мы летели вместе, Мюрси, Гренада выглядели безделушками в витринах, и, так как мы там не останавливались, они безвозвратно уходили в прошлое. Памятники минувших веков. Живым был только несмолкаемый гул мотора, и под этот гул безмолвно, как фильм, развертывался пейзаж. И еще холод – мы летели на большой высоте: города казались скованными льдом. Помнишь? Я сохранил твои записочки, которые ты мне передавал: – «Следи за этим странным дребезжаньем… Если оно усилится, не углубляйся в ущелье». Через два часа, над Гибралтаром: «Доберись до Тарифы: там легче пересекать». В Танжере: «Не планируй слишком полого: аэродром скользкий». Как просто. Но с такими советами завоевываешь мир. Я постигал стратегию, всесильную благодаря этим кратким приказам. Танжер, маленький, ничем не замечательный городишко, был моей первой победой. Ты понимаешь, это был мой первый трофей. Ну да. Я прицеливался к нему, сначала издалека. Потом, по мере снижения, подо мной распускались поля, цветы, дома. Я пробуждал к жизни и откапывал город. И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной пашущий землю араб, которого я постепенно притягивал к себе, из которого делал человека своего масштаба, который и впрямь становился моей военной добычей, моим созданием, моей игрушкой. Я брал в плен заложника, и отныне Африка принадлежала мне. Через две минуты, стоя в траве, я был юным, словно спустился на какую-то звезду, где заново начиналась жизнь. И в этом новом климате, на этой почве, под этим небом я чувствовал себя молодым деревцем. Я потягивался с дороги, одолеваемый чудесным голодом. И шагал широкими пружинящими шагами, чтобы размяться после полета, и радовался, что соединился с собственной тенью: вот что такое приземление. А весна! Помнишь ли ту весну после моросящих дождей в Тулузе? Этот совсем новый воздух, омывающий все вещи. И в каждой женщине своя тайна: свой акцент, свой жест, свое молчание. И каждая манила и влекла. А потом – ты же знаешь меня – я снова был охвачен горячкой отъезда, меня снова тянуло в поиски чего-то, что я предчувствовал, но не понимал, потому что я был тем искателем подземного родника, который, бредя с подрагивающей тростинкой в руке, разыскивает по свету свое сокровище. Так скажи мне, чего я ищу, почему, сидя у окна и глядя на город моих друзей, моих стремлений, моих воспоминаний, я тоскую? Почему впервые в жизни я не нахожу родника и мое сокровище кажется мне таким недостижимым? Что это за непонятное обетование, которое мне было дано и которое не исполняет неведомый бог?
«Я снова обрел родник. Помнишь? Это Женевьева…» Женевьева, читая эти слова Берниса, я закрыл глаза и увидел вас девчонкой. Вам было пятнадцать лет, а нам – по тринадцати. Разве вы могли состариться в наших воспоминаниях? Вы так и остались для нас хрупким ребенком, и именно такой вы нам представлялись, когда нам рассказывали о вас, когда мы, пораженные, сталкивались с вами в жизни. В то время как другие подводили к алтарю уже взрослую женщину, мы – Бернис и я – из глубин Африки обручались с маленькой девочкой. Пятнадцатилетней девчонкой, вы были самой молодой из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевской игрушки – настоящей колыбели. В то время как в кругу близких, не догадывавшихся о чуде, вы были простой женщиной, для нас вы воскрешали волшебную сказку и проникали в мир через заколдованную дверцу – как на маскарад, как на детский бал – переодетая женой, матерью, феей… Потому что вы были феей. Я вспоминаю. Вы жили за толстыми стенами старого дома. Вы сидели, облокотившись, у окна, пробитого, как бойница, в стене: вы подкарауливали луну. И луна вставала. Равнина начинала звучать, гремя, как трещотками, крыльями цикад и бубенчиками – в зобу лягушек, и колокольчиками – на шее возвращавшихся в стойла волов. Луна вставала. Иногда из деревни доносился погребальный звон, извещавший сверчков, поля и цикад о чьей-то непостижимой смерти. И вы высовывались из окна, беспокоясь только за обрученных, потому что на свете нет ничего более хрупкого, чем надежда. А луна поднималась. И тогда, заглушая погребальный звон, кричали совы, призывая друг друга к любви. Бездомные собаки, усевшись в круг, выли на луну. И каждое дерево, каждая былинка, каждый розовый куст были живыми. И луна поднималась. Тогда вы брали нас за руки и заставляли слушать голоса земли; они успокаивались, и это было хорошо. Этот дом, весь этот живой покров земли вокруг него служили вам такой надежной защитой. У вас было заключено столько пактов с липами, дубами, с животными, что мы звали вас их принцессой. К вечеру, когда мир отходил ко сну, ваше лицо постепенно успокаивалось. «Фермер загнал свое стадо». Вы догадывались об этом по дальним огонькам в стойлах. Слышался глухой шум: «Запирают шлюзы». Все было в порядке. Наконец семичасовой скорый проносился грозой, огибая местность, и исчезал, окончательно очищая ваш мир от всего беспокойного, неверного и неустойчивого, – как чужое лицо в окне спального вагона. Потом былужин в просторной и слабо освещенной столовой, где ты становилась королевой ночи: мы следили за тобой без устали, как шпионы. Ты молча усаживалась между стариками, на фоне деревянных панелей, чуть наклонившись вперед, подставляя под золотой сноп абажура только волосы, и в короне из света ты царила. Ты нам казалась бессмертной, так прочно ты была слита с вещами, так уверена в них, в своих думах, в своем будущем. Ты царила… Но нам хотелось знать, можно ли причинить тебе страдание, нам хотелось стиснуть тебя в объятиях так крепко, чтобы ты задохнулась, потому что мы чувствовали в тебе душу, которую мы старались выманить наружу; чтобы твои глаза наполнились лаской или печалью. И Бернис обнимал тебя, и ты краснела. Бернис сжимал тебя крепче, и глаза твои становились блестящими от слез, но губы не искажала уродливая гримаса, как у плачущих старух. Бернис говорил, что эти слезы – от внезапно переполнившегося сердца, что они драгоценнее алмазов и что тот, кто выпьет их, станет бессмертным. Он говорил мне еще, что ты живешь в своем теле, как фея под водой, и что ему известны тысячи колдовских способов, которыми он может выманить тебя на поверхность, и самый верный из них – заставить тебя плакать. Так мы крали у тебя любовь. Но когда мы тебя отпускали, ты смеялась, и этот смех приводил нас в смущение. Так выпархивает пойманная птица, стоит только чуть приоткрыть руки. – Женевьева, почитай нам стихи. Ты читала совсем немного, а нам казалось, что ты знаешь все. Мы никогда не видели тебя удивленной. – Почитай нам еще… Ты читала еще, и эти стихи были для нас откровением о мире, о жизни, но мы слушали не поэта, а твою мудрость. И отчаяние любовников, и печали королев становились такими глубокими и важными вещами. А смерть от любви приобретала такой покой в твоем голосе… – Женевьева, правда ли, что от любви умирают? Ты прерывала чтение, ты важно раздумывала. Ты, конечно, искала ответа у папоротников, у цикад, у пчел, и ты отвечала «да», потому что пчелы умирают от любви. Это было необходимо и естественно. – Женевьева, что такое любовник? Мы хотели, чтобы ты покраснела. Но ты не краснела. Разве что лицо твое становилось строже; ты смотрела на дрожащую под луной поверхность пруда. И нам казалось, что твой любовник – лунный свет. – Женевьева, у тебя есть любовник? Уж теперь-то ты покраснеешь! Нет. Ты улыбалась без малейшего смущения. Ты качала головой. В твоем королевстве одно время года приносило цветы, осень приносила плоды; и было время года для любви: жизнь проста. – Женевьева, знаешь ли ты, кем мы станем, когда вырастем? Нам хотелось тебя ошеломить, и мы называли тебя «слабой женщиной». – Мы будем завоевателями, слабая женщина. Мы по-своему объясняли тебе жизнь. Мы будем завоевателями, возвращающимися со славой и берущими в наложницы своих подруг. – И тогда мы будем твоими любовниками. Читай нам стихи, рабыня!.. Но ты больше не читала стихов. Ты отодвигала книгу. Ты внезапно ощущала свою жизнь такой прочной, как молодое деревце, которое уверенно растет и наливается соками. В жизни не было ничего лишнего. Мы были завоевателями выдуманными, а тебе служили опорой твои папоротники, твои пчелы, твои цикады, твои звезды, ты прислушивалась к кваканью лягушек, ты черпала уверенность во всем, что жило вокруг тебя в ночной тиши, что росло и тянулось в тебе самой навстречу такой непостижимой и неизбежной судьбе. И так как луна стояла уже высоко и приходило время сну, ты затворяла окно, и луна отражалась в стекле. И мы говорили, что ты захлопнула небо, как окно, и заперла в нем луну и горсточку звезд, потому что с помощью всех символов, всех ловушек мы старались завлечь тебя в мир, скрывающийся под видимостью вещей, на дно океанов, куда нас влекло наше беспокойство. «…Я снова обрел родник. Чтобы отдохнуть с дороги, мне необходима была она. Она есть. Другие… Есть женщины, которых после любовных ласк мы отбрасываем далеко к звездам, о которых говорим, что они всего лишь создания нашего сердца. А Женевьева… ты помнишь, мы называли ее обитаемой. Я обрел ее, как обретают смысл вещей, и я иду рядом с ней в мире, открывающемся мне в своей внутренней сути…»
Она приходила к нему из вещей. После тысячи разводов она служила ему посредницей в тысяче браков. Она возвращала ему эти каштаны, этот бульвар, этот фонтан. В каждой вещи опять была заключена тайна, которая была ее душой. Этот парк не был больше причесан, подстрижен и подметен, как для американского туриста: в его аллеях царил беспорядок – сухие листья, потерянный носовой платок, который оставляют после себя любовники. И этот парк становился западней.
II
Она никогда не говорила Бернису о своем муже Эрлене, но в тот вечер: – Жак, у нас сегодня скучный обед, много людей: приходите, мне будет не так одиноко. Эрлен любит жесты. Слишком. К чему эта маска самоуверенности, которую он сбрасывает с близкими? Она с раздражением наблюдает за ним. Этот человек играет роль, которую сам сочинил. И не из тщеславия, а чтобы уверовать в себя. – Ваше замечание, мой друг, весьма справедливо. Женевьева отворачивается: ей противны этот закругленный жест, этот тон, этот напускной апломб! – Гарсон! Сигар! Она никогда не видела его таким деятельным, словно опьяненным собственной властью. Можно подумать, что с ресторанных подмостков он правит вселенной. Одно его слово родит истину и опровергает ее. Одно его слово, доходя до гарсона, до метрдотеля, приводит их в действие. Женевьева чуть морщит в полуулыбке губы. К чему этот званый обед? К чему вот уже полгода это увлечение политикой? Эрлену кажется, что достаточно зарядиться какими-то сильными идеями, усвоить какие-то сильные принципы, и он уверует в свои силы. И тогда, в восхищении, он чуть отходит от собственной статуи и любуется собой. Она не принимает участия в этой игре, она обращается к Бернису: – Ну, блудный сын, расскажите мне о пустыне… Когда же вы наконец вернетесь к нам навсегда? Бернис смотрит на нее. Бернис угадывает в ней ту пятнадцатилетнюю девчонку, которая, как в волшебных сказках, улыбается ему сквозь черты этой незнакомой женщины. Того ребенка, который хочет притаиться, но каждым движением выдает себя: Женевьева, я не забыл своего колдовства. Вас надо обнять, стиснуть так, чтобы вам стало больно, и тогда та девочка всплывет на поверхность и будет плакать… Теперь мужчины склоняют к Женевьеве свои белые манишки, они играют в обольстителей, словно женщину можно завоевать идеями, принципами, словно она может быть наградой в таком соревновании. Ее муж тоже пускается в любезности, и ночью он опять воспылает к ней страстью. Он снова влюблен в нее, когда она вызывает желание в других. Когда, благодаря вечернему платью, оживлению, желанию нравиться, в женщине чуть проступает куртизанка. И Женевьева думает: его привлекает все посредственное. Почему не любят ее всю, как она есть? Любят какие-то ее внешние черты, а ее внутренняя жизнь остается в тени. Ее любят, как любят музыку, роскошь. Она остроумна или нежна, и она возбуждает желание. А во что она верит, что она чувствует, что она несет в себе… до этого никому никакого дела нет. Ее привязанность к ребенку, ее самые естественные заботы, вся эта незримая часть ее существа: ею пренебрегают. Каждый мужчина, очутившись рядом с ней, перестает быть самим собой. Он готов в угоду ей делить с ней ее печали и радости, он словно говорит: «Я буду таким, каким вы пожелаете». И это правда. Собственное лицо не имеет для него значения. Значение имеет лишь обладание ею. А для нее жизнь не исчерпывается любовью: у нее много других забот. Она вспоминает о первых днях после помолвки. Она усмехается: иногда Эрлен вдруг спохватывался и вспоминал, что он влюблен (он, конечно, забывал об этом!). Он хочет с ней поболтать, приручить ее, покорить: «Ах, мне некогда…» И она шла впереди него по дорожке и нервным движением, в такт песенке, сбивала палочкой молодые ветки. Пахло влажной землей. И ветки, как дождь, хлестали ее по щекам. А она повторяла про себя: «Мне некогда… некогда!» Нужно было сначала заглянуть в теплицу и проведать цветы. – Женевьева, вы жестокий ребенок! – Да, да! Конечно! Взгляните на мои розы, какие они тяжелые. Как прекрасен цветок, который клонится под собственной тяжестью! – Женевьева, позвольте вас поцеловать… – Ну что ж, пожалуйста. Вам нравятся мои розы? Мужчины всегда восторгаются ее розами. «Да нет же, нет, мой милый Жак, я не печальна». И она чуть склоняется к Бернису: «Я помню… я была смешная девчонка. Я сотворила себе бога по собственному вкусу. И когда у меня случалось детское горе, я целый день плакала над непоправимым. А ночью, как только гасили лампу, я призывала своего утешителя. Я молилась ему и говорила: вот какая у меня беда, и я бессильна исправить мою загубленную жизнь. Я отдаюсь в ваши руки: вы сильнее меня. Выпутывайтесь как знаете. И я засыпала». И потом среди всех малонадежных вещей было столько вещей, ей покорных. Она царила среди книг, среди цветов, среди друзей. Она заключала с ними пакты. Ей были ведомы слова, которые заставляли улыбаться, которые примиряли с жизнью, – самые простые слова: «Ах, это вы, мой старый астролог…» Или вернувшемуся Бернису: «Ну, присядьте же, блудный сын…» И каждый был связан с ней какой-то тайной, каждый был счастлив, что он узнан и разоблачен. И самая чистая дружба становилась содержательной и богатой, как заговор. – Женевьева, – говорил Бернис, – вы по-прежнему царите среди вещей. Стоило ей переставить мебель в гостиной, чуть передвинуть кресло, и друг с удивлением обретал свое истинное место в мире после прожитого дня, после нестройного гула да вороха смятых цветов – после всего, что дружба губит на земле. А Женевьева без слов водворяла мир в своем королевстве. И Бернис чувствовал в ней ту далекую, глубоко запрятанную, заколдованную девочку, которая когда-то его любила… Но однажды вещи взбунтовались.III
– Не мешай мне спать… – Нет, это просто непостижимо! Встань же. Ребенок задыхается. Проснувшись, она бросилась к кроватке. Ребенок спал. Разметавшись в жару, он дышал часто, но ровно. Спросонья Женевьеве показалось, что, захлебываясь, пыхтит грузовик. Она думала: «Какой тяжкий труд!» И это продолжалось уже три дня! Она стоит, склонившись над больным, не в силах ни о чем думать. – Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня напугал?.. Сердце ее все еще колотилось от испуга. – Мне показалось. Она знала, что он лгал. Он сам был напуган, но страдать в одиночку он не мог и хотел, чтобы она тоже испытала страх. Когда он страдал, весь мир должен был страдать вместе с ним. А Женевьева после трех бессонных ночей так нуждалась в покое. Она уже почти не сознавала, где она. Она прощала ему этот шантаж, потому что слова… какое они имеют значение? И потом, смешно же дорожить собственным сном! – Будь благоразумнее, – успокаивала она его и потом еще мягче: – Ты как малое дитя… И тут же спросила у сиделки, который час. – Двадцать минут третьего. – Не может быть! Женевьева повторила: «Двадцать минут третьего…» Словно у нее было какое-то неотложное дело. Да нет, в том-то и мука, что она обречена на бездействие, как в поезде. Она оправила кроватку, расставила пузырьки, притронулась к окну. Она наводила незримый и таинственный порядок. – Вам надо немного поспать, – сказала сиделка. И опять тишина. И снова гнетущее чувство, как в поезде, когда за окном вагона проносится невидимый ландшафт. – Малыш, которому мы так радовались, которого так баловали… – декламировал Эрлен. Он добивался сострадания Женевьевы. В этой роли безутешного отца… – Найди себе дело, дорогой, займись чем-нибудь, – ласково советовала Женевьева. – У тебя, кажется, деловое свидание, почему бы тебе не пойти? И она подталкивала его в спину, но он растравлял свое горе: – Что ты говоришь! В такую минуту… «В такую минуту», – мысленно повторяла Женевьева. Но… но больше, чем когда-нибудь, она испытывала странную потребность в порядке. Передвинутая ваза, брошенное на кресло пальто Эрлена, пыль на тумбочке – все это… все это позиции, шаг за шагом завоеванные врагом. Признаки какой-то непонятной беды. И она боролась с этой надвигающейся бедой. Позолота безделушек, расставленная в порядке мебель – светлая, осязаемая реальность. Женевьеве казалось, что все здоровое, блестящее и ясное защищало от непонятной смерти. Врач говорил: «Все еще может обойтись: ребенок крепкий». Ну конечно же. Когда он спал, он хватался за жизнь всей силой своих сжатых кулачков. И это было так хорошо. Это вселяло надежду. – Вы бы немного прошлись, – уговаривала сиделка. – Потом пройдусь и я. А то мы не выдержим. Странно было видеть, как этот малыш высасывает силы двух женщин. С закрытыми глазами, прерывисто дыша, он доводил их до изнеможения. И Женевьева выходила, чтобы только избавиться от Эрлена. Он читал ей проповеди: «Мой естественнейший долг… Твое достоинство…» Она ничего не понимала в этих фразах: ей просто хотелось спать, но иные слова доходили до ее сознания и поражали: «Достоинство». Почему достоинство? При чем тут достоинство? Врач не мог надивиться на молодую женщину, которая не плакала, не произносила ни одного лишнего слова и помогала ему, как самая исполнительная сиделка. Он любовался этой маленькой служанкой жизни. А для Женевьевы его посещения были лучшими минутами дня. Не потому что он ее утешал: он ничего не говорил. Но потому что в его присутствии это детское тельце обретало какое-то определенное место в жизни. Потому что все страшное, непонятное, больное было названо. Какая подмога в этой борьбе с мраком! Даже позавчерашняя операция… Эрлен стонал в гостиной. Она осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате, словно спокойное могущество дня. Хирург и ассистент бросились в стремительную атаку. Она слышала короткие слова военной команды: «Хлороформ!», «Стяните! Йод!». Слова, произносимые шепотом и лишенные каких бы то ни было эмоций. И вдруг, как Бернису в его самолете, ей открылась сила этой стратегии: ребенка спасут. – Как ты можешь смотреть на это? – говорил Эрлен. – Ты бессердечная мать. Однажды утром в присутствии врача она потеряла сознание и соскользнула с кресла. Когда она пришла в себя, он не стал говорить ей ни о мужестве, ни о надежде, он не выразил никакого сочувствия. Он строго посмотрел на нее и сказал: – Вы переутомляетесь. Это легкомысленно. Я вам приказываю сегодня вечером погулять. В театр не ходите, люди слишком ограниченны, они вас осудят, но постарайтесь все-таки отвлечься! И подумал: «Вот самое правдивое горе, какое я когда-то видел в жизни».На бульваре ее охватила свежесть. Она шла, и ее переполнял огромный покой от нахлынувших воспоминаний детства. Деревья, лужайки, такие простые вещи. Потом, когда она стала взрослой, у нее родился ребенок, и его появление было чем-то непостижимым и вместе с тем еще более простым. Еще более явной очевидностью, чем все остальное. И она служила этому ребенку в мире таких же простых и очевидных вещей, не углубляясь в их суть. И не было слов, чтобы выразить то, что она тогда почувствовала. Она почувствовала… ну да, именно так: она почувствовала себя умной. И уверенной в себе, и связанной со всем, частью какого-то огромного целого. После родов она попросила поднести ее вечером к окну. Деревья жили, поднимались к небу, тянули из земли весну: она была их ровней. Ее ребенок рядом с ней слабо дышал, он был движущей силой мира, и его слабое дыхание наполняло жизнью вселенную. Но вот уже три дня, как все смешалось. Малейшее движение – растворить ли окно, закрыть ли его – вело к каким-то непоправимым последствиям. Не смеешь шевельнуться. Она прикасалась к пузырькам, к простыне, к малышу и не в состоянии была постичь значение ни одного поступка в этом темном, непонятном мире.
Женевьева проходила мимо антикварного магазина. Ей казалось, что безделушки в гостиной ловят солнечный свет. Ей нравилось все, что притягивает солнце, все, что всплывает, ярко освещенное, на поверхность. Она остановилась, чтобы порадоваться молчаливой улыбке солнца в кристалле: такой же улыбкой светится старое доброе вино. В ее усталом сознании смешивались свет, здоровье, уверенность в жизни, и ей так захотелось украсить комнату уходящего из жизни ребенка этим немеркнущим, прочно вбитым, как золотой гвоздь, отсветом солнца.
IV
Эрлен снова набросился на нее: – У тебя нет сердца! Как ты можешь гулять и шататься по антикварам? Никогда тебе этого не прощу! Это… – он подыскивал слова, – это чудовищно, это непостижимо, это недостойно матери! Машинально взяв сигарету, он размахивал красным портсигаром. Женевьева слышала: «Чувство собственного достоинства!» – и думала: «Закурит он или нет?» – Да, да… – медленно ронял Эрлен, приберегая к концу последнее откровение: – Да… пока мать развлекается, ребенок харкает кровью! Женевьева побледнела. Она бросилась вон из комнаты, но он преградил ей дорогу: – Останься! Он дышал тяжело, как зверь. Она заплатит ему за весь тот ужас, который он перенес в одиночестве! – Ты сделаешь мне больно, а потом сам же пожалеешь об этом, – просто сказала Женевьева. Но разве перед ней был человек? Перед ней было надутое ничтожество, бессильное перед лицом реальности, и ее слова оказались лишь последним ударом хлыста, подстегнувшим его пафос. Он пустился в декламацию. Да, ей всегда были безразличны его интересы, она кокетка, пустельга. Она долго его дурачила, его, Эрлена, отдававшего ей всего себя. Но это было не так уж важно, пока от этого страдал он один, человек всегда одинок в жизни… Женевьева в изнеможении потянулась к двери, но Эрлен повернул ее к себе и выпалил: – Дурную жену ждет возмездие… И так как она опять пыталась вырваться, он решил доконать ее, бросив ей страшное обвинение: – Ребенок умирает: это божий перст. Его гнев мгновенно стихает, как после совершенного убийства. Эрлен ошеломлен собственными словами. Женевьева без кровинки в лице идет к двери. Он понимает, как он уронил себя в ее глазах, а он-то хотел выставить себя в самой благородной роли. И вот он пытается стереть невыгодное впечатление, исправить его, силой уверить ее в своей доброте. – Прости… вернись… я сошел с ума! – говорит он упавшим голосом. Ее рука на дверной ручке; она стоит вполоборота к Эрлену, и он понимает, что она готова, как дикий зверек, убежать при малейшем его движении. Но он недвижим. – Подойди… мне нужно с тобой поговорить… это так тягостно… Она стоит как вкопанная: чего она боится? Его бесит этот беспричинный страх. Он хочет объяснить ей, что был безумен, жесток, несправедлив, что она права, но нужно же, чтобы сначала она подошла к нему, проявила доверие, сдалась. Тогда он унизится перед нею. И она поймет… Но она уже у двери. Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него с уничтожающим презрением. Он упорствует: именно теперь-то и нельзя выпускать ее из-под своей власти, нужно проявлять силу, нужно сказать: «Смотри: я не держу!»И он слабо, потом сильнее сдавил эту хрупкую руку. Она размахнулась, чтобы дать ему пощечину, но он завладел и другой рукой. Теперь он уже причинял ей боль. Он чувствует, что причиняет ей боль. Он понял, что похож на ребенка, старающегося силой приручить кошку, которая рвется из рук и бежит от его насильственных ласк. А ребенку так хочется быть ласковым. Эрлен тяжело дышал: «Я сделал ей больно, все пропало». И на несколько секунд его охватило безумное желание вместе с Женевьевой задушить свой собственный образ, запечатлевшийся в его сознании и приводивший в ужас его самого. С необъяснимым ощущением бессилия и пустоты он наконец разжал пальцы. Она неторопливо отстранилась, словно и впрямь ей уже нечего было его бояться, словно она вдруг стала недосягаемой. Его не существовало. Она помедлила, не спеша поправила волосы и, не обернувшись, вышла из комнаты. Вечером, когда Бернис пришел ее навестить, она ему ни о чем не рассказала. В таких вещах не признаются. Но она перебирала с ним общие воспоминания детства и расспрашивала о его жизни там, в далеких краях. Потому что она доверяла ему маленькую девочку, которая нуждалась в утешении, и потому что девочек утешают сказками. Она уткнулась головой в его плечо, и Бернису казалось, что Женевьева, вся целиком, умещалась в этом прибежище. И ей, конечно, казалось то же самое. Им было неведомо, как мало в ласке человек отдает самого себя.
V
– Вы у меня, в этот час… Как вы бледны, Женевьева!.. Женевьева молчит. Невыносимо громко тикают часы. Свет лампы уже мешается с предутренней белизной, и этот двойной свет словно лихорадящее горькое питье. Ее мутит. Она делает над собой усилие. – Я увидела свет в вашем окне и пришла… Больше она не находит слов. – Да, да, Женевьева, а я вот роюсь в старых книгах… Обложки книг лежат желтыми, белыми, красными бликами. «Как лепестки цветов», – думает Женевьева. Бернис ждет. Женевьева не двигается. – Я мечтал в этом кресле, Женевьева, я листал то одну, то другую книгу, и мне показалось, будто я их все прочитал. – Чтобы скрыть волнение, он говорит нарочито невозмутимым, чуть стариковским тоном. – Вы хотите что-то сказать? «Ее приход – чудо любви», – думает он. Женевьеву гнетет только одна мысль: он не знает… Она растерянно смотрит на него и произносит: – Я пришла, чтобы… Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, и комната похожа на залитый голубоватым светом аквариум. «Лампа вянет», – думает Женевьева. И потом вдруг с отчаянием: – Жак, Жак, увезите меня! Бернис бледен. Он берет ее на руки, баюкает ее. Женевьева закрывает глаза: – Вы увезете меня… И время для нее, прижавшейся к его плечу, летит, не причиняя боли. Ей почти радостно отрешиться от всего: словно отдаешься течению, и оно несет тебя, и кажется, что собственная жизнь уходит… уходит… – Не причиняя боли… – бредит она вслух. Бернис гладит ее лицо. Она вспоминает о чем-то. «Пять лет, пять лет… да нет, это невозможно! Я столько отдала ему…» – продолжает она про себя. – Жак… Жак… Мой сынишка умер.– Знаете, я ушла из дому. Мне так хочется покоя. Я еще не осознала, я еще не страдаю. Может быть, я и вправду бессердечная женщина? Друзья плачут и стараются меня утешить. Их умиляет собственная доброта. Но пойми… у меня нет еще воспоминаний. Тебе я могу рассказать все. Смерть приходит среди полного разгрома: уколы, перевязки, телеграммы. После нескольких бессонных ночей кажется, что все это сон. На консилиумах стоишь, прислонившись головой к стене, и голова пустая… А столкновение с мужем, какой ужас! Сегодня утром, перед самым концом… он схватил меня, и мне показалось, что он сломает мне руку. И все из-за укола. Я же прекрасно знала… что не время. Потом он вымаливал прощение, а это было так неважно! Я сказала ему: «Полно… полно… Пусти меня к сыну!» Он загородил дверь: «Прости… мне нужно, чтобы ты простила!» Чистая блажь. «Послушай, пусти меня. Я прощаю». А он: «Да, на словах, но не от души». И так без конца, я чуть с ума не сошла. Ну а потом, что ж, когда все кончено, никакого отчаяния не испытываешь. Даже удивляешься тишине, молчанию. Я думала… думала: малыш спит. Вот и все. И мне тоже представилось, что я причалила на рассвете к какой-то далекой неведомой гавани, и я не знала, что делать. Я думала: «Вот мы и приехали». Я смотрела на шприцы, на микстуры и говорила себе: «Все это уже не нужно… мы приехали». И я потеряла сознание. – Она спохватывается: – Как я могла прийти, это безумие… Она вдруг представляет себе, как там над огромной катастрофой встает солнце. Холодные скомканные простынки. Разбросанные по стульям и креслам полотенца, опрокинутый стул. Ей надо скорее помешать этому развалу вещей. Надо скорее поставить на место кресло, вазу, положить книгу на полку. Ей надо изо всех сил постараться восстановить положение вещей, обрамляющих жизнь.
VI
К Женевьеве приходили, чтобы выразить соболезнование. С ней обращались как-то особенно осторожно. В ее присутствии люди боялись заговорить, чтобы не вызвать горестных воспоминаний, которые они же сами пробуждали, но их молчание было еще более бестактным… Она словно окаменела. Она без запинки произносит слово, которого все стараются избегать, слово «смерть». Она не хочет, чтобы в ней подслушали отзвук, вызываемый их фразами. Она глядит людям прямо в лицо, чтобы они не смели за ней подсматривать, но как только она опускает глаза… А иные… До самого вестибюля они идут совершенно спокойно, но в дверях гостиной вдруг делают несколько стремительных шагов и, пошатнувшись, падают в ее объятия. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они хотят задушить ее горе. Но они прижимают к груди скорчившегося ребенка.А ее муж разглагольствует с ними о продаже дома. «Воспоминания так мучительны!» Он лжет: страдание – это почти друг. А он суетится, он любит красивые жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Она поедет вслед за ним. «Вы представить себе не можете, какой разгром в доме…»
Ее прошлое рухнуло. Эта гостиная, создававшаяся с таким терпением. Вся эта мебель, расставленная здесь не человеком, не продавцом, а самим временем. Этой мебелью была обставлена не гостиная, а ее жизнь. Стоит чуть отодвинуть от камина кресло, от окна – столик, и вот все впервые предстает в обнаженном виде, в разрыве с прошлым. – И вы тоже уезжаете? Ее руки бессильно падают. Тысяча пактов порваны. Стало быть, нити всего мира сходились в руках этого малыша, он был центром, вокруг которого строилась вселенная? Его смерть для Женевьевы – такое крушение. И она дает волю своему горю: – Как мне тяжело… Бернис ласково утешает ее: – Я возьму вас с собой. Я увезу вас. Помните, я же всегда говорил вам, что обязательно вернусь. Я вам говорил… Бернис сжимает ее в объятиях, а Женевьева чуть запрокидывает голову, глаза ее блестят от слез, и вот уже Бернис держит в плену своих рук всего лишь маленькую заплаканную девочку.
«Кап-Джуби… Бернис, старина, сегодня почтовый день. Самолет вылетел из Сиснероса. Скоро он приземлится у нас и захватит для тебя несколько моих горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Бродя вчера по берегу, такому голому и пустынному, вечно омываемому морем, я подумал, что мы похожи на этот берег. Я даже не совсем уверен в реальности собственного бытия. В иные вечера, когда закаты солнца бывали такими трагическими, ты видел, что весь испанский форт словно погружался в море, отражаясь в блестящем, как зеркало, пляже. Но это таинственное голубоватое отражение совсем не той природы, что самый форт. Это отражение и есть твое царство. Не очень реальное, не очень прочное… А Женевьева… предоставь ей жить своей жизнью. О, я знаю, сегодня она в смятении. Но трагедии в жизни редки. В жизни так мало настоящей дружбы, привязанностей, любви, потеря которых оставляла бы неизгладимые следы. Несмотря на все, что ты рассказываешь об Эрлене, человек не так уж много значит. Мне кажется… жизнь строится на чем-то другом. Привычки, условности, традиции – все, в чем ты не нуждаешься, все, от чего ты бежал… Вот что образует ее рамки. Чтобы жить, надо опираться на долговечные реальности. Пусть они нелепы или ложны, – это слова какого-то языка… Вырванная из этих рамок, Женевьева уже не будет сама собой. И потом, понимает ли она, что ей нужно? Взять хотя бы ее привычку к богатству, которой она не сознает. Деньги окружают человека роскошью и дают чисто внешний размах жизни, а она живет жизнью внутренней; но вместе с тем именно богатство сообщает долговечность вещам. Это невидимые, грунтовые воды, которые веками питают стены дома, воспоминания – душу. Ты же опустошишь ее жизнь, как опустошают дом, когда из него вывозят тысячу предметов, которых не замечали, но которые были его душой. Я понимаю, что для тебя любить – значит заново родиться. И тебе кажется, что ты увезешь с собой возродившуюся Женевьеву. Любовь для тебя – это сияние ее глаз, которое ты подмечал и которое легко поддерживать, как свет лампы. Ну конечно же, в иные минуты самые простые слова кажутся наделенными этой силой и могут зажечь любовь. Но жить, это совсем другое дело».
VII
Женевьева не решается потрогать занавеску, кресло, хоть украдкой прикоснуться к ним, боясь внезапно обнаружить, что она в клетке. До сих пор все ее легкие прикосновения к этим вещам были лишь игрой. До сих пор вся эта декорация могла появиться по ее желанию и в любую минуту исчезнуть, как в театре. Она, обладавшая таким безупречным вкусом, никогда не задавалась вопросом, чего стоит этот персидский ковер, эта набойка из Жуи. До сих пор они были всего лишь образом дома, столь милым для нее, теперь же они будут сопутствовать ее собственной жизни.«Ничего, – думала Женевьева, – я еще чужая в этой жизни, она еще не стала моей». И она усаживалась поглубже в кресло и закрывала глаза. Как в купе экспресса. Каждая прожитая минута отбрасывает назад дома, леса, деревни. А когда, лежа на полке, открываешь глаза, видишь все то же неизменное медное кольцо. А ты, сам того не ведая, подвергся какому-то превращению. «Через неделю я раскрою глаза и буду уже другой: он увезет меня». – Как вам нравится наш дом? Зачем будить ее так рано? Она осматривается. Ей трудно выразить свои чувства: эта декорация слишком эфемерна. Ее остов не прочен… – Жак, подойди ко мне, ты-то ведь настоящий… В комнате полумрак, вдоль стен низкие тахты, обстановка холостяцкой квартиры. На стенах марокканские ткани. Все это развешивается за пять минут и так же быстро может быть убрано. – Жак, почему вы прячете стены, почему вы не даете их погладить?.. Она любит ласкать рукой камень, гладить в доме самые прочные и долговечные вещи. Те, что могут вас долго куда-то везти, как корабль… Он показывает ей свои сокровища: «сувениры»… Она понимает. Она была знакома с офицерами из колониальных войск, которые, приезжая в Париж, вели призрачную жизнь пришельцев из иного мира. Встречаясь на бульварах, они сами едва верили тому, что они живые. Их квартиры были более или менее точной копией их домов в Сайгоне или в Марракеше. Здесь велись разговоры о женщинах, о товарищах, о карьере; но все эти драпировки, которые там, может быть, составляли самую плоть стен, тут были мертвы. Она перебирала в руках медные филигранные вещицы. – Вам не нравятся мои безделушки? – Простите меня, Жак… Они немного… Она не решалась сказать «вульгарны». Уверенность в непогрешимости собственного вкуса, приобретенная благодаря тому, что она знала и ценила только подлинного Сезанна, а не копии, только настоящую стильную мебель, а не имитацию, рождала в ней невольное пренебрежение ко всему поддельному. Она со всем великодушием готова была пойти на любые лишения; ей казалось, что она согласилась бы жить в беленной известью каморке, но здесь что-то оскорбляло собственное ее достоинство. Здесь в ней страдал не избалованный роскошью ребенок, но, как это ни странно, страдала ее правдивость. Он угадал, что ей не по себе, не понимая причины ее состояния. – Женевьева, я не могу окружить вас прежним комфортом, я не… – Жак! Вы с ума сошли! Что вам пришло в голову! Мне это так безразлично. – И она прижималась к нему. – Просто всем вашим коврам я предпочитаю простой, хорошо натертый паркет… Я займусь этим… И она замолкла, вдруг сообразив, что простота, к которой она стремилась, была куда большей роскошью и стоила много дороже, чем вся эта мишура. Вестибюль, где она играла в детстве, блестящие ореховые паркеты, массивные столы, служившие века, не выходя из моды и не изнашиваясь… Ее охватила странная печаль: нет, не сожаление об утраченном богатстве, о всех тех вещах, которыми богатство окружает человека, – ей, конечно, еще в меньшей степени, чем Жаку, были ведомы излишества, но теперь она ясно поняла, что именно излишества составят ее богатство в новой жизни. А она в них не нуждалась. Но зато веры в долговечность – вот чего в ее жизни больше не будет. Она подумала: «До сих пор вещи оказывались долговечнее меня. Они встретили мое появление на свет, они сопутствовали мне в жизни, и я могла быть уверена, что они окружат меня заботой под старость; а теперь мне придется пережить вещи».
Она продолжает вспоминать: «Когда я уезжала в деревню…» И сквозь густую листву лип она снова видит тот дом. Из всего видимого в мире он был вещью самой прочной: его подъезд из каменных плит, словно выраставший из земли. О, там… И она вспоминает зиму. Зима убирает в лесу каждую сухую ветку и обнажает каждую линию дома. И перед тобой самый костяк вселенной. Женевьева выбегает и свистит собак. Под ее ногами хрустят листья, но она знает, что после всей уборки, которую проделала зима, после всей этой капитальной чистки, весна снова затянет нитями пустой уток, поднимется по ветвям и распустится в почках, заново возведет зеленые своды, таинственные и непрестанно колышущиеся, как морские глубины. Там ее сынишка не исчез бесследно. Она спустилась в кладовую, чтобы перевернуть дозревающие фиги, а он только что ускользнул отсюда; нарезвившись и наигравшись, малыш послушно отправился спать. Там ей ведом символ смерти, и она не страшится его. Просто каждый соединяется в своем молчании с молчанием дома. Ты поднимаешь глаза от книги, удерживаешь вздох, и ты слышишь зов, который только что отзвучал. Они исчезли? Ведь среди всего, подверженного превращениям, только они одни и остаются неизменны, ведь их лицо, которое видел в последний раз, было таким подлинным, что в нем ничто и никогда не обманет! «А теперь я пойду за этим человеком, и я буду страдать и сомневаться в нем!» Потому что весь клубок человеческой нежности и обид она сумела распутать только в них, в мертвых, которых уже не раздирают противоречия. Она открывает глаза: Бернис задумался. – Жак, будь мне защитой, я ухожу нищей, такой нищей! Она готова примириться и с домом в Дакаре, и с толпой в Буэнос-Айресе – со всем тем миром, где все будет спектаклем, ненужным и призрачным, лишь бы сам Бернис был достаточно сильным, лишь бы он не оказался книжным героем… Но он склоняется и ласково заговаривает с ней. И она так хотела бы поверить этому его образу, этой нездешней его неясности. О, она так готова полюбить самый образ любви: у нее нет иной защиты, кроме этого бледного образа… Сегодня ночью в любовных ласках она найдет его слабое плечо, это ненадежное убежище, и, как зверек, уткнется в него головой, чтобы умереть.
VIII
– Куда вы меня везете? Зачем вы меня завезли сюда? – Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Вы хотите отсюда уехать? – Да, уедем, – говорит она с ужасом. Фары плохо освещали дорогу. Они с трудом углублялись во мрак, как в провал. Бернис то и дело посматривал на Женевьеву – она была бледна как полотно. – Вам холодно? – Немножко, пустяки. Я забыла взять мех. Она была легкомысленной девчонкой. Она улыбнулась. Потом пошел дождь. «Чертова слякоть!» – выругался Жак. И тут же подумал, что таковы подступы к земному раю. Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарик: еще одна оплошность. Впотьмах, под дождем он тыкал наугад непослушным ключом. «Надо было ехать поездом», – упрямо твердил он про себя. Он предпочел машину, потому что она давала иллюзию свободы: хорошенькая свобода! К тому же с самого начала их бегства он делал одни только глупости. А сколько забытых вещей! – Ну как, наладил? Женевьева вышла из машины и стала рядом с ним. Она внезапно почувствовала себя узницей: деревья, одно за другим, выстроились как конвойные, и эта дурацкая сторожка дорожного мастера. Боже, какая глупая мысль… Да разве она думала поселиться здесь навсегда? Все было готово, он взял ее руку: – У вас жар! Она улыбнулась… – Да… Я немного устала, я бы хотела заснуть. – Так зачем же вы вышли под дождь? Мотор тянул с перебоями и дребезжал. – Жак, милый, когда же мы доедем? – Она уже дремала, усыпляемая жаром. – Когда мы доедем? – Скоро, любимая, скоро будет Санс. Она вздохнула. Эта попытка к бегству оказалась ей не по силам. И все из-за мотора, который то и дело задыхался. Так трудно было подтаскивать к себе тяжелые деревья. Одно за другим. Каждое. И так без конца. «Это немыслимо, – думал Бернис, – но мне не миновать еще одной остановки!» И он с ужасом представил себе эту новую вынужденную остановку. Его страшила неподвижность окружающего ландшафта. Она будила мысли, которые только еще дремали в зародыше. Он боялся какой-то силы, которая пробивалась к жизни. – Женевьева, любимая, не думайте об этой ночи… Думайте о будущем… Думайте об… об Испании. Как вам понравится Испания? Далекий голос ему отвечал: «Да, да, Жак, я счастлива, но… я немного боюсь разбойников!» Она слабо улыбнулась. От этих слов Бернису стало горько; он понял, что для нее путешествие в Испанию было так же нереально, как детская сказка… Она не верила. Армия без веры. Армия без веры не может победить. – Женевьева, это ночь, это дождь лишает нас веры… И вдруг он понял, что нынешняя их ночь похожа на неизлечимую болезнь. Вкус болезни он словно чувствовал на языке. Это была одна из тех ночей, когда нет надежды на рассвет. Он боролся с этим чувством, он твердил про себя: «Рассвет принесет исцеление, лишь бы кончился дождь… Лишь бы…» Что-то было безнадежно больным в них самих, но он не сознавал этого. Ему казалось, что земля заражена, что больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как приговоренные к казни, которые мечтают: «С рассветом я вздохну свободно» или: «С весною я помолодею…» – Женевьева, подумайте о нашем новом доме, там… Он тотчас же понял, что этого говорить не следовало. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ того дома. – О да, наш дом… Она прислушалась, как звучит это слово. Его уют ускользал, его тепло не грело. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ этого дома. В ней всколыхнулось множество мыслей, которых она в себе не подозревала и которые стремились облечься в слова, – множество мыслей, пугавших ее. Бернис не знал ни одной гостиницы в Сансе и потому остановил машину под фонарем, чтобы справиться в путеводителе. В сумрачном свете газового рожка двигались тени, на белесой стене выступала размытая, стершаяся вывеска: «Вело…», и ему показалось, что он не слышал более мрачного и более вульгарного слова. Символа серенькой жизни. Он подумал, что многое в его жизни там было тоже сереньким, но прежде он этого не замечал. – Огоньку, приятель… Трое здоровых парней, посмеиваясь, рассматривали его. – Американцы, заблудились… Потом они уставились на Женевьеву. – Подите к черту, – проворчал Бернис. – А твоя милашка недурна. Но если бы ты видел нашу, из двадцать девятого!.. Женевьева, оторопев, высунулась из машины: – Что они говорят?.. Ради бога, уедем. – Но, Женевьева… Он сдержался и замолчал. Надо же было найти гостиницу… Подумаешь, пьяное хулиганье… что тут особенного? Потом он вспомнил, что у нее жар, что ей нездоровится, что он должен бы избавить ее от подобных столкновений. И он с болезненным упорством корил себя за то, что впутал ее в эту грязь. Он… Гостиница «Глобус» была закрыта. Ночью все эти маленькие гостиницы выглядели, как мелочные лавчонки. Он долго стучал в дверь, пока наконец за нею не послышались неторопливые шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь: – Все занято. – Умоляю вас, моя жена больна! – упрашивал Бернис. Дверь захлопнулась. Шаги удалялись по коридору. Все было в заговоре против них… – Он ответил? – спрашивала Женевьева. – Почему, почему он даже не ответил? Бернис еле удержался, чтобы не сказать, что они здесь не на Вандомской площади и что, как только нутро этих маленьких гостиниц плотно набивается постояльцами, все ложатся спать. Это естественно. Он сел, не говоря ни слова. Его лицо блестело от пота. Он уставился на мокрую мостовую и не заводил мотора; дождь стекал ему за воротник; ему казалось, что он должен преодолеть инерцию всего земного шара. И снова эта идиотская мысль: когда рассветет… В эту минуту они действительно так нуждались в человеческом слове. И вот Женевьева решилась. – Все это пустяки, милый, – сказала она. – Должны же мы заработать наше счастье. Бернис взглянул на нее. – Вы очень великодушны. Он был растроган. Ему захотелось расцеловать ее: но этот дождь, это неуютное окружение, эта усталость… Он взял ее руку, почувствовал, что жар усиливается. Каждая минута подтачивала это тело. Он успокаивал себя мечтами: «Я закажу для нее грог. Все пройдет. Она выпьет горячего грога. Я укутаю ее в одеяла. И, взглянув друг на друга, мы посмеемся над этим злополучным путешествием». Его наполнило смутное счастье. Но как не похоже было их теперешнее бытие на его мечты. В двух других гостиницах на их стук просто не отозвались. А мечты? Их приходилось каждый раз подновлять. И с каждым разом они утрачивали какую-то долю правдоподобия, какую-то чуть теплившуюся в них возможность воплотиться и стать жизнью. Женевьева молчала. Он понял, что она больше не пожалуется и не проронит ни слова. Он мог ехать целыми часами, целыми днями: она не скажет ничего. Никогда. Он мог бы скрутить ей руки: она не вымолвит ни слова… «Я брежу, я сплю!» – Женевьева, маленькая моя, вам нехорошо? – Да нет же, все прошло, мне лучше. Она уже разуверилась во многом. На многом поставила крест. Ради кого? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. Это «мне лучше» означало просто, что в ней что-то надломлено. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше: она поставила крест на счастье. А когда ей станет совсем хорошо… «Какого же дурака я валяю: я все еще грежу!» Гостиница «Надежда и Англия». Особая такса для коммивояжеров. – Обопритесь на мою руку, Женевьева… Да-да, комнату. Жена нездорова: поскорее приготовьте ей грогу! Горячего грогу! Особая такса для коммивояжеров. Почему так грустно звучит эта фраза? – Сядьте в кресло, вам будет лучше. Почему все еще не подают грога? Особая такса для коммивояжеров. Старая служанка суетилась: – Что с вами, дамочка! Бедняжка! Она вся дрожит и такая бледная. Я налью грелку! Вам в четвертый, это прекрасная большая комната… Будьте добры заполнить бланк. Взяв в руки грязную ручку, он вспомнил, что у них разные фамилии. Ему придется подвергнуть Женевьеву лакейским пересудам. «И все из-за меня. Какая безвкусица!» Но она и на этот раз пришла ему на выручку: – Любовники! Разве это не трогательно? Им представился Париж, скандал. Они вообразили себе возбужденные лица знакомых. Трудности для них только еще начинались, но они избегали говорить об этом, боясь, что их мысли встретятся. И Бернис понял, что до сих пор они еще ничего особенного не пережили: ну подумаешь, мотор плохо тянул, моросил дождь, и они потеряли десять минут в поисках гостиницы. Но непосильные трудности, которые, как им казалось, их ждали, коренились в них самих. Женевьева пыталась побороть самое себя, и то, с чем она боролась в себе, сидело в ней так прочно, что она уже надорвалась от одной этой борьбы. Он взял ее руки и в который раз понял, что словами ничему не помочь.Она спала. Он не думал о любви. В душе всплывали странные образы. Реминисценции. Пламя лампы. Надо бы как можно скорее подлить в лампу масла. И надо защитить пламя от порыва ветра. А главное – эта отрешенность. Он бы обрадовался ее жадности к вещам. Ее слезам из-за вещей, ее пристрастию к ним; он был бы счастлив, если бы она была требовательна, как голодный ребенок. Тогда, несмотря на всю свою нищету, он сумел бы утолить ее голод. Но он стоял на коленях с пустыми руками перед ребенком, который ничего не просил.
IX
– Нет ничего… Оставь меня… Ах, уже пора? Бернис встал. Все его движения во сне были медлительны, как у грузчика. Как жесты апостола, извлекающего вашу душу из глубин подсознания. Каждый его шаг был исполнен смысла, словно в танце. «Любовь моя…» Он ходит взад и вперед по комнате: до чего все нелепо. Рассвет грязнит окно. А ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно светилось такой глубокой, сапфировой синевой. Этой ночью окно было раскрыто в звездные дали. Он думал. Он грезил. Он на носу корабля. Она поджимает колени, собственное тело кажется ей безвольным и осевшим, как плохо пропеченный хлеб. Сердце бьется часто и ноет. Так бывает в поезде. Вагонные оси выстукивают ритм бегства. Вагонные оси выстукивают биение сердца. Прижимаешься лбом к стеклу, и перед твоими глазами проносится ландшафт: какие-то черные силуэты, которые наконец стягивает горизонт и обводит покоем, сладостным, как смерть. Ей хотелось бы крикнуть ему: «Удержи меня!» Ведь руки любви связывают вас с вашим настоящим, с вашим прошлым, с вашим будущим, руки любви собирают вас… – Не надо. Оставь меня. Она подымается.X
«Это решение, – думал Бернис, – это решение было принято помимо нашей воли. Все произошло без слов». Как будто об этом возвращении они условились заранее. Она заболела, и о дальнейшем путешествии нечего было и думать. А там будет видно. Она так недолго отсутствовала. Эрлен в отъезде, все образуется. Бернис удивлялся тому, как легко все обошлось. Но он прекрасно понимал, что это не так. Просто теперь каждый шаг не стоил им никаких усилий. Впрочем, он не был уверен в себе. Он сознавал, что и на этот раз уступил каким-то внутренним образам. Но из каких глубин встают эти образы? Сегодня утром, проснувшись под низким, темным потолком, он вдруг подумал: «Ее дом был ковчегом. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Путешествие само по себе смысла не имеет, но какая уверенность преисполняет человека, когда у него есть собственный билет, собственная каюта и чемодан из рыжей кожи. Взойти на корабль…» Жак еще не понимал, страдает ли он, он отдавался судьбе, и будущее надвигалось независимо от его воли. Человек не страдает, отдаваясь чему-то. Даже отдаваясь печали, он не страдает. Страдание придет позже, когда Бернис останется лицом к лицу с теми внутренними образами. Он понял, что им легко дается эта вторая, заключительная глава их повести, потому что роли их были предопределены внутри их самих. Он твердил это себе, ведя машину, которая по-прежнему плохо слушалась. Уж как-нибудь они доедут. Они положатся на судьбу. Вечно этот образ судьбы. Когда они подъезжали к Фонтенбло, ей захотелось пить. Они узнавали малейшие подробности пейзажа. Он спокойно располагался вокруг. Он вселял уверенность. Это было то привычное окружение, которое вновь обрамляло их жизнь. В закусочной им подали молока. Куда им торопиться? Она маленькими глотками пила молоко. Им некуда было торопиться. Все происходящее надвигалось с неотвратимой необходимостью: и вечно этот образ необходимости. Она нежна. Она признательна ему за многое. Теперь их отношения непринужденнее, чем вчера. Она улыбается, показывая на птичку, клюющую крошки перед дверью. Ее лицо кажется ему новым. Где он видел это лицо? У попутчиков. У попутчиков, с которыми жизнь через несколько минут разлучит вас. На перронах. Это лицо уже может улыбаться, оно способно жить какими-то неведомыми вам чувствами. Он снова взглянул на нее. Он видел ее склоненный профиль, она задумалась. Он терял ее, едва она поворачивала голову. Она все еще любила его, конечно, но не надо слишком много требовать от слабенькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей: «Я возвращаю вам свободу» – или какую-нибудь подобную же банальность, но он заговорил о своих планах на будущее. И она уже не была пленницей в той новой жизни, которую он себе придумывал. Она благодарно положила свою маленькую руку ему на плечо. – Вы мой самый, самый любимый… И это была правда, но в то же время эти слова означали, что они не созданы друг для друга. Упрямая и нежная. И ежеминутно готовая стать, сама того не ведая, черствой, жестокой, несправедливой. Ежеминутно готовая любой ценой отстаивать какое-то свое непостижимое достояние. Твердая и нежная. Но она не была создана и для Эрлена. Он это знал. Та жизнь, к которой, по ее словам, она возвращалась, всегда была ей только в тягость. Для чего же она была создана? Она, казалось, не страдает. Они снова пустились в путь. Бернис чуть отворачивался влево. И он тоже умел справляться со своим страданием, но какой-то раненный в нем зверь плакал, и Бернис был не волен в этих слезах. В Париже никакой суеты: стоит ли подымать шум по таким пустякам.XI
Зачем? Город вокруг него продолжал жить своей бессмысленной толчеей. Бернису было ясно, это смятение ни к чему уже не приведет. Он медленно продвигался навстречу потоку чужих людей. Он думал: «Меня словно и нет». Он должен был вскоре уехать, и это было хорошо. Он знал – работа так прочно свяжет его со всем окружающим миром, что он сам снова станет реальностью. Он прекрасно знал, что в повседневном обиходе малейший шаг приобретает значительность реального факта, а душевные драмы в какой-то мере утрачивают свою трагичность. Даже шутки товарищей сохранят для него свою прелесть. Это было странно, но это было так. Впрочем, он не слишком интересовался собой. Проходя мимо Нотр-Дам, Бернис зашел в собор. Его поразила огромная толпа молящихся; он прислонился к колонне. «Почему я вдруг оказался здесь?» – недоумевал он. Да хотя бы потому, что здесь каждая минута вела куда-то. А там, снаружи, они уже никуда не вели. Именно: «Там минуты уже никуда не ведут». И, кроме того, ему захотелось разобраться в себе, отдаться вере, как некой философской концепции. Он думал: «Если я найду здесь формулу, которая выразит мои мысли, которая будет мне близка, она станет для меня истиной». И тут же устало договаривал: «И все-таки я не уверую в нее». Ему внезапно показалось, что он снова стоит на перепутье и что вся жизнь его прошла вот в таких попытках к бегству. Первые слова проповеди взволновали его, как сигнал к отплытию.– Царство небесное, – начал проповедник, – царство небесное… Опершись вытянутыми руками на широкие перила кафедры, проповедник склонился над толпой. Над голодной толпой, жаждавшей любой пищи. Надо насытить ее. Перед ним вставали образы необычайной убедительности. Ему представилась пойманная в верши рыба, и он, без всякой связи, продолжал: – Когда рыбак из Галилеи… Проповедник бросал в толпу бессвязные слова, которые тянули за собой вереницы ассоциаций, оставлявших долгий отзвук. Ему казалось, что он медленно и упорно расшевеливает толпу, постепенно разжигая ее порыв, словно подстегивая скакуна. – Если бы вы знали… Если бы вы знали, сколько любви… Он запнулся, задыхаясь: он был слишком взволнован, чтобы выразить все, что его переполняло. Самые ничтожные, самые избитые слова казались ему насыщенными таким глубоким смыслом, что он уже не в состоянии был выбирать среди них самые весомые. При свете зажженных свечей лицо его было восковым. Он вытянулся, опираясь руками на кафедру, подняв голову, весь устремленный ввысь. Он умолк, и толпа всколыхнулась, как море. Потом он нашел нужные слова и заговорил. Он говорил с поразительной убежденностью, орудуя словами, как грузчик, уверенный в своей силе. В то время как он заканчивал последнюю фразу, его осеняли мысли, возникавшие где-то вне его, и он подхватывал их, словно перекидываемый ему груз, уже заранее смутно предугадывая тот образ, в который он эти мысли воплотит, ту формулу, в которой он передаст их толпе. Бернис слушал проповедь. – Я источник всяческой жизни. Я морской прилив, заливающий и животворящий вас и снова отступающий. Я зло, заливающее вас, и раздирающее вас, и отступающее. Я любовь, заливающая вас и не преходящая вовек. А вы выдвигаете против меня Марсиона и Четвертое Евангелие. А вы говорите мне об апокрифах. Вы противопоставляете мне вашу жалкую человеческую логику, я же тот, кто выше ее законов, и я пришел избавить вас от нее. Поймите меня, невольники! Я избавляю вас от ига науки, от ваших формул и законов, от оков разума, от детерминизма, более жестокого, чем рок древних. Я – трещина в броне, я – лазейка в темнице. Я – ошибка в расчете: я – жизнь. Вы проинтегрировали орбиту звезды, о жалкий род исследователей, и звезда перестала быть для вас живым светочем. Она стала знаком в ваших книгах, но она больше не светит вам, и вы знаете о ней меньше несмышленого младенца. Вы открыли все, вплоть до законов, управляющих человеческой любовью, но сама любовь ускользает из ваших уравнений: вам ведомо о ней меньше, чем невинной девушке! Придите же ко мне! Я возвращу вам сладость света, я возвращу вам свет любви! Я не порабощаю вас: я вас спасаю. Я освобождаю вас от власти человека, впервые исчислившего закон падения яблока и обратившего вас в рабство. Моя обитель – единственное прибежище. Что станется с вами, если вы отринете эту обитель? Что станется с вами, если вы отринете мою обитель, этот ковчег, где ход времени проступает в своем истинном смысле, как под морской струей – блестящий форштевень корабля. Как морское течение, которое незаметно и бесшумно выносит на поверхность острова. Морское течение… Придите ко мне все отчаявшиеся в бесплодных усилиях. Придите ко мне все отчаявшиеся в логике, не приводящей ни к чему, кроме мертвых законов… Он раскрыл руки: – Потому что я тот, кто приемлет вас. Я взял на себя грехи мира. Я взял на себя его зло. Я взял на себя ваше отчаяние – отчаяние зверей, оплакивающих смерть своих детенышей, и ваши неизлечимые недуги, и вы утешились. Но твой нынешний недуг, о мой народ, еще страшнее и неизлечимее, и все-таки и его я возьму на себя. Я приму еще более тяжкие оковы – оковы духа. Я тот, кто несет бремя мира. В словах этого человека Бернису слышалось отчаяние, потому что он не молил о знамении. Он не нуждался в знамении. Он сам отвечал себе. – Вы будете беспечны, как дети. Вы изнемогаете под гнетом ваших каждодневных напрасных усилий. Придите ко мне: я наделю их смыслом, и они преобразят ваше сердце, и ваше сердце станет человеческим. Его слова овладевают толпой. Бернис уже не слышит слов, до него доходят только какие-то интонации, непрестанно повторяющиеся, как припев. …И ваше сердце станет человеческим. Проповедник взволнован. – Из ваших страстей, скупых, жестоких и безнадежных, о нынешние любовники, я сотворю человеческие чувства, – придите ко мне. Из ваших плотских влечений, из вашей неудовлетворенности, я сотворю человеческое… придите ко мне… Бернис чувствует глубокое отчаяние этого человека. – …Потому что я тот, кто возлюбил вас… Бернису хочется уйти. – …Один лишь я могу вернуть человека самому себе. Священник умолк. В изнеможении он повернулся к алтарю. И поклонился богу, которого только что сам сотворил. Он чувствовал себя нищим, словно отдал все, что имел, словно приносил в дар свое телесное изнурение. Сам того не сознавая, он приравнял себя к Христу. Стоя лицом к алтарю, он снова заговорил с ужасающей медлительностью: – Отче, я поверил в них, вот почему я отдал свою жизнь… И в последний раз, склонившись над толпой, он произнес: – Ибо я возлюбил их… Его охватила дрожь. Молчание показалось Бернису нестерпимым. – Во имя отца… Бернис думал: «Какое отчаяние! Где же вера? Я не слышал слов веры: это был вопль отчаяния». Он вышел. Скоро зажгутся дуговые фонари. Бернис шел по набережным Сены. Деревья стояли неподвижные, с разметавшимися и словно застывшими в сумерках кронами. Бернис шел. Его охватил покой, потому что день завершился; такой покой охватывает иной раз, когда разрешишь давно мучившую тебя задачу. И все-таки эти сумерки… Они слишком похожи на театральный задник, который уже не раз послужил декорацией в сценах развала Империи, проигранных битв, развязок неглубокой любви; завтра эти декорации пригодятся для других комедий. Театральный задник, который так волнует, когда вечер тих, когда жизнь замедляет ход, потому что еще неизвестно, какая идет драма. О, хоть что-нибудь, что спасло бы его от такой человечной тоски… Дуговые фонари вспыхнули все сразу.
XII
Такси. Автобусы. Бессмысленная суета, в которой так хорошо затеряться, не правда ли, Бернис? Какой-то увалень загородил весь тротуар. – А ну, поворачивайся! Женщины, с которыми сталкиваешься раз в жизни: единственная, неповторимая возможность. Выше – яркие огни Монмартра. Его уже зазывают. – Да ну тебя! Отстань!.. Другие женщины. В «Испано-Суизах», как в роскошной оправе, превращающей в драгоценность даже самую безобразную женщину. На животе – на пятьсот тысяч франков жемчугов, руки в кольцах. Тела, приправленные, как самое изысканное блюдо. А вот еще одна робеющая девка. – Отвяжись ты! Знаю я тебя, хлыща, катись к чертям! Да пропусти же, отвяжись, говорят! Эта женщина ужинала за соседним столиком; она в вечернем платье, с глубоким треугольным вырезом на спине. Ему видны только ее затылок, плечи и непроницаемая спина, по которой пробегает судорожный трепет. Трепет плоти, этой вечно восстанавливающейся и неуловимой материи. Так как женщина курила, опершись на руку и наклонив голову, он видел лишь безликое тело. «Глухая стена», – подумал он. Танцовщицы начали свой номер. Их шаги были упруги, и душа танца наделяла душой их самих. Бернису нравился этот ритм, державший их тело в подвижном равновесии. Это равновесие могло ежеминутно нарушиться, но танцовщицы снова с поразительной уверенностью восстанавливали его. Они волновали чувственность, непрестанно намечая образ, который вот-вот должен был на ваших глазах завершиться и который на пороге этого завершения, на пороге смерти, переходил в новое движение. Это было само воплощенное желание. А перед ним все та же загадочная, неподвижная, как озерная гладь, спина. Вот от какого-то жеста или мысли по этой глади волной пробегает тень. «Я хочу того неведомого, что движется под этой гладью», – думает Бернис. Танцовщицы раскланивались, начертив и стерев таинственные арабески на песке. Бернис подозвал самую стройную. – Ты хорошо танцуешь. Он чувствовал, что ее тело клонится, как налившийся соком плод. И эта его тяжесть показалась ему откровением. Богатством. Она присела. У нее был неподвижный взгляд и что-то бычье в подбритом затылке, – наименее гибкой части этого тела. Ее лицо не отличалось тонкостью, но все тело казалось его естественным разрешением и дышало спокойствием. Потом Бернис заметил слипшиеся от пота волосы. Морщинку, прорезавшую слой грима. Поношенный наряд. Выхваченная из танца, она казалась надломленной и неловкой. – О чем ты задумалась? Она ответила неопределенным жестом. И вот все это ночное возбуждение приобретало смысл. Суета портье, водителей такси, метрдотелей. Они занимались своим ремеслом, которое в конечном счете сводилось к тому, чтобы подать ему шампанское и свести с этой усталой девкой. Бернис видел жизнь из-за кулис, где все – ремесло. Где нет ни порока, ни добродетели, ни смутных волнений, где все – только работа, исстари заведенная и бесстрастная, как труд чернорабочего. Даже танец, каждым движением строивший новый язык, мог что-то сказать только человеку постороннему. Только чужой был в состоянии обнаружить в этом танце структуру, о которой создатели ее давно уже забыли. Так музыкант, в тысячный раз исполняющий одну и ту же мелодию, утрачивает ее смысл. А здесь танцовщицы в ярком свете прожекторов выполняли па, старались что-то выразить мимикой, но один бог ведает, с каким подтекстом. Одна была поглощена своей больной ногой, другая – свиданием – о, совершенно пустяковым – после выступления. Третья мысленно подсчитывала свои долги: «Я должна триста франков…» А еще какая-то, может быть, только и твердила: «Мне больно…» И вот в нем уже угас весь порыв. Он думал: «Ты не дашь того, что мне нужно». Но одиночество его было так нестерпимо, что она все-таки понадобилась ему.XIII
Она боится этого молчаливого человека. Когда ночью она просыпается рядом с ним, спящим, ей кажется, что она брошена на пустынном берегу. – Обними же меня! И все-таки в ней поднимается нежность… но эта неведомая, заключенная в его теле жизнь, эти недоступные мысли под его черепной коробкой! Лежа на его груди, она чувствует, как дыхание, словно морская волна, вздымает и опускает эту грудь, и ей страшно, ее качает, словно она в лодке, перевозящей ее над неведомой пучиной. Прижимаясь ухом к его сердцу, она слышит жесткий стук мотора или молота, рушащего породу; у нее ощущение какого-то неудержимого бегства. А это молчание, когда она старается разбудить его, заговаривая с ним! Она считает секунды между своим словом и его ответом, как отсчитывают промежутки между молнией и ударом грома во время грозы: раз… два… три… Гроза еще далеко, за теми полями. Если он закрывает глаза, она обеими руками, словно булыжник, приподнимает его голову, тяжелую, как у мертвеца. – Милый мой, какая мука… Таинственный спутник. Вытянувшись бок о бок, они молча лежат. И жизнь пронизывает их, как поток. Головокружительное бегство. Тело – несущаяся пирога… – Который час? Вот и конец: странное путешествие. – Милый мой! Она прижимается к нему, запрокинув голову, растрепанная, словно вынырнувшая из воды. Так выглядит женщина после сна или ночи любви: с приставшей ко лбу прядью волос, с помятым лицом, словно ее вытащили из морской пучины. – Который час? Ах, зачем? Часы мелькают, как полустанки, – полночь, час, два, – они отброшены назад, их не вернуть. Что-то просачивается сквозь пальцы, чего не удержать. Стареть – это совсем не страшно. – Я представляю тебя седым и себя – твоей верной подругой… Стареть – это совсем не страшно. Жаль только этой погубленной минутки, этого отсроченного еще на какое-то время покоя, вот чего жаль. – Расскажи мне о своей стране. – Моя страна… Бернис понимает, что он ничего не может рассказать. Города, моря, родные страны – все одинаковы. Но порой за ними промелькнет смутный образ, который угадываешь, не постигая его, и который нельзя выразить словами. Он прикасается рукой к животу этой женщины, к тому месту, где тело беззащитно. Женщина: самое обнаженное из всех живых тел, светящееся самым нежным светом. Он задумывается над таинственной жизнью, пронизывающей это тело, согревающей его, как солнце, творящей его внутреннюю атмосферу. Бернис не назвал бы ее нежной или красивой; он сказал бы – она теплая. Теплая, как зверь. Живая. С сердцем, этим источником жизни, отличным от его собственного, без устали бьющимся в ее теле. Он вспоминает, как в нем в течение нескольких мгновений трепетала страсть: безумная птица, которая бьет крылами и умирает. А теперь… Теперь за окном брезжит рассвет. О, женщина после ночи любви, женщина, которую уже не венчает и не окутывает мантией желание мужчины! Отброшенная к холодным звездам. Сердечные ландшафты сменяются так быстро… Прошло желание, прошла нежность, прошел пламенный вихрь. Теперь ты, чистый, холодный, неподвластный телу, стоишь на носу корабля и держишь курс в открытое море.XIV
Этот неуютный салон похож на дебаркадер. Бернис, в ожидании скорого, проводит в Париже несколько пустых часов. Он прижался лбом к оконному стеклу и смотрит на текущую толпу. Он в стороне от этого потока. У каждого человека свои планы, каждый торопится. Завязываются интриги – они развяжутся без его участия. Проходит женщина и, едва проделав десять шагов, уходит в бесконечность. Эта толпа была живым телом, она питала тебя, вызывая то слезы, то смех, а теперь она подобна призракам давно вымерших народов.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Европа, Африка одна за другой готовились к ночи, гася то тут, то там последние дневные бури. Та, что бушевала в Гренаде, стихала; буря в Малаге – пролилась дождем. Кое-где последние вихри еще путались среди ветвей, словно в волосах. Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, приводили в порядок свое хозяйство, убирали самолеты, запирали ангары. В Малаге почтового ждали засветло и поэтому не заботились о посадочных огнях. Впрочем, здесь самолет приземляться не будет: снизившись и сбросив почту, он пролетит прямо к Танжеру. Ему сегодня предстоит еще, не видя африканского берега, по компасу, перелететь на двадцати метрах пролив. Сильный западный ветер взрывал воду. Волны пенились белыми гребешками. Корабли, стоявшие на якоре носом против ветра, работали всеми заклепками, как в открытом море. Скалы английской крепости образовали на востоке глубокую бухту, в которой дождь лил как из ведра. К западу тучи поднялись этажом выше. На том берегу Танжер дымился под сплошным ливнем, прополаскивавшим город. У горизонта сгрудились кучевые облака. Но в направлении Лараша небо уже прояснялось. Касабланка дышала под чистым небом. В порту сбились потрепанные, как после боя, парусники. А на море, вспаханном бурей, от нее уже не осталось никаких следов, кроме длинных, ровных, расходящихся веером борозд. Зелень полей на закатном солнце казалась ярче и темнее, как морская глубь. То тут, то там поблескивали непросохшие крыши домов. В бараке электросварочной бригады электрики бездельничали в ожидании самолета. Агадирская бригада отправилась обедать в город: в ее распоряжении было еще целых четыре свободных часа. В Порт-Этьене, в Сен-Луи, в Дакаре можно было спать. В восемь вечера радиостанция Малаги сообщила: Почтовый пролетел без посадки. В Касабланке проверяли посадочные огни. Рампа с прожекторами вырезала из ночного мрака и обвела красным контуром черный квадрат. В нескольких местах в ней зияли дыры, словно от выпавших зубов: в рампе не хватало ламп. Потом второй выключатель засветил фары. В середине квадрата образовалось белое молочное пятно. В этом мюзик-холле недоставало только актера. Рефлектор передвинули. Сноп лучей выхватил из темноты мокрое дерево. Оно чуть переливалось, как кристалл. Потом осветился белый барак, разросшийся вдруг до неправдоподобных размеров; тень от него побежала по кругу и рассыпалась. Наконец световой диск снизился и установился в надлежащем месте, расстелив для самолета белый коврик. – Хорошо, – сказал начальник аэродрома, – выключите. Он поднялся в контору, перелистал последние донесения, выжидательно посматривая на телефон. Скоро заговорит Рабат. Все было готово. Механики рассаживались по бидонам и по ящикам. Агадир терялся в догадках… По его расчетам, почтовый уже должен был вылететь из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета уже десятки раз принимали Звезду Пастухов, а потом Полярную звезду, всходившую как раз на севере. И вот, для того чтобы включить прожекторы, все ждали появления еще одной звезды, которая будет плутать, не находя себе места среди созвездий. Начальник аэродрома был в нерешительности. Отправлять ли ему самолет в дальнейший рейс? Его смущал туман на юге, расстилавшийся вплоть до ручейка Нун и, может быть, даже до самого Джуби, а Джуби молчал, несмотря на все запросы. Нельзя же было выпустить почтовый Франция – Америка ночью в такую вату! А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной. В то же время в Джуби, оторванные от всего мира, мы посылали сигналы бедствия, как тонущий корабль: Сообщите сведения почтовом, сообщите… Мы уже не отвечали Сиснеросу, который донимал нас тем же вопросом. Так, разделенные тысячей километров, мы бросали в пространство наши безответные жалобы. В двадцать пятьдесят напряжение разрядилось. Касабланке и Агадиру удалось связаться по телефону. А потом к ним присоединились и наши рации. Говорила Касабланка, и каждое ее слово повторялось вплоть до Дакара: Почтовый 22.00 вылетит Агадир. Из Агадира в Джуби: почтовый прибывает Агадир 0.30. Точка. Сообщите возможность продолжать рейс Джуби. Из Джуби в Агадир: туман. Ждать рассвета. Из Джуби в Сиснерос, Порт-Этьен, Дакар: почтовый ночует Агадире. В Касабланке пилот расписывался в бортовом журнале и щурился от яркого света лампы. Глаза так уставали, что иной раз Бернис был счастлив, когда мог ориентироваться на белую линию прибоя – границу земли и воды. Сейчас в конторе перед ним были ящики, белая бумага, грубая мебель: прочный, осязаемый мир. А в раскрытую дверь он видел мир, опустошенный ночью. Лицо Берниса раскраснелось от ветра, в продолжение десяти часов массировавшего его щеки. С головы стекала вода. Он вылез из ночного мрака, упрямо жмурясь, как водопроводчик из сточной трубы: в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими ко лбу волосами. Вдруг он встрепенулся: – Вы что же… хотите, чтобы я летел дальше? Начальник аэродрома угрюмо листал бумаги. – Вы будете делать то, что вам прикажут. Он уже решил не давать приказа к вылету, а пилот, со своей стороны, решил на нем настаивать. Но каждый считал себя единственным судьей в этом деле. – Засадите меня с завязанными глазами в гардероб с рукояткой газа и прикажите лететь в нем до Агадира: вот что означает ваш приказ. Полнота внутренней жизни не позволяла ему ни минуты думать о собственной безопасности: такие мысли приходят только в праздные души, но образ гардероба привел его в восторг. Есть вещи невозможные… но он с ними все-таки справится. Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок. – Смотрите-ка! Все видно… – Что видно? – Звезды. Пилот разозлился: – Плевать я хотел на ваши звезды: подумаешь, показались три штуки! Не на Марс же вы меня посылаете, а в Агадир. – Через час взойдет луна. – Луна… луна… Упоминание о луне взбесило его еще больше: разве для ночного полета он когда-нибудь дожидался луны? Что он, новичок, что ли? – Ладно. Договорились. Ночуйте. Пилот успокоился, достал сандвичи, заготовленные еще накануне вечером, и принялся мирно закусывать. Он вылетит через двадцать минут. Начальник аэродрома улыбался. Он похлопывал по телефонному аппарату, понимая, что скоро даст сигнал к вылету. Вдруг, когда все было готово, жизнь замерла, словно оборвалась. Так иной раз останавливается время. Летчик застыл на стуле, чуть наклонившись вперед, зажав между коленями черные от мазута руки. Его глаза уставились в какую-то точку между ним и стеной. Начальник аэродрома сидел в сторонке, разинув рот, словно ждал тайного знака. Машинистка зевнула, подперла кулаком подбородок, одолеваемая сном. Только песок в часах продолжал пересыпаться. Потом чей-то дальний крик оказался толчком, который снова привел в движение весь механизм. Начальник аэродрома поднял палец. Пилот усмехнулся, распрямился, вздохнул полной грудью. – Ну, прощайте! Так иногда обрывается кинолента. И тогда неподвижность с каждым мгновением приобретает все более глубокий смысл музыкальной паузы, потом жизнь опять возобновляется. Сначала Бернису показалось, что, вместо того чтобы взлететь, он под оглушительный, как морской прибой, рев мотора заползает в сырую, холодную пещеру. Потом он понял, что ему ни в чем нет опоры. Днем округлая выпуклость холма, линия залива, синее небо строили вокруг него мир, в котором он чувствовал себя уверенно; а сейчас он находился вне всего этого, в мире, только еще становящемся из первозданного хаоса. Равнина под ним вытягивалась, унося последние города – Мазаган, Сафи, Могадор, – которые переливались, как подсвеченные снизу витражи. Потом мелькнули огни последних пригородов, последние бортовые огни земли. Внезапно он ослеп. – Ну вот, я вхожу в молоко! Пристально следя за указателем поворота, за высотомером, он начал снижаться, чтобы выйти под облака. Его слепил слабый красный свет бортовой лампочки: он ее выключил. – Что это значит: из тумана я вышел и все-таки ничего не вижу?! Первые вершины Малого Атласа ускользнули–невидимые, погруженные в воду, молчаливые, как плывущие айсберги: он их угадывал за спиной. – Дело дрянь. Он обернулся. Механик, его единственный пассажир, положив на колени карманный фонарик, читал книгу. Из кабины выступала только его склоненная голова, бросавшая опрокинутую тень. Голова светилась, словно изнутри освещенная фонарем, похожая на призрак. Он крикнул: «Эй!» – но голос его затерялся. Он ударил кулаком по обшивке: механик, всплывая в свете фонаря, продолжал читать. Когда он перевернул страницу, лицо его показалось Бернису прозрачным. «Эй!» – крикнул еще раз Бернис: человек, сидевший на расстоянии всего двух вытянутых рук, был недосягаем. Так и не дозвавшись его, Бернис отвернулся. – Я где-то около Кап-Гира, но пусть меня повесят… дело дрянь… – Я, должно быть, слишком подался в море, – соображал он. Он выправил курс по компасу. Он сознавал, что его невольно тянет вправо, к морю, как пугливую кобылу: будто горы слева и вправду теснили его. – Должно быть, пошел дождь. Он высунул руку, и она покрылась изморосью. – Я вернусь к берегу через двадцать минут, когда миную горы, это будет вернее… И вдруг прояснение! Тучи с неба словно смело, и на нем проступили вымытые, подновленные звезды. И показалась луна… луна – самая надежная из всех ламп! Трижды вспыхнул, как световая реклама, аэродром Агадира. – На черта мне это нужно! Теперь я с луной!..II
В Кап-Джуби день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Декорации без тени, без второго плана. Как всегда, на своих местах маячили и эта дюна, и этот испанский форт, и эта пустыня. Здесь недоставало почти неуловимого движения, которое даже в тихую погоду наполняет богатством жизни степь и море. Караваны кочевников, бредущие по пустыне, видят, как у них на глазах пересыпаются крупинки песка, и вот по вечерам они раскидывают свои палатки каждый раз среди девственного ландшафта. Так и мне малейшее перемещение в пейзаже позволило бы почувствовать всю безмерность пустыни, но недвижные, бессменные декорации сковывали мысль, как хромолитография. С этим колодцем перекликался колодец в трехстах километрах отсюда. По видимости все такой же колодец, такой же песок, такие же, навеянные ветром складки земли. Но там была уже иная, новая ткань вещей. Так ежесекундно обновляется пена морского прибоя. И, только дойдя до второго колодца, я ощутил бы свое одиночество, а у следующего – непокоренная страна показалась бы мне действительно таинственной. День протекал пустой, не ознаменованный никакими событиями. Время было абстракцией, как космическое время астрономов. Этот день означал только, что земное нутро было на несколько часов выставлено под палящий жар солнца. Здесь все слова мало-помалу утрачивали человеческий смысл. В них уже ничего не содержалось, кроме песка. Самые насыщенные слова, как «нежность», «любовь», не откладывали в сердце никакого балласта.«Если из Агадира ты вылетел в пять часов, ты бы уже должен приземлиться». – Если из Агадира он вылетел в пять часов, он бы уже должен приземлиться. – Да, старина… но ветер-то юго-восточный. Небо желтое. Этот ветер за несколько часов перевернет и переформует всю пустыню, месяцами строившуюся северным ветром. Сегодня день перестройки: дюны, подхлестываемые косым ветром, разматываются, как катушки, длинными прядями, чтобы заново смотаться чуть подальше. Мы прислушиваемся. Нет. Это море. Что такое почтовый самолет в пути? Это ничто. Между Агадиром и Кап-Джуби, над непокоренной, неведомой землей это товарищ, затерявшийся неизвестно где. Вот сейчас в нашем небе, быть может, возникнет неподвижный знак. «Если из Агадира он вылетел в пять часов…» Вас охватывает смутное предчувствие беды. Что значит авария почтового самолета? Это всего лишь затянувшееся ожидание, это чуть повышенный тон в замирающем споре. Потом время становится бесконечным, и его уже трудно заполнить мелкими жестами, обрывочными словами… Потом кто-то внезапно ударяет кулаком по столу. – Ах черт! Ведь уже девять часов… Люди вскакивают, и это значит, что товарищ попал к маврам. Радист связывает нас с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Альтернатор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, который отмечает каждый разряд. Я стою и жду. Радист, работая правой рукой, наискось протягивает мне левую. Потом он выкрикивает: – А? Что? Я молчу. Проходит двадцать секунд. Он опять что-то кричит, а я ничего не слышу, я говорю: – А, да? Вокруг меня все светится, через приоткрытые ставни прорывается солнечный луч, шатуны дизеля искрят, и длинные молнии скрещиваются с солнечным лучом. Наконец радист всем корпусом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор затихает и останавливается. Я слышу последние слова: удивленный моим молчанием, радист выкрикивает их, словно я нахожусь в ста метрах от него. – …Им на все наплевать! – Кому? – Да им. – Ах вот оно что! А можете вы связаться с Агадиром? – Сейчас не его время. – А вы все-таки попытайтесь. Я царапаю на листке блокнота: «Почтовый не прибыл. Состоялся ли вылет? Точка. Подтвердите час вылета». – Передайте им вот это. – Постараюсь. И грохот возобновляется. – Ну что? – …дите. Я задумался, я не расслышал. Он хотел сказать «подождите». Кто ведет почтовый? Неужели ты, Жак Бернис, которого не сыщешь ни во времени, ни в пространстве? Радист приглушает дизель, включается на прием, снова надевает шлем. Он стучит по столу карандашом, смотрит на часы и зевает. – Неужели авария? – Откуда мне знать? – Вы правы. Да нет же… Агадир не слышит. – Попробуем еще? – Давайте. И мотор снова включен. Агадир по-прежнему молчит. Теперь мы стараемся уловить его голос. Если он переговаривается с другой станцией, мы вмешаемся в разговор. Сажусь. От нечего делать беру наушники и попадаю в вольеру, полную птичьего гама. Длинные, короткие, частые трели – я плохо разбираюсь в этом языке. Сколько же голосов звенят в небе, которое я считал безмолвным! Говорят три станции. Как только умолкает одна, в хор вступает другая. – Ага! Бордо на автоматической. Высокая рулада, скороговоркой, вдалеке. Потом более спокойный, более медлительный тон. – А это кто? – Дакар. Вот слышится чей-то расстроенный голос. Он смолкает, снова говорит, потом молчание, и опять он вступает. – …Барселона зовет Лондон, а Лондон не откликается. Очень далеко под сурдинку что-то рассказывает Сент-Ассиз. Сколько встреч в Сахаре! Здесь собралась вся Европа, все ее столицы, обменивающиеся признаниями на птичьем языке. Внезапно врывается близкий гул. Поворот выключателя, и все остальные голоса смолкают. – Это Агадир? – Агадир.
Радист, почему-то не сводя глаз с часов, дает позывные. – Он услышал нас? – Нет. Но он говорит с Касабланкой. Мы подслушаем. И вот мы перехватываем секреты ангелов. Карандаш в руке радиста в нерешительности замирает, упирается в бумагу, торопливо выводит одну букву, потом другую, потом десять. Гул складывается в слова, распускающиеся, как цветы. – К сведению Касабланки… Ах, негодяй! Тенерифе перебивает Агадир! Его могучий голос гудит в наушниках. И вдруг разом смолкает. – …землился шесть тридцать. Вылетел в… Непрошеный Тенерифе снова заглушает Агадир. Но я уже узнал все, что нужно. В шесть тридцать почтовый вернулся в Агадир. Туман? Неполадки с мотором? Значит, он должен был вылететь только в семь часов… Значит, почтовый не запаздывает. – Ну, спасибо!
III
Жак Бернис! На этот раз я хочу до твоего прибытия рассказать о тебе. Ты, чье местонахождение со вчерашнего дня со всей точностью устанавливают радиостанции. Кто пробудет здесь положенные двадцать минут, для кого я открою банку консервов и откупорю бутылку вина; кто не будет рассказывать нам ни о любви, ни о смерти, ни о каких высоких материях, – кого интересуют только направление ветра, состояние неба, мотор; кто посмеется острому словцу механика, пожалуется на жару и будет похож на любого из нас… Я расскажу, какое путешествие ты совершаешь. Как ты приподнимаешь видимость вещей, чем твои шаги, когда ты идешь рядом с нами, отличаются от наших. Мы вышли с тобой из одного и того же детства, и вот сейчас в моей памяти внезапно встает та ветхая, полуразрушенная, обвитая плющом стена. Мы были бесстрашными детьми. – Не трусь! Открой калитку… Ветхая, полуразрушенная, обвитая плющом стена. Прокаленная, выветрившаяся, пронизанная солнцем, пронизанная живой жизнью. В траве шуршали ящерицы, мы называли их змеями, тогда уже любя самый символ того бегства, которое означало смерть. Снаружи каждый камень стены был теплым, как яйцо из-под наседки, и таким же округлым, как яйцо. Солнце изгнало тайну из каждой крупинки земли, из каждой травинки. По эту сторону стены во всей полноте, во всем богатстве царило деревенское лето. Мы видели колокольню. Крестьяне жали хлеб, кюре опрыскивал купоросом виноград, взрослые в гостиной играли в бридж. Всех тех, кто вот уже более полувека обрабатывал этот уголок земли, кто с рождения и до самой смерти хранил это солнце, этот хлеб, этот дом, мы называли «сторожевой командой». Потому что нам нравилось воображать себя на самом ненадежном островке, между двумя страшными океанами – между прошлым и будущим. – Поверни ключ… Детям запрещалось открывать эту маленькую заплесневевшую, словно ветхая баржа, калитку, запрещалось прикасаться к огромному замку, проржавевшему от времени, как старый корабельный якорь. Взрослых, конечно, страшил этот открытый водоем, их преследовал, как кошмар, рассказ о ребенке, утонувшем в омуте. А за калиткой спала вода; мы говорили, что вот уже тысячу лет, как она замерла в неподвижности, и когда мы слышали слова «мертвая вода», нам представлялся наш водоем. Крошечные круглые листочки затянули его зеленой тиной; мы бросали камни, и они пробивали дырочки в этой плотной ткани. А какая царила прохлада под старыми ветвями, такими могучими, несшими на себе всю тяжесть солнечных лучей! Никогда ни один луч не прикасался к этому хрупкому покрову, не задевал этой драгоценной парчи. Камешек, который мы швыряли, отправлялся в бесконечное странствие, как звезда, потому что мы считали этот водоем бездонным. – Давай присядем… До нас не долетал ни один звук. Мы наслаждались прохладой, запахами, сыростью, обновлявшими наше тело. Мы были затеряны где-то на краю света, потому что мы уже знали, что странствовать – это прежде всего менять тело. – Здесь оборотная сторона всех вещей… Оборотная сторона этого лета, такого уверенного в себе, этого деревенского приволья, всего внешнего мира, державшего нас в плену. И мы ненавидели навязанный нам, принудительный покой. В обеденный час мы возвращались в дом, отягощенные тайнами, как те индийские искатели жемчуга, которым удалось прикоснуться к сокровищу. И в минуту, когда солнце тонуло за горизонтом и скатерть на нашем обеденном столе розовела, мы слышали слова, от которых больно сжималось сердце: – Дни стали прибывать… Мы были захвачены в этот извечный круговорот, в жизнь, сотканную из времен года, из каникул, свадеб, смертей. Из всей этой пустой, поверхностной суеты. Бежать – вот самое главное. И в десять лет мы находили прибежище среди чердачных стропил. Мертвые птицы, разворошенные сундуки, старомодные платья: это был кусочек оборотной стороны жизни. Здесь-то и находилось сокровище, которое, по нашим представлениям, было, как клад, замуровано в старых домах и о котором с такой убедительностью рассказывалось в сказках: сапфиры, опалы, алмазы. Это тускло мерцавшее сокровище наделяло смыслом каждую стену, каждую балку, – эти огромные балки, бог весть от чего защищавшие дом. Впрочем, нет. Они защищали его от времени. Потому что время было нашим самым страшным врагом. От него защищались традициями. Культом прошлого. Огромными балками. Но только одни мы знали, что этот дом спущен на воду, как корабль. Только мы, залезавшие в его трюмы, в его подводную часть, знали, что он дал течь. Нам были известны все отверстия в крыше, через которые проникали птицы, чтобы здесь умереть. Мы знали каждую щель в корпусе этого судна. Внизу в гостиных болтали гости, танцевали красивые женщины. Они чувствовали себя в безопасности. Какое легковерие! Там, конечно, подавали ликеры. Черные лакеи, белые перчатки. О, странники! А мы тут, наверху, видели, как враздавшиеся швы крыши просачивалась синяя ночь. Этого крошечного отверстия было достаточно, чтобы через него могла просочиться одна-единственная звезда. Процеженная для нас сквозь все небо. Эта звезда приносила болезнь. Мы отворачивались: от нее умирали. Мы вскакивали, потрясенные потайной работой внутри вещей. Сокровище взрывало балки. При каждом треске мы бросались выстукивать дерево. Здесь все было скорлупой, готовой отдать свое ядро. Древняя скорлупа вещей, под которой, мы знали, таилось что-то совсем другое. Быть может, эта звезда, этот маленький твердый алмаз. В один прекрасный день мы отправимся в поиски за ним на север, или на юг, или внутрь самих себя. Бежать. Ясная, как знак, звезда, возвещавшая час сна, отодвигала заслонявшую ее черепицу. И мы спускались в детскую: мы уносили в наше дальнее странствие в полусне все, что мы знали о мире, где таинственный камень скользит по водам, подобно тем световым щупальцам в пространствах вселенной, которые тысячелетиями тянутся к нам, – о мире, где над домом, поскрипывающим под ветром, нависает угроза, как над кораблем; где вещи одна за другой трещат, распираемые невидимым сокровищем.– Присядь. Я думал, что ты разбился. Выпей! Я думал, что у тебя авария, и уже собирался вылететь на поиски. Ты видишь: самолет на дорожке. Племя аит-тусса напало на изаргуинов. Я боялся, что ты угодил в перепалку. Выпей. Чего ты съешь? – Отпусти меня. – У тебя еще пять минут. Взгляни на меня. Что с Женевьевой? Почему ты усмехаешься? – Да ничего. Только в кабине я вспомнил старинную песенку. И вдруг почувствовал себя таким молодым… – А Женевьева? – Не знаю. Отпусти меня. – Жак… отвечай… Ты видел ее? – Да… – Он колебался. – Проездом в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз… И Жак Бернис рассказал мне свою историю.
IV
Это был не захолустный полустанок: это была потайная дверца. По видимости она выходила в поля. Безмятежный контролер стоял у выхода на белую дорогу, не скрывавшую никакой тайны: вдоль дороги журчал ручей, цвел шиповник. Начальник станции ухаживал за розами, носильщик с преувеличенным усердием толкал перед собой пустую тачку. Но все это было маскировкой, за которой скрывались три стража запретного мира. Контролер помахивал билетом: – Вы следуете из Парижа в Тулузу, почему же вы сошли здесь? – Я поеду со следующим поездом. Контролер разглядывал Берниса. Он не решался пропустить его – не на дорогу, к ручью и шиповнику, – но в царство, куда со временем волшебника Мерлина проникают, преодолевая видимость вещей. Но вот он, должно быть, угадал в Бернисе те три добродетели, которые, начиная с Орфея, требовались для таких путешествий: мужество, молодость, любовь… – Проходите, – сказал он. Скорые поезда молнией проносились мимо полустанка: он существовал лишь для отвода глаз, как те маленькие тайные кабачки с переодетыми гарсонами, переодетыми музыкантами, переодетым барменом. Уже сидя в омнибусе, Бернис почувствовал, что жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в повозке, рядом с крестьянином-возницей, он уходил от нас еще дальше. Он погружался в тайну. Лицо возницы в тридцать лет избороздили такие глубокие морщины, что с тех пор оно больше не старилось. Он указывал на поле и говорил: – Ишь как подымаются всходы… Действительно, с какой невидимой скоростью тянулись к солнцу зеленя. – Это построил мой прапрадед! – говорил крестьянин, указывая на стену, и мы показались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными. Бернис прикасался уже к вечной стене, к вечному дереву: и он догадался, что прибыл. – Вот и поместье. Прикажете подождать? Так вот оно, легендарное королевство, заснувшее под водой, где Бернис проведет сто лет, состарившись всего на один час. В тот же вечер повозка, омнибус, скорый поезд позволят Бернису тайком осуществить бегство, которое со времен Орфея, со времен Спящей Красавицы возвращало людей в мир живых. И, прижавшись бледной щекой к вагонному окну, он снова станет похожим на всех остальных пассажиров, направляющихся в Тулузу. Но в глубине души он унесет воспоминание, о котором нельзя поведать, – «цвета луны», «цвета времени». Странное посещение: ни единого звука, ни одного удивленного возгласа. Только на дороге глухо отдаются шаги. Он, как бывало, перепрыгнул через ограду: аллеи заросли травой… Вот и вся разница. Сквозь листву на него глянул белый дом, но словно во сне, словно из недостижимой дали. Не мираж ли это, вставший перед ним у самой цели? Вот он поднимается по ступенькам, выложенным из широких плит. Эти уверенные спокойные линии порождены не прихотью, а необходимостью. «Здесь нет ничего поддельного…» В вестибюле было темно, на стуле белела шляпа: не ее ли? Какой милый беспорядок: не запущенность, а умный беспорядок – знак присутствия. Он хранит еще отпечаток жизни. Чуть отодвинутое кресло, с которого кто-то встал, опираясь рукой о стол: он видит этот жест. Раскрытая книга: кто читал ее только что и бросил? Последняя прочитанная фраза, может быть, еще звучала в чьем-то сознании. Бернис улыбнулся, подумав о множестве мелких забот, о множестве домашних дел. Здесь целый день царило движение, здесь хлопотали о каких-то насущных нуждах, восстанавливали раз и навсегда заведенный порядок. Здесь так мало значения придавалось драмам: достаточно было стать путешественником, чужестранцем, чтобы все это вызвало улыбку… «И все-таки, – думал Бернис, – здесь, как и всюду, день круглый год завершался вечером. Это был законченный цикл. А завтра… завтра опять начиналась жизнь. И шла, постепенно близясь к вечеру. И тогда можно было снова отложить все попечения: занавески были спущены, книги расставлены по полкам, экраны подвинуты к каминам. И этот водворенный покой мог бы легко перейти в вечность, он хранил ее печать. Мои же ночи, они – даже не передышка…» Бернис тихо присел. Он боялся чем-нибудь выдать свое присутствие: здесь все казалось погруженным в такую тишину, в такую неподвижность. Вот сквозь заботливо спущенную штору пробился солнечный луч. «Может быть, порвалась штора, – подумал Бернис. – Здесь старятся, не замечая этого…» «Что меня ждет?..» Шаги в соседней комнате наполнили дом жизнью. Спокойные шаги. Шаги монашенки, украшающей цветами алтарь. «Как незаметен выполняемый здесь труд! Моя жизнь сжата, как драма. А здесь столько пространства, столько воздуха, овевающего каждое движение, каждую мысль…» Он высунулся в окно, выходившее на поля. Они расстилались под солнцем, пересекаемые то тут, то там белой дорогой, по которой люди шли помолиться, или ехали на охоту, или спешили с письмом на почту. Вдалеке тарахтела молотилка: нужно было усилие, чтобы расслышать ее шум – слабый голос актера настораживает зрительный зал. Снова раздались шаги: «Прибирают безделушки, постепенно скопившиеся в витринах. Каждая эпоха, уходя, оставляет окаменелости…» До Берниса долетали обрывки разговора: – Как ты думаешь, протянет ли она хоть неделю? Доктор… Шаги удалились. Потрясенный, он молчал. Кто здесь умирал? Его сердце сжалось. Он призвал на помощь все свидетельства жизни: белую шляпу, раскрытую книгу… Снова послышались голоса. Они были согреты любовью, но спокойны. Смерть поселилась в доме, и об этом знали, но ее принимали запросто, не отворачиваясь. Никакой аффектации. «Как все просто, – думал Бернис, – жить, прибирать безделушки, умирать…» – Ты нарвала цветов для гостиной? – Да. Говорили тихо, приглушенно, но спокойно. Говорили о множестве мелочей, и близкая смерть только набрасывала на все эти мелочи сероватый флёр. Раздался смех и сам собою замер. Смех не очень громкий и веселый, но и не сдерживаемый ради театральной торжественности. – Не ходи к ней, – сказал голос, – она спит… Бернис был в самом сердце страдания, он притаился в его непосредственной близости. Ему стало страшно, что его обнаружат. В присутствии постороннего людям хочется излить свое горе, и оно утрачивает смиренную безыскусственность. Ему жалуются: «Вы, знавший и любивший ее…» Он вызывает в них образ умирающей во всем ее очаровании, и это невыносимо. Но он-то не был посторонним… «потому что я ее любил». Ему захотелось ее видеть, и он потихоньку поднялся по лестнице, вошел в комнату. Здесь царил летний день. Светлые стены, белая постель. В раскрытые окна потоком вливался солнечный свет. Дальний звон колокола, мирный и медлительный, с точностью отбивал ритм сердца, здорового, не лихорадящего сердца. Она спала. Какой светлый сон среди лета! «Она умрет…» Он сделал шаг по натертому сияющему паркету. Он не понимал собственного спокойствия. Вдруг она застонала: Бернис замер, не смея шевельнуться. Он угадывал присутствие чего-то безмерного: душа больных располагается в комнате, заполняя ее, и комната становится огромной раной. Страшно двинуть стул, сделать шаг. Ни звука. Только слышалось жужжание мух. Чей-то зов раздался вдалеке. Мягкая волна свежего воздуха ворвалась в комнату. «Вечереет», – подумал Бернис. Он подумал, что скоро закроют ставни, зажгут лампу. И тогда ночь – еще один неизбежный этап – подступит к больной. Ночник будет неустанно воздвигать перед ней навязчивые и ускользающие миражи, а вещи, неподвижно стоящие в течение двенадцати часов перед ее глазами, будут врезаться в мозг и давить невыносимой тяжестью. – Кто здесь? – спросила она. Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей. Взять ее на руки. Стать ее силой. – Жак… – Она в упор смотрела на него. – Жак… Она призывала его из глубины своей памяти. Она не искала его плеча, она рылась в собственных воспоминаниях. Она цеплялась за его рукав, как тонущий, который надеется выплыть. Но она не нуждалась ни в его присутствии, ни в его помощи – ей нужен был образ того… Она смотрит… И вот мало-помалу он становится ей чужим. Она не узнает этой морщинки, этого взгляда. Она сжимает его пальцы, чтобы позвать: но он ничем не может ей помочь. Он не тот друг, который живет в ее памяти. И, уже устав от его присутствия, она отталкивает его, отворачивается… Расстояние между ними непреодолимо. Бернис бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из дальнего странствия, из странствия смутного, о котором с трудом вспоминаешь. Что уносил он с собой: страдание? Печаль? Он остановился. Вечер просачивался в трюм корабля, давшего течь; луч заката на безделушках померк. Прислонившись лбом к окну, он заметил, как удлинились тени лип, как они сомкнулись и залили тьмой газоны. В дальней деревне зажглись огни, несколько огоньков: их можно было собрать в пригоршню. Исчезли расстояния: он мог бы потрогать рукой дальние холмы. Голоса в доме умолкли: ее прибрали на ночь. Бернис не двигался. Ему приходили на память такие же вечера. Когда, заглянув в лицо смерти, он снова с усилием возвращался в мир живых, как водолаз в тяжелом скафандре со дна океана. Разгладившееся лицо женщины гасло, и вдруг становилось страшно будущего, страшно смерти. Он вышел. Он обернулся: ему мучительно захотелось, чтобы его заметили, чтобы его окликнули; его сердце растаяло бы в печали и в радости. Но нет. Его ничто не задерживало. Он беспрепятственно пробирался между деревьями парка. Перепрыгнул через ограду: путь был трудный. Все кончено, он не вернется больше никогда.V
И перед вылетом Бернис подвел итог всей истории: – Видишь ли, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир. Но все, что я ей показывал, становилось бесцветным, серым. Первая же ночь была до того непроницаемой, что мы так и не смогли ее преодолеть. Я вынужден был вернуть ей ее дом, ее жизнь, ее душу. Один за другим все придорожные тополя. По мере того как мы приближались к Парижу, стена между нами и миром становилась все тоньше. Словно я затянул ее на дно моря. А когда позднее я пытался с ней встретиться, я мог к ней подойти, прикоснуться к ней: нас разделяло уже не пространство. Между нами стояло что-то большее. Я не знаю, как это передать: нас разделяли тысячелетия. Человек так далек от жизни другого! Она судорожно хваталась за свои белоснежные простыни, за свое лето, за свою действительность. И я не смог ее увезти. Отпусти меня. Куда же ты кинешься теперь на поиски своего сокровища, искатель жемчужин, – ты умеешь дотронуться до них на дне океана и не знаешь, как их поднять на поверхность. Я, словно свинцовой гирей притянутый к земле, я ничего не смог бы открыть в этой пустыне, по которой бреду. А для тебя, волшебника, она лишь песчаный покров, лишь видимость… – Жак, тебе пора.VI
А теперь, застыв, он грезит. С такой высоты земля кажется неподвижной. Желтый песок Сахары бесконечным тротуаром врезается в синий океан. Бернис, опытный мастер, точным движением подтягивает выступающий вправо берег, пересекает этот мыс и выравнивает курс по оси мотора. При каждом сдвиге Африки он слегка накреняет самолет. До Дакара еще две тысячи километров. Перед ним расстилается ослепительная белизна непокоренной страны. Иногда всплывает голая скала. То тут, то там, навеянные ветром, ровными рядами тянутся дюны. Самолет, как руда в пустой породе, замкнут в неподвижном воздухе. Ни килевой, ни бортовой болтанки, никаких смещений в ландшафте. Зажатый ветром, самолет висит неподвижно. Порт-Этьен – первый аэродром – вписан не в пространство, а во время, и Бернис смотрит на часы. Еще шесть часов неподвижности и безмолвия; потом он выйдет из самолета, как из кокона. И мир покажется ему новым. Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на неподвижный счетчик оборотов. Если стрелка сорвется с места и побежит по циферблату, если авария сбросит человека на пески, время и пространство приобретут совсем новый смысл, который сейчас ему даже недоступен. Сейчас он движется в четвертом измерении. И все-таки ему ведомо это обмирание. Оно ведомо нам всем. Столько образов проносилось перед нашими глазами, но мы были в плену одного-единственного, воплощавшего истинную тяжесть этих дюн, этого солнца, этого безмолвия. На нас низвергался целый мир. А мы были так слабы, что с наступлением ночи могли разве что обратить в бегство газель; наш крик не был бы услышан и за триста метров и не достиг бы человеческого слуха. Всем нам однажды довелось упасть на эту неведомую планету. И на этой планете время оказывалось несоизмеримо с ритмом нашей жизни. В Касабланке мы измеряли время часами любовных свиданий – там час за часом менялось наше сердце; в самолете мы через каждые полчаса меняли климат: меняли тело. А здесь мы вели счет на недели. Товарищи спасали нас с этой планеты. Если у нас не хватало сил, они втискивали нас в кабину; благодаря железной хватке товарищей мы снова возвращались в их мир. И вот в неустойчивом равновесии, над бездной, таящей столько неведомого, Бернису становится ясно, как мало он знает самого себя. Что пробудит в нем жажда, беспомощность, жестокость мавров? Что он испытает, когда аэродром Порт-Этьена окажется отброшенным на расстояние месяца? «Мне ни к чему мужество», – думает он. Все – абстракция. Отважившись на мертвые петли, молодой летчик опрокидывает себе на голову – как бы они ни были близки – не твердые предметы, из которых малейший мог бы его раздавить: на него низвергаются расплывающиеся, как во сне, стены и деревья. Мужество, Бернис?И все-таки, помимо его воли, из-за того, что мотор вздрагивает, это неведомое, до времени дремавшее, завладеет своим местом.
Но вот наконец этот мыс, этот залив после часового полета уже не представляют опасности; они отброшены к нейтральным странам, словно спущены с винта. Но впереди еще каждая точка чревата тайной угрозой. Еще тысячу километров надо тянуть на себя эту огромную скатерть. Из Порт-Этьена в Кап-Джуби: почтовый прибыл благополучно 16.30. Из Порт-Этьена в Сен-Луи: почтовый вылетел 16.45. Из Сен-Луи в Дакар: почтовый вылетает Порт-Этьена 16.45. Полет будет продолжаться ночью. Восточный ветер. Он дует из глубин Африки и поднимает желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось бледное солнце, деформированное горячим маревом. Оно похоже на бледный мыльный пузырь. Поднимаясь к зениту, оно постепенно сокращается до обычных размеров и становится раскаленной стрелой, жгучим острием, которое вонзается в затылок. Восточный ветер. Из Порт-Этьена вылетаешь почти при свежем безветрии, но уже на высоте ста метров сталкиваешься с потоком огненной лавы. И сразу: Температура масла – 120. Температура воды – 110. Надо подняться на две, на три тысячи метров: это единственный выход! Подняться над этой песчаной бурей: конечно! Но после пятиминутного набора высоты все в моторе перегреется. И потом: легко сказать – подняться. В воздухе, не оказывающем никакого сопротивления, самолет проваливается, самолет тонет. Восточный ветер. Слепит глаза. Солнце заволокла желтая пелена, сквозь которую изредка проступает его бледный диск и обжигает. Землю видишь только под собой, да и то!.. Я кабрирую? Пикирую? Валюсь в крен? Поди-ка разберись! На высоте сто метров упираешься в потолок. Тем хуже. Надо снизиться. На уровне земли поток северного ветра. Здорово! Свешиваешь из кабины руку. Так в быстрой лодке перебираешь пальцами прохладную воду. Температура масла – 110. Температура воды – 95. Прохладный поток? Относительно. Чуть подпрыгиваешь, каждая складка земли награждает тебя шлепком. Надоело лететь вслепую. Но у мыса Тимерис восточный ветер стелется по самой земле. И от него уже нигде нет спасения. Пахнет горелой резиной. Магнето? Соединения? Стрелка тахометра пошатнулась, сместилась на десять оборотов. Этого еще не хватало! Температура воды – 115. Невозможно подняться хотя бы на десять метров. Еле успеваешь заметить дюну, которая подбрасывает тебя, как трамплин. Еле успеваешь взглянуть на приборы. Гоп! Перемахнул через дюну. Ведешь самолет, всем телом налегая на штурвал: долго так не выдержать. Несешь самолет в руках, словно переполненную до краев чашу, еле сохраняя равновесие. В десяти метрах под колесами Мавритания катит навстречу свои пески, солончаки, гальку: целый поток балласта. 1520 оборотов. Мотор дает перебой, и тебя сотрясает здоровая затрещина. В двадцати километрах французский пост: единственный. Только бы долететь! Температура воды – 120. Дюны, скалы, солончаки отстали. Пропущены через колеса, как через прокатный стан. Только держись! Контуры растянулись, разорвались и снова сомкнулись. На уровне колес целое столпотворение. Сбившиеся в кучу и, казалось, медленно подступавшие черные утесы вдруг угрожающе вскидываются. Но ты обрушиваешься на них сверху и рассеиваешь. 1530 оборотов. «Если я разобьюсь…» До обшивки нельзя дотронуться – жжет. Из радиатора клубами валит пар. Самолет, как перегруженную шлюпку, тянет ко дну. 1400 оборотов. Последние вихри песка, взлетающего в двадцати сантиметрах от колес. Словно подкинутое лопатой золото. Дюна, заслонявшая пост, отскакивает. Бернис садится. Наконец! Разбег ландшафта затормаживается и замирает. И снова из песчаной пыли восстанавливается привычный мир.
Французский форт в Сахаре. Берниса встретил старый сержант; он смеялся от радости при виде брата. Двадцать сенегальцев взяли на караул, таким гарнизоном командует один белый в чине сержанта или лейтенанта, если он помоложе. – Здорово, сержант! – Добро пожаловать, я так счастлив! Я из Туниса… Свое детство, свои воспоминания, свою душу – сержант разом выкладывает Бернису все. Маленький стол, приколотые к стене фотографии. – Да-да, это карточки родственников. Я еще не со всеми знаком, но на будущий год я поеду в Тунис. Эта? Это подружка моего товарища. Она всегда стояла у него на столе. Он постоянно рассказывал о ней. Когда он умер, я взял карточку себе и продолжаю за него, у меня-то своей подружки нет… – Мне бы попить, сержант. – О, пожалуйста! Я так рад, что могу угостить вас вином. Для капитана у меня вина не было. Он пролетел здесь полгода назад. Потом меня, конечно, долго терзали мрачные мысли. Я писал, чтобы меня уволили: мне было так стыдно. Что я делаю? Целыми ночами пишу письма: я не сплю, у меня есть свечи. Но когда я раз в полгода получаю почту, мои письма уже не могут служить ответами. И я начинаю все сызнова. Бернис со старым сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта. Как мертва пустыня при лунном свете! Что сторожит он здесь на своем посту? Быть может, звезды. Быть может, луну… – Вы звездный пастух, сержант? – Не стесняйтесь, курите, у меня есть табак. Вот для капитана у меня табаку не хватило… Бернис узнал все, до мельчайших подробностей, об этом лейтенанте, о том капитане. Он мог бы назвать их единственный недостаток, их единственное достоинство; один был чересчур азартным, а другой слишком мягкосердечным. И Бернис постигал при этом, что для затерянного в песках старого сержанта последний визит молодого лейтенанта был почти любовным воспоминанием. – Он учил меня узнавать звезды… – Он передавал их вам под надзор, – замечает Бернис. А теперь он сам учил сержанта узнавать звезды. И сержант, постигая расстояния, думал о таком далеком Тунисе. А познакомившись с Полярной звездой, он клялся, что сразу узнает ее в лицо, стоит лишь держать ее чуть левее. И он думал о Тунисе, таком близком. – И мы летим к ним с головокружительной быстротой… Сержант предусмотрительно хватался за стенку. – Так вы все знаете! – Да что вы! Один сержант муштровал меня: «Как же вам не стыдно, вы, мальчик из хорошей семьи, такой образованный, такой воспитанный, и вы не умеете делать полуоборотов!» – О, не стыдитесь, это же так трудно… Он утешал его. – Сержант, сержант! Смотри, твой сторожевой фонарь… И Бернис указывал на луну. – Ты знаешь эту песенку, сержант?
VII
Из Сен-Луи (Сенегал) в Порт-Этьен: почтовый Сен-Луи не прибыл. Точка. Срочно сообщите сведения. Из Порт-Этьена в Сен-Луи: никаких сведений после вылета 16.45. Точка. Немедленно предпринимаем розыски. Из Сен-Луи (Сенегал) в Порт-Этьен: самолет 632 вылетает Сен-Луи 7.25. Точка. Задержите вылет, ждите прибытия Порт-Этьен. Из Порт-Этьена в Сен-Луи: самолет 632 благополучно прибыл 13.40. Точка. Пилот ничего не обнаружил, несмотря на удовлетворительную видимость. Точка. Полагает, разыскал бы самолет, если бы тот шел своим курсом. Точка. Необходим третий летчик совместных розысков глубине. Из Сен-Луи в Порт-Этьен: согласны. Даем команду. Из Сен-Луи в Джуби: южном почтовом Франция – Америка никаких сведений. Срочно вылетайте Порт-Этьен. Джуби. Ко мне подходит механик. – Я погрузил бак с водой в передний отсек, провизию в правый, запасное колесо и аптечка сзади. Через десять минут. Идет? – Идет. Блокнот. Распоряжения: «За мое отсутствие выправить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами. Погрузить на парусник пустые бидоны». И я присаживаюсь у окна. Парусник, раз в месяц снабжающий нас пресной водой, легко покачивается на волнах. Он очарователен. Он пронизал трепетной жизнью, благоуханием свежего белья всю мою пустыню. Я – Ной, которого навестила в ковчеге голубка. Самолет готов. Из Джуби в Порт-Этьен: самолет 236 вылетает Джуби Порт-Этьен 14.20. Путь караванов отмечен скелетами, наш путь отмечен разбившимися машинами. «Еще час до бохадорского самолета…» Останки, ограбленные маврами. Ориентиры. Тысяча километров песка, потом Порт-Этьен: четыре строения в пустыне. – Мы ждали тебя. Летим немедленно, пока не стемнело. Один пойдет вдоль берега, другой – в двадцати, третий – в пятидесяти километрах. На ночь приземлимся в форте. Ты что – берешь другой самолет? – Да. Клапан отказал. Пересадка. Вылет.Ничего. Это всего лишь темная скала. Я продолжаю прочесывать пустыню. В каждой черной точке мне что-то мерещится, и я волнуюсь. Но пустыня катит на меня только темные скалы. Я уже не вижу товарищей. Они кружат в своей части неба. С упорством ястребов. Я уже не вижу моря. Подвешенный над раскаленным добела горнилом, я не вижу ничего живого. Вдруг сердце мое замирает: обломки вдали… Темная скала. Мой мотор ревет, как бурный поток. И этот бурный поток заливает меня и изматывает. Как часто я видел тебя, Бернис, погруженным в свою непостижимую мечту. Я не умею это выразить. Мне приходит на память твоя любимая строчка из Ницше: «Мое знойное, короткое, печальное и блаженное лето». От поисков устали глаза. Ничего, кроме танцующих черных точек. Я уже сам не знаю, куда лечу.
– Так вы его видели, сержант? – Да, он вылетел на рассвете… Мы садимся у стены форта. Сенегальцы смеются; сержант дремлет; спускаются светлые и пустые сумерки. Один из нас нерешительно замечает: – Если самолет разбился… то понимаешь… почти никаких надежд обнаружить… – Очевидно. Один из товарищей встает, делает несколько шагов. – Плохо дело. Сигарету? И мы погружаемся в ночь: звери, люди, вещи. Мы погружаемся в ночь, освещенные бортовым огнем сигареты, и мир возвращается к своим истинным измерениям. Караваны состарятся, пока дойдут до Порт-Этьена. Сенегальский Сен-Луи на грани сна и яви. Только что эта пустыня была просто песком, не скрывавшим никакой тайны. Только что, в самолете, на каждом шагу появлялись города, а сержант, приготовившийся к долгому терпению, молчанию и одиночеству, сознавал всю ненужность такой доблести. Но вот завыла гиена и песок оживает, чей-то зов воссоздает тайну, что-то родится, куда-то устремляется, возвращается вновь… А для нас истинные расстояния измеряются звездами. Над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой снова стоит Полярная звезда. А Южный Крест стоит над сокровенным кладом.
К трем часам ночи наши одеяла становятся тонкими и прозрачными: это козни луны. Я просыпаюсь оледеневший. Поднимаюсь покурить на плоскую кровлю форта. Сигарета… другая… Так я дождусь зари. В лунном свете эта маленькая крепость похожа на тихую гавань. Надо мной переливаются звезды – все кормчие звезды пилота. Компасы наших трех машин по всем правилам обращены на север. И все-таки… Не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле, Жак Бернис? Здесь кончается осязаемый мир. Это маленькая крепость – дебаркадер. Порог, за которым только этот лунный мир, где все призрачно. Ночь похожа на сказку. Где ты, Жак Бернис? Быть может, здесь, быть может, там? Твое присутствие уже почти неощутимо! Меня со всех сторон обступает Сахара, такая призрачная, что она едва-едва выдержит прыжок антилопы и на самой плотной складке песка – вес легкого ребенка.
Ко мне подходит сержант: – Добрый вечер. – Добрый вечер, сержант. Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, сотворенное твоим безмолвием, Бернис. – Сигарету? – Не откажусь. Сержант жует сигарету. – Сержант, я завтра найду своего товарища: где он, как ты думаешь? И сержант уверенным жестом обводит горизонт. Потерянный ребенок наполняет собой всю пустыню. Бернис, однажды ты признался мне: «Я любил жизнь, которую не очень-то понимал, может быть, не совсем верную жизнь. Я и сам не знаю толком, что мне было нужно, какая-то странная неудовлетворенность…» Бернис, однажды ты признался мне: «То, чего я допытывался, таилось за каждой вещью. Мне казалось: еще усилие, и я все пойму, разгляжу наконец и унесу с собой. И вот я ухожу, взволнованный присутствием друга, лицо которого мне так никогда и не удалось раскрыть…» Мне чудится, где-то тонет корабль. Мне чудится, где-то затих ребенок. Мне чудится, что весь этот трепет парусов, мачт и надежд идет ко дну. Рассвет. Гортанные крики мавров. На земле валяются их изнуренные верблюды. По-видимому, отряд в триста ружей подкрался с севера и перебил караван. Может быть, нам поискать вблизи побоища? – Тогда – веером, идет? Тот, что в середине, полетит прямо на восток… Самум: уже на высоте пятидесяти метров этот ветер иссушает нас, как вентилятор. Мой Товарищ… Так вот где был твой клад: так вот что ты искал! Лежа на дюне, с раскинутыми крестом руками, лицом к темно-синему заливу, лицом к звездным мирам, этой ночью ты был почти невесом… Сколько порванных связей в твоем полете к югу, крылатый Бернис: ты уже не тяготел к земле, тебя связывала с ней тончайшая паутинка – один-единственный друг. Этой ночью ты весил еще меньше. У тебя закружилась голова. Беглец, твой клад блеснул тебе со звезды, стоявшей в самом зените. Паутинка моей дружбы тебя еле удерживала: нерадивый пастух, я, должно быть, заснул.
Из Сен-Луи (Сенегал) в Тулузу: южный почтовый Франция – Америка найден восточное Тимериса. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб, самолет разбился, почта цела. Точка. Следуем Дакар.

Последние комментарии
1 час 4 минут назад
1 день 14 часов назад
1 день 19 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 5 часов назад