Воспоминания о моем отце [Евгений Михайлович Сидоров] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
Евгений Сидоров Воспоминания о моем отце

Я давно хотел написать о своем отце, да как-то все откладывал на потом. Откладывал не случайно. В эти годы (Перестройка) хлынул поток информации как раз о том времени, которое я собирался освещать. Эта информация начала менять мое представление о смысле происходившего и я заколебался: стоит ли писать вообще? Ведь я в своих воспоминаниях могу сбиться на иллюстрирование сегодняшних представлений о том времени. А ценна лишь та хронология, которая увидена глазами современника. Хотелось также показать мировоззренческие позиции действующих лиц тех времен, а это сделать с ходом времени становится все труднее и труднее. Ведь собственное мировоззрение не стоит на месте, оно постоянно меняется. Прошла жизнь и сейчас все стало не таким понятным и объяснимым, как в молодости. А что-то, наоборот, прояснилось только сейчас. Но я чувствую потребность, хотя бы своим неумелым пером, донести образ моего папы до его потомков. Буду стараться писать только то, что сам видел или слышал от очевидцев. Часто это не совпадает с появившимися в прессе материалами, но, как говорится, за что купил, за то и продаю.

Михаил Дмитриевич Сидоров Папа мне чаще вспоминается таким, каким он был в довоенное время: высоким, поджарым, с загорелым и обветренным на аэродромных ветрах лицом, с серыми, внимательными глазами, густыми черными волосами, зачесанными вверх и слегка вьющимися, с неповторимым басом. Папа был всегда спокоен, уверен в себе, любил пошутить, хорошо пел, улыбался мягкой и доброй улыбкой. От него никогда никому не было зла. Товарищи называли его «Мишенька» или «Митрич». Плохих людей он сторонился, а с друзьями ему было хорошо. Надо сказать, что его отличала самостоятельность, он ни перед кем не заискивал, не искал знакомств, а люди сами тянулись к нему. Мой отец, Михаил Дмитриевич Сидоров, родился 22 ноября 1902 года в селе Алексеевском казанской губернии. Село расположено на левом берегу Камы на одинаковом расстоянии от Казани и от Чистополя, но более тяготело к Чистополю, так как через Каму не было моста. Мост у местных жителей всегда был вожделенной мечтой, но его до сих пор так и не построили. Село было русским. Среди соседних поселений встречались татарские, чувашские и черемисовские (так тогда называли марийцев), с которыми русские крестьяне жили в ладу. Ни каких-либо межнациональных конфликтов, ни напряженностей в тех краях не бывало. Самым большим озорством для мальчишек было показать татарину зажатый в кулак угол рубашки, который напоминал свой формой свиное ухо. (Татарам шариат запрещает есть свинину). За такой поступок русские родители обычно сурово карали свое не в меру расшалившееся чадо. Жители села занимались хлебопашеством, и это было главным источником их существования. Сейчас бывшее село Алексеевское преобразовано в поселок городского типа, районный центр. После образования Куйбышевского моря Кама залила пойму, где крестьяне пасли коров и гусей, сажали капусту и рубили на дрова кустарник. Это окончательно отрезало народ от сельского хозяйства, и теперь все работают или на заводе сухого молока, или в многочисленных конторах и предприятиях службы быта, таких как: промкооперация, почта, парикмахерские, магазины, учреждения районной власти, гаражи и т.д. Однако настала пора перейти от этнических и экологических проблем к жизнеописанию моих предков. Прадед мой Ефим Сидоров жил в Алексеевском во время крепостного права. Семейные предания доносят о нем скупые сведения. Говорили, будто бы он был силачом и отличался крутым нравом. Спартакиад в те времена не было, но какие-то состязания, где люди мерились силой, существовали. Так вот, прадед мой Ефим перетягивал лошадь и перебрасывал через сарай гирю, да не какую-нибудь, а двухпудовую. Если вникнуть в цифры, то это получается, что перебрасывал через сарай легендарный Ефим Сидоров тридцать два килограмма, а это намного превышает ныне существующие рекорды в толкании ядра. Видимо, эта легенда о переброшенной гире, как рассказы рыбаков о мифических уловах, с каждым новым пересказом набавляла килограммчик другой, пока не остановилась на совсем уже запредельной цифре, 32 кг! Однако Ефим Сидоров был не просто силачом, он еще был поборником справедливости, и как-то раз, возмущенный ущемлением своих прав, он в сердцах поднял руку на самого урядника! Да не просто руку, а руку крепко сжимавшую молотильный цеп. Удар молотильным цепом по эффективности можно сравнить с ударом бейсбольной битой. За этот свой акт вандализма и непослушания Ефим был наказан трудовой повинностью. Были в царское время и такие наказания. Трудовая повинность состояла в том, что он должен был отвести барину в Петербург коней. Сейчас это задание трудно осмыслить как наказание. Человека посылают в командировку в столицу. Что ж тут такого плохого? Сейчас любой бы сам вызвался съездить в Петербург по делам. Почему люди воспринимали это как наказание? Оказывается, в ту пору для крепостного крестьянина такая поездка могла обернуться гибелью всей семьи. Ведь он был главным кормильцем, а его надолго отрывали от сельскохозяйственных работ, а в крестьянском хозяйстве в сезон полевых работ или сбора урожая один день год кормит. Так что строптивость Ефима чуть не прервала весь его род. Но бог миловал. Мой дедушка Дмитрий Ефимович Сидоров был крестьянином-середняком. У него был дом, лошадь, корова и прочая живность, полагающаяся крестьянскому хозяйству. Он был грамотен, и, в отличие от многих односельчан, немного знал татарский язык. В силу этого его знания при возникновении споров или при заключении сделок между селами или между отдельными жителями этих сел и русские, и татары приходили к дедушке на поклон как к толмачу. К сожалению, дедушку я не видел, так как он умер еще до моего рождения в 1921 году, когда на Поволжье всех косил страшный голод. А вот бабушку, Аграфену Ильиничну, я хорошо помню. Это была крупная, но не толстая, женщина с очень добрым лицом. Она постоянно что-нибудь делала по хозяйству. Она по справедливости разрешала большие и маленькие проблемы, постоянно возникавшие в ее большой семье. Папа внешностью походил на свою мать. Бабушка по теперешним меркам побила все мыслимые и немыслимые рекорды. Она родила 19(девятнадцать) детей!!! Из них дожили до совершеннолетия пятеро: первенец – дочь Наталья и четверо сыновей – Алексей, Василий, Михаил и Иван. Однажды на семейном совете дедушка сказал, что есть возможность одного из сыновей обучить грамоте и освободить от крестьянского труда. Иными словами, появилась возможность кому-то одному выйти в люди. Единогласно самым достойным был признан мой будущий папа, поскольку все подметили за ним необыкновенную сообразительность и прилежность. Папа не забывал об этом до самых своих последних дней. Ежемесячно он посылал деньги матери, а после смерти ее в 1944 году старшей сестре, тете Тале. Старшему же брату Алексею он регулярно посылал посылки. Дом, в котором родился папа, стоял в узеньком переулке, сейчас он переименован и называется улицей генерала Сидорова. О детстве папы я знаю мало. Учился он в церковно-приходской школе, пел в церковном хоре, куда брали, естественно, не всех и каждого, а только обладателей хорошего голоса и слуха, да и хулигана какого-нибудь в церковный хор не взяли бы. Благодаря этому, он отлично знал наизусть всю церковную службу и позже, уже будучи офицером, мог мастерски спеть, например, партию протодиакона «Миром Господу помолимся». После школы папа поступил в высшее начальное училище, которое окончил в 1917 году. От аббревиатурного названия этого училища, ВНУ, всех его учеников звали «внучками». Но тут начались лихие времена – революция и гражданская война. В апреле 1919 шестнадцатилетним мальчишкой он был мобилизован на фронт воевать против Колчака. Колчак тогда уже подошел почти к самому Чистополю. Мобилизованным обмундирования не давали, выдали только винтовки и без всякого обучения ввели в состав действующей армии. Через три месяца, когда армию Колчака отогнали, мобилизованных отпустили по домам. О своем участии в гражданской войне папа рассказывал лишь один эпизод. Их полк тогда наступал вдоль левого берега Камы вверх по течению, как вдруг со стороны реки им во фланг крепко ударил противник. Папа рассказывал, что они кинулись бежать и бежали, что было сил, до полного изнеможения, а когда силы иссякли, и они рухнули на землю, чтобы перевести дух, выяснилось, что ударили по ним свои же матросы, которые что-то там перепутали и приняли их за противника. В эти же голодные годы по Поволжью гуляли эпидемии, и папа переболел оспой. Во время болезни ему связывали за спиной руки, чтобы он не расчесывал кожу и не срывал оспины, но несколько ямочек от сорванных оспин на лице все же осталось.. В 1921 году папа был мобилизован и направлен на Нижегородские высшие курсы артиллерийских командиров. Но вскоре эти курсы расформировали и его перевели в Оружейную школу в Ижевск. На этом кончается деревенский период папиной жизни, и наступает самое время рассказать о его сестре и братьях. Старшая сестра, Наталья Дмитриевна, вынянчила всех своих братьев, и они ласково называли ее няней. Родившись первой, умерла она последней – такое завидное здоровье досталось ей от природы. Тетю Талю я знаю хорошо, поскольку она несколько раз приезжала к нам погостить. Она была очень проста, добра и богомольна.

Тетя Таля со Светой и Таней Замуж она вышла за односельчанина, Степана Васильевича Поповнина. Муж ее был энергичным человеком, был привержен земледелию, хорошо в нем разбирался и старался при существовавших возможностях, а они были весьма ограничены, добиться большего. Он был крайне не воздержан на язык, и любил похвастаться. В Алексеевском таких называли «хвальбишками». Во время первой мировой войны он был унтер-офицером. В одном из боев он лишился глаза. Под старость, играя с детьми, он любил их шокировать извлечением глаза из орбиты. Эту процедуру он проделал и для нашей Светочки, однако никакого впечатления на нее не произвел. Она ему сказала, что вынуть один глаз это ерунда, вот попробовал бы он вынуть все зубы, как это делает старенькая бабушка из Ленинграда. Стремясь к совершенствованию своего хозяйства, Степан Васильевич поднатужился и купил молотилку, отказав себе и семье в самом необходимом. Этим приобретением он очень гордился и хвастался. Но именно это приобретение его и погубило. За молотилку он попал под раскулачивание, хотя батраков не имел, а из тягла у него была одна лошаденка. Побыв немного в ссылке, он вернулся, но уже не в Алексеевское, а в Казань, где работал большей частью в торговле. При этом он тосковал по земле. Сельскохозяйственная тема не сходила у него с языка. Правда папа запрещал ему ругать колхозы, когда он жил у нас, тем не менее, его разговоры находились около запретной черты, частенько ее пересекая. Степан Васильевич умер, когда гостил у нас в Москве, отпевали его в церкви на Шереметьевкой улице, это была одна из немногих церквей, где шли богослужения при советской власти. У Поповниных был сын Александр, которого все попросту звали Санька. Это был простой веселый парень, да к тому же гармонист. Ему по наследству от папы досталась невоздержанность на язык. Однажды он был арестован за частушки. Отсидев год, он приехал к нам поправлять здоровье. Во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен и остался инвалидом. Алексея Дмитриевича я никогда не видел. По рассказам это был человек с легким характером, певун и весельчак. Говорят, когда они с папой пели дуэтом «Липу вековую», это был номер, какого не услышишь с подмостков большой эстрады. Дядя Алексей воевал в Первой мировой войне, а во время Второй мировой войны он тоже был мобилизован и служил где-то в тылу на охране складов, потому что тогда ему было уже за пятьдесят. У Алексея было две жены ( первая умерла). От двух жен у него было пятеро детей: Евгений, Петр, Капитолина, Надежда и Вера. Все это мои двоюродные братья и живут они в Алексеевском. Василий Дмитриевич, по рассказам был очень молчалив. За весь вечер мог не проронить ни слова, хотя внимательно слушал все, что говорилось вокруг. Во время Первой мировой войны он попал под газовую атаку немцев на реке Стоход в Западной Украине. После отравления он лечился в госпитале и был демобилизован. В конце двадцатых готов он работал строительным рабочим в Свердловске, упал с лесов и разбился насмерть. Младший брат, Иван Дмитриевич, был исключительно здоров и силен. Однако по натуре он был исключительно простодушным человеком. Когда старшие шутили, он начинал смеяться еще до того, как реплика была произнесена. Он жил в Алексеевском с матерью, работал в колхозе, потом женился. Где-то в начале 30-х годов он был арестован за кражу двух мешков колхозной муки. После суда в качестве заключенного его послали на строительство канала Москва-Волга. Папа в это время учился в академии Жуковского. Узнав о судьбе Ивана, он разыскал его в Икше. Иван упал папе в ноги и поклялся, что не виноват. По его словам дело было так: он ехал на телеге, а кто-то из родни жены попросил его попутно подвезти эти мешки с мукой. Мешки оказались ворованными. Иван был взят с поличным. Среди родственников Ивана бытовало мнение, что это было обыкновенная подстава, и организовала ее жена Ивана со своим полюбовником, дабы избавиться от простодушного супруга. Уж больно все гладко вышло. Только ворованные мешки попали на телегу Ивана, как тут же вознице была устроена проверка, и он был взят с поличным. В разговоре с папой лагерное начальство хвалило Ивана, называло его ударником и обещало освободить досрочно. Но именно за ударничество он вскоре был убит уголовниками, которым не понравился ударный труд Ивана. Хотя это могло быть всего лишь официальной версией со стороны лагерного начальства. Что там произошло на самом деле, мы уже не узнаем никогда. У Ивана остался сын Юрий, который жил и работал в Можайском учхозе. Теперь возвратимся к нашему главному действующему лицу, Михаилу Дмитриевичу Сидорову. Итак, он в Ижевске. Ижевск входил в состав Вятской губернии и, хотя по численности населения превосходил саму Вятку (Киров), статуса города не имел. В царской России такие населенные пункты, где преобладала промышленность и основное население составляли рабочие, городами не считались. Например, в Иваново-Вознесенске было сто двадцать тысяч (120000) жителей, но он городом не считался, а Кологрив с населением всего восемьсот (800) человек был официально утвержден городом. В Ижевске протекала река Иж, она была запружена плотиной и водяные турбины дали энергию заводу, а образовавшийся пруд украсил город. (Правда в начале 21-ого века этот пруд превратился в общегородскую свалку отходов, что вынудило городские власти было обратиться за помощью почему-то к немецким специалистам. По их мнению, у отечественных специалистов по очистке вод квалификации было не достаточно, чтобы очистить этот природный резервуар с водой от присутствия таблицы Менделеева в полном составе. Комментарий С.Е.Сидоровой.) Завод быстро разрастался. Он был казенным, поэтому получал заказы от государства на изготовление оружия. Такой статус предприятия позволял ему не беспокоиться о наличии заказов, простои ему не грозили, экономические кризисы, бушевавшие в Европе и Америке, обходили его стороной. На заводе выпускали известные винтовки-трехлинейки, берданки, пулеметы и прочее огнестрельное оружие. На заводе образовались высококвалифицированные кадры рабочих и инженеров. Вот почему Оружейная школа была сформирована в этом городе. Город был при заводе. Как теперь говорят, завод стал градообразующим предприятием. В застройке города преобладали дома, принадлежащие мещанам и заводским работникам. Это были одно-двухэтажные деревянные дома. Среди них возвышались церкви, гимназия, вокзал, пожарные каланчи и другие сооружения общественного назначения. Коренное население, вотяки, которых теперь называют удмуртами, из окрестных деревень привозили в город дрова, сено, что позволяло решить топливную и фуражную проблемы города. В Оружейной школе курсанты проходили довольно обширный теоретический курс, подкрепленный очень хорошей практикой. Пожалуй, даже практика была на первом месте, но не хотелось бы принижать значения теоретического курса. Ведь большинство курсантов не имело среднего образования. Преподаватели школы, в основном это были выходцы с завода, отличались глубоким знанием дела. Они умели не только преподавать, скажем, тригонометрию, но и конструировать новые виды оружия, налаживать технологические процессы. А главное, они не были заражены бациллой занаучивания простых вещей, как это сейчас делают соискатели ученых степеней для маскировки своего убогого научного потенциала. Курс обучения в школе был рассчитан на четыре года. Для расширения кругозора курсанты последних курсов уезжали в Ленинград и в Тулу, что позволяло им освоить все виды стрелкового оружия, выпускаемого в нашей стране. Большое значение для становления будущего командира имела обстановка в курсантском коллективе. Курсантами были неиспорченные молодые люди, близкие к природе. Их психика не была еще надломлена потоком информации и постоянной угрозой атомной войны. Об алкоголизме и наркомании они и слыхом не слыхали. Этот исходный материал попал на почву революционного энтузиазма и воинской дисциплины, что дало замечательные всходы. Вспоминая курсантские годы, папа чаще всего обращался к теме художественной самодеятельности, в которой с неимоверным азартом участвовали все курсанты: духовой и струнный оркестры, хор, декламация, драмкружок, синяя блуза, частушки под гармонь- все эти жанры находили горячих участников и воспринимались зрителями с неподдельным интересом. Курсантами выпускалась стенгазета «Отражатель» (имелась в виду деталь винтовки). В этой газете была такая острота, какой сейчас нигде в прессе не увидишь. Нынче остро критикуются только посторонние ведомства, да правительство, критики же внутри коллектива все боятся как огня.

Отличники учебы. Второй справа Сидоров Михаил. На концерты самодеятельности приходила ижевская молодежь, в основном девушки, в глазах которых курсанты-оружейники выглядели не хуже, чем гусары в глазах тамбовских казначейш. На этих концертах папа пел соло и в дуэте. Репертуар его был неисчерпаем, но я запомнил только «У вагона я ждал», «Не шуми ты рожь», «О, кари глазки» и «Нелюдимо наше море». Последнюю вещь я слышал в тридцатые годы в исполнении папы и его друга Алеши Галкина, тоже выпускника Оружейной школы. Впечатление было незабываемое. Позже я слышал эту песню в исполнении дуэта – Михаила Дормидонтовича Михайлова и Ивана Сергеевича Козловского, так вот у папы бас был гуще, чем у Михайлова, и партия в дуэте выглядела гораздо активнее. Ну, а Козловский неповторим. На эти концерты самодеятельности приходили старшие сестры Медведевы, Ольга и Мария. После концертов обычно затевались танцы. На девушек обращали внимание курсанты. Папе приглянулась Мария, но чувствуя себя все еще деревенским, недостаточно отесанным парнем, он оценивал свои шансы не очень высоко. Но папа был человеком изобретательным, и он придумал свою собственную тактику ухаживания. Как раз в это время их отправили для продолжения учебы в Петроград, и он завел оттуда переписку, которая продолжалась больше года. В одном из писем он сделал Марусе предложение и в ответ получил согласие. В Петрограде курсанты располагались в здании артиллерийского училища, которое находилось в конце Литейного проспекта. В Петрограде папины вокальные данные были замечены и оценены по достоинству. Его даже пригласили учиться в консерватории, но обстановка в стране, да и личные устремления не позволили ему принять это предложение. В Петрограде курсанты пробыли недолго, вскоре их перевели в Тулу. Революцию мой отец принял всей душой. В Ижевске в 1922 году он был принят кандидатом в члены ВКП(б). В 1923 году прием в партию был прекращен. Мне на глаза не попадались какие-либо партийные решения на этот счет, но это, действительно, так. Об этом факте я много раз слышал упоминания самых разных людей, в том числе об этом говорил экскурсовод в ленинградском музее Ленина. Могу только предположить, что в это время обстановка в партии и в стране была крайне неясной, и никто в ней толком не мог разобраться. Лозунги о земле и мире на практике оказались фальшивыми, так как продразверстка и гражданская война с ними никак не корреспондировались. Лозунг о мировой революции угас, ибо во всех странах торжествовала реакция. Решение партии о переходе к НЭПу не соответствовало марксистским догмам, и наиболее правоверные большевики, которые исходили из текстов «писания», а не из жизни русского народа, восприняли сложившуюся ситуацию как политический крах. Многие стрелялись. В партии оказалось много перерожденцев, которые рассматривали партбилет как ключ к карьере. Тогда говорили «как хлебную карточку». Начались дискуссии, «платформы», оппозиции. К этому надо добавить разруху, голод в Поволжье, безработицу, бандитизм и т.д. Видимо, все вместе взятое и определило решение о прекращении приема в партию. Но тут в начале 1924 года умирает В.И.Ленин. Его смерть была воспринята народом как всеобщее горе, и это объединило народ всей страны и вызвало в его недрах небывалый подъем, который надо было направить в нужное русло. Был объявлен Ленинский призыв в партию, дабы усилить ее притоком свежих сил из народа и повести общество и страну к выполнению заветов Ильича. По этому призыву в 1924 году вступил в партию и мой папа. В 1925 году он закончил Оружейную школу. По успеваемости он оказался вторым, поэтому имел право на выбор должности при распределении. (Первым по успеваемости закончил школу папин друг, курсант Лопатин). Папа выбрал себе должность оружейника в эскадрилье им. Ильича в Харькове. Нацепив на петлицы два кубика – первые свои командирские знаки различия, он поехал в Ижевск, где 25 апреля 1925 года они расписались с моей будущей мамой. Моя мама, урожденная Медведева Мария Васильевна, родилась в Ижевске 26 июня 1905 года. К этому времени ей было девятнадцать лет. Она уже окончила школу второй ступени и работала учительницей в ликбезе (ликвидация безграмотности). Ее учениками были рабочие всех возрастов. Эти ученики не знали даже букв. Маруся была девушкой с русыми косами. У нее был, как тогда говорили, мечтательный характер. При этом все ее мечты простирались скорее в духовную сферу нежели в материальную. Ее отец, Василий Николаевич, работал на оружейном заводе и имел чрезвычайно высокую квалификацию. Одно время он работал браковщиком. Потом перешел в поправщики бракованных стволов, так как на прежней работе товарищи на него обижались. Он хорошо зарабатывал. Не знаю, сколько точно он получал, но хорошим заработком до Первой мировой войны считался один рубль в день. Во время войны он был забронирован от мобилизации и даже получал какой-то паек. Это был брюнет с кучерявой бородкой и черными, тревожными глазами. Он был грамотен, любил читать художественную литературу. У него были проблемы с легкими, он пытался их лечить, ездил в степь на кумыс, но избежать туберкулеза ему не удалось и умер он достаточно молодым. Возможно, из-за болезни он ко всему был настроен критически, не умел скрывать свою раздражительность, а в высказываниях порой бывал даже желчен.

Василий Николаевич Медведев Моя бабушка, Александра Ивановна, была хозяйкой дома. Она все успевала сделать: воспитывала шестерых детей, содержала дом, огород, корову. И другую живность. Почти все продукты питания она создавала сама. Во всяком случае, овощи и молочные продукты покупать не приходилось. И еще она очень вкусно готовила. Главной ее отличительной чертой была высокая нравственность. Дети ее обожали, считали лучшими мгновениями жизни те моменты, когда мама собирала их вместе, ласкала и начинала рассказывать сказки и «страхи» – страшные истории с присутствием нечистой силы. Александра Ивановна родилась в семье мясника, Ивана Васильевича Соколова. Этого моего прадеда дети и внуки величали «папашка». Он был деловой человек, а его жена, моя прабабушка, которую все звали «маменька», отличалась ангельским характером. К сожалению, она рано умерла. Александра Ивановна вышла замуж за рабочего, Василия Медведева, по любви. Папашка не рад был этому браку, но поворчал-поворчал, да и смирился. Он купил молодым дом и корову, после чего всякую помощь со своей стороны прекратил. Умер папашка в девяностолетнем возрасте в кутузке, куда его засадили в двадцатые годы большевики, требуя сдать золото, которого у него отродясь не было. У Медведевых было шестеро детей: Николай, Ольга, Мария, Лидия, Борис и Зинаида. Старшего сына звали Колюнька. Он учился в гимназии, относился к девчонкам покровительственно. Сестры признавали его автоитет, тем более, что он заботился о его поддержании и мог, при случае, больно щелкнуть. Колюнька был любимцем семьи, все-таки мальчик и первенец. По окончании гимназии он пошел работать на завод, а в стране уже во всю шла гражданская война. Ижевск, как стратегический пункт, переходил из рук в руки, за него шла ожесточенная борьба. Во время этих боев Николай сгинул безвозвратно, и никогда о нем не было даже весточки. ( Тут надо отметить, что вопреки сказкам о триумфальном шествии советской власти, которые нам рассказывали на уроках истории, ижевские рабочие революцию не приняли, и на заводе вспыхнул мятеж против новой советской власти. Мятеж был подавлен. Как повел себя Николай в эту непростую пору мы не знаем. Его сестры, видимо опасаясь того, что тень от биографии брата может пасть на их семьи, твердили одну заученную фразу: «Колюнька сгинул в гражданскую». Комментарий С.Е.Сидоровой) Ольга Васильевна, или тетя Лёля, как старшая сестра, после смерти родителей взяла на себя заботу о младших сестрах. Она вышла замуж после моей мамы тоже за курсанта Оружейной школы, Марка Макаровича Шидловского, который был моложе ее. Подробно о судьбе Шидловских я расскажу несколько позже.

Шидловские Лидия Васильевна окончила школу, поступила в Московский педагогический институт, где познакомилась с Иосифом Евстафьевичем Валюкевичем, и вышла за него замуж. К моменту получения дипломов у них уже была дочь Женя. После распределения они все вместе поехали в Омск.

Валюкевичи Зинаида Васильевна была еще совсем девочкой, когда осиротела. Ей материально помогали сестры. Каким-то образом она закончила школу и вышла замуж за удмурта Андриана Кузнецова, которого родные звали Ляно. О дальнейшей ее судьбе я тоже расскажу чуть позже. В семье был еще младший сын Борис. Он был совсем маленьким, когда опрокинул на себя кипящий самовар, после чего умер. Бабушка не смогла пережить это горе, она несколько месяцев пролежала в коматозном состоянии, а потом угасла. Ей было 33 года. Возраст Иисуса Христа. Итак, четыре сестры осиротели. Леля взяла на себя лидерство, и дети не пропали в это лихое время. Они сажали картошку в огороде, пускали жильцов и, хотя тянули на нижнем пределе, все же вытянули. Революцию девчонки сначала не понимали, потом увлеклись всеобщим подъемом духа, не осознавая до конца политической и экономической сущности происходящего. Но одно дело они сделали совершенно осознано и решительно – они отказались от религии. Они заявили: «Нам не нужен такой бог, который забрал у нас родителей!» Девочки сняли со стен иконы и вынесли их в сарай. После свадьбы папа увез маму в Харьков. На этом закончился ижевский этап его биографии.

Сидоровы В Харькове началась папина служба в авиации. Эскадрилья им. Ильича была самостоятельной частью, и командовал ею Нусберг, толстый немец. Первоначально мои родители жили в гостинице «Версаль», где им дали крохотную комнатку. Там я и родился. Из рассказов о том времени знаю только, что моей первой детской кроваткой был чемодан. Папина должность называлась старший арттехник. В его заведовании находилось вооружение самолетов: пулеметы, бомбы, фотоаппараты. Самолеты были иностранной постройки, представляли они собой бипланы, у которых верхние и нижние крылья скреплялись металлическими лентами-растяжками. Эти самолеты фирм «Ньюпор» и «Фарман» летчики называли этажерками.

В эскадрильи им. Ильича. Папа верхний, облокотился на крыло самолета. Когда мне исполнился год, папу перевели на ту же должность в 7 авиабригаду, дислоцировавшуюся в городе Зиновьевске. Это бывший Елисаветград, ныне Кировоград. Этот город я, хоть и смутно, но помню. Он находится в Правобережной Украине на полпути между Харьковом и Одессой. Во времена моего детства это был город средней величины, довольно благоустроенный. Главные улицы были вымощены булыжником и застроены двух- и четырехэтажными домами с претензией на архитектурную ценность. По городу ездили извозчики и ломовики. Навоз от лошадей моментально подбирался еврейскими мальчиками, поскольку им их родители топили печь. Был разгар НЭПа, который в этом, населенным в большей части евреями, городе, процветал. На каждом шагу были кондитерские, кафе и перукарни (парикмахерские). Украшало город здание театра, рядом с которым мы и жили. Город стоял на берегу реки Ингул. Река это не очень большая, но вполне подходящая для такого города. Помню еще плац, оставшийся от воинских частей, размещавшихся в городе до революции. Возле плаца были старинные казармы. В Зиновьевске был большой завод «Червона Зiрка» («Красная Звезда»). Завод этот выпускал сельскохозяйственные машины. По вечерам можно было наблюдать, как по улицам города маршировали длинные колонны рабочих, одетых в темные одежды. Это были части особого назначения (ЧОН) для борьбы с контрреволюцией. Рабочие пели песню: За пятiрiчку мы усi повiнни. Да сбудуватi новi машiни. Як буде тяжко, переможемо. Хай живе комуна и свобода! В городе было много военных: летчиков и кавалеристов. Кавалеристы, привыкшие к тому, что их преимущество перед пехотой у девушек обеспечено, в Зиновьевске попали в непривычную ситуацию. Местные еврейские невесты предпочитали летчиков и женили на себе не только холостых, но и женатых. Еще помню, что по городу ходила сумасшедшая старушка Софочка, ведя на поводке собачку Бобика. Говорили, что она была когда-то учительницей и сошла с ума от несчастной любви. Я Софочку боялся, а она, как на зло, все время попадалась на пути. Однажды мы были с мамой в театре и сидели на задних местах. Первые же три ряда пустовали. Мама мне предложила сесть туда, чтобы было виднее. Только я скромно присел на крайний стул, как раздался из темноты зала голос: «Мальчик! Ты мне мешаешь!» С воплем «Мама! Здесь Софочка!» я побежал на свое место, а весь зал долго хохотал. Жили мы сначала в гостинице «Рига», и я немного помню ее длинные коридоры. Потом мы переехали в дом, который назывался «Авербух» по фамилии его дореволюционного хозяина-богача. У нас было две хороших комнаты на первом этаже.

Зиновьевск. 1929 год. Автор этих строк. Из соседей помню Рутковских. Дядя Федя носил ромб и, кажется, был комэском (командиром эскадрильи). Его жена Мина Карловна была немкой из Поволжья. Это была барыня. Она спала до полудня, принимала в постели кофе и после этого, лежа в постели, начинала петь под гитару: «Летчик, я тебя люблю, Сделай мертвую петлю…» или «Никто любви не знает цыганки молодой…». Ее мать называли бабушкой Рутковской, хотя фамилия ее была Аб. Во всех списках по алфавиту она была бы первой. С их дочкой Мусей я дружил, хотя она была на четыре года старше меня. У Рутковских был доберман-пинчер по кличке Дукс. Его поили кофе и кормили бутербродами с маслом. Позже мы еще встретимся с Рутковскими. Бригада имела на вооружении те же бипланы, но среди них уже преобладали отечественные Р-5 и Р-Z. Командиром бригады был Бергольц. Его я не помню, зато врезалась в память Бергольчиха (так местные дамы прозвали его жену). Бергольчиха была законодательницей мод в Зиновьевске. О судьбе Бергольца я совсем недавно прочитал в газете. Там появилась заметка об истории одного экспоната из Музея Революции. В запаснике музея лежал платиновый с серебром знак почетного летчика Испании. История его была неизвестна. Оказывается, этим знаком был награжден Бергольц, принимавший участие в войне в Испании. При аресте Бергольца в 1937 году этот знак был конфискован и оказался в музее. В момент написания статьи его жена была еще жива, она предъявила на него свои права и получила за него хорошую компенсацию.

В центре командир бригады Бергольц. бывший офицером царской армии. Его сын Волик был старше меня на четыре года. Мы жили в одном доме, Волик заболел скарлатиной и заразил меня. Мы с ним вместе оказались в больнице. В детском зале больницы оказалось несколько десятков детей с разными болезнями от перелома ноги до брюшного тифа. Отболев скарлатиной, мы с Воликом переключились на корь, а затем на ветряную оспу. Чтобы порвать эту цепочку, Веселов выделил нам в штабе комнату, и мы там выздоравливали. Выхаживала нас мама Волика, которая во время войны была сестрой милосердия, а харч нам приносила моя мама. Часто к нам заходил сам Веселов, вот почему я его помню. Волик учился в первом классе, и мать с ним занималась. В комнате стояла классная доска. У меня при выздоровлении было хорошее настроение, и, незаметно для себя, я в четырехлетнем возрасте научился читать вместе с Воликом. В дальнейшем Веселов преподавал в Академии им. Жуковского. При введении новых званий он разменял свои ромбы на полковничьи шпалы. Волик пошел по стопам отца, во время войны он стал офицером. Через некоторое время он женился. Правда жена от него скоро ушла. Волик сильно переживал ее уход и покончил с собой. Из папиных друзей помню Чанкотадзе, Пельца, Ермакова, Кузина. Чанкотадзе после войны стал крупным руководителем гражданского воздушного флота, и, что греха таить, мы в экстренных случаях пользовались его помощью. Папа служил оружейным техником эскадрильи. Одновременно он преподавал в школе младших авиаспециалистов, где обучал оружейных мастеров.

Выпуск оружейных мастеров. Папа во втором ряду третий справа. Вскоре папа сдал экстерном экзамены за курс школы летчиков- наблюдателей (летнабов), и был назначен младшим летнабом на самолет. Теперь летнабов называют по-морскому штурманами. О том, как папа справлялся со своими обязанностями, говорит тот факт, что в бытность его летнабом, он завоевывал все первые призы по Украинскому военному округу, а именно: за бомбометание, фотографирование с воздуха и за стрельбу из пулемета. Из пистолета и винтовки он тоже стрелял лучше всех – такова была подготовка Оружейной школы. А призы были неплохие: велосипед, фотоаппарат, малокалиберная винтовка, часы, пистолет Коровина и бесчисленное количество берданок, которые папа загонял на базаре, не донося их домой. Правда полеты были очень рискованным делом. Многие знакомые тетеньки быстро превращались из жен летчиков в их вдов. У папы тоже было несколько катастроф. Однажды в Севастополе во время ночных учений они попали в луч прожектора, от которого никак не могли уйти. Будучи ослепленными, они врезались в гору. К счастью летчик и папа остались живы. На маневрах в Коростени в присутствии наркома Ворошилова они взлетали с аэродрома отрядом, то есть в девять самолетов. Два самолета столкнулись в воздухе на взлете. В одном из них был папа. Самолеты рухнули на аэродром. Соседний самолет загорелся. Пилот самолета, в котором находился папа, Массен, погиб, а папу спасла каска. У него была кожаная каска, в которой было два толстых слоя из пробки, а между ними слой стальной стружки. Один слой пробки был пробит, а остальные слои защитили голову. У папы было сильно повреждено лицо, на нем осталось семь шрамов. Голова его оказалась в бензобаке, и папа наглотался бензина. Пришел он в чувство только тогда, когда с него хотели снять сапоги. Он очнулся и крикнул: «Ну, нет. Они мне еще пригодятся!» И все обрадовались, что он жив. На соседнем самолете сгорел летнаб, а летчик Щёгликов остался жив, но лицо его на всю жизнь осталось красным от полученных ожогов. Папа выздоровел быстро. Он удрал из госпиталя через окно и приехал домой. Первое время, пока не зарубцевались шрамы, он не брился. Этот эпизод, с столкновением самолетов на взлете, лишний раз подтверждает не раз уже высказывавшееся суждение о том, что маневры 20-30-х годов, руководство которыми приписывается Уборевичу и Якиру, носили показушный характер. На них отрабатывалась не боевая выучка, а слаженность действий на параде. Никогда во время войны девятки не взлетали одновременно. Гораздо легче построиться в нужную фигуру в воздухе, чем тратить на это время на земле, да еще и рисковать при взлете. Такие групповые взлеты делались с одной лишь целью: произвести впечатление на полуграмотное начальство.

8 октября 1929 года перед вылетом в Киев на окружные состязания. В первом ряду третий слева папа, на него облокотился его друг Пельц.
В 1931 году папа был назначен начальником штаба эскадрильи, и в этом же году он поступил в Военно-воздушную Академию им. Жуковского на эксплуатационный факультет. Помню, что в Зиновьевске папа много занимался со мной. В выходные дни мы уезжали на велосипеде за город и целый день проводили на природе. Этот велосипед я хорошо помню, поскольку позже сам учился кататься именно на нем. Уже на Дальнем Востоке я ездил на нем с ребятами на рыбалку за много километров в тайгу. Велосипед был заграничным, так как произведен был в Риге, а Латвия тогда была зарубежной страной. В начале войны велосипед был сдан нами в фонд обороны. Когда папа, к своему удивлению, обнаружил, что я умею читать, он стал покупать мне детские книжки. Он я уже успел освоить его «Вестник воздушного флота» и «Красноармейское чтение». В «Красноармейском чтении» были помещены портреты всех тогдашних вождей, и я до сих пор всех их помню. Это были Сталин, Молотов, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Чубарь, Косиор, Рудзутак, Киров, Куйбышев и Каганович. Зиновьев, Каменев и Бухарин в этой книжке в качестве вождей не значились.
* * * Однажды я пришел домой заплаканный, меня обидели во дворе, и я хотел пожаловаться. Папа меня одернул, и не велел ни реветь, ни жаловаться. Он строго сказал мне, что я должен давать сдачи. «Не хватает сил кулаками, бейся ногами, грызи зубами, но не уступай. Тогда тебя никто обижать не будет.» Вскоре я последовал этим рекомендациям. Мы тогда отдыхали в Евпатории. Я играл на пляже в песочек с одной хромой девочкой. Ведь Евпатория – это известный детский курорт, где лечат костный туберкулез. Вдруг к нам подбежало несколько взрослых девочек, тоже из Зиновьевска, более того, из нашего дома. Они отняли у моей подруги совок, а все наши сооружения растоптали. От обиды мне захотелось реветь, но вспомнив папин наказ, я выбрал девочку покрупнее и впился зубами ей в спину. Противников как ветром сдуло, и мы продолжили наши игры. Мое уважение к папе было беспредельным. Мама ко мне была снисходительна, но когда моя самостоятельность заходила слишком далеко, она мне деликатно намекала на то, что папа не одобрил бы этот мой поступок. Для меня такого предупреждения было достаточно. Уехав в Москву, папа оставил нас в Зиновьевске, так как не ясно было, примут ли его в академию. Да и жить нам в Москве негде было. Помню, что в Москву мы ехали зимой в переполненном вагоне. На станции Поныри папа купил мне моченое яблоко. Это лакомство я отведал впервые, а следующий раз моченое яблоко я попробовал лет через тридцать. Может быть. Поэтому мне это событие запомнилось, как нечто значительное и прекрасное. В Москве мы остановились у папиного сослуживца Славы Крылова, который имел комнату в Люблино. Такое гостеприимство было характерно для москвичей того времени, оно было в порядке вещей. Это говорит о том, насколько был силен дух товарищества и сплоченности общества. Сейчас, когда все рассредоточились по отдельным квартирам и не хотят знать соседей по подъезду, от этого духа не осталось и следа. Крылов, насколько я помню, до Академии был партийным работником, партия послала его в авиацию, и это придало ему вес в глазах товарищей. Следующий раз после академии я увидел Крылова в 1943 году в Ташкенте. Он приходил к нам в гости. Был он военпредом, по званию всего лишь майором, вид имел несколько пришибленный. Оживился он только после того, как они с отцом распили «Ликер шасси», смесь спирта с глицерином, которую заправляют в систему гидравлики самолета. Только после этого возлияния он немного разговорился. Он сказал, что ему, с его активным партийным прошлым, с большим трудом удалось избежать репрессий, но морально он надломился и запил. А тогда в 1932 году он был молодым жизнерадостным курносым человеком. Вскоре папа получил жилье в Москве. Это была крохотная комнатка в деревянном одноэтажном бараке в районе Всехсвятского. Теперь здесь проходит улица Чапаева, а недалеко находится станция метро «Сокол». В этой комнате было очень холодно, деревянная стена изнутри покрывалась льдом, поэтому на нее приходилось вешать одеяло. Больше об этом жилище я ничего не помню. Через короткое время мы переехали в другой дом на Лагерный участок. Этот второй дом тоже был деревянный, но уже двухэтажный. У нас была большая комната в трехкомнатной квартире. Соседями были семьи папиных соучеников, Левандины и Анохины. Лагерный участок находился на краю Ходынского поля. Сейчас на этом месте находятся Песчаные улицы. Быт был тяжелым: дрова привозили на лошадях, воду тоже. Ходынское поле описано Львом Толстым, как место, где происходило народное гулянье по поводу восшествия на престол царя, Николая II. Во время гулянья была запланирована раздача бесплатного угощения и спиртного. Среди жаждущих выпить на дармовщину возникла давка, много людей погибло, за что царя прозвали Николаем Кровавым. Представляю, что было бы сейчас в подобной ситуации, если народ совсем озверел и готов давиться за водку по очень высокой цене. В описываемое время Ходынка была занята летними лагерями различных военных учебных заведений. Здесь конники рубили лозу, ползали по полю ромбовидныетанки системы «Рено», сновали танкетки, преодолевала препятствия и бегала в цепях в атаку пехота. Иногда перед военными выступали вожди с бородками. Они забирались на грузовик, используемый в качестве трибуны, и толкали речи, яростно жестикулируя, сверкая очками и тряся своими бородками. Однажды в одном из таких ораторов я опознал Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосту. Призывали эти вожди обычно к мировой революции и ратовали за международную классовую солидарность. В 1933 году мы переехали в общежитие Академии на Красноармейской улице. Он возвышался над соседствующими старенькими деревянными домиками и голубятнями. Этот дом казался прообразом будущей Москвы. Но это снаружи. А внутри это было помещение с коридорной системой. В коридор выходили двери двухкомнатных квартир. В каждой квартире жило по две семьи, а вот кухня была одна общая на сорок квартир, она была заставлена примусами и керосинками. Это очень сплачивало коллектив жен командиров. Коллектив был именно сплоченным, а не дружным. Каждая из дам очень много о себе воображала, что вступало в противоречие с унизительными условиями существования, а уж об интеллигенции и говорить не приходилось, с этим было слабовато. От нашего дома начинался чудесный Петровский парк, простиравшийся до стадиона «Динамо». В то время в парке росли дубы и лиственницы. Все они погибли в суровую зиму 1939-40 годов во время советско-финской войны. Сейчас парк еще жив, но уже засажен чем попало, весь изрезан автомагистралями и затоптан сильно разросшимся населением. Наш район тогда назывался Ленинградским шоссе, которое начиналось у Триумфальной арки, стоявшей у Белорусского вокзала. Позже эту арку снесли как, якобы, мешавшую дорожному движению. А лет через двадцать ее снова восстановили, но уже около Бородинской панорамы. Это всего лишь один из примеров безжалостного отношения к нашей истории. А может быть, это говорит о том, что нашу историю и культуру кто-то хочет уничтожить? Вдоль Ленинградского шоссе ходил только один трамвай, это был маршрут №6. Его кольцо было во Всехсвятском. Он проходил под Триумфальной аркой, шел через всю Тверскую улицу, через центр города, каким-то образом оказывался на Разгуляе и уже оттуда шел к своему кольцу в Сокольниках. В трамвае пассажиров обычно было не густо. Считалось, что десять копеек – это дорого. К тому же обычно все работали недалеко от своего местожительства. Окружающие улицы, в том числе и Ленинградское шоссе (теперь это Ленинградский проспект), были застроены почти по-деревенски. Тротуары и проезжая часть были вымощены булыжником. На этом малоэтажном фоне самым ярким пятном был Петровский дворец, в котором как раз и размещалась папина Академия. Из других значительных сооружений можно отметить стадионы «Динамо» и «Юных пионеров», центральный аэропорт, кондитерскую фабрику «Большевик», фабрику-кухню, ресторан «Яр», впоследствии переименованный в гостиницу «Советская», а также клуб Академии им. Жуковского. В 1933 году я пошел в школу, которая находилась чуть подальше теперешнего метро «Аэропорт». Школа была деревянная, двухэтажная. Во дворе находилась двухэтажная уборная: верх для мальчиков, низ для девочек. В школе был цыганский класс, в котором учились цыганята всех возрастов. Говорят, что в энциклопедии, изданной в Германии, было написано, что в районе Ленинградского шоссе живут летчики и цыгане. В начале тридцатых годов в Москве был очень сильно развит частный промысел. На улице лотошники торговали пугачами и пробками к ним, раскидаями на резиночке, «уди-уди», свистульками, петушками на палочке и прочей дребеденью. По дворам ходили старьевщики-татары и громко возвещали: «Старье берем!», с ними перекликались точильщики: «Ножи-ножницы точим!». Повсюду рыскали цыгане с профессионально острыми взглядами. Среди детей и подростков было много шпаны, звучала речь на воровском жаргоне, слышалась и матерщина, но меньше чем сейчас и не такая примитивная. Иногда трудно было пройти в школу или вернуться домой, поскольку мы постоянно воевали то с масловскими, то с зыковскими, то с башиловскими ребятами. На наших глазах Москва в 1933-36 годах преображалась. Большие изменения происходили на Тверской, которая расширялась и застраивалась красивыми зданиями. Параллельно со строительством новых зданий шел снос старины. Были снесены остатки Белого города, Страстной монастырь и многое другое. Напротив Моссовета стояла статуя Свободы. Представляла она собой фигуру женщины, свободной от одежд. Ее тоже снесли. Свобода становилась очень немодной. Недалеко от нашего дома была построена четырехэтажная кирпичная школа, и в 1935 году весь наш третий класс был туда переведен. Теперь об Академии. Она называлась Военно-Воздушной Академией (ВВА) им. Жуковского. Начальником Академии был Тодорский. Он был родом из Тверской губернии, написал в 1918 году брошюру «Год с винтовкой и плугом». Брошюру эту положительно воспринял В.И. Ленин, после чего Тодорский стал знаменитым военным деятелем. До академии он с авиацией никаких контактов не имел. В 1937 году он был арестован и репрессирован, но выжил, а в восьмидесятые годы он написал статью, в которой провел градацию по рангам репрессированных высших военачальников, которую цитируют и поныне. Комиссаром Академии был Смоленский. В Академии было три факультета: командный, эксплуатационный и вооружения. Папа учился на экфаке в тринадцатом приеме. Начальником факультета был Быстров, носивший орден Бухарской звезды. Академия располагала приличными научными кадрами. Читая литературу об Академии, я часто наталкиваюсь на фамилии академиков Чаплыгина, Ветчинкина, Стечкина, Юрьева и других. Когда папа учился, этих фамилий вовсе не упоминали. С большим почтением произносились фамилии Пышнова и Курина. Тот курс экфака, на котором учился папа (почему-то курсы у них назывались приемами, был сведен в роту. Командиром роты назначили папу. В роте было более ста человек. Среди них были уже зрелые командиры с двумя шпалами на петлицах и совсем молодые, не служившие ранее в армии и носившие голубые петлицы без знаков различия. У папы на петлицах было четыре кубика. Национальный состав роты был очень пестрым, достаточно сказать, что у них был даже кореец Ким. Учились с ними также две женщины, Коровина и Бразинская. Правда Коровину в середине учебы отчислили. Успеваемость была разная. У папы, как у командира роты, сосредотачивались сведения о сдаче зачетов и экзаменов. Круглым отличником был Водяной, к нему подтягивались Гершгорн и Молотов. Плохи дела были у Когана, Бразинской и Муховикова. Папин средний балл был порядка 4,5.

Курсанты Военно-Воздушной Академии им. Жуковского. В первом ряду: Балашкан. Гершгорн, Соколов, Винский, Уралов, Воробьев, Заморин, Молотов, Сидоров, Скоробогатов. Во втором ряду: Румянцев, Невинный, Гульник, Алексеев, Крылов, Белинский. Вся рота была очень дружным коллективом. Спайка происходила по линии общественной работы, в которую входили спорт, самодеятельность, кружки, стенгазета и вылазки на природу. В подражание Кукрыниксам у них образовалось трио Бодропетус, куда входили Бодров, Петухов и Усаченко. Эти ребята «продергивали» в газете товарищей стихами и шаржами. Никто не смог избежать этого продергивания. Кое-что я запомнил. Например, Коган участвовал в автопробеге по Каракуму и заработал за это такие стихи. Ему ни пафос нашей стройки, Учеба тоже не нужна. Пусть на зачетах будут двойки, Поймать бы только ордена. В Академии велась и большая партийная работа. Парторгом был Степан Хадеев. В то время партийная деятельность была очень сложной. С одной стороны, то есть сверху, поступали жесткие установки, с другой стороны, то есть снизу, существовала еще внутрипартийная демократия, различие мнений и стремление отстоять свою собственную позицию. Среди слушателей были и такие, которые в свое время побывали и в меньшевиках и в оппозиционерах. Этих оппозиций в двадцатые годы не счесть было по пальцам обеих рук. Как раз в ту пору, когда папа учился в Академии, в партии начались чистки рядов. Эти собрания проводились в клубе Академии, доступ в зал был свободный, и мама ходила на те три чистки, которые касались папы. Чистки проходили так. Вызывался на сцену коммунист, там он рассказывал о себе, а затем отвечал на вопросы слушателей. Вопросы большей частью касались классового происхождения, родственных связей, участия в оппозициях, группировках и блоках. После ответа на вопросы начинались выступления всех желающих, в том числе и беспартийных. Ответчику давалась оценка. Не пропускались мимо никакие пьянки или другие аморальные поступки. Иногда звучали и такие обвинения: « Мы видели, как он заходил в торгсин, значит, у него водится золото, и он хочет поддержать мировую буржуазию». Трудно было доказать, что человек просто зашел поглазеть на настоящие товары. Впрочем, и это осуждалось, как, в лучшем случае, проявление мещанства. Некоторым эти чистки стоили партбилета, другие с большим трудом отбивались, истрачивая массу нервного потенциала. Папе же на всех чистках не давали дойти до сцены и криками «знаем» и «надежен» возвращали его на место. Не последнюю роль в жизни папы занимал спорт. Папа брал первые призы по стрельбе, а на лыжах здорово отставал. Тогда они заключили гласный договор с Замориным, который здорово бегал на лыжах, но плохо стрелял. Договор этот был о взаимном подтягивании, как тогда говорили. Я тоже участвовал в лыжных гонках на аллеях Ленинградского шоссе и обгонял добрую половину слушателей. Все они меня знали. Любил я смотреть и на строевые занятия, которые проходили в Петровском парке. Мне очень нравилось смотреть, как летчики в нарядной форме маршируют и перестраиваются. Синие френчи, белые сорочки, черные галстуки, редкие в то время синие пилотки, начищенные хромовые сапоги – все это двигалось четким шагом в стройных шеренгах. Всем этим движением управлял мой папа. Я был горд до умопомраченья. Главное, конечно, была учеба. К сожалению, об этой стороне я ничего припомнить не могу. Что я мог в свои девять лет понимать в аэродинамике или диамате? Со всеми слушателями у папы были дружеские отношения, но больше других я помню Заморина, Невинного и Молотова. Петр Геннадиевич Заморин пришел в авиацию с флота. Это был человек огромной силы, благодушный здоровяк. Он всегда улыбался, очень метко острил, и все, кто находился рядом с ним, всегда заражались его весельем. Его жена, Муська, не сводила с него влюбленных глаз. Иногда он приглашал к себе особо доверенных лиц, в том числе папу, и они в глубокой конспирации раздавливали бутылочку. По окончании Академии все выпускники были приглашены в Кремль на банкет. Заморин получил назначение в Севастополь и от этого находился в приподнятом настроении. После банкета он крепче других держался на ногах. Будучи преисполненным энтузиазма, он взялся развозить по домам сильно захмелевших товарищей. Видимо, дома у благополучно доставленных выпускников празднование продолжалось. Когда Петр Геннадьевич возвращался к себе домой глубокой ночью, он выпал из трамвая, и ему отрезало обе ноги. Жена Муська его сразу же бросила. Но он не сдался. Он освоил протезы, остался служить в Академии, где заведовал лабораторией. Петро Данилович Невинный обладал очень сильным характером. С его мнением все считались. Он давал самую верную оценку людей и их поступков. Однако сам Невинный не всегда был безгрешен, и не всегда оправдывал свою фамилию. Не желая укрощать свою гордыню, он нет-нет да и устраивал дома скандалы. Во время войны Невинный был главным инженером армии, дослужился до генерала. Молотов был одним из самых старших по возрасту, наиболее умным и интеллигентным из всех слушателей. К своему несчастью он в юные годы имел какое-то отношение к троцкизму. На партийных чистках ему здорово доставалось, но он всегда находил аргументы в свою защиту. Немало значила и поддержка товарищей. Все же, по слухам, в 1937 году он был репрессирован. Уже однажды упомянутый парторг Степан Хадеев по окончании учебы остался в Академии и во время войны. В эвакуации на Урале несколько месяцев он исполнял обязанности начальника Академии. Но эта должность оказалась ему не под силу, и его перевели в Сталинобад (ныне Душанбе) начальником авиаучилища. Несколько раз он бывал у нас в гостях в Ташкенте. Из его рассказов я запомнил, что у него вышел конфликт с академиком Юрьевым. Юрьев подал в международный суд иск на какого-то американского ученого, отстаивая свой приоритет в области вертолетостроения (до войны вертолеты называли автожирами). Хадеев, будучи скорее политработником, чем ученым, пытался доказать Юрьеву, что судиться с союзником грешно, а Юрьев, в свою очередь, организовал его изгнание из Академии. Позже Хадеев возглавил харьковское высшее авиационно-инженерное училище, стал генерал-лейтенантом. Но больше всего папа дружил с Алешей Галкиным, с которым вместе служил в Ижевске и Зиновьевске. Мы часто ходили в гости друг к другу. Играли в домино, пили чай. После чая папа с Алешей пели. Первой песней, которую запевал Алеша, была «Ой, да ты, калинушка». Их дуэт неизменно имел успех на концертах художественной самодеятельности. Сначала они пели a capella. Со временем они стали петь под аккомпанемент: папа взял в клубе казенный баян и выучился на нем играть. Алеша учился на вооруженческом факультете и после Академии попал на полигон в Ногинск, где и прослужил всю оставшуюся жизнь.


Папа. 1934 г. Алеша Галкин
* * * Жили мы очень скромно. Папа получал 375 рублей. Для сравнения скажу, что машинистка в учреждении получала 500 рублей. Помню, что в день рождения мне мама пекла пышки и покупала стакан клюквы. На это пиршество приходили дети и дарили кто ластик, кто карандаш. Продукты были по карточкам, магазины назывались закрытыми, так как там могли делать покупки только прикрепленные люди. Промтоваров практически не было. Скудная одежонка распределялась по талонам. Мама достался хлопчатобумажный джемпер, и он стал ее выходным нарядом. Летом меня отправляли в колонию. Так тогда назывались лагеря для детей, не достигших еще пионерского возраста. Однажды мама сняла на лето комнату в Серпухове, куда в лагеря выехала папина рота. Мы жили рядом со старинным монастырем. Неподалеку протекала черная на цвет река Нара с совершенно ледяной водой. Купаться мы ходили на Оку – широкую и мелкую реку с теплой водой и песчаными берегами. По берегам Оки росли сосны, а в сосновом бору в изобилии росла земляника. Питались мы в командирской столовой. Однажды мы пришли в столовую с опозданием. Все столы были заставлены грязной посудой, и мы с мамой приютились со своими тарелками среди этого хаоса. Неожиданно в столовую вошел высокий военный с орденами и ромбами и гневно спросил: «А здесь что за свиньи обедали?» Ему почтительно ответили: «Семьи комсостава». Высокий военный разразился тирадой в адрес «этих свиней», и с тех пор нам запретили там питаться. Это был начальник ВВС страны Алкснис. В какое-то лето папа возил меня в сестрорецкий детский санаторий. Целый день он мне показывал Ленинград, и я на всю жизнь запомнил Петропавловскую крепость, Неву и Исаакий. В санатории со мной в палате жил мальчик Фельдман. Однажды я ему с утра разбил нос, а был родительский день, и к нему из Ленинграда на машине прикатили родители. Его отец был членом Военного Совета Ленинградского военного округа. Большая шишка. Руководство санатория извинялось за разбитый нос мальчика и бросало на меня испепеляющие взгляды. После этого меня все время наказывали и не пускали купаться в Финский залив. В 1937 году фамилия Фельдмана фигурировала в одном списке с Тухачевским, и я сразу его вспомнил. В это время происходила индустриализация страны. Где-то возводились домны, рылись каналы, строились заводы. Среди рабочих появилось стахановское движение, призванное заставить рабочих стремиться к перевыполнению норм. Многое в этом движении носило показушный характер. Развитие авиации, например, проходившее довольно высокими темпами, но на достаточно низком техническом уровне, сопровождалось пропагандистской шумихой вокруг рекордных полетов. Это и перелет Чкалова через Северный полюс в Америку, и рекордный перелет на дальность женского экипажа – Гризодубова, Раскова, Осипенко. Этот явный пиар создавал видимость благополучия в развитии отечественной авиации. Над Москвой летал огромный самолет «Максим Горький». У него на крыльях размещалось шесть моторов, а над фюзеляжем было еще два мотора системы «тяни-толкай». Этот самолет медленно летал над Москвой в сопровождении двух маленьких самолетиков. По округе с него разливалась музыка. Как правило, это был фокстрот «Китайская серенада». На самолете катались в порядке поощрения ударники труда. В конце концов, показуха закончилась катастрофой. Внезапно один из сопровождающих самолетов с пилотом Михеевым стал крутить фигуры высшего пилотажа и врезался в крыло «Максима Горького». Ударники стали выпадать из развалившегося самолета прямо в креслах. Самолет рухнул на поселок Сокол и придавил старушку, копавшуюся в огороде. На центральном аэродроме один за другим готовились к полету стратостаты. Их надували газом несколько дней, потом надутые оболочки ждали погоды прямо напротив нашей школы. Помню, что их верхушки скрывались в тумане. После запуска они поднимались очень быстро и на большой высоте казались клочками белой бумаги, пока совсем не исчезали из вида. Стратонавты, Годунов и Прокофьев, поднялись на высоту 19 километров и установили мировой рекорд. Федосенко, Васенко и Усыскин поднялись на 22 километра, а там гондола оторвалась от оболочки и полет окончился трагедией. Стратонавтов похоронили у кремлевской стены. Эти катастрофы говорят об истинном уровне тогдашней техники, а также об организаторских способностях авиационного начальства. К этой же серии можно отнести поход ледокольного парохода «Челюскин», который при попытке преодолеть Северный морской путь за одну навигацию, был в конце пути затерт льдами и утонул. На пароходе оказалось полно женщин, одна даже родила в Карском море девочку, названную по такому случаю Кариной. Утонул завхоз экспедиции Могилевский. Остальные высадились на льдину, дрожа от холода и страха. Оттуда их вывезли на самолетах полярные и военные летчики. Вокруг этого события был устроен настоящий бум: сыпались награды, переименовывались улицы, станции, гостиницы, устраивались торжественные шествия. Но народ не обманешь. Народ распевал песенку на мотив «Мурки»: Капитан Воронин «Челюскин» проворонил. Далее шел не совсем печатный текст. «Трудовой подвиг» Стаханова тоже носил показушный характер. К рекордной добыче угля длительное время готовилась вся шахта, и потом во время ударной трудовой вахты все службы работали исключительно на Стаханова. Такой ритм труда и шахта, и сам Стаханов смогли выдержать только одну смену. И до сих пор об этой смене до нас доходят отголоски, хотя специалисты еще тогда оценили эту акцию как блеф. Другим характерным явлением того времени была смена вождей. Одни вдруг стали гибнуть под пулями врагов и умирать от болезней. (Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, Горький). Другие оказались оппозиционерами. (Бухарин, Рыков, Томский, Пятаков и др.) Третьи же, наоборот, безудержно расхваливались. (Каганович, Ворошилов, Буденный). Сталин отстоял от всех на большом расстоянии и уже начал обретать ореол святости. Все очень жалели Кирова и Куйбышева, негодовали по поводу происков троцкистского охвостья и старались выявить вредителей в своей среде, не понимая, что самым большим вредительством были неестесственно быстрые темпы ради самих же темпов. Темпы – это не показатель роста благосостояния народа или экономического потенциала страны, а способ саморекламы, способ «поймать ордена». Индустриализация, конечно, была нужна и нужна безотлагательно. За нее голосовали все, поскольку все понимали неизбежность второй мировой войны. К усилению темпов призывала старая гвардия большевиков, которой нетерпелось все срочно привести в соответствие с догмами, совершать скачок за скачком, пренебрегая экономическими законами, наплевательски относясь к людям и природе. В результате этого достижения в области индустриализации сопровождались разрушением товарно-денежных отношений, ломкой человеческих судеб и расхищением богатств родной земли. Тут я невольно сбился на рассуждения, доступные мне сегодня, тогда же, в 1933 – 1936 годах, я слышал все время фразу «надо, во что бы то ни стало», и это отразилось на становлении моего характера. Кое-что вызывало недоверие и в моем детском мозгу. Например, читая материалы процессов, на которых бывшие вожди оговаривали себя, признавались в шпионской деятельности и экстремистских намерениях в отношении Сталина и Молотова, я удивлялся неправдоподобности этих признаний и той легкости, с которой они произносились. Но уже тогда всеми было усвоено, что о таких вещах надо держать язык за зубами. Но вернемся к папиной учебе в Академии. В 1935 году были впервые введены воинские звания. До этого знаки различия меняли с изменением должности, никаким званиям они не соответствовали. Тодорский стал комкором, Смоленский – дивизионным комиссаром, Быстров полковником, папа старшим лейтенантом с тремя кубиками в петлицах и шевронами на рукавах. Почти у всех при переаттестации ранги были понижены. Наш сосед по Зиновьевску, Рутковский, жил в нашем доме на Красноармейской улице и преподавал в Академии. Так вот ему при переаттестации дали звание майора, и он ромб сменил на две шпалы. Это понижение он тяжело переносил, несколько раз он приходил к нам домой и плакал. Видимо, он почувствовал, что близится закат его жизни. Во время войны его жена и теща, как немки, были сосланы в Казахстан, а его самого арестовали в Оренбурге в 1942 году по смехотворному обвинению. Его обвинили в том, что в его учебнике по бомбометанию были умышленно допущены ошибки, из-за которых наши бомбардировщики плохо попадали в цель. Мина Карловна была реабилитирована в конце 50-х годов, приехала в Москву и получила квартиру в Марьиной Роще. Она часто наведывалась к нам, и своим громким голосом, с большой долей юмора, рассказывала, как она пасла коз в ссылке. Муся жила с ней. Она работала помощником режиссера в театре им. Ермоловой, но пила по-черному. Сначала ее переводили из театра в театр, потом стали понижать в должности, пока не понизили до уборщицы. После смерти Мины Карловны, у которой развился рак гортани, она срочно разменяла квартиру. Несколько раз она забегала к нам занять десяточку, но поскольку долг она не возвращала, то скоро перестала заходить и исчезла с горизонта совсем. В 1936 году у слушателей было дипломное проектирование и защита проектов. Папа проектировал самолет «Р-зет». Наступили ответственные времена – защита дипломных проектов и получение назначений. Выпускникам Академии присваивалось звание военинженер 3 ранга (1 шпала). В нашей семье к этим событиям прибавилось еще одно – мама ждала ребенка. И вот дипломные проекты защищены, на занятия идти не надо, слушатели собирались в группы, обсуждали свои перспективы, делились воспоминаниями. Заморин зубоскалил про Даниельянца. Говорил, что тот перед госкомиссией плясал «Шамиля» с указкой вместо кинжала, темпераментно перебегая от чертежа к чертежу. Мама легла в родильный дом, но никак не могла разрешиться. Папа гулял со мной по Москве и носил маме передачи. Наконец-то, папа получил назначение в Хабаровск инженером бригады. Должность после окончания Академии максимальная, но всем присвоили звание военинженера 3 ранга, а папа остался старлейтом. Он никак этого не комментировал, молчал, а мы с мамой его не тревожили вопросами. 1 июля 1936 года у меня родился братик. Мне предложили дать ему имя, и я назвал его Альбертом в честь своего друга Алика Бондаренко, с которым мы сначала дрались, а потом стали неразлейвода. Братик был упитанным и медно-рыжим. Папа говорил, что это в его деда. Отъезд задерживался, т.к. новорожденному надо было дать окрепнуть, да и роженице тоже. Числа двадцатого июля мы поехали в дальний путь. Вагон был купейным. Мы занимали три полки, а четвертая принадлежала очень деликатному военврачу, которого мама величала «Лазарь Моисеевич», как Кагановича, так как не могла выговорить его более сложного имени. Он улыбался и не возражал. По расписанию поезд должен был прибыть в Хабаровск на седьмые сутки, но расписание соблюдалось только до Иркутска. В Забайкалье начались стоянки в истом поле и у светофоров. За время поездки все в вагоне перезнакомились. У нас даже сложился какой-то своеобразный быт. Большая часть пассажиров преодолевала этот маршрут не впервые, поэтому им было заранее известно, чем знаменита следующая станция. Киров славился деревянной игрушкой, Кунгур – изделиями из горного хрусталя, Новосибирск – десятками сортов хлеба, Ачинск – пивом, Иркутск – омулем и т.п. На станции Байкал мы с папой побежал на озеро, чтобы зачерпнуть воды из славного моря. Уровень воды оказался низким, папа взял меня за ноги, опустил вниз, и я зачерпнул в бутылку холодной байкальской воды. Вначале мне многие пассажиры казались буржуями, потому что они были пузатыми и лысыми. Ни в Зиновьевске, ни в Москве в нашем окружении таких не было. Одного «буржуя» я даже побаивался, пока он, возвращаясь из вагона-ресторана навеселе, не запел «Наш паровоз, вперед лети!». Другой «Буржуй» ехал с сыном и молодой женой, которая была чуть постарше этого сына. Нам было ехать довольно трудно: нужно было стирать и сушить пеленки. В поезде было жарко, от паровоза было много сажи, однако мы приспособились. Мы с папой обедали в вагоне-ресторане. Там «буржуи» пили пиво, а выглядело это так, как показано в кинофильме «Девушка с характером». Однажды там произошел случай, который я запомнил надолго. За одним из столов пировала с водкой группа пассажиров пролетарского вида. Вдруг один из пирующих встал и заплетающимся языком, но достаточно громко объявил: «Товарищи! С нами едет Алексей Стаханов!». Стаханов, который действительно в этот момент находился в вагоне-ресторане, почему-то сильно стушевался и убежал с глаз долой под аплодисменты всех присутствовавших. Очень долго ехали вдоль реки Шилки. Из окна открывались виды один другого краше. Река в окружении сопок, дремучая тайга с буреломом – вот названия тех пейзажей, которые написала сама природа. Состав часто стоял на перегонах в ожидании чего-то. Народ вылезал из вагонов и собирал голубику. По гудку все быстро занимали свои места. Буржуй-молодожен наломал себе банных веников. К концу пути он обнаружил, что его молодая жена ухитрилась ему изменить, пока он попивал свое пиво. Тогда он устроил ей экзекуцию банным веником. На десятые сутки мы приехали в Хабаровск. Гарнизон оказался в нескольких километрах от города и назывался Большой аэродром, в отличие от Малого, находившегося южнее, около Красной речки. Городок разместился на бывшем болоте, о чем свидетельствовали там и сям торчавшие кочки, а также ямы, служившие убежищем для лягушек. Городок состоял из четырех рядов восьмиэтажных деревянных домов, Дома Красной армии, одноэтажной начальной школы, стадиона, красноармейских казарм и столовой. Нас ждала квартира, которую занимал прежний инженер бригады. Это были две комнаты в трехкомнатной квартире. В маленькой комнатке жили бездетные супруги Суричаны, большие любители кошек. Суричаниха была татаркой и работала библиотекарем в Доме Красной армии, а Суричан был физруком бригады, местным паном спортсменом. Отопление в доме было печное, вода в колонке, довольно далеко от дома расположенной. Напротив дома стоял сарай с отсеками для каждой семьи. В сарае хранился уголь и содержались куры. Куры были у всех, а Мушатиха с первого этажа развела целую птичью индустрию – у нее были гуси, утки и около ста кур. Перед домом были палисадники и клумбы с цветами – результат самодеятельности жителей. В день нашего приезда цветы со всех клумб срезали, потому что на наш аэродром прилетел Чкалов с острова Удд.

Герой Советского Союза летчик В.Чкалов Пока мы ехали в поезде, он сделал перелет на Дальний Восток, но заблудился и сделал вынужденную посадку на острове в Охотском море. Его оттуда уже на другом самолете привезли в Хабаровск. Там он получил первую порцию причитающихся почестей. Женщины были в экстазе, а летчики делали вид, что не заметили его неудачи. Чкаловский самолет чинил папа, а красноармейцы строили для него деревянную взлетную площадку. Чкалов полетел в Москву, но это перелет тоже был неудачным. Первую посадку он должен был сделать в Чите, но вернулся из-за непогоды. Чкалов не полетел за показывающим ему дорогу Н.И.Цыбиным, местным летчиком. Цыбин вернулся из Читы после Чкалова, а когда погода улучшилась, вновь повел его туда, передав эстафету Чите. Наш городок находился в окружении заводов. Западнее, за Волочаевским оврагом, находился авторемонтный завод им. Горького. Ныне это завод по изготовлению парогенераторов для атомных подводных лодок. Южнее – депо Хабаровск-II, лесопилка и Малый аэродром. Севернее – кирпичный заводишко, в песчаных грядах которого мы находили много янтарей. Правее Малого аэродрома текла река Уссури, широкая, голубая, теплая и ласковая. Позади депо в отдалении виднелись синие горы. Это был хребет Хехцыр, окруженный девственной тайгой. В эту тайгу наши летчики ходили на добычу белок и кедровых орехов. А наш сосед по этажу, комэск Харитонов, однажды заколол там кинжалом медведя. Амур от нас был далековато, и я увидел его не сразу, а лишь спустя некоторое время. Авиабригада была смешанной. В нее входило три эскадрильи: бомбардировочная, истребительная и разведывательная, а также парашютно-десантный полк. Эскадрильи подразделялись на три отряда, отряд на три звена, а в звене было три самолета. Командиром бригады был комбриг Сергей Кондратьевич Горюнов. Во время войны генерал-полковник авиации Горюнов командовал воздушной армией. Комиссаром бригады был полковой комиссар Вахнов. Жили они в особняке около нашей школы. Начальником штаба был полковник Везломцев, начальником тыла – полковник Балашов, командиром парашютно-десантного полка – полковник Латышев. Все они жили в нашем доме. Когда мы приехали, самолеты в бригаде были старые: ТБ-3, «чайки» и Р-5. В конце лета в бригаду должно было поступить пополнение: группа самолетов ТБ-3. Эта группа летела из Монино и в районе Байкала попала в циклон. Пять самолетов разбилось. Один из самолетов сел на воду озера, и летчиков спасли рыбаки. Часть летчиков вышла из тайги на железную дорогу, что спасло им жизнь. Однако пять человек погибло. Комиссар группы Селютин благополучно прилетел в Хабаровск, Комэск Виноградов плутал по тайге больше месяца. Осенью состоялись похороны. В огромную братскую могилу под звуки оркестра погрузили пять гробов. Первый гроб нес прославленный полководец, герой гражданской войны Маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Все внимание собравшихся было приковано к нему. Все буквально пожирали его глазами, а сами похороны отошли как бы на второй план. У папы было много работы. Самолеты были старые, условия эксплуатации тяжелые, технический состав был укомплектован людьми с умелыми руками, но без образования. Климат в Хабаровске был резко-континентальным: летом +40, а зимой -40 градусов. Осень дождливая, весна с морозами ночью и распутицей днем. Морозы доставляли много хлопот при эксплуатации самолетов. Смазочное масло загустевало, водяное охлаждение моторов замерзало, в полете обледеневали винты, крылья, фюзеляжи. Все это требовало энергичных и грамотных действий. Папин предшественник был большой барин, любил находиться поближе к начальству, и ничему людей не научил. Папа пропадал на аэродроме сутками напролет, знал болячки каждого самолета, учил техников и мотористов. В бригадной многотиражке он вел отдельную рубрику, где постоянно помещались его короткие статьи, посвященные эксплуатации самолетов, моторов и оружия в климатических условиях Хабаровского края. Самолет довольно часто шли на вынужденную посаду или привозили из полета неисправности. Первым у такого самолета всегда был папа. Один раз вынужденная посадка произошла по вине его службы. Он приехал к самолету первым, быстренько устранил дефект и, когда прибыла комиссия, ей не к чему было придраться.

Большой аэродром 1937 г.
Такая предосторожность была отнюдь не излишней. Кто жил в те годы, тот помнит, что все огрехи наших конструкторов и машиностроителей, которые обнаруживались в практической эксплуатации, прикрывали тезисом о вредительстве эксплуатационников. А от вредителя до «врага народа» – один шаг. Таким образом, папа спас жизни и техника, и моториста. Тут нужно осветить еще одну сторону дела. После полетов Чкалова, Громова и Коккинаки пресса стала превозносить пилотов. Появился устойчивый эпитет «сталинский сокол». Многие недалекие летчики стали здорово задирать нос, возомнили себя особой кастой. Рожденный ползать летать не может. Лейтенантик, который всего лишь научился взлетать и садиться, разговаривал со своим мотористом как плантатор с чернокожим рабом, мог нахамить сухопутчику с двумя шпалами. Интеллект такого с позволения сказать «сокола» ограничивался суждениями о выпивке и бабах. Такие неумехи всегда горазды переложить ответственность за провал с себя на другого. Охотней всего использовался этот маневр, если можно было свалить свою вину на интеллигента. Все командиры, окончившие разного рода курсы и не получившие настоящего военного образования, ненавидели более или менее интеллигентных военнослужащих. Шибко образованный – значит, не наш. Здесь была бы уместна хоккейная терминология. В хоккее одни мастера «работают на шайбу», а другие «на игрока». Большой мастер стремится овладеть шайбой и завязать комбинацию – он работает на шайбу. Другой шайбу у мастера отобрать не может и начинает работать на игрока, то есть: оттирает спортсмена от шайбы, прижимает к борту, цепляет клюшкой, ставит подножки и т.п. Мастер всю игру то перепрыгивает через подножки, то вскакивает после зацепа и, не выдержав, в конце концов, откровенно дает противнику в зубы, за что и удаляется с поля. В описываемое время в авиации было много любителей работать на игрока, поскольку «шайба», то есть самолет, им был не по зубам. Почти все комиссары пришли в авиацию из конницы, немало крупных начальников пришло в авиацию из пехоты или кавалерии. Их работой было приглядываться к людям и проводить силовые приемы. Они с утра читали передовицы газет и считали, что для своего дела этими передовицами вооружены до зубов. К счастью для страны, в авиации было немало и мастеров, играющих на шайбу. Например, лучшим летчиком бригады был инструктор высшего пилотажа, уже упомянутый Николай Иванович Цыбин. В летную погоду над нашими головами разыгрывались воздушные бои. На красном «ястребке» летал Цыбин, на белом – Смирнов, на голубом – третий ас, фамилию которого я не помню. Остальные самолеты были окрашены под аэродромную траву в зеленый цвет. Зрелище воздушного боя в таком великолепном исполнении захватывало наши ребячьи сердца. Восторгу не было предела, шеи наши болели от постоянного поворачивания головы вслед мелькающим самолетам. Были и другие мастера своего дела, на которых и держалась боеготовность бригады. К лету 1937 года в бригаде уже все истребители были заменены на И-16, маленькие монопланчики со скоростью около 400км/ час и пулеметным вооружением. Эти самолеты конструкции Поликарпова летчикам очень нравились, и их любовно называли «ястребками» В 1941 году эти самолеты все еще были основой нашей истребительной авиации, но за отставание от «Мессершмидтов» по скорости их уже стали называть «ишачками».
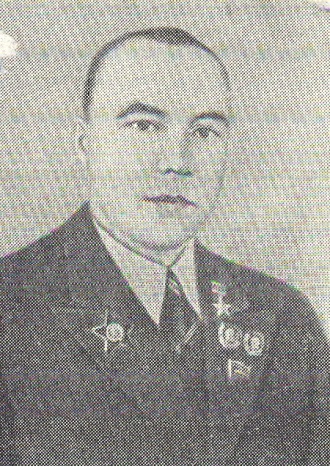
Авиационный конструктор Герой социалистического труда Н.Н.Поликарпов
Все лето 1937 года в гарнизон приходили эшелоны с самолетами. Самолеты в разобранном виде стояли на платформах и были закрыты деревянными футлярами, которые их маскировали, и в то же время, обеспечивали необходимый для законсервированного оборудования микроклимат. Разгружались платформы напротив нашего дома, а разломанные футляра растаскивались населением. Мы, мальчишки, построили себе из этих обломков прекрасный домик-халабуду. Прибывали к нам в бригаду самолеты И-16 и СБ – скоростные бомбардировщики, пришедшие на смену ТБ-3. Эти самолеты у нас назывались «Катюшами». Все знают, что «Катюшами» назывались реактивные установки, но мало кому известно, что это же прозвище было дано самолетами СБ и подводным лодкам XIV серии типа КР. Самолеты СБ широко применялись в Испании и были не хуже тогдашних немецких и итальянских самолетов. А вот к началу Великой Отечественной войны они уже устарели, они оказались совсем не скоростными и, можно сказать, не бомбардировщиками. Грузоподъемность у этих самолетов была мизерная, да и прицелы никуда не годились. Но тогда в 1937 году это была техника мирового уровня, и ее необходимо было освоить как летчикам, так и эксплуатационной службе. Папа спокойно и добросовестно этим делом занимался и справлялся с ним, надо сказать, вполне успешно. Из Москвы на аэродром зачастили конструкторы и технологи, помогавшие освоить новую технику. Гостиницы в авиагородке не было, и ночевали эти командированные у нас. Однажды гостил у нас один авиационный инженер, говоривший с сильным иностранным акцентом. Это оказался родной брат Матиаса Ракоши, тогдашнего вождя венгерской компартии. Сам Матиас Ракоши в то время, когда его брат гостил у нас, сидел в тюрьме в Венгрии. Инженер Ракоши похвалил нашего Алика, назвал ребенка здоровым и красивым, и уехал. Алик после его слов срочно заболел, а мама стала ворчать, что Ракоши сглазил малыша. Позже Матиаса Ракоши у венгров выкупили, и он стал работать в Коминтерне. В 1945 году он возглавил в Венгрии все, что только можно было возглавить, и привел страну к мятежу 1956 года. Мятеж этот на 70% был направлен против него лично. Осенью 1937 года папа улетел в район Тымры (приток Буреи) чинить разбившийся самолет. Этим он был занят несколько месяцев. От него мы периодически получали подарки: мороженую бруснику, меховые чулки, оленьи рога. Подарки привозили на самолетах, которые летали в Тымру для доставки необходимого снабжения. В это время начались аресты военных. Первой ласточкой был процесс над Тухачевским и еще девятью высшими военными начальниками. К ним приплюсовывались Гамарник, начальник Главного политического управления РККА, и Егоров, начальник Генштаба. Гамарник при аресте застрелился, а Егорова стали поминать уже после расстрела Тухачевского и его сотоварищей. Про Егорова говорили, что, якобы, его арестовали при попытке сесть в самолет с тайным намерением улететь на нем в Турцию. Однажды ночью в нашем городке были произведены аресты полковников Балашова и Везломцева, а также полкового комиссара Вахнова. Семьи арестованных тоже куда-то исчезли, и об этих людях мы никогда уже ничего не слышали. Папа, когда вернулся с зимовки, сказал нам с мамой, что за всех ручаться он не может, но никогда не поверит, что Балашов мог быть «врагом народа». Это был замечательный советский человек и преданный коммунист, к тому же большой знаток своего дела. Аресты продолжались очень долго, но в 1938 году у них был уже другой характер. Если первые аресты, казалось, проводились по спущенным сверху спискам, и арестованные, видимо, были немедленно уничтожены, то теперь чувствовалась местная самодеятельность. Сначала откуда-то поступал сигнал. Потом этот сигнал рассматривался на парткомиссии, и та решала, клевета это или правда. Если комиссия решала, что все, изложенное в сигнале, правда, то становилось ясно, что не сегодня – завтра обвиненного арестуют. Жена несчастного заранее начинала продавать патефон, беличью шубу и кур из своего курятника. Судьба арестованных складывалась по-разному. Некоторые из них возвращались на свою работу, но таких было крайне немного. Другие, вернувшись из тюрьмы после следствия, увольнялись из армии. Третьи же (и таких было большинство) получали сроки. Причем судили в 1938 году чаще не за шпионаж, а за должностные преступления. Приведу несколько примеров, в достоверности которых я абсолютно уверен. Батальонный комиссар Селютин, отец моего закадычного друга Жорки Селютина, был арестован на второй волне арестов, когда всех носителей трех шпал уже забрали и принялись за майоров и им соответствующих. Жорка с матерью тут же уехали из городка в Острогожск. В те времена для проживания на Дальнем Востоке нужно было иметь пропуск, а после ареста главы семейства жену и сына пропуска лишили. В 1940 году, когда мы жили уже в самом Хабаровске, я неожиданно встретил на улице Жорку. Он мне сказал, что теперь он не Селютин, а Саламатин, по фамилии матери. Его мать поменяла фамилию на девичью и приехала в Хабаровск, чтобы хлопотать за мужа. Кормилась она тем, что была модной и достаточно дорогой портнихой. Вначале Селютину инкриминировали злой умысел в истории гибели пяти ТВ-3, о которой я уже рассказывал. По этой статье ему дали 20 лет. Затем был рассмотрен ряд апелляций, и Селютину изменили состав преступления со злого умысла на халатность. Оказалось, что во время встречи с циклоном они были пьяны и летели на недозволенных скоростях. В результате Селютину изменили статью и снизили срок лишения свободы до восьми лет. Живший напротив Селютиных майор Мушат, работавший на аэродроме хозяйственником, просидел в застенке около месяца. За это время Мушатиха ликвидировала свое птичье поголовье. Она продала не только курятину, но и множество подушек, которые ею же были нашиты и набиты куриным пером. Мушат появился напуганный, уменьшившийся ростом, без знаков различия. Он и его жена панически быстро разделались со своим хозяйством и уехали, не проронив ни слова. Майор Цыбин находился под арестом два дня. За него на парткомисси заступился папа, и все члены парткомисси папу поддержали. В результате Цыбина отпустили. Однако, все его имущество уже было конфисковано. Цыбин был холостяком, и сравнительно большую зарплату тратил исключительно на себя. У него было несколько гражданских костюмов хорошего качества, что в то время было большой редкостью. Возможно, что арестовали его исключительно ради конфискации. Цыбин вечером пришел к нам домой и со слезами благодарил папу за выручку. Во время войны Цыбин был шеф-пилотом Н.С.Хрущева. Когда же Хрущев пришел квласти, генерал-лейтенант Цыбин возглавил дивизию правительственных самолетов. Однажды, примерно в 1963 году, я вылетел их Остафьево в Северодвинск. Но только мы вылетели, как нас тут же вернули назад на аэродром. На мой вопрос о причине возвращения пилот спокойно ответил, что получил сигнал «Цыбин в воздухе». Как потом оказалось, что это пролетал Фидель Кастро по маршруту Мурманск-Москва, и ему расчищали путь. Полковник Латышев на моей памяти арестован не был, но предчувствовал арест. Однажды все заметили, что он безвылазно сидит дома и не ходит на работу. По городку прошел слух, что он бывший махновец. Этот слух дошел до его сынишки, и тот, как только услышал такое страшное известие о своем отце, заплакал и стремглав убежал домой. После этого он долго стеснялся выходить на улицу. Тогда к нам вышел сам Латышев, собрал всех ребят и объяснил нам, что он родом с Украины. Восемнадцатилетним пареньком он был мобилизован и попал в части батьки Махно, который тогда воевал на стороне красных. Затем у Махно вышел конфликт с Троцким, и он стал воевать как против белых, так и против красных. Но в этот момент Латышев уже был в частях Красной Армии, поэтому он всегда считал себя невиновным даже без скидок на возраст и политическую малограмотность. На нас, ребят, этот разговор произвел колоссальное впечатление. Впервые взрослые с нами серьезно разговаривали и показали вопрос во всей его сложности. Через какое-то время Латышева уволили из рядов РККА, и он с семьей уехал из авиагородка. Марк Макарович Шидловский, муж моей тети Лели, тоже пострадал от репрессий. После окончания ижевской оружейной школы Шидловский все время служил на юге: то в Самарканде, то в Нахичевани, то в Гандже. Марк, будучи полуполяком, отличался исключительным честолюбием и гонором. Он хотел только командовать. Вскоре он уже командовал бронепоездом, а потом какими-то другими частями. Арестовали его по чьему-то доносу за то, что он израсходовал НЗ (неприкосновенный запас). Марка держали под следствием около восьми месяцев. Камера была битком набита людьми, и они могли в ней помещаться только стоя. Ноги у людей затекали, на допросах их били резиновыми дубинками. Но Марк себя не оговорил. Он стоял на том, что как командир части, имел право при определенных обстоятельствах израсходовать НЗ. По его мнению, эти обстоятельства имели место. Марка отпустили, восстановили в партии, но из армии уволили. После этого он с семьей уехал в Сталинск (ныне Новокузнецк), возглавил там местный ОСОАВИАХИМ, опять надел форму, но уже с какими-то ненастоящими знаками различия, получил квартиру и увеличил свое потомство с одного до трех человек. Вот какие факты были известны мне, двенадцатилетнему мальчику. Вся эта вакханалия с арестами происходила на фоне воскуривания фимиама вокруг имени вождя. Я относился к этим восхвалениям с удивлением. Я рассуждал так: всем известно, что товарищ Сталин – наш достойный руководитель, и стоит он у руля вполне заслуженно. Так зачем же нужны эти эпитеты «великий», «гениальный» и т.д. Ведь это нескромно, и товарищу Сталину, наверно, неприятно читать такую низкопробную лесть. Избавление от шпионов тогдашним обществом, в принципе, признавалось необходимым. У всех стояла в глазах трагедия Мадрида, на который наступало четыре колонны войск, а пятая колонна, действовавшая изнутри, сыграла решающую роль в падении Мадрида. Ожидалась война с Германией и Японией, и необходимость ликвидации пятой колонный внутри нашего общества никем не оспаривалась. Непонятно только было, почему репрессиям подвергалось столько хороших людей. Арест Ежова и его помощников как бы всю вину за допущенные ошибки списал на их счет. Наверняка, в стране были люди, которые могли дать правильную политическую оценку происходящему, но мы таких людей не знали. Мы только видели, что молнии Зевса разят совсем рядом, выбивают соседей слева и справа, а завтра могут угодить и по твоей семье. И ничем это предотвратить было невозможно. Разве только скрупулезно точным следованием курсу партии, да содержанием рта на замке. Какая логика была у этих молний? Почему они не поразили папу? Думаю, что полезная работа тут не причем. Скорее всего, его спасли три кубика, с которыми он был выпущен из Академии. Если бы в 1937 году он носил две шпалы, до него бы тоже добрались. Какую-то роль сыграло и то, что в самую крутую пору папа зимовал в тайге. Немало значила и фамилия. Если бы фамилия была Сидорович или Сидоровский, то беспокойства бы прибавилось. Но, так или иначе, а где-то к марту или апрелю 1938 года у нас аресты прекратились. На место арестованных выдвигались уцелевшие и прежде всего командиры, получившие боевой опыт в Испании и Китае. Хотя часть «испанцев» тоже попала под каток. Например, в штаб ВВС ОКДВА прибыл молодой летчик, комдив Пумпур, отличившийся в Испании. Он был так молод, что не мог удержаться от съезжания вниз по перилам лестницы. Через пару месяцев службы он исчез с горизонта. Летом 1938 года папу перевели в штаб ВВС дальневосточного фронта (ДВФ), в который была преобразована Особая Дальневосточная Краснознаменная Армия (ОКДВА), на должность помощника командующего ВВС по материально-техническому обеспечению. При этом он стал военинженером второго ранга. В Хабаровске мы получили две комнаты на улице Серышева. В квартире жила еще семья начальника оперативного отдела штаба ВВС Ищенко. Это был хитрющий службист, а его жена скандальная и вредная баба. Дети у них носили опасные для того времени имена: Адольф и Римма. Дом был добротный, кирпичный. У нас был даже балкон. Такого жилья у нас еще не было. Здесь уместно описать Хабаровск образца 1938 года. Город стоял на берегу Амура. Чуть выше по течению в Амур впадала Уссури. Сейчас уже и по берегам Уссури стоят кварталы города, а тогда там были разбросаны отдельные поселки. В центре города протекали две крошечные речушки, Плюснинка и Чердымовка. Сейчас они обе забраны в трубы. Эти речушки образовывали два огромных глубоких оврага. Сформировавшийся таким образом ландшафт предопределил план города. Вверху, параллельно оврагам и перпендикулярно Амуру протянулись три главные улицы: Карла Маркса, Ленина и Серышева. Поперек шло много улиц, которые то спускались вниз, то поднимались вверх из оврага. На улице Карла Маркса находились краевые учреждения, театр музкомедии, два кинотеатра и основные магазины. На улице Серышева был штаб ОКДВА и другие военные учреждения. На берегу Амура узкой лентой располагался парк, в котором находился краеведческий музей. Возле музея был выставлен скелет огромного кита и красовались две длинных гладкоствольных пушки. В парке же находился утес, увенчанный ротондой. Из этой ротонды слева было видно место впадения Уссури в Амур. А справа – мост через Амур, который считается самым длинным в нашей стране. Внизу об утес бились амурские волны. Амур всегда имел стальной цвет, протекал стремительно с шумом и пеной. Другого берега реки практически не было видно. За основным руслом Амура начинались острова и протоки, которые распространялись на 40 километров до границы с Маньчжурией. ДВФ командовал маршал В.К.Блюхер, а командующим ВВС был Павел Васильевич Рычагов. Молодой Герой Советского, отличившийся в Китае, он был принят в партию без кандидатского стажа и имел рекомендации от Сталина и Ворошилова. Трудно сейчас себе представить, какой авторитет имел Рычагов, держа в руках такие козыри.

П.В.Рычагов Вскоре после нашего переезда в Хабаровск меня отправили в детский санаторий на Седанку, что было в семнадцати километрах от Владивостока. Едва мы успели насладиться купанием в чудесном Японском море, половить чилимов и крабов, как вдруг разразились события на озере Хасан. Японцы напали на наши погранзаставы и захватили сопки Заозерную и Безымянную. Из окна домика, где мы жили на Седанке, была видна железная дорога. Мы с интересом смотрели, как движутся в сторону Владивостока эшелоны с пушками, лошадьми и красноармейцами. Над головой пролетами эскадры СБ, которых мы насчитывали по 75-100 единиц. Из Владивостока к Хасану войска доставлялись кораблями Тихоокеанского флота. Бои шли затяжные и кровопролитные. На базе нашего санатория развернулся госпиталь, и нас отправили по домам. В конце концов бои закончились нашей победой, но испытания на этом не кончились. В августа в Приморье, где климат носит муссонный характер, обычно идут проливные дожди. В этот раз они были особенно сильными, поскольку тайфун зашел на сушу глубже обычного. Мелкие речушки вышли из берегов, размыли все шоссейные дороги и снесли мосты. Двадцать тысяч войск оказались на двух сопках отрезанными от всего остального мира. Им сбрасывали еду на парашютах, а со стихией ничего поделать не могли. Так продолжалось до тех пор, пока не кончились дожди, и речки не вошли в свои берега. Папа, получивший на Хасане первый боевой опыт, рассказывал мне следующее. Вначале боями руководил маршал Блюхер. Он отдал приказ, чтобы во избежание провокации ни одна пуля, ни один снаряд не перелетели через границу. А японская артиллерия как раз располагалась на японской территории. Наши войска несли урон, а огрызнуться не могли. Рычагов, на свой страх и риск, послал сотню И-16 подавить противовоздушную оборону противника, а затем послал бомбардировщики для уничтожения артиллерии, резервов и нарушения связи и управления войсками. Об успешно выполненной акции он тут же доложил Сталину, прокомментировав распоряжения Блюхера. Сталин отстранил Блюхера от руководства боями и поставил на его место Штерна.

Г.М.Штерн Осенью Блюхер был вызван в Москву и прямо с вокзала увезен на Любянку. Не помогла ему его подпись под заключением о виновности Тухачевского и его товарищей по несчастью. Я читаю много военно-исторической литературы, но упоминания случая с Блюхером на озере Хасан не встречал нигде. В этом же году ДВФ был разделен на две Краснознаменные армии: 1 ОКА со штабом в г. Ворошилове-Уссурийском и 2 ОКА со штабом в Хабаровске. В дальнейшем эти две армии то объединялись в ДВФ во главе со Штерном, то разъединялись. Назывались они Особой Краснознаменной Армией (ОКА). Папу назначили в ВВС 1 ОКА и мы переехали в Ворошилов-Уссурийский (ранее Никольск-Уссурийский, ныне просто Уссурийск). Там мы получили две комнаты во вновь отстроенном огромном по масштабам Ворошилова доме. Соседями по квартире были бездетные супруги Харитоновы.

Ворошилов-Уссурийский. Перед войной. Город Ворошилов имел порядка 60000 жителей и являлся транспортным узлом. В городе была небольшая промышленность в виде масложиркомбината, перерабатывавшего сою, выращивавшуюся в окрестностях города, деревообделочного комбината и железнодорожного депо. Город со всех сторон был окружен невысокими сопками, а сам находился в долине реки Суйфун (ныне река Раздольная). Суйфун в период муссонных дождей затоплял базар и центральные торговые улицы. Три чахлых притока Суйфуна, Славянка, Супутинка и Раковка, тоже были каверзными речками и периодически проявляли свой дурной характер. Город был спланирован по линеечке, и правильные квадраты кварталов были застроены белыми украинскими мазанками с крышами из гофрированного дюраля. В городе было да театра, драматический и ТЮЗ, дом Красной армии и один кинотеатр. Рядом с нашим домом находилась школа, в которой я и учился. В городе было плохо с продовольствием. Чтобы купить хлеб, нужно было отстоять очередь не менее двух часов. Остальные продукты как-то распределялись. Свободно продавались только консервы из крабов и кофе из цикория. На выезде из города стояло большое здание тюрьмы, а в окрестностях находились концлагеря, называвшиеся Бамлагами. Они были сформированы для строительства Байкало-Амурской магистрали, но ввиду задержки изыскательских работ, вместо БАМа они строили шоссейные дороги в Приморье. Проезжая по дорогам, часто можно было увидеть подконвойных дорожных рабочих. Командующим 1 ОКА был Еременко (будущий маршал), ВВС армии возглавлял П.В.Рычагов. Он тоже жил в нашем доме. Его женой была летчица, капитан Нестеренко. Это была мужиковатая женщина, ходившая в сапогах. Стриглась он по-мужски, из-под коротко остриженных волос виднелась загорелая шея. У Рычаговых была собственная машина – редкий по тем временам случай. Нестеренко на этом «Форде» гоняла по окрестным дорогам со скоростью 120 миль в час, больше не позволяло состояние дорог. А в те времена, надо заметить, скорость 40 км/час уже казалась автолихачеством. Заместителем у Рычагова был Александр Сергеевич Сенаторов, получивший звание героя в Испании. Ему еще не исполнилось и тридцати лет. Сенаторовы жили в нашем подъезде, и между нашими семьями поддерживались хорошие отношения. Александр Сергеевич, хотя и был папиным начальником, относился к нему уважительно, как к старшему по возрасту и более опытному человеку. Иногда мы вместе ездили на рыбалку. Ловили рыбу в одной из стариц Суйфуна. Папа и Сенаторов вместе с шоферами тянули бредень по грудь в воде. Улов всегда был хорошим. Попадались сомы, кета, угри и дальневосточная рыба ратан. Полный бредень был мелких крабов, которые разбегались врассыпную с поразительной скоростью. На костре варили уху, а за ухой Александр Сергеевич просил папу спеть «Как во городе было во Казани». Работа у папы изменилась. Теперь он уже не мог знать каждого моториста и износ цилиндров в каждом моторе, поскольку самолетов в армии было множество. Папа ездил на машине или летал в Сысоевку, Воздвиженку, Галенки, Хороль, Барановский, Михайловку, Новоникольское. Во всех перечисленных пунктах были авиачасти. Папиной заботой стали общие для всех частей вопросы: организация учебы, введение жестких эксплуатационных регламентов для каждого типа самолетов, организация ремонта и обеспечение запчастями. От всего этого напрямую зависела боеготовность. В авиации всегда шел двойной счет самолетов. Считали, сколько их всего и сколько могут летать. Нормально было, если могла летать 75%, но этого очень трудно было добиться из-за малого ресурса моторов – всего 80 часов. Этими процентами очень легко оценивалась деятельность инженера, его потенциал и способности. Помимо инженерно-авиационной службы в папино ведение входили аэродромная служба и техническое снабжение. В это время в нашей авиации началось внедрение нового дальнего бомбардировщика ДБ-3 конструкции Ильюшина. Началось опять с рекордных полетов. Коккинаки на самолете «Москва», исполненном в специальном рекордном варианте, удачно слетал из Москвы на Дальний Восток. А вот девушки, Гризодубова, Осипенко и Раскова, на самолете «Родина» осрамились. Самолет-то был хорош, а у экипажа хватило умения только на то, чтобы держаться приблизительно на восход солнца. Когда они поняли, что самолет у них скоро залетит в Японию или в Тихий океан, стали пытаться его остановить. Штурмана Раскову сбросили на парашюте неизвестно куда, так как от нее пользы все равно не было, а сами сели в тайге около поселка Керби, где и сейчас царит непроходимая глухомань. Тем не менее, летчиц прославляли до небес, они стали первыми Героями в юбках. Жене Рычагова Нестеренко тоже не терпелось стать Героем. Она выдвинула лозунг об ответном полете летчиц с Дальнего Востока в район Киева. Для самолета эта реклама уже была не нужна, но отличиться очень уж хотелось. Оказалось, что на Востоке нет ни одной взлетной полосы, с которой мог бы взлетать такой тяжелый самолет. Специально построили взлетную полосу на Большом аэродроме в Хабаровске. Я слышал о подготовке полета от папы, которому немало было поручено в этом вопросе. Но дата вылета мне была не известна. Поэтому полной неожиданностью стало для меня сообщение в газете о том, что правительство разрешило летчице Нестеренко прекратить полет в районе Свердловска ввиду вставшего на пути грозового фронта. Так неудачно кончился этот никому не нужный полет. Приятным воспоминанием о нем осталась взлетная полоса. В Ворошилове мы прожили около года. В это время была введена должность помощника командующего по эксплуатации самолетов. Из папиного ведения забрали инженерно -авиационную службу, и он заскучал по любимому делу. На новую должность Рычагов пригласил бригинженера Ивана Семеновича Трояна, который был у Рычагова мотористом в бытность его простым пилотом. Трояны приехали из Киева и стали нашими соседями по квартире. Иван Семенович был значительно старше папы, имел большой стаж в авиации и был награжден орденом Ленина. В молодости он попал в авиакатастрофу, и ему заменили в черепе сломанную кость золотой пластиной. Троян был общителен, любил пошутить, интересно рассказывал. Мне он очень нравился. Его жена, Мария Александровна, была типичной хохлушкой: толстовата, энергична и чуть лукава. Сын Виктор был моим ровесником, но учился на класс младше. При очередном образовании Дальневосточного фронта папу опять перевели в Хабаровск. На этот раз помощником командующего ВВС по эксплуатации. Это было в 1939 году. Первое время мы жили в гостинице, потом нам дали квартиру на Большом аэродроме в новом четырехэтажном доме, и я пошел учиться в ту же школу, где я учился в четвертом и пятом классах. Папа ездил на службу в Хабаровск на эмке. Командующим ВВС был Павел Федорович Жигарев. В этот год я папу почти не видел, так как он приезжал домой поздно, а выходных дней у него не было. Это был трудный год. С продуктами стало значительно хуже, чем прежде. После Хасанских событий с Дальнего Востока выслали всех корейцев в Среднюю Азию и Казахстан. Базары опустели. Раньше на Дальнем Востоке все овощи выращивались корейцами. Они ступеньками обрабатывали склоны сопок и оврагов, обращенные к солнцу, и получали хорошие урожаи длинных огурцов, длинной редиски, лука и других овощей. Кроме этих продуктов они торговали еще диким виноградом, кедровыми орехами и семечками. При торговле они не пользовались никакими мерами веса или объема. Единственным мерилом был рубль, или, как он выговаривали, «любаля». В зависимости от конъюнктуры рынка кучка редиски могла быть больше или меньше, но стоила они всегда «любаля». И вот этих тружеников сселили с земли отцов. Возможно, среди них и были японские агенты, но пострадали все корейцы, старики и дети, и красные партизаны-орденоносцы. Пострадали за узкие глаза. Вместе с ними пострадало и городское население, поскольку питаться людям стало совсем нечем. Летом шла война с Японией, которую тогда называли конфликтом на Халкин-Голе. ДВФ опять разделили на две ОКА. Папа остался в Хабаровске. 2ОКА стал командовать Конев, будущий прославленный маршал. Штерн уехал в Читу командовать образовавшимся Забайкальским фронтом. Мне сейчас трудно определить, что я знал о Халкин-Голе тогда и что узнал позже. Наиболее информативны воспоминания Константина Симонова о его беседах с Жуковым на тему о Халкин-Голе. Вначале корпусом в Монголии командовал Фекленко. Командовал он неудачно, пятился под натиском японцев, уступая им территорию. Имелись даже случаи панического бегства нашей пехоты. Якобы, Сталин спросил Ворошилова, что тот знает о Фекленко. Тот ответил, что совсем ничего не знает. «Как же так можно? Ведь он у тебя единственный воюющий комкор. Может быть, его заменить?»– спросил Сталин. Присутствовавшие при разговоре Тимошенко и Пономаренко в один голос предложили кандидатуру Жукова, который в этот момент был заместителем командующего Белорусским Особым военным округом. Сталин спросил Ворошилова, откуда ему известна эта фамилия. Ворошилов ответил, что от Жукова было письмо с протестом против несправедливого наказания по партийной линии. На вопрос, что показала проверка письма, Ворошилов ответил, что Жуков оказался прав. «Тогда так и решим,» – сказал Сталин. Жуков был в войсках, когда получил приказ к десяти утра следующего дня быть в приемной у наркома. Он задал только один вопрос: «Шашку брать?» Став командующим корпусом, Жуков подчинялся только наркому обороны, но его стали пытаться учить уму-разуму и маршал Кулик, и командарм 2 ранга Штерн, обосновавшиеся в штабе корпуса. Жуков их обоих выгнал, а потом принялся за японцев. Он провел операцию на окружение, и все японские войска были уничтожены. В этих боях наша авиация добилась господства в воздухе после ожесточенных воздушных боев, в которых участвовало по 100-200 самолетов с каждой стороны. Танки использовались неумело, быстро загорались при попадании снарядов. Они были без брони, с бензиновыми моторами и ненадежной ходовой частью. Японцы потеряли убитыми 50000 солдат, что составляет две полнокровные дивизии, и это решительным образом повлияло на решение японского правительства не участвовать в войне против СССР на стороне Германии. Тем не менее, войска на Дальнем Востоке были в повышенной боевой готовности. На бытовом уровне это выливалось в то, что военным не давали не только положенных ежегодных отпусков, но и выходных дней. Из разговоров папиного окружения я помню, что все удивлялись, откуда взялся никому не известный Жуков. Много говорили о действиях авиации. Наши самолеты оказались лучше, правда летчикам не хватало боевого опыта. Когда прибыли опытные летчики, понюхавшие пороху в Испании, тогда произошел перелом. От летчиков требовалось максимальное напряжение, они совершали ежедневно по 3-5 боевых вылетов. Среди отличившихся были первые наши дважды Герои Советского Союза Кравченко, Грицевец и Смушкевич. Японские летчики дрались отчаянно и участники боев хорошо запомнили, что легкой войны не бывает. Чувствовалось приближение войны. Вырисовывался ее характер. Ожидалась война империалистическая, причем мировая. Германия уже захватила Австрию. Это называлось загадочным словом «аншлюсс». Затем состоялся, так называемый, мюнхенский сговор. Англия и Франция, якобы для обеспечения мира в Европе согласились с претензиями Гитлера на Чехословакию. Гитлер широковещательно требовал реванша за итоги первой мировой войны и намеревался расширить «жизненное пространство» Германии. Объективно немецкая промышленность была поставлена в неравноправные условия в борьбе за мировой рынок. Англия и Франция имели колонии, дававшие им дешевое сырье рынки сбыта, а Германия им могла противопоставить только производительность труда и реализацию достижений науки, в чем и преуспела. Итальянцы захватили Абиссинию и начали войну с Грецией. Японцы одолели Китай и начали распространяться по Юго-Восточной Азии и Тихому океану. В Испании победил фашизм. После мюнхенской подачки мы стали понимать, что западные страны поощряют Гитлера расширять свое жизненное пространство за счет Советского Союза. Наша дипломатия пыталась организовать против Германии коллективные меры, но переговоры с Англией и Францией ни к чему не привели. Да они и не могли дать результата по следующим причинам: Англия и Франция уже были связаны мюнхенскими договоренностями; Они уже заключили с Германией двухсторонние договора о ненападении; Советский Союз не имел границ с Германией. В случае договоренности с Англией и Францией нужно было еще уговорить Польшу, чтобы она пропустила наши войска через свою территорию. Но на это рассчитывать было нельзя. Любое суверенное государство не даст на это согласия, а тем более Польша с ее многовековой ненавистью к России и повышенным чувством национального самосознания. Вот поэтому, когда страны Антанты уклонились от совместных действий с Советским Союзом, а Германия предложила заключить договор о ненападении, наше правительство приняло это предложение. В народных массах подписание договора с Гитлером вызвало крайнее недоумение. В нас была воспитана такая ненависть лично к Гитлеру, да и ко всем немцам, что не укладывалось в голове, как это можно было садиться с ними за один стол, да еще пожимать руки. Но с другой стороны, зачем нам было принимать участие в войне, да еще империалистической? Вторая мировая война началась нападением Германии на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии, но это была чисто моральная поддержка поляков, так как пока немцы захватывали Польшу, ее доблестные союзники не произвели по захватчикам ни одного выстрела. Создавалось впечатление, что они были не против продвижения немцев на восток. И чем дальше те продвинутся, тем лучше это будет для Англии и Франции. Наше руководство было противоположного мнения. Был даже лозунг: «Нам чужой земли не надо». Границы стали отодвигаться на запад. Сначала были введены войска в Западную Украину и Западную Белоруссию. Объяснялось это так. Польское правительство бежало за границу и бросило свой народ на растерзание Германии. Так мы спасем хотя бы своих братьев украинцев и белорусов. Называлось это освободительным походом. По некоторым признакам, однако, чувствовалось, что этот поход согласован с немцами. Я слышал, что в двух-трех местах произошли стычки с немцами, через чур далеко зашедшими на восток. После стычек немцы убирались за демаркационную линию. А коль скоро такая линия была, значит, с немцами была договоренность о дележе польской территории. По одинаковому сценарию происходило присоединение к СССР Литвы, Латвии и Эстонии. Сначала были заключены договора с этими странами о размещении в них наших военных баз, которые нужны были для улучшения наших военных позиций на Балтике. Вскоре после ввода наших войск в этих странах произошли мирные демонстрации рабочих с требованием установления советской власти. Руководители этих стран сбежали, кто в Швецию, кто в Германию. Выбранные Советы этих стран обратились к СССР с просьбой принять их в свой состав и защитить от надвигающейся фашистской агрессии. Эта «добровольность», конечно, была шита белыми нитками. Единый сценарий, несомненно, был написан в Москве. Но, что с возу упало, то пропало. Немного по-другому произошло присоединение Бессарабии и Северной Буковины. В составе Украины существовала крошечная Молдавская АССР с центром в Тирасполе. В Бессарабию были введены войска, как на исконно русскую территорию, отбитую у турок еще графом Потемкиным. Эта территория стала именоваться Молдавской ССР. Северную же Буковину аннексировали у Румынии под предлогом воссоединения украинского народа. Осечка вышла с Финляндией. Ей «по-хорошему» объяснили, что нам нужен Карельский перешеек, поскольку река Сестра, по которой проходила граница с Финляндией, находилась на расстоянии орудийного выстрела от Ленинграда. Взамен финнам двойная территория карельских болот. Большим намеком было преобразование Карельской автономной республики в Карело-Финскую союзную республику с финном Куусиненом во главе. Финны решили за себя постоять и получили военную помощь от противоборствующих сторон: Англии, Франции и Германии. За финнов также вступились США. Но Сталин решил настоять на своем. Началась советско-финская война. Это была тяжелая, несправедливая, кровопролитная война, показавшая несовершенство нашей военной организации, отсталость в технике и военном мышлении. Попытка взять Финляндию нахрапом закончилась нашим поражением. На Карельском перешейке наши войска дошли только до линии Маннергейма и встали, неся тяжелые потери. В районе Суомуссальми наша дивизия попала в окружение, из которой удрал комдив, генерал Виноградов. Его расстреляли перед строем оставшихся бойцов дивизии. Началась перегруппировка войск, произошла смена военачальников, войска были усилены осадными орудиями и танками, была разработана тактика преодоления долговременных оборонительных сооружений. На это ушло около двух месяцев. Возобновленное наступление на этот раз прошло успешно. После падения Выборга Финляндия капитулировала. Под давлением США Финляндию оставили существовать как государство, но основательно ее пощипали. У нее отторгли следующие территории: Карельский перешеек, острова Гогланд и Лавенсаари, район Куолоярви и область Петсамо (Печенга). С потерей Петсамо Финляндия лишилась выхода к Баренцеву морю. В аренду была взята территория полуострова Ханко (Гангут), где очень быстро была создана наша первоклассная военно-морская база. Итоги советско-финляндской войны дали пищу не только для размышлений, но и для пересмотра всех существовавших военных концепций. Было принято много решений. Например, вместо некомпетентного Ворошилова наркомом обороны назначили другого буденовца, маршала С.К.Тимошенко. Ввели процедуру отдачи чести военнослужащими. Раньше это считалось пережитком старого строя. На меня сейчас наибольшее впечатление производит изменение направленности боевой подготовки. Решено было направить боевую подготовку на отработку действий подразделений, частей, соединений и объединений в наступлении и обороне. Это было как раз то, что нужно и чем Красная Армия не занималась до 1940 года вообще. Начальник немецкого Генштаба генерал Гальдер весной 1941 года докладывал Гитлеру, что в Красной Армии уже отработаны действия рот, а кое-где и батальонов в наступательных и оборонительных операциях. Нужно начинать нападение на СССР, пока там не отработали эти задачи в масштабах полка. Тогда воевать с СССР будет уже не целесообразно. Кто же виноват в том, что Красная Армия занялась делом только пережив позор в советско-финской войне? Универсальный ответ – Сталин. Но это не анализ ошибок – все спихивать на Сталина. Это удобно тем, кто не хочет думать, а привык жить по трафарету. В данном вопросе Сталина можно обвинить в недосмотре, а вся полнота вины падает на военное руководство и прежде всего на Ворошилова. К нему в компанию я бы присоединил не только Буденного, но и тех несчастных, кто составил группу Тухачевского, поскольку они задавали тон в Красной Армии в 20-е и 30-е годы. А занимались они парадами, а не обучением солдат тому, что прежде всего им понадобится на войне. Объясняется это их отношение к службе тем, что были они карьеристами до мозга костей. Будучи военным человеком, я считаю, что двадцатичетырехлетние молодые люди не могут командовать армиями и фронтами. За это дело в таком возрасте может взяться только абсолютно несведущий карьерист, который даже грубо, приблизительно, ориентировочно не представляет себе того, за что берется. А у нас все руководство состояло либо из скороспелых начальников, таких как Тухачевский, Уборевич, Якир, либо из бывших фельдфебелей, вроде Буденного, Тимошенко и иже с ними. Я бы мог подтвердить эти утверждения большой конкретикой, поскольку много перечитал военной литературы на эту тему, но это увело бы мое повествование в сторону от основной темы. Это вопрос специальный. Кстати он упущен из виду историками. Постановка дела в боевой подготовке в армии и на флоте ускользает от внимания тех, кто пытается докопаться до истины, исследуя причины нашей плохой готовности к войне. Им представляется, что уцелей Тухачевский, и все пошло бы по-иному. Но это, увы, не так. Смена руководства, жившего воспоминаниями о гражданской войне, была для армии необходима как воздух. Но сделать это надо было по-человечески: воспитать замену и проводить ветеранов с почестями. Произошедшая зверская расправа с военачальниками заслоняет собой все и не позволяет спокойно разобраться в военных проблемах. Рука не поднимается бросить камень в этих невинных жертв. Мне кажется, что в вопросе о содержании боевой подготовки сыграла свою роль демократия тех времен, когда еще существовали солдатские комитеты, которым подчинялись командиры, когда солдатские депутаты выступали на съездах, а офицеров топили в баржах на Волге. Легче митинговать, заниматься политграмотой и ружейными приемами, чем заниматься настоящей боевой учебой в поле. По этой же причине вместо сооружения траншей полного профиля при решении оборонительных задач ограничивались индивидуальными стрелковыми ячейками. Это было узаконено боевым уставом пехоты и в результате привело к неустойчивости обороны и большим потерям в начальный период войны, пока жизнь не заставила потеть ради сохранения своего существования. Уже в тридцатые годы «демократические явления» в армии стали называть «партизанщиной» и жестоко искоренять. Это помогло в какой-то степени добиться дисциплины и беспрекословного повиновения, а вот на то, чтобы учить бойцов тому, что нужно им на войне, у военного руководства не хватило ума и компетентности. Я отвлекся в своем повествовании от главной темы, но думаю, что этот экскурс в историю предвоенных лет поможет читателю хотя бы приблизительно представить себе всю сложность обстановки в стране и особенно в армии. Еще одним результатом финской войны было введение генеральских званий. В газетах приводился полный список генералов и адмиралов, и помещались их портреты. Генералов было совсем немного. Эти звания давались только строевым начальникам. Политработники, инженеры, врачи, интенданты и прочие оставались при своих званиях. Получивший звание генерал-лейтенанта авиации П.В.Рычагов убыл в Москву и занял пост Начальника Военно-Воздушных Сил страны вместо Локтионова, вернувшегося в родную пехоту. Рычагов взял с собой в Москву И.С.Трояна. Ставший командующим ВВС ОКА А.С.Сенаторов, получивший звание генерал-майора авиации, попросил руководство, чтобы на освобожденное Трояном место перевели папу. Таким образом, мы вновь оказались в Ворошилове-Уссурийском, причем в той же квартире, что и раньше. На этот раз нашим соседом по квартире оказался генерал-майор авиации Федор Яковлевич Фалалеев, прибывший на освобожденную Сенаторовым вакансию заместителя командующего ВВС. Позже Ф.Я.Фалалеев станет маршалом авиации. Федор Яковлевич был обаятельным человеком. Он всегда шутил, любил разыгрывать шутливые сценки. То наденет дамскую шляпку и показывает пантомиму, как женщина продвигается по переполненному пассажирами московскому трамваю, то повяжет на шею чулок вместо галстука. Шутки его были безобидными, они просто давали людям возможность посмеяться от души. С его женой, Верой Алексеевной, подружилась моя мама. Вера Алексеевн родилась в городе Изюме и шутила, что Федор Яковлевич подцепил там изюминку. Сам Федор Яковлевич был земляком моей мамы. У них была дочь Клацета – в честь Клары Цеткин – курносая, широкоплечая девушка на год старше меня. У нас с ней сразу же сложились товарищеские отношения. В 1940-1941 годах жизнь в Ворошилове стала лучше: в магазинах появились продукты, уменьшились очереди. Правда, я нашел-таки себе возможность постоять в очередях. Я охотился за новыми грампластинками и выдерживал бурные очереди, чтобы их приобрести. С Фалалеевыми мы соседствовали недолго, так как переехали в отдельную трехкомнатную квартиру. Я подружился с ребятами с нашего двора и активно проводил время. Летом мы с ними часто ездили на рыбалку с ночевкой. Хорошо помню учебу в восьмом классе. Во-первых окрепла моя привязанность к географии. У нас дома появились новые географические атласы, а в школе учитель рекомендовал нам выписывать из газет сообщения о новостройках, чтобы таким образом отслеживать динамику географических изменений. Так я начал вести географическую статистику. Во-вторых, у меня неожиданно прорезались способности к математике. Задачи по математике и физике я решал мгновенно в уме. После занятий никто из учеников не уходил домой, все оставались в классе, где я на доске решал заданные на дом задачки. Ребята их сдували и из школы уходили домой с выполненным заданием, свободные для подвигов и развлечений. К папе все знакомые относились с подчеркнутым уважением. По вечерам к нам приходили в гости Фалалеевы, а начальник штаба ВВС генерал Михельсон, оставивший свою семью в Москве, частенько приходил к нам пообедать, особенно на фирменные пельмени. В то время я уже начал задумываться о своем будущем и, конечно же, не мог себе представить никакой другой судьбы, кроме военной службы. Я стал заниматься боксом, потом джу-до. Это нечто среднее между модной тогда японской борьбой джиу- джитсу и приемами рукопашного боя. У папы была библиотека военно-теоретической литературы. Я ее всю проштудировал. Многое было непонятно, но я с помощью папы добрался до сути. Из книжек помню труды Клайзевица, Дуэ, Энгельса, Фрунзе и Тарле. В мае 1941 года меня приняли в комсомол. В войсках в это время сильно налегали на дисциплину. Появились комендантские обходы, которые хватали за неопрятный вид, небрежное приветствие и другие внешне заметные нарушения дисциплины. Появились новые строгие уставы. Это была работа Тимошенко. Папа от службы получал удовольствие. Сенаторов был хорошим, добропорядочным человеком и заботился о состоянии ВВС. И вот разразилась война. О ней мы узнали вечером 22 июня, на семь часов поясного времени позже, чем в Москве. По радио я услышал тихий голос Молотова, который довольно бесстрастно сообщил о нападении на нашу страну и закончил речь лозунгами, которые потом долго эксплуатировались прессой и политработниками: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Мы, ребята, собирались по вечерам и обсуждали первые сводки Совинформбюро. Мы не ожидали легкой победы, но никак не могли смириться с таким быстрым отступлением наших войск. Объясняли мы это тем, что войска стремятся к старой границе, где сильные укрепления. Они там все соберутся, остановят немцев и будут гнать аж до самого Берлина, никак не меньше. Однако в сводках очень быстро возникли новые направления, и. хотя о сдаче городов сводки помалкивали, становилось очевидным стремительное продвижение немцев вглубь нашей страны. Мы быстро научились извлекать полезную информацию из сводок. Если вчера бои шли на Барановичском направлении, а сегодня на Бобруйском, то значит, Минск уже в руках противника. Если бои идут на Сольцысском направлении, значит, немцы дошли до озера Ильмень, а Прибалтика полностью в их руках. Папа был очень серьезен и спокоен. Он мне сказал, что в первые же часы войны вся наша фронтовая авиация была уничтожена на аэродромах. Это произошло из-за беспечности и непонимания разницы между мирным временем и войной. Вот тебе и сталинские соколы! Сухопутные войска оказались без прикрытия с воздуха. Современные самолеты МИГи и ЛАГГи насчитывались десятками. Они не очень-то были освоены, а И-16 с «мессершмидтом» соперничать был не в состоянии. Не буду вдаваться в подробности начального периода войны, поскольку я находился от этих событий на расстоянии многих тысяч километров, а пересказывать прочитанное или услышанное я не ставил своей целью. Расскажу о том, чему был свидетелем. Дальневосточные войска и так всегда были в полной боевой готовности, а с началом войны, готовность была повышена до предела. Войска заняли свои места в укрепрайонах, всюду на дорогах сооружались огневые точки. Страна готовилась дать отпор японцам, поскольку ожидалось их вступление в войну на стороне Германии. Ведь существовал тройственный пакт со странным названием «Ось Рим-Берлин-Токио». Однако японцы не спешили. Им представлялось выгоднее сосредоточить свои силы в Китае и Юго-Восточной Азии. В Китае они заняли все железные и шоссейные дороги, порты, побережья морей и крупных рек. Вглубь Китая они особенно не лезли, зато захватили весь Индокитай, Тайланд, Малайю, Сингапур и частично Бирму. На очереди были Индонезия, Филиппины и острова Океании. Там сопротивление было незначительным, а стратегический и экономический выигрыш – огромный. Против нас они держали квантунскую армию и ждали победы немцев на западе, чтобы ухватить свою долю добычи на востоке. Вскоре после начала войны я вместе со школьниками уехал в колхоз. Мальчики занимались сенокосом, а девочки пололи овощные поля. Кормили нас хорошо, а в местной лавке было только два вида товара: хлеб и горбуша холодного копчения. Вернувшись с сенокоса, я узнал, что папу переводят в Москву. Оставлять нас на Дальнем Востоке он не хотел и решил отправить нас в Сибирь к тете Зине, которая жила в Сталинске и имела собственный дом. Обстоятельства перевода папы в Москву я подробно узнал только в 1967 году из рассказа Ивана Семеновича Трояна, когда гостил у него в Киеве. Вот, что он мне рассказал. Рычагов назначил Трояна начальником управления эксплуатации и ремонта ВВС. Фактически это должность главного инженера ВВС, только она тогда так не называлась. Незадолго до начала войны в Воронеже произошла авиакатастрофа, о которой было доложено Сталину. Тот принял ее близко к сердцу и приказал расследовать. В Воронеж полетела комиссия во главе с Трояном, но и этот самолет, не долетев до Воронежа, тоже разбился. В существовавшей тогда атмосфере такое совпадение несчастных случаев наводило на нехорошие мысли о кознях врагов. Сталин потребовал к себе Рычагова. Того на месте не оказалось, а Сталин этого не любил. Рычагова разыскали в Большом театре и, хотя он там изрядно приложился к коньячку, взяли под белы руки и привели к «хозяину». Сталин спросил, что нового слышно о воронежской катастрофе. Рычагов доложил, что туда вылетел Троян, который во всем досконально разберется. Сталин сказал, что Троян погиб в новой катастрофе. У Рычагова отвалилась челюсть и он что-то пролепетал про то, что летчикам приходится летать на гробах. Сталин ответил, что, по его мнению, Рычагов еще не созрел для такого высокого поста, и ему не мешает подучиться. Рычагов тут же был определен в слушатели академии генштаба. На место Рычагова был определен Жигарев из Хабаровска. Троян же, попавший в авиакатастрофу, остался жив, хотя и переломал себе много костей. Его положили в госпиталь, а вскоре началась война. Рычагов так и не успел приступить к занятиям, потому что в академии шла летняя экзаменационная сессия. Он со своей женой Нестеренко поехал отдыхать в Сочи. Там его и застало начало войны. Получив это известие, Рычагов срочно выехал в Москву на поезде. Где-то около Тулы к ним в купе вошли энкаведешники. Они уточнили, Рычагов ли находится перед ними. Убедившись в том, что ошибка исключена, они велели Рычагову следовать за ними. Мария Нестеренко выхватила пистолет и сказала, что не отдаст им мужа. Ей спокойно ответили, что лично ее никто не собирался арестовывать, но теперь после такого ее поступка избежать ареста ей не удастся. Говорили, что Рычагову дали 5 лет за неготовность авиации к боевым действиям. Жигарев слишком мало находился у руля, чтобы отвечать за всю эту обстановку благодушия и шапкозакидательства. Сейчас стало известно, что Рычагов был расстрелян вместе со Смушкевичем, Локтионовым, Штерном и другими генералами, явившимися козлами отпущения за поражения в приграничных боях и в октябре 1941 года при эвакуации Москвы. Некоторое время за Трояном, лежащим в госпитале, оставалась его должность, но это было слишком важное дело, чтобы во время войны оно могло оставаться без головы. Жигарев всего годработал вместе с папой, но решил, что из всех инженеров папа более всего подготовлен для этой работы. Оставив нас в Сибири, папа на самолете полетел в Москву. У меня сохранился карманный атлас, в котором папа с присущей ему пунктуальностью отмечал время прохождения тех или иных пунктов своего пути. Наступила долгая разлука. Это время для меня осталось в значительной степени белым пятном, поскольку папа о служебных делах дома не говорил никогда, а на воспоминания был крайне скуп. Письма, а точнее открытки, мы от папы получали очень редко. В них не сообщалось ничего личного, содержались довольно стандартные фразы о том, что врага мы обязательно разобьем, но надо набраться терпения. Полевые почты менялись, но по ним было неясно, где в данный момент находится папа. О службе его в Москве знаю, что он был моложе своих подчиненных и имел меньшее звание. Там служили люди в возрасте и со многими ромбами в петлицах. Ночевал папа в основном на службе, лишь иногда заходя в комнату, которую он снимал у старушки. С этой старушкой в его жизни был связан один эпизод. Однажды уже в Ташкенте мы пошли с ним в баню. Когда папа раздевался, он обнаружил, что у него оторвалась подкладка у шинели. В прорехе что-то белело. Он засунул туда руку и вытащил бумажку с каким-то текстом. Папа прочел текст вслух. Оказалось, ему симпатизировала и, видимо, тайно зашила ему в шинель эту молитву. Потом на фронте эта молитва не раз спасала ему жизнь. Я часто расспрашивал папу о начальном периоде войны, но он отвечал очень скупо. По его словам самым трудным в это время была плохая связь и слабая информированность центра. Шло отступление, один за другим оставлялись аэродромы, и командованию было трудно определить, где в данный момент находится та или иная часть, тот или иной штаб. В движении находились авиамастерские и склады, среди них были потери. Тем не менее какими-то неисповедимыми путями информация доходила, и решения принимались с оперативностью военного времени. Чего-чего, а уж решительности у папы хватало. В одной из почтовых открыток папа внизу сделал приписку: «10.9 был у ИВС». Сначала я не сообразил, а потом мне ударило в голову: неужели он был у самого Сталина? Это казалось немыслимым. Потом папа рассказывал, что в Госкомитете Обороны решался вопрос о создании в авиации полевых авиаремонтных мастерских (ПАРМ). Сталин вызвал папу как эксперта. На этой встрече присутствовал П.Ф.Жигарев, ставший уже заместителем наркома обороны. Сталин задал папе вопрос: « Как вы считаете, ПАРМы должны быть универсальными или специализированными на определенный тип самолета?» Папа ответил, что, по его мнению, мастерские должны специализироваться под определенный тип самолета. Тогда будет значительно легче обучать мастеров и обеспечивать запчастями, да и сами мастерские станут менее громоздкими и более мобильными. Например, мастерская, приданная полку истребителей ЯК, может быть размещена на нескольких автомашинах, что позволит ей вместе с полком менять аэродром базирования при отступлении или наступлении. Сталин заметил, что он придерживался такой же точки зрения. И тут П.Ф.Жигарев возразил, что он уже подписал приказ противоположного содержания, на что Сталин ему сказал: «Товарищ Жигарев, мы на войне каждый день нарушаем Конституцию, а Вы боитесь отменить свой собственный приказ. Слушайте, что Вам советует инженер и отмените свой приказ». На этом аудиенция закончилась. Жигарев был взбешен и высказал папе свое недовольство в резкой форме. Папа ему ответил, что, если между ними пропало взаимопонимание, то он просит отпустить его на фронт. Жигарев сказал, что отпускает и разрешил выбирать на фронте любую должность. Папа созвонился с Ф.Я.Фалалеевым, который командовал ВВС Юго-Западного направления, и тот пригласил к себе папу на должность главного инженера. Однако, в это время начались тяжелые бои за Москву, и Жигарев задержал папу на несколько месяцев. По окончании битвы за Москву папа уехал на Юго-Западное направление. В то время фронты объединялись в направления: Северо-Западное, Западное и Юго-Западное. В Юго-Западное направление входили: Юго-Западный фронт (Тимошенко), Южный фронт (Малиновский), Отдельная Приморская армия (Петров), Закавказский фронт (Тюленев) и Черноморский флот (Октябрьский). Направление возглавлял маршал Тимошенко, членом военного совета Н.С.Хрущев, начальником штаба – И.Х.Баграмян. Зимняя кампания 1941-42 годов закончилась более или менее благополучно. Немцы были отогнаны от Москвы, возвращены Тихвин и Ростов, на харьковском направлении были освобождены Барвенково и Лозовая. Барвенковский выступ представлял собой даже не мешок, а чулок, настолько он был длинен и узок. Немцы обычно из таких ловушек добровольно выводили войска, называя это выравниванием фронта. Разрабатывая план кампании на весну-лето 1942 года, Тимошенко и его штаб додумались напихать в этот чулок две армии и оттуда начать наступление на Харьков. Свои предложения Тимошенко отправил в ставку. В них предусматривалось, что все резервы ставки будут отданы Юго-Западному направлению, плюс к этому, все остальные фронты тоже должны были начать наступление, чтобы отвлечь внимание немцев от Харькова. Генератором этой идеи был Н.С.Хрущев, который, будучи руководителем компартии Украины, имел в своем распоряжении только два города Барвенково и Лозовую, а хотелось иметь еще хотя бы Харьков. В том, что касается резервов и деятельности всех остальных фронтов, Сталин показал Тимошенко фигу, а вот брать Харьков своими силами разрешил. Таким образом, Харьковская операция получилась частной. В ней было спланировано наступление двух армий (Подлас и Костенко) из барвенковского плацдарма и одной (Москаленко) из района Волчанска. Тимошенко не набрался мужества отменить эту авантюрную затею после получения от Сталина фиги. Главной его ошибкой была плохая разведка сил противника и полное отсутствие представлений о намерениях супостата. Вот свидетельства некоторых очевидцев. Рассказывает мой папа. Авиация была к наступлению подготовлена как никогда. В строю было 95-98% боеготовых самолетов. Тимошенко заложил в план проведения операции ошибочный замысел, а затем еще и неправильно руководил войсками при его осуществлении. В результате получился полный разгром нашего фронта. В Барвенковском выступе были сосредоточены необстрелянные дивизии, укомплектованные новобранцами узбеками, которые хорошо понимали по-русски только сигналы к приему пищи. Рассказывает бывший начальник автотракторной службы армии Москаленко – мой сосед по госпитальной палате. Армия только что прибыла на фронт после формирования. Она была полностью укомплектована новенькой техникой и оружием, но боевого опыта не имела. Выдвижение к исходной позиции для наступления армия производила медленно, поскольку делалось это только днем по двум мостам через Северский Донец. Немецкая авиация уничтожила эти мосты, а потом и всю технику на обоих берегах реки. Армия понесла такие потери, что потеряла боеспособность, еще не дойдя до линии фронта. Рассказывает Владимир Михайлович Бегак – мой сослуживец по военной приемке в Ленинграде. Наша саперная часть находилась в Барвенковском выступе, когда началось наступление. Сначала оно шло даже чересчур успешно. Немцы почти без сопротивления пропускали войска в направлении Харькова, и наши передовые части уже видели Холодную Гору. Правда, ни вправо, ни влево они нас не пускали. Вдруг из района Славянск-Краматорска немцы силами мощной танковой группировки нанесли удар по основанию Барвенковского выступа. Две наши армии попали в окружение. Узбеки, сугубо мирные крестьяне, тут же стали сдаваться в плен. Оба командарма погибли. Управление войсками было потеряно, сопротивление носило очаговый характер. Бегак, в числе группы из восемнадцати человек, вырвался из окружения, поэтому и смог мне все это рассказать. Число наших пленных под Харьковом оценивалось в 200.000 человек. Наши войска с упорными боями отступали к Воронежу. Во время этого отступления папа дважды попадал под такую бомбежку, что бомбы попадали в те хаты, в которых он находился. Это было в Валуйках и в Россоши. Хотя немцы и захватили больше половины Воронежа, дальше их не пустили. Тогда немцы повернули южнее и пошли на Сталинград, где наши войска не были развернуты, и сплошной линии фронта не существовало. После неудачи под Харьковом Юго-Западное направление ликвидировали, Тимошенко отозвали в Москву, и с тех пор он уже больше ничем не командовал. Папа остался на Юго-Западном фронте, а когда образовалась 8-ая воздушная армия, стал ее главным инженером. Обо всем этом мы узнавали позже по отрывочным данным от заезжих фронтовиков.
Теперь немного расскажу о нашей жизни в Сибири. В Сталинске жили две маминых сестры, Леля и Зина. Город расположился на берегах реки Томь – мощной и полноводной. Прежде он назывался Кузнецком, а старая часть города, находившаяся на правом берегу, называлась Старокузнецком. На левом берегу от горизонта до горизонта раскинулся Кузнецкий металлургический комбинат. На нем выплавлялась сталь в восьми мартенах, чугун в четырех домнах, и весь этот металл перерабатывался в прокат и продукцию машиностроения. Южнее комбината был выстроен Соцгород, о котором Маяковский сложил стихи «здесь будет город-сад». В городе было еще три района: Верхняя и Нижняя Колонии и Араличево. Вокруг Сталинска повсюду были разбросаны шахтерские и рудокопские поселки. На горе в Старокузнецке стояла обветшалая крепость, где бывал Достоевский.

Шидловские: Виля, Марк, Леля. Шидловские жили в Соцгороде. У них была двухкомнатная квартира. Марк Шидловский был призван в армию где-то осенью. Его назначили командиром автобатальона, который формировался здесь же в городе. Ближе к зиме автобат отправился на фронт, и тетя Леля осталась одна с тремя детьми, Вилей, Беллой и Валей, которой не было еще и года. Осенью Шидловских уплотнили, одну из комнат заняла семья эвакуированных из Днепродзержинска. Эти эвакуированные приехали вместе со своим вагоностроительным заводом. В сентябре школы были закрыты – все школьники работали на уборке урожая. Я помогал Шидловским и тете Зине собирать картошку на их участках. Картошки было довольно много, и это позволило нам как-то просуществовать зиму. Тетя Зина жила в Старокузнецке. Она продала отчий дом в Ижевске и купила этот, куда мы к ней и приехали. Ее муж Ляно работал токарем на металлургическом комбинате. Он обрабатывал снаряды и был забронирован от призыва в армию. Дети у Кузнецовых были еще маленькие: Юра учился в третьем классе, а Лиде было три года. В октябре я пошел учиться в 9 класс. В школе было много детей эвакуированных из Москвы и с Украины. Они были легко одеты, и зимой их можно было сразу отличить по помороженным ушам. Самым сильным впечатлением от школы стали уроки военного дела. Военрук, ефрейтор, только что выписавшийся из госпиталя после ранения, гонял нас не хуже, чем настоящих солдат. В любую погоду все занятия были на улице. Казалось бы, устройство винтовки лучше изучать в классе, но он нас закалял на сорокаградусном морозе. Мы проползали по-пластунски не меньше километра, бегали, метали гранаты, а зимой больше ходили на лыжах. Мы совершали ночные марш-броски на 30 километров, съезжали с высокой горы. На трассе спуска было несколько трамплинов, после которых я всегда оказывался на земле, а местные ребята их даже не замечали. Половина уроков физики посвящалась изучению трактора и сельхозмашин, поскольку учеников готовили к летним сельхозработам. По воскресеньям мальчики копали котлованы для строящихся заводов ферросплавов и алюминиевого. Все это нами воспринималось как должное. Удручало только положение на фронтах. Особенно тревожно было, когда немцы подошли к Москве. Информация была очень скудной. Туманные сводки совинформбюро, да еще более туманные очерки Ильи Эренбурга, плюс к этому полные ужаса рассказы эвакуированных с Украины – вот и вся информация. Где-то в феврале 1942 года стало совсем туго с продуктами. Кончилось все, что мы привезли с собой с Дальнего Востока, картошка тоже подходила к концу, несмотря на экономное ее расходование. В это время к нам заявился лейтенант в летных унтах и велел нам собираться в дорогу. От него мы узнали, что папа где-то под Воронежем, и по его просьбе нам дают комнату в Толмачево на станции Обь около Новосибирска. Мы поблагодарили тетю Зину и тетю Лелю за гостеприимство и уехали с лейтенантом, которого звали Жора Кирьяновский, к новому месту жительства. В Толмачево нас поселили во вполне городской комнате с центральным отоплением. Кушать кроме хлеба (400 граммов на человека) было совершенно нечего. Зато каким вкусным казался хлеб! На третий день после приезда в Толмачево я сказал маме, что в школу больше не пойду, а пойду работать в авиамастерские. Мама обрадовалась. Теперь у нее оставалась только забота накормить Алика, а меня худо-бедно прокормят в столовой. В авиамастерские меня приняли учеником токаря. Дня три я простоял около станка, на котором работал парень старше меня года на два. На четвертый день ко мне подошел мастер дядя Миша и сказал, что хватит мне учиться, пора и деньги зарабатывать. Он дал мне наряд на изготовление ушковых болтов. Так я начал зарабатывать деньги. Сначала я точил мелкие детали, работая на станке «удмурт», потом перешел на огромный станок без какой-либо марки. Подозреваю, что первоначально предназначался для обточки паровозных колес. На этом станке я делал матрицы и пуансоны для штампов, шлифовал шатуны. Все габаритные работы цеха делались на моем станке. Я ходил в библиотеку дома офицеров и прочитал там все, что было по токарному делу. Оттуда я узнал, как точить шар и другие замысловатые детали. Работали мы по 12 часов в сутки, но иногда нас задерживали на неделю. Это случалось тогда, когда военная обстановка диктовала свои условия. Например, мастерским давали неделю на установку бомбосбрасывателей на 75-и ночных бомбардировщиках ПО-2. Мы трудились по 20 часов в день, еду подносили к станку. Мы ели, не останавливая станка, и после изготовления каждой детали оглядывались на часы – проверяли, уложились ли в норматив. Спали по 4 часа в сутки в красном уголке цеха. Проблемным вопросом было восстановление цилиндров авиамоторов. У нас шлифовался один цилиндр в смену, и то, если он был не очень изношен. Дядя Миша изобрел новый способ шлифовки, и я на своем большом станке выточил все необходимые приспособления. После этого меня перевели на шлифовку цилиндров. Новым способом получалось 2-3 штуки в смену. Я стал зарабатывать реальные деньги – больше 1000 рублей в месяц, которых, впрочем, хватало только на молоко. Выходных дней у нас не было, но была пересменка, когда мы еженедельно переходили с дневной смены на ночную или наоборот. Во время этой пересменки получался перерыв в 36 часов. Я их дважды использовал, чтобы съездить в Новосибирский военкомат и попросить направить меня служить во флот. К этому времени у меня появилось твердое намерение посвятить себя морской службе. В военкомате мне объясняли, что могут меня направить в артиллерийское училище и больше никуда. С образованием в 9 классов они призывников посылают только в училища, поскольку иначе разнарядку на курсантов выполнить не могут. Для Военно-морского училища я должен иметь образование в десять классов, а для артиллерийского хватит и того, что у меня уже есть. «Если хочешь быть моряком, заканчивай десятый класс»,– сказали мне. В октябре я пошел учиться в 10-ый класс, чтобы потом попасть в моряки. За лето 1942 года мы подтянули свое продовольственное положение. Нам выделили участок земли у самой великой Сибирской железнодорожной магистрали. Пока мы там копались, видели, как нескончаемым потоком шли на запад воинские эшелоны, с запада же тянулись санитарные поезда и составы, укомплектованные сгоревшими и искореженными от бомбежек вагонами. Эти составы шли в Барнаул на вагоноремонтный завод. Земля была целинной, и из посаженных верхушек вырос хороший урожай картофеля. В гарнизоне семьям фронтовиков однажды продали капусту, и мама насолила целую бочку. Однажды меня пригласил к себе в гости Жора Кирьяновский. У него что-то случилось на службе, и его перевели, как он выразился, в сталинскую дивизию. На нем были зеленые полевые петлицы. На следующий день он должен был уезжать на фронт со своей танковой дивизией. Он пригласил меня попрощаться и перед расставанием сделал мне два подарка: карту двухверстку района между Волгой и Днепром, где в то время как раз шли бои и банку литра на два с рыбьим жиром. После этого, приходя с работы, я ел жареную на рыбьем жире картошку с кислой капустой. Жить было можно. Немного расскажу о Жоре. Это был человек могучего телосложения с густым чуть хрипловатым басом и довольно приличным по размеру носом. О его силе в мастерских ходили легенды. Когда в Киеве мастерские грузились в эшелоны, Жора руками загружал в вагон бочки с топливом. Я сам видел, как он прогнал мальчишек-рабочих, пытавшихся закатить вверх по доскам в кузов грузовика авиамотор. Парней он прогнал и загрузил авиамотор в грузовик руками. В другой раз я наблюдал такую сцену: во дворе мастерских человек 30, взявшись за длинный амортизатор, пытались завести мотор на отремонтированных аэросанях. Они маялись полчаса, но все было безуспешно. Пришел Жора, что-то промычал басом, крутанул пропеллер рукой, и мотор заработал как часы. У Жоры была пестрая биография. До армии он был сталеваром на донбасском мартене, потом стал авиатехником, служил в Эстонии. Однажды он лежал под самолетом и подвешивал бомбу весом в сто килограмм. Бомба сорвалась и упала ему на лицо. Жора был так крепко сшит, что отделался одним выбитым зубом. У него была жена и некая вилла в поселке Кагановичи Житомирской области. Жена осталась в оккупации стеречь эту виллу. Суждения о жизни и происходящем вокруг у него были неординарны и мудры. Не знаю, остался ли этот настоящий мужчина жив на этой войне. У меня все время было ощущение, что он уезжал на фронт с какой-то штрафной частью. Стационарные мастерские 125 (САМ), в которых я работал, принадлежали запасной авиабригаде. В эту бригаду поступали самолеты ЯК-I с новосибирского завода им.Чкалова, а летчики – из училищ и госпиталей. Из них формировались полки, которые по очереди поддерживали боеготовность одного истребительного полка восьмой воздушной армии Сталинградского фронта. Прибывшая на фронт материальная часть и летный состав уничтожались асами из немецкой группы Рихтгофена за неделю. На смену им шел следующий полк, подготовленный у нас в Толмачево. По одному этому факту можно себе живо представить, что творилось под Сталинградом. К нам в Толмачеве приезжали за пополнением летчики из этого полка. Двое из них заходили к нам и приносили от папы посылки: муку и немного денег. Но главным были письма, не прошедшие цензуры. Так мы узнали, что папа в Сталинграде. Летчики много рассказывали о той мясорубке, которая там была. Особенно интересно было слушать от отчаянной борьбе за господство в воздухе, которое оставалось за немцами. В бригаде одним из полков командовал Николай Иванович Ольховский. В Ворошилове он служил инструктором высшего пилотажа ВВС армии. Мы там были хорошо знакомы и дружили семьями. Мама поддерживала приятельские отношения с Марией Федоровной (Мурой) Ольховской, а Алик дружил с их сыном Севочкой. Впоследствии, уже на фронте, Николай Иванович был командиром Эскадрильи истребителей ЛА-5, лично сбил около 20-ти самолетов и стал Героем Советского Союза. В его эскадрилье служил Иван Никитич Кожедуб, а Николай Иванович был его воспитателем. После войны служба у Ольховского пошла неудачно, поскольку на фронте от пристрастился к зелью, и никак не мог бросить пить. Из Болгарии его перевели в Красноводск. А там без вести пропал самолет из его полка. Руководство посчитало, что самолет улетел в Иран, и тогда, приказом министра Булганина, Ольховский был снят с должности. Но буквально тут же самолет обнаружили разбившимся в горах Копетдага. Приказ, однако, отменять не стали, а Ольховского назначили адъюнктом в Монинскую академию. Зеленый змий не дал Николаю Ивановичу закончить адъюнктуру. После очередного срыва, который произошел уже в Германии, его демобилизовали. Ольховский пошел работать крановщиком на завод и поставил перед собой цель стать еще и Героем Труда. Только на заводе было такое пьянство, что он не смог совладать со своим пристрастием и быстро покатился вниз. Мы иногда встречались с Ольховскими у них на даче в Монино. К этому времени у них уже было трое сыновей, причем Коля и Шура были близнецами. Коля был копией отца, а Шура пошел в мать, такой же чернявый и импульсивный. Ольховский много рассказывал о войне. При этом он расставлял руки, как крылья, передвигал воображаемые рукоятки и нажимал на мнимые педали. Такая манера рассказывать о полетах присуща всем летчикам. Возможно, я в своем дальнейшем повествовании использую кое-что из его повествований. Коля Ольховский, тот из близнецов, который внешне походил на Николая Ивановича, увлекся нашей Светочкой, пытался ухаживать, но был решительно отвергнут. Однажды ночью в феврале 1943 года в нашу дверь постучали, и в ответ на вопрос «Кто там?» мы услышали знакомый бас «Сидоров». Мы бросились встречать папу. Оказывается, его забраковали врачи, и для поправки здоровья он был переведен в Ташкент главным инженером ВВС Среднеазиатского Военного Округа (САВО). Впервые мы увидели папу в полковничьих погонах. Погоны вообще только что ввели, и в Толмачево их видели редко. Вот, что папа рассказал о Сталинграде. Сначала было довольно быстрое отступление. С этим была связана передислокация мастерских и транспортировка неисправных ремонтируемых самолетов. Особенно сложно было переправлять их через реки. Переправы были забиты войсками и обозами с мирным населением, с самолетами туда было не пробиться. Для доставки самолетов на другой берег на каждой реке изобретались свои способы транспортировки.

Сталинград. 1942 г. Затем завязались жестокие бои на подступах у Сталинграду. Город был подвергнут уничтожающей бомбардировке, которая непрерывно продолжалась больше суток. Папа в это время был в городе. Он говорил, что это был сущий ад. Здания рушились, весь город горел. Из разбитых нефтехранилищ огненная река текла в Волгу, и Волга тоже горела. В ходе боев все аэродромы 8-ой воздушной армии перебазировались на Левобережье Волги. Они размещались в Заплавном, Зетах, Верхнем Погромном и других поселках, а также прямо в степи. Штаб армии располагался в Верхнем Погромном и других поселках. Командующим был Тимофей Тимофеевич Хрюкин, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. За Волгой немцы тоже не давали покоя. Через Волгу шел артиллерийско-минометный обстрел, а в небе барражировали «мессершмидты». Однажды папа попал под минометный обстрел, где он был персональной мишенью. Он пролежал на открытом месте полдня. Вокруг него разрывались мины, и он постоянно ждал, что следующая попадет уже точно в него. С аэродрома на аэродром летали обычно на ПО-2. Это ночные бомбардировщики, переделанные из учебных самолетов. ПО-2 могли садиться на любой площадке, за что их еще звали «кукурузниками». Они летали на небольшой высоте, на подходе к цели они выключали мотор и переходили на планирование, поэтому ночью они были практически неуязвимы, и в то же время очень метко попадали по цели. За ночные бессонницы немцы ненавидели эти самолеты и охотились за ними. Интерес немцев к этим самолетам возрастал еще и от того, что им было известно, что в этих самолетах в качестве пассажира обязательно летел кто-нибудь из начальства или связной с приказом или донесением. К тому же тихоходный и безоружный самолетик был легкой добычей, а победа над ним позволяла немецкому летчику увеличить свой личный счет и получить награду. Дважды самолеты ПО-2, на которых папа перелетал с одного аэродрома на другой, были атакованы «мессерами».Наши летчики к этому времени уже выработали тактику поведения при обнаружении истребителями противника. Эта тактика заключалась в том, что при виде «мессера» наш летчик немедленно шел на посадку, не взирая не рельеф местности под самолетом. Не доходя до земли 2-4 метра, летчик и пассажир должны были выпрыгнуть из самолета и разбежаться в разные стороны, потому что к моменту приземления ПО-2 уже попадал в прорезь прицела немецкого летчика. Задача состояла в том, чтобы до прицельного огня покинуть самолет. От этих-то прыжков папа и почувствовал себя плохо. Он терял сознание, испытывал дикие боли в области поясницы, а врачи не могли поставить диагноз, поскольку приучены были только к открытым ранам. Вообще «гражданские» болезни внутренних органов во время войны отходили на второй план, и их считали пустяками как врачи, так и сами больные. Потом оказалось, что у папы отбита левая почка. Два раза папа летал со Сталинградского фронта в Москву выбивать запчасти и технику, необходимую армии. Оба раза в самолете с ним летел Н.С.Хрущев, член Военного Совета Сталинградского фронта, а за штурвалом самолета был Н.И.Цыбин. Хрущев обращался к спутникам: «Давайте ваши заявки, я вам помогу их реализовать.» Недавно я купил книжку о боевом пути 8-ой воздушной армии. Книжка составлена на основании журнала военных действий и состоит, в основном, из перечисления вылетов на задания и их результатов. Папа в этой книге упоминается два раза. Первый раз при перечислении руководящего состава вновь сформированной армии, а второй раз, как организатор противовоздушной обороны аэродромов. Папа слетал на авиационный завод в Саратов, где ему во внеочередном порядке изготовили необходимое количество турелей для стрельбы авиационными пулеметами с земли по воздушной цели. Это было эффективней зенитных пушек, а главное, ничего не надо было выпрашивать у фронта, ресурсы которого и так были на пределе.

Фронтовая фотография. 1942 г. В ноябре 1942 года началась Сталинградская наступательная операция. Папа был привлечен штабом фронта к ее разработке, которая проводилась в обстановке чрезвычайной секретности ограниченным числом офицеров. Так от 8-ой Воздушной армии участвовало только два человека: начальник оперативного отдела Перминов и папа. За эту работу папа был награжден орденом Красного Знамени. К началу наступления под Сталинград прибыла еще одна воздушная армия под командованием С.И.Руденко. В воздухе наступило некоторое равенство. Окончательное господство в воздухе обеспечила, как говорил папа, конница, которая была введена в прорыв и захватила множество вражеских самолетов на аэродромах. После окружения немцев в Сталинграде основной задачей 16-ой Воздушной армии генерала Руденко, входившей в Донской фронт, стала воздушная блокада группировки Паулюса. Восьмая же Воздушная армия в составе Сталинградского фронта наступала в общем направлении на Ростов. И тут предстояли новые тяжелые испытания. Немецкое верховное командование распорядилось, чтобы, чтобы Паулюс ни в коем случае не пытался покинуть Сталинград, а деблокаду его войск поручили фельдмаршалу Манштейну, который сосредоточил в районах Котельниково и Тормосин крупную танковую группировку. Эти свежие танковые соединения, подстегиваемые истерическими приказами Гитлера, ринулись на помощь Паулюсу в полосе действий Сталинградского фронта. Наш фронт перешел к обороне, войска таяли на глазах, но своевременно подоспевшая 2-ая гвардейская армия Малиновского разгромила группировку Манштейна, и фронт продолжил наступление на запад. Это сражение, конечно, стало достоянием истории, но оно недооценено историками, поскольку оно было труднейшим и важнейшим во всей Сталинградской эпопее. Все лавры и почести выпали на долю Донского фронта, который ликвидировал окруженную немецкую группировку и взял в плен Паулюса. Взятие Котельниково явилось для Сталинградского фронта последней точкой в этой битве. После этого фронт даже был переименован в Южный. Именно после освобождения Котельникова папа попрощался с боевыми друзьями. Его поменяли местами с генералом Иваном Ивановичем Бондаренко, прибывшим на его место из Ташкента. Когда мы уезжали из Сибири, там был мороз -50 градусов. Мама даже поморозила себе щеку. А в Ташкенте пели птички, стояла ранняя весна с мокрым снегом под ногами. Хорошо запомнилась дорога. Мы довольно долго ехали по Турксибу. Ехали в одном вагоне, но не компактно, а все в разных концах вагона. Рядом с мамой ехал оперный певец – тенор. Он должен был в Алма-Ате на киностудии петь за кадром за артиста в кинофильме «Воздушный извозчик». Ночью он запустил руку в сумку с папиным продпайком, отломил шмат колбасы и съел его под одеялом. Мама ему не стала мешать, так как понимала, что человек в беде. Рядом со мной ехал младший лейтенант, который мне шепотом рассказал о «катюшах» – реактивных минометах, о которых я к тому времени еще не слышал, а лишь потом увидел в кинохронике. Основным контингентом пассажиров были выписанные из госпиталей раненые. Одни после ампутации ехали домой насовсем, другие либо на долечивание, либо в часть. Среди раненых большинство составляли казахи и узбеки, называли они друг друга «костыльганами». По вагонам ходили инвалиды и пели. Им в шапку кидали мятые рублевки и заказывали «Землянку». Это была самая популярная в то время песня. Многие, слушая ее, размазывали по лицу слезы. В Ташкенте мы разместились на жительство в авиагородке. Школа моя была расположена в центре города, в часе ходьбы от дома. В школе был твердый коллектив учителей. Основные предметы преподавали старики-интеллигенты. У них не забалуешь! Ни на какие поблажки надеяться было нельзя. Десятый класс учился в третью смену, и домой я возвращался в полной темноте. В нашем классе было пять мальчиков, остальные – девицы. Слабых учеников не было, и мне, привыкшему к роли первого ученика, пришлось не только хорошо учить текущий материал, но и подтянуть слабые места, накопившиеся от пропущенных двух четвертей девятого класса и неважного преподавания в сибирских школах.

Ташкент на фоне дувала. 1943 г. Ташкент выглядел сугубо восточным городом. По краям дорог были выкопаны канавы-арыки. Между арыками и высокими глинобитными заборами-дувалами протянулись узенькие тротуары. Вдоль арыков были насажены пирамидальные тополя и раскидистые деревья – урюк. В центре города было несколько прекрасных зданий-дворцов в восточном стиле: театр имени Навои, здание ЦК ВКП(б) Узбекистана и др. Остальные дома были преимущественно одноэтажными. Дома располагались за дувалами , и жителей не было видно. В Ташкент были эвакуированы Одесса, Ростов и Харьков. Кроме того в теплые края съехались все беспризорники и уголовники. Город был сильно перенаселен. Базары были очень богатые (гораздо лучше, чем сейчас), но цены были доступны только богачам. Соседкой по квартире у нас была Наталья Яковлевна Парфенюк. Ее муж командовал полком на фронте, а сын учился в Ташкентском пехотном училище. Наталья Яковлевна была коммунистом с большим стажем. Она рассказывала, что, когда ее муж служил в Куйбышеве, она работала секретарем у кандидата в члены политбюро ЦК ВКП(б) Павла Петровича Постышева. В 1938 году Постышева, который подверг сомнению сталинский тезис об усилении классовой борьбы по мере развития социализма, вызвали в Москву, и он исчез навсегда. В Ташкенте Наталья Яковлевна работала поваром в красноармейской столовой. У нее было больное сердце, и труд ее был сродни большому подвигу, поскольку ей приходилось целый день в неимоверной жаре шуровать уполовником в огромных котлах со щами и кашей. Она ни разу не принесла домой хоть какой-нибудь еды, и не давала этого делать никому, в том числе и начальству. За это ее очень ценил комиссар базы. Он говорил, что надеется только на нее, так как хозяйственникам никогда нельзя довериться. Судьба Натальи Яковлевны была трагична. Сначала на фронте погиб ее муж, потом без вести пропал сын, а затем умерла и она сама, прямо на своем рабочем месте. И некому было помянуть ее добрым словом. Среднеазиатский военный округ охватывал огромную территорию, и папа все время бывал в частях. Запомнились такие пункты его поездок: Чимкент, Чирчик, Сталинабад, Фрунзе, Казанджик, Красноводск. Несколько раз папа летал в иранский город Мешхед, находившийся в Советской зоне оккупации Ирана.

На Ташкентском аэродроме. В этих поездках происходило взаимообогащение знаниями. Папа делился свежим фронтовым опытом, а сам познавал особенности эксплуатации самолетов в условиях среднеазиатской жары и песка. самолеты были плохо приспособлены не только к морозам, но и жаре. Командующим ВВС округа был генерал-лейтенант Мичугин, у которого были две симпатичные дочки-студентки, Октябрина и Сталина.
* * * Пятого марта 1943 года нашу семью постигло страшное горе. Погиб мой брат Алик. Его задавила машина, даже не задавила, а придавила кузовом к стене, когда он гулял во дворе. Никто никогда и не думал о такой опасности для ребенка, потому что машин в Ташкенте во время войны было не так уж и много. И этот грузовик не мчался по улице, а просто неумело разворачивался во дворе. Папа был вне себя, он бегал по городу с пистолетом и искал шофера, чтобы застрелить. Его пришлось отлавливать и успокаивать. Мама очень долго находилась в состоянии грогги, но потом обнаружили, что у нее брюшной тиф и она просто отдает концы. Эта ее реакция на гибель сына очень напоминала реакцию ее мамы на смерть Бориса. Маму положили в госпиталь.

Братья Сидоровы: Алик и Женя. Для всех нас это было трудное время. Папа приносил домой спирт и научил меня пить его в разбавленном и неразбавленном виде. Давал он мне капельку, но эта наука мне очень пригодилась в будущем. Я уже знал, что это такое, какова технология потребления зелья и сколько мне можно его потребить, чтобы не потерять лицо. У нас многие ребята после училища, дорвавшись до спирта и не зная меры, сильно от этого страдали. Однажды, когда мы были с папой дома вдвоем, я рассказал ему о своих токарных делах в Толмачевских мастерских. Услышав об изобретении дяди Миши, позволившем увеличить выпуск цилиндров авиамоторов на 200-300 процентов, он был поражен. Проблема цилиндров у них стояла не менее остро, и они рады были улучшить дело хотя бы процентов на 5. Но своего дяди Миши у них не нашлось. Папа мне сказал, что ни в какую школу я завтра не пойду, а должен буду явиться к начальнику местных мастерских Турчанинову и, пока не налажу шлифовку цилиндров по новому методу, из мастерских не выйду. У меня все еще было свежо в памяти, и я выточил по одной оправке для цилиндра с водяным и для цилиндра с воздушным охлаждением. Всего нужно было делать пять приспособлений, но оставшиеся отличались только размерами, и мастера Турчанинова, схватив идею на лету, сами их потом сделали. На третьи сутки я им отшлифовал по одному цилиндру каждого сорта. Времени на это ушло по 3,5 – 4 часа, вместо 12 -13 часов по старому способу. Все были крайне воодушевлены, а я ощущал приподнятое настроение от сознания того, что помог Родине в ее трудный час. Незаметно подошло окончание школы. Мне и еще двум мальчикам из нашего класса предложили без вступительных экзаменов потупить в авиационный институт, эвакуированный в Ташкент из Харькова. При этом меня соблазняли броней от призыва в армию. Однако я направил документы в Высшее Военно-Морское Инженерное ордена Ленина Училище имени Дзержинского, которое в это время находилось в Баку. Папа мой выбор одобрил. Он говорил мне так: «Летчиком ты быть не можешь, потому что у тебя замедленная реакция. Тебя собьют в первом же бою. В авиационные инженеры тоже не ходи. Очень трудно терпеть, когда необразованные командиры относятся к тебе, как к нелетающему, а значит, к третьесортному человеку. На кораблях в этом отношении люди уравнены, потому что бок о бок несут бремя морской службы.» Из Баку пришел вызов, и я покинул отчий дом и начал самостоятельную жизнь. Следующий раз я встретился со своими родителями уже в сентябре 1945 года, получив первый отпуск после окончания войны. К этому времени я уже окончил второй курс училища и летнюю корабельную практику на Северном флоте. В это время мои предки жили уже в Харькове. Папу назначили главным инженером ВВС Харьковского военного округа (ХВО). Об этих двух годах, в течение которых я не видел своих родителей, у меня в памяти не осталось ничего существенного, связанного с папой. Сначала я хотел сразу перейти в своем повествовании к осени 1945 года, но мне стало жалко опустить свои воспоминания, сохранившиеся о том, что я видел в 1943-1945 годах. Ведь это были необычные годы. Буду стараться говорить не о себе, а о том, что попадало в поле моего зрения, о том внешнем мире, который я воспринимал. Итак, летом 1943 года поехал в Баку с вызовом из училища. Стояла необыкновенная жара. Вагоны были набиты пассажирами до предела, а ехали мы по Средней Азии, где летом прохладно не бывает. Плацкартными были вторые полки, на каждую нижнюю полку продавалось по три билета. Третьи полки старались багажом не занимать, чтобы на них спать по очереди. Дорога была одноколейной, и поезд часто и подолгу стоял на разъездах, пропуская эшелоны с бакинской нефтью. Северокавказские дороги еще не работали, и нефть из Баку шла двумя потоками: первый – по Каспию и Волге, второй – по Каспию и среднеазиатской железной дороге. Разъезды, как правило, располагались в маленьких оазисах, все население которых выходило к поезду торговать всевозможные фрукты: виноград, дыни, арбузы, абрикосы, а также кислое. Пассажиром предлагались молоко – мацони и пресные лепешки – чуреки. Цены же на эти продукты были совершенно недоступными. Поезд уходил, а товара меньше практически не становилось на импровизированном рынке. После Ашхабада к поезду стали приносить соль, которую мгновенно раскупали. На станциях военные бежали в продпункт пообедать по своему продаттестату. В поезде ехал целый интернационал, но говорили все по-русски. Однако этот разговор был отягощен таким акцентом и таким примитивным лексиконом, что ухо просто жаждало услышать нормальную русскую речь. В поезде ехали узбеки, казахи, туркмены, армяне, азербайджанцы, старые евреи, украинцы (в основном старшины) и белорусы. Мы ехали четверо суток. За это время я познакомился с капитаном, одетым в морскую форму. Он оказался инструктором комсомола управления Военно-морских учебных заведений (ВМУЗ), которое находилось в Баку. В Красноводске у нас приняли чемоданчики в камеру хранения, сказали, что время прибытия и отправления теплохода «Багиров» точно не определено, а предположительно будет через 4-6 суток. Капитан ушел в гостиницу, а я на морской вокзал. Там народ спал на полу вповалку, найти себе свободное местечко было трудно. К тому же все пространство было густо заполнено мухами: идешь и давишь их ногами, поскольку улетать им некуда. На улице тротуары тоже были забиты спящими. Численность табора, ожидавшего пароход «Багиров», составляла порядка пяти тысяч несчастных. Всем на пароход не сесть, а ведь за оставшиеся дни желающих сесть на борт только прибавится. Я каким-то образом исхитрился и часика два поспал, а утром пошел изучать Красноводск. Городишко был одноэтажный, почти без зелени и без воды. В ларьке продавали теплую плохо опресненную воду поллитровыми банками по 50 копеек за банку. У меня в чемодане оставалось немного хлеба и сыра, но камера хранения была на замке до прихода теплохода. А есть хотелось по-настоящему. Оставался один вариант – идти на рынок. Ассортимент товаров на рынке был беднее, чем в придорожных оазисах, а цены просто умопомрачительные. Я взял себе стакан мацони и одну лепешку, за что заплатил 75 рублей. На оставшиеся пять дней до прихода «Багирова» у меня оставалось рублей 50. Подкрепившись, я пошел купаться в Каспийском море. Никакой красной воды я там не увидел и решил переименовать Красноводск в Муховодск. Затем я как-то опять оказался на морском вокзале и встретил там своего шефа – капитана. Он мне шепотом сказал, что вот-вот должны открыть камеру хранения для группы офицеров, которые собираются взять свои вещи и на грузовике ехать в нефтяной порт Уфру с тем, чтобы там сесть на танкер «Нахичевань» и уже на нем следовать в Баку. Я решил ехать с ними, хотя в списке и не значился. Автомобиль ехал по дну мелководного залива километров пять. Мне стало ясно, что обратного пути нет. С разрешения старичка-капитана танкера я на «Нахичевани» добрался до Баку. Город Баку не похож ни один другой город. Его своеобразие обусловлено древней историей, южным колоритом с морем и горами, многонациональным населением и экономикой, которую прежде всего определял нефть. После Дальнего Востока и Сибири, где застройка городов была деревянной с отдельно возвышающимися многоэтажными каменными зданиями, я попал в город со старинными каменными домами. В районе Приморского бульвара стояли красивые 4-5 этажные дома, было много зелени, среди которой выделялись олеандры, ранее виденные мною только в цветочных горшках. Ядром старого Баку являлась Крепость, игравшая в городе роль, схожую с ролью Кремля в Москве. В Крепости находилась комендатура и гауптвахта. Рядом с парадной частью города располагались кварталы, населенные азербайджанцами. Там были узкие улочки, застроенные двухэтажными домами кавказской архитектуры. На горе возвышался Арменикенд – красивый район города, населенный армянами. К северу, вглубь Апшеронского полуострова располагался Черный Город, район, где добывалась и перерабатывалась нефть. Увольнений в город на первом курсе почти не было, и знакомство с ним происходило, в основном, в строю. Мы ходили на строевые прогулки с барабаном, в баню, на лекции в Индустриальный институт, плавать в море, на завод «Парижская Коммуна» для практических занятий по технологии металлов. Настоящее знакомство с городом состоялось лишь во время патрулирования. В патруль я ходил раз двадцать. Нам выдавалась винтовка с патронами и красная нарукавная повязка. Патрули были одиночными. Мы ходили в отведенных секторах и проверяли документы у всех военнослужащих, в том числе у офицеров, а также у гражданских лиц призывного возраста. Подозрительных задерживали, нарушителей дисциплины записывали. Вот тут я и увидел бакинцев в их естественной обстановке. Народ жизнерадостный, темпераментный и очень торговый. Всюду возникали «черные рынки», на которых торговали всем подряд, начиная от собственныхпоследних штанов и кончая чачей – виноградной водкой. Старики и старухи сидели на тротуарах и торговали всякой дрянью. Пяти-шестилетние ребята на улице играли в классики, а на шеях у них висели лотки с восточными сладостями. Попрыгав, они вспоминали о деле и кричали: « Половина щиколад, половина мармелад, кому надо уманад?» Описание города было бы неполным, если бы я не упомянул о постоянном стойком запахе керосина, который ощущался в любой части города. Море было загрязнено керосиновой пленкой и плавающими «ляпами» нефти. На плавание мы всегда ходили с керосином и ветошью, с помощью которых мы смывали эти «ляпы» с головы и рук. Военный контингент в Баку больше всего был представлен войсками НКВД, затем следовала противовоздушная оборона и военные училища, в том числе четыре Военно-Морских. Противовоздушная оборона была укомплектована девушками-зенитчицами, которых называли эрзачками (от немецкого слова «эрзац» – заменитель). Они тоже ходили на строевые прогулки. Их необычайно длинные колонны шли всегда в ногу легким шагом, как на танцах, ряды были ровными, а пели они лучше нас. Чаще всего они пели: «Ты мне изменила, другого полюбила. Зачем же ты мне шарики крутила, да-да?» Надо сказать, что нас тогда не очень удивлял факт службы в армии такого количества девушек, и их маршировки с песнями мы считали в порядке вещей. Но сейчас, когда я вспоминаю эти длинные колонны в зеленой форме, мне становится не по себе. До чего же мы тогда дожили, что даже девушки были поставлены в строй, лишены индивидуальности, свободы и любви. Один раз нас подняли по боевой тревоге, и мы заняли оборону в Черном Городе. Это продолжалось около суток. Фронт уже далеко отодвинулся от Кавказа, и мы недоумевали, отчего это у наших офицеров такие встревоженные лица. Потом выяснилось, что в этот день через Баку проезжал Сталин на Тегеранскую конференцию. Кстати о конференции. О ней впоследствии ходило много легенд. Сюжетом для детективных романов и фильмов послужил слух о том, что немецкая агентура готовила покушение на глав правительств трех великих держав, а наши контрразведчики это дело вовремя раскрыли и предотвратили трагедию. По этому поводу позже родился то ли анекдот, то ли байка, то ли слух – нечто не лишенное жизненной основы. Якобы Рузвельт на заседании тройки передал Черчиллю записку. Черчилль усмехнулся, спрятал записку в карман и передал Рузвельту ответное послание. Рузвельт прочитал его, тоже усмехнулся, разорвал записку на мелкие клочки и бросил их в пепельницу. Заседание проходило в нашей резиденции, и по его окончании наши бдительные ребята собрали клочки записки, склеили их и обнаружили такой текст: «Старый орел не вылетает из гнезда». Все сразу решили, что «орел» – это иносказательно Сталин. «Не вылетает из гнезда» – значит, не покидает резиденцию. Отсюда был сделан вывод о готовящемся покушении. Прошло много лет. Умерли Сталин и Рузвельт. Черчилль доживал свой век на пенсии. И тут к нему обратились с просьбой освежить в памяти этот эпизод с записками. Особенно интриговала первая записка, текст которой остался неизвестным. Черчилль погрузился в воспоминания и вдруг расхохотался. Он вспомнил, что Рузвельт в своей записке подсказал ему, что у него расстегнута ширинка. Еще одна легенда гласит, что Сталин хотел сделать Рузвельту хороший подарок, и велел выведать, какое у него хобби. Оказалось, что это филателия. Тогда Берии было поручено купить лучшую коллекцию советских марок у наших любителей. За ценой велено было не стоять. Сказано – сделано. После заседания тройки в советской резиденции Сталин попросил Рузвельта задержаться и сделал ему этот подарок. Рузвельт был так рад, что тут же принялся рассматривать марки. Он никак не мог оторваться от этого занятия и остался ночевать у Сталина. На другой день он во всем поддерживал Сталина, чем вызвал крайнее недоумение Черчилля. Как коллекционер, я вполне допускаю такое поведение. Думаю, что и я повел бы себя так же как Рузвельт, получи я подобный подарок, связанный с моим хобби. Кое-что еще о Тегеранской конференции я добавлю чуть позже. В 1942 году, когда немцы рвались к Кавказу, в Баку было сформировано несколько бригад морской пехоты. Курсантов младших курсов нашего училища направляли в эти бригады. Морпехи вступили в бой на подступах к городу Орджоникидзе и остановили танковые колонны немцев. В 1943 году оставшихся в живых курсантов вернули в училища. В нашем классе собрались все фронтовики Дизельного факультета: Павло Дорогань, Артем Абрамов, Сергей Личак, Юрий Дербеденев, Костя Краснов и Миша Виноградов. С Мишей я спал на одной двухъярусной койке и помню, что он был очень беспокойным соседом. Во сне он бился головой и кричал: «Куда вы его несете? Он уже давно мертвый!» Ребята рассказывали, что наша пехота во время отступления от Ростова была полностью деморализована, бежала без оглядки и полностью потеряла боеспособность. Едва наши моряки успели занять оборону, как нахлынули тучи танков, за ними пехота на машинах, а в воздухе «Юнкерсы» и «Хейнкели». Когда немцев встретили организованным огнем, они сначала удивились, а потом стали лезть напролом. Началось побоище, кончившееся тем, что немцы не выдержали и перешли к обороне. Их командующий генерал Лист погиб под Моздоком, и в газетах появились карикатуры на этого Листа с подписью: «В Моздок я больше на ездок». Об этом подвиге моряков история скромно умалчивает. Только в мемуарах маршала Крылова перечисляются номера бригад морской пехоты, но никакой разницы между этими героями и драпальщиками из пехотных дивизий не видно и в этих мемуарах. Через Баку в 1943 году проходила трасса движения союзнической помощи нашей стране. Грузы шли через Иран, Баку и далее. Участие союзников в войне с Германией мы почувствовали через появление в нашем рационе кое-каких заграничных продуктов. Гороховы суп-пюре мы называли «слезы Черчилля», а консервированную колбасу – «улыбка Рузвельта». Такой сарказм был вызван тем, что союзники бессовестно отлынивали с открытием второго фронта и выжидали, когда СССР и Германия ослабят друг друга по максимуму. Не буду останавливаться на своем житье-бытье. Опущу рассказ о вступительных экзаменах в училище, где был конкурс 17 человек на место, о первом, самом трудном, годе службы. Не буду вдаваться в эти подробности, потому что в них речь должна идти обо мне, а я поставил перед собой другую задачу: рассказать о приметах того времени. Летом 1944 года после экзаменационной сессии мы приступили к демонтажу лабораторного оборудования и погрузке его в вагоны. Затем, получив сухой паек на дорогу, мы сели в теплушки и отправились в Ленинград. Размещение курсантов производилось из расчета: один взвод – один вагон. В теплушках ехали не только курсанты, но и преподаватели с семьями, в том числе несколько профессоров-адмиралов. Ехали мы через Ростов, Воронеж и Москву.

В теплушке. Дорога до Ростова помнится оживленным движением воинских эшелонов и санитарных поездов. Все станции на Кубани были разбиты, а дома в станицах казались не пострадавшими. Зато Ростов был уничтожен до основания. Этот город много раз переходил из рук в руки, и страшно было смотреть на руины некогда красивого и богатого города. После Ростова мы почувствовали, что наши рюкзаки с сухим пайком заметно отощали. Хлеб раскрошился, и его надо было есть горстями. Ребята на станциях бегали на базарчики что-нибудь поменять на еду. Я тоже на станции Дрязги поменял кусок мыла на литр молока, которое тут же и выпил. На месте станции была расчищенная площадка. Ни одного целого дома в поселке не было, люди жили в землянках. В конце концов, мы доехали до Москвы, и наш эшелон сутки простоял в Лихоборах. Я попал в команду курсантов, которая должна была отоварить хлебные карточки и доставить хлеб к эшелону. Этот хлеб предназначался для гражданского населения нашего ковчега. Так я неожиданно оказался в самой Москве. В центр мы ехали на электричке и зорко смотрели по сторонам. Нам было интересно узнать, как москвичи переживают войну. Публика была одета бедно. Многие пассажиры в электричке были с тяпками – люди ехали за город окучивать картошку. Разговоры шли вокруг положений на фронтах и новостей, услышанных по радио. Мы с интересом прислушивались к этим разговорам, поскольку сами давно не слышали радио и отвыкли от политической активности населения. В Баку этого не было, там народ разговаривал только на бытовые темы, да и то с оттенком недовольства. Около Красных Ворот мы купили себе по порции эскимо, стоившей 14 рублей. Мы были потрясены тем, какую роскошь может себе позволить столица. Ведь ни в каком другом месте невозможно было купить хоть что-нибудь без продовольственных карточек. Вечером в Москве был салют по поводу освобождения Барановичей. До Ленинграда мы доехали быстро, правда, несколько часов состав простоял в Тосно. Там мы воспользовались белыми ночами, и до двух часов ночи играли в футбол. Ленинград поразил нас своей красотой и незнакомым духом благородства и гордости. Многие окна были забиты фанерой. Позолоченные шпили либо находились в чехлах, либо были закрашены чем-то черным. На стенах домов были надписи об опасности артобстрела и указатели нахождения бомбоубежищ. Во всех садах и скверах росла картошка, многие дома стояли без углов и стен, демонстрируя внутреннее убранство комнат. На площадях стояли зенитки. И все же город выглядел прекрасно, гораздо лучше, чем сейчас.* (Сноска: автор последний раз был в Ленинграде в середине 80-х годов) Всюду чистота, уважительное отношение друг к другу, какое-то чисто ленинградское достоинство в поведении при полном обнищании быта. Линия фронта в это время проходила недалеко: по реке Нарова (сейчас стали неграмотно писать «Нарва»). В городе сохранялся комендантский час, по радио стучал метроном. Но уже вернулись в город крысы, покинувшие его во время блокады, и потихоньку начали возвращаться эвакуированные. После разгрузки эшелона я был направлен на заготовку дров в лес около Кингисеппа. Там из лесных оврагов тянуло трупным смрадом. Затем мы оказались на учебном корабле «Комсомолец», где проходили свою первую корабельную практику. «Комсомолец» стоял у моста Лейтенанта Шмидта, как раз на том месте, откуда «Аврора» произвела свой эпохальный выстрел. Это был крупный корабль, с водоизмещением как у хорошего крейсера, но он был весь изранен бомбами и тяжелыми снарядами. Кормили в Ленинграде хуже, чем в Баку. Мы росли и худели. На Неве, по которой мы каждый день ходили на шлюпках, там и сям были разбросаны полумертвые корабли. Около училища имени Фрунзе с большим креном стояла плавбаза «Свирь». У Горного института стоял крейсер «Петропавловск», купленный перед самой войной у Германии. «Петропавловском» его нарекли уже у нас, а у немцев он носил название «Лютцов». Крейсер был недостроенный, но это еще полдела. Немцы перед продажей укомплектовали его так, чтобы он не мог принимать участие в боевых действиях. Снаряды присылали к одному калибру, а оптику к другому. Но, несмотря на этот запланированный саботаж, к началу битвы за Ленинград несколько его башен удалось ввести в строй. Во время блокады «Петропавловск» по сравнению с другими кораблями вел самую эффективную стрельбу по немецким позициям. Он уничтожил немецкую танковую колонну в районе Стрельны, но и сам был потоплен в районе Канонерского завода. В месте затопления судна было мелко, и палуба находилась над водой. Матросы потихоньку заделали пробоины и однажды ночью откачали воду и увели «Петропавловск» в Неву. Уже с нового места стоянки крейсер продолжил огневые атаки немцев, и снова был потоплен. У Адмиралтейского завода (в то время завод им. Марти) стоял дизельэлектроход «Урал». В этом месте был самый стержень реки, и при гребле вверх по течению около этого «Урала» шло яростное противоборство между гребцами и рекой. В этом месте шлюпка практически стояла на месте и только после неимоверных усилий со стороны гребцов она потихоньку начинала продвигаться вперед, сначала на сантиметры, потом чуть быстрее проходила вдоль его борта. Шаровая окраска «Урала» до сих пор стоит у меня в глазах. Около Летнего сада стояли недостроенные крейсера «Чапаев» и «Железняков». Тогда они стояли выкрашенные суриком с деревянными гальюнами на корме, а позже на них плавали механиками мои ближайшие соратники, Илья Бурак и Лева Беляев. Линкор «Октябрьская Революция» в полностью исправном состоянии стоял в Маркизовой Луже. Нам приходилось на нем бывать. К военным в то время относились не просто с уважением, а с любовью, которую можно было прочитать в глазах. Особенно это было заметно в День Победы, который пришел неожиданно, хотя все его ждали. Мы смотрели на всенародное ликование из окон Адмиралтейства. В город нас не пустили, потому что вечером мы должны были участвовать в салюте. Стреляли мы из ракетниц на стрелке Васильевского острова. Да, День Победы – это яркое ощущение искренней радости, всплеск всеобщего единения народа с горьким привкусом скорби по погибшим. Этот эмоциональный накал невозможно передать словами. Тот, кто не пережил этих чувств сам, никогда не сможет понять величия этого момента. Бодренькие песенки про то, что этот День «порохом пропах», ничего не объясняют. Все лето 1945 года мы провели на корабельной практике. Я попал на Северный флот в бригаду ОВРа (охраны водного района) на тральщик, полученный по лэнд-лизу от США. Тральщики этого проекта у нас назывались Амиками. Эшелоном мы прибыли в Мурманск. Я еще раньше окрестил его «форточкой в Европу». Он расположен выше и по размерам меньше, чем «окно в Европу» – Ленинград. А еще он открыт круглый год. Эта «форточка» представляла собой удручающую картину. Все, что только было можно, было разбомблено. Кругом были одни руины: ни деревца, ни травинки, голые сопки, но очень оживленный порт. Пирсы и крановое хозяйство в порядке. Весь Кольский залив заполнен торговыми и рыболовецкими судами. Около гостиницы «Арктика» был заасфальтирован участок дороги, и молодежь собиралась на этом пятачке для танцев. Был открыт Дом офицеров, перед которым была разбита клумба с зеленой травкой. Смотреть на эту травку приводили детей. Самым оживленным местом был стадион, где играли в футбол судовые команды, наши против английских. Болельщики приходили сюда выпустить пар из своих котлов, поскольку повседневное напряжение было очень высоким. Мой тральщик заканчивал ремонт на заводе в Росте, которая тогда отстояла от города на 5 километров, а сейчас является его Ленинским районом. Мое первое увольнение в город началось с драки. Я шел из Росты в город пешком. Шел вместе со старшиной первой статьи, которому было лет тридцать, и он мне казался ужасно старым. Вдруг перед нами возник патруль из трех солдат. И мой бравый старичок неожиданно для меня вдруг начал их лупить. Я ему помог чисто из солидарности, не вникая в суть конфликта. У меня тогда был второй разряд по боксу, поэтому мы быстро их уложили на землю и убежали. Когда мы отдышались, я спросил старшину, за что мы их били. Старшина искренне удивился и ответил: «Так это же солдаты!» Увидев мое недоумение, он мне объяснил, что в течение всей войны в районе полуострова Рыбачьего, в единственном месте, где немцы не смогли перейти нашу границу, шли тяжелые бои в, так называемой, Долине Смерти. Сценарий этих боев был следующий: штрафные батальоны из моряков выбивали немцев из их траншей, затем горстку оставшихся в живых моряков сменяли батальоны пехоты, которые на другой же день сдавали позиции немцам. Опять набирались на флоте батальоны штрафников, куда моряков отправляли за самые незначительные проступки, опять моряки выбивали немцев и опять солдаты уступали немцам эти позиции. Вот поэтому-то моряки при каждом удобном случае учили солдат уму-разуму, а те принимали это, как должное. То и дело в Мурманск приходили суда с военнопленными. Немцев конвоировал один солдат, а наши освобожденные военнопленные шли понуро в сопровождении усиленного конвоя. Такая картина воспринималась очень тяжело. Когда я первый раз увидел это зрелище, я был крайне расстроен, я мучился несколько дней, потому что не мог найти этому хоть какого-то логичного объяснения. Вскоре мы закончили ремонт и пришли в Полярное за пополнением запасов. В Полярном базировались подводные лодки и ОВР. Там же находился штаб флота и знаменитый циркульный дом, в котором жили подводники. Перед этим домом стояла статуя Сталина, а на вершине скалы огромными буквами было написано, что в 1930 году здесь был Сталин и образовал Северный флот. Обе эти достопримечательности сводили с ума политработников, которые эксплуатировали их в три смены. Между ними происходили теоретические диспуты, напоминающие споры средневековых иезуитов. Они выясняли, можно ли статую Сталина называть памятником, коль скоро он еще жив. Сошлись на том, что в данном случае больше подходит слово «монумент». В Полярном часто попадались навстречу английские матросы с помпончиками на бескозырках и крупного телосложения адмирал. Это еще действовала союзническая военно-морская миссия, которая во время войны обеспечивала взаимодействие наших флотов при проводке конвоев с запада в СССР. Во время войны в Полярном всегда было много союзных моряков. Однажды руководитель Британской миссии обратился к нашему комфлоту А.Г.Головко с просьбой открыть в Полярном дом терпимости для иностранных моряков, поскольку они не привыкли испытывать неудобства по этой линии, и нигде в мире их не ставили в такие жесткие условия как в Полярном. Головко ответил, что это не в его силах, но, понимая затруднения моряков и идя им навстречу, он готов открыть еще один банно-прачечный комбинат. Из Полярного мы вышли на боевое траление. Тралили мины у Айновских островов на входе в Печенгский залив. По программе практики должен был дублировать командира отделения мотористов, но получилось так, что мой шеф, Миша Маков, попал накануне выхода в море в госпиталь. И я все лето выполнял все его обязанности, записанные в книжку-боевой номер. В соответствии с расписанием по тральной тревоге, я оставался в машинном отделении один. Другие мотористы обслуживали тральную лебедку, а я крутился в машинном отделении и выполнял все требования машинного телеграфа, а они при постановке или подъеме трала были непрерывными. То даешь малый вперед, то – полный назад, то, вообще, стопоришь дизель. А кроме главного дизеля еще крутится не менее двух дизель-генераторов, насосы, компрессора и т.д. Мин было очень много, и то и дело их мирепы подрезались тралом, и мины всплывали, покачивая на волне своими зловещими рогами. Всплывшую мину расстреливали из Эрликона, зенитной пушечки-автомата, которую американцы называли «пом-пом». Американские словечки были на тральщике в ходу, поскольку команда принимала тральщик из постройки в Майами, и три месяца находилась в США. Об американцах матросы говорили с теплотой и искренне удивлялись их заморским нравам. Например, им было непривычно, когда притиснутая где-нибудь в углу кубрика девушка-рабочая, в ответ на поцелуй или похлопывание по мягкому месту, говорила «спасибо». После траления мы заходили в порт Лиинахамари, который еще совсем недавно был захвачен нашим десантом с моря. Весь берег был утыкан ДОТами и танковыми башнями. Заходили мы на остров Вайгач с его птичьими базарами для смены постов СНИС (служба наблюдения и связи) и в Титовку для вывоза демобилизованных пехотинцев. Как они радовались! На этой высокой ноте я и закончу свои зарисовки военного времени. * * * В Харьков к родителям я приехал 3 сентября 1945 года в день победы над Японией, который последнее время не отмечается. Война с Японией была довольно странной. Во-первых, не кончился срок действия договора о ненападении. Во-вторых, накануне вступления нашей страны в войну с Японией на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Этим американцы намекнули нам, что обойдутся в своей войне с Японией и без нас. В-третьих, император Японии Хирохито капитулировал, сославшись на то, что бог отвернулся от Японии, раз ее закидывают атомными бомбами, а мы продолжали боевые действия, пока не овладели Порт-Артуром, Сахалином и Курилами. Эти три тезиса смущали меня и тогда, но все заглушало победное шествие и реванш за поражение в 1905 году. Надо сказать, что в те времена люди не меньше, чем сейчас, отдавали свои мысли политике. У многих эти мысли были заняты тем, как бы добиться процветания и могущества государства, а не получить награду лично себе. Личное часто отодвигалось на задний план, о социальной справедливости и в голову не приходило думать. Однако, народ чутко понимал, где дело идет честно, по совести, а где аморально, какой бы ни был уровень. Сейчас же всех волнуют лишь вопросы социальной справедливости, а что будет с державою, им наплевать. В этом я и сейчас отдаю предпочтение старым приоритетам. Итак, Победа и встреча с родителями после более, чем двух лет разлуки. Настроение было отличное. Все, в том числе и мои предки, были достаточно молоды. Жили мои родители недалеко от Госпрома в маленькой двухкомнатной квартире. Служба у папы шла хорошо. Командовал ВВС Харьковского Военного Округа генерал-лейтенант Пятыхин, получивший звание Героя еще во время финской войны. К концу же войны он стал перерожденцем. Растолстел, в его характере появились спесивость и барство. Он стал загребать немецкие трофеи. Из Германии тогда самолетами возили барахло и распределяли между руководством. В конце концов он на этом и погорел. В большой компании генералов за чрезмерную любовь к немецкому барахлу он был уволен из армии.

Командование ВВС ХВО. Самым сильным впечатлением о Харькове были огромные разрушения в городе. Во время войны город переходил из рук в руки несколько раз. Там шли уличные бои, результат которых был на лицо. Кроме того, при первом нашем отступлении по указанию Хрущева минировались, как и в Киеве, наиболее привлекательные на вид здания в предположении, что немцы уж их-то займут под свои штабы. Эти мины подрывались по радио, дистанционно, так что вандализм был обоюдный. В Харькове было много зелени и тепло. Народу для такого большого города было немного. Видны уже были ощутимые результаты восстановительных работ. В отпуске я подружился с папиным шофером, Мишей Карнаухом. Он был одесситом, имел звание старшины, которое заработал будучи стрелком-радистом на самолете ИЛ-2. Эта должность более всех военных должностей претендует на название «смертник», т.к. истребители всегда заходят штурмовику в хвост, и стрелок-радист со своим пулеметом в плексигласовом фонаре противостоит пушкам и пулеметам более маневренного истребителя. Миша был неунывающим и остроумным парнем. Он ждал демобилизации и скучал «за Одессу». Однажды в воскресенье мы всей семьей отправились на аэродром встречать дирижабль «Победа», совершавший какой-то пропагандистский полет. Дирижабль опоздал из-за встречного ветра и, пока его ждали, я успел наслушаться устных мемуаров трижды Героя Советского Союза, Ивана Никитовича Кожедуба. Он приехал на аэродром на двух «Виллисах» , из которых высыпали репортеры харьковских газет. Оказалось, что Кожедуб совершал турне по родным местам. Выйдя из машины, он сразу же приступил к мемуарам о том, когда и с какой стороны он делал налеты на этот аэродром. При этом он, как все летчики, расставлял руки наподобие крыльев и изображал виражи. Отпуск пролетел мгновенно, и я уехал в Ленинград. В марте 1946 года папе присвоили звание генерал-майора инженерно-авиационной службы. Для военного человека это большое событие, свидетельство признания его заслуг перед армией, какая-то гарантия дальнейшего роста. Мы все были очень рады за папу.

Первый снимок в генеральском звании. Весна 1946 года мне запомнилась еще двумя событиями. Первым событие было то, что я попал в строевой расчет для участия в параде на Красной площади в Москве. Нас привезли в Москву за две недели до парада, и мы каждый день дважды отправлялись на химкинский речной вокзал и отрабатывали там движение в строю. Возила нас на репетиции колонна голубых студебеккеров, которую мы называли «стадо беккеров». Мы до автоматизма отработали все приемы и перестроения, но этого оказалось мало. Командование морского батальона просило нас проявить лихость, удаль и артистизм. Наш любимый командир роты, Максим Евсеевич Кузьмин, обращался к нам с такой речью: «Братцы! Ножку! Ножку дайте! И ручку! Вперед до бляхи, назад до отказа! Если нужно – сделайте каменные лица! Как статуэтки! Египетские! А если нужно – сделайте пару конских улыбок! И дайте ножку! Не подведите старика!» А мы были не против. Так интереснее. Генеральная репетиция была на центральном аэродроме. Принимающий парад, маршал К.К.Рокоссовский, обратил внимание на то, как здорово идут моряки и какими вымученными солдатиками выглядят шедшие за нами курсанты училища имени ВЦИК (мы их называли «кремлевскими курантами»). На Красной площади мы еще прибавили жару и получили первое место и похвалу любимого нами К.К.Рокоссовского. Никогда бы не подумал, что от шагистики можно получить такое удовольствие.

Тренировка на Химкинском речном вокзале. Шестой слева автор. Первую годовщину Дня Победы мы отмечали в одной компании, и там я познакомился с Ритой Ададуровой – своей будущей женой. Это было второе памятное событие весны 1946 года. Мне уже было 20 лет, и я стал приглядываться к девушкам, но все было не то. Мне не нравились вертлявые, крашеные, мещанки и дуры. А тут я встретил свой идеал. Не хочется вскользь говорить о своем сердечном друге, я напишу о ней отдельно. Может быть, мы напишем с ней вместе, если удастся ее уговорить.
* * * На корабельную практику в этот раз мы поехали на Черное море. Наш эшелон шел в Севастополь, а часть курсантов, в том числе и я, должны были в Харькове пересесть в пассажирский поезд до Новороссийска. В Харьков мы прибыли в 6 часов утра, когда мы все еще крепко спали. Вдруг легко открылась тяжеленная дверь теплушки, и раздался знакомый бас: «Сидоров здесь есть?» Это был папа. Он отпросил у начальства меня и моего друга Жору Калинина погостить дома до вечера. Дома мы отмылись от дорожной грязи, наелись, выпили по рюмочке, погуляли по Харькову, а вечером отправились дальше. В Харькове я узнал, что папу переводят в Москву, и в следующий отпуск мне нужно будет ехать туда, а не в Харьков. В это время у нас жила тетя Зина, мамина сестра. Она развелась со своим Ляно, который в последнее время стал давать волю рукам, и приехала с детьми к нам в Харьков. Так мы с ней рассчитались за гостеприимство во время войны. Папину квартиру ей не оставили, но дали приличную комнату, и она прожила в Харькове более сорока лет, до самой смерти. Все лето я плавал на трофейной румынской подводной лодке, которая базировалась в Поти. Было трудно, но интересно. На лодке служили матросы, которые всю войну провоевали на Черном море. Какие это были чудесные люди! В экипаже царил дух дружбы, добродушной подначки и преданности кораблю. Почти половина экипажа состояла из кавказцев: грузин, азербайджанцев, армян и дагестанцев. Плавать они не умели и боялись. Однако, без купания на лодке нельзя было обойтись, поскольку в подводном положении на лодке была такая жара и духота, что люди порой доходили до обморочного состояния. Форма одежды на вахту ограничивалась плавками. Командир специально давал команду к всплытию после обеда, чтобы грязные и потные матросы могли хоть немного освежиться. Кавказцев спускали в воду на веревках, что не давало им потонуть, хотя они сильно к этому стремились. Ни о какой межнациональной розни, а тем более дедовщине, никто никогда не слышал. Матросы рассказывали о боевых действиях подводных лодок, о том, как под Новороссийском моряки сначала остановили свою пехоту, которая взяла разгон бежать до Турции, а потом и немцев. Я уже рассказывал о взаимоотношении матросов и солдат на Севере. Нечто похожее было и здесь. Во время увольнения на берег в Батуми катерники и подводники лупили матросов с линкора «Парижская коммуна» (он же «Севастополь»), обзывая их «союзниками». Дело в том, что линкор большую часть войны бездействовал в Батуми, куда его спрятали от авиации. В Поти строился мол. Работы вели заключенные-женщины. Они были, как на подбор, красавицы. Прозвище у них было «шоколадницы». Это были девушки, добровольно уехавшие в Германию из оккупированных областей нашей страны. Считалось, что они соблазнились на обещанный им немцами шоколад и шелковые чулки. Правда это или нет, не знаю, но так о них говорили в народе. По пляжу ходили толпы беспризорников, которых звали «дети костра и солнца». По субботам во время аврала, матросы приглашали парочку мальчишек почистить трюмы в таких местах, куда нормальный мужчина залезть не сможет. Потом этих ребят откармливали на неделю вперед. Из Поти я поехал в отпуск уже в Москву. Папа работал заместителем главного инженера Дальней Авиации. Командовал Дальней Авиацией главный маршал авиации Голованов, а главным инженером был папин однокашник по академии Виктор Георгиевич Балашов. Жили папа с мамой в гостинице на Чапаевской улице, поскольку квартиру они тогда еще не получили. Вскоре после моего приезда папа вынужден был поехать в командировку. Он пригласил меня поехать вместе с ним. Иначе у нас не оставалось времени пообщаться во время моего отпуска. Мы полетели на транспортном самолете ЛИ-2 сначала в Саратов, а потом в Харьков. В Саратове папа должен был рассосать пробку, образовавшуюся на авиационном заводе, который отремонтировал несколько сотен самолетов, а принимать их, облетывать и отправлять с завода не хватало людей. До папы туда летал генерал-полковник Громов (заместитель Голованова), но с задачей не справился. Папе досталась более сложная ситуация, поскольку положение усугубилось. За прошедшие десять дней к скопившимся самолетам добавилось много новых, вышедших из ремонта. 1946 год был самым голодным. К военной разрухе добавился сильный неурожай. Авиационная промышленность тоже переживала тяжелые дни. Получилось так, что в ходе войны она обеспечила количественное и качественное превосходство нашей авиации над немецкой, а с окончанием войны мы оказались на бобах. Бомбардировщика, равного «летающей крепости» у нас не было. Не было не только в наличии, но и в чертежах самолета, способного поднять атомную бомбу. Реактивных истребителей у нас тоже не было, хотя робкие попытки по их созданию у нас велись. Реактивный истребитель, разбившийся вместе с Бахчиванджи, оказался единственным и последним. А у американцев и особенно у англичан на конвейере уже стояли доведенные до ума реактивные истребители. В силу всех перечисленных причин Саратовский авиационный завод оказался без военных заказов. Там стихийно началась конверсия, о которой сейчас столько говорят. Завод стал штамповать алюминиевые миски, ложки, раскладушки и прочее. Баловаться с ценой, как это делают сечас, тогда было невозможно. Мирная продукция давала заводу выручки раз в сто меньше, чем от самолетов. Рабочие ничего не зарабатывали. Люди ходили как тени, еле волочили ноги. Тогда дирекция завода взмолилась и попросила загрузить завод хотя бы ремонтом самолетов. Вот уж, действительно, пришла крайняя нужда. Я знаю, как наши заводы не любят заниматься ремонтом и, вообще, сервисом, на чем западные фирмы зарабатывают самые большие деньги. Военные сразу загрузили завод работой. С конвейера стали выходить десятки самолетов. Весь заводской аэродром ими заполнен. Папина задача состояла в том, чтобы испытать эти самолеты, принять их и разослать к местам базирования. Он собрал летчиков, прибывших из частей за самолетами, посоветовался с ними, и уже через два часа начался конвейер приемки и испытаний. Через каждые пять минут с аэродрома взлетал отремонтированный самолет, делал круги над аэродромом и, если все было в порядке, улетал в свою часть. Не выдержавшие испытаний самолеты возвращались на аэродром. Через три дня мы уже могли лететь в Харьков, а заводские военпреды были вооружены методикой испытаний. Больше пробок из отремонтированных самолетов на заводе на возникало. Упомянутое мною совещание с летчиками проходило в заводской гостинице, где мы остановились, и я на нем присутствовал. Я видел, как кровно были заинтересованы летчики, надолго застрявшие в голодном Саратове, вырваться к себе домой. Я слышал, как папа ставил перед ними задачу и направлял ход совещания. Это была для меня хорошая школа. Я перенял у папы манеру вести совещания. Расскажу немного о Саратове образца 1946 года. Центр города не изменился с дореволюционных времен. Каменные здания купеческой архитектуры: биржа, банк, дума и др., возвышались над двухэтажными домами, требующими ремонта. Впечатляли здания театра и городского рынка. От центра к Волге тянулся парк Липки – чудесный уголок плохо озелененного Саратова. Через Волгу был перекинут большой и красивый мост. На юг от центра города вдоль Волги и вдоль трамвайных путей расположились бесчисленные заводы: комбайновый, шарикоподшипниковый, нефтеперегонный, авиационный и др. Возле заводов стояло по нескольку трех-пятиэтажных домов архитектуры первых пятилеток, метко названной стилем «баракко». Как теперь стали говорить: «Социальная сфера явно отставала от производственной». В связи с провалом нашего соперничества с американцами в области авиации, а также в связи с тем, что реальность получения атомной бомбы была гораздо выше реальности получения бомбардировщика, способного поднять ее в воздух, Сталин разгневался. Начались оргвыводы. Посадили в тюрьму главкома ВВС главного маршала авиации Новикова, Начальника главного штаба ВВС маршала авиации Ворожейкина, главного инженера ВВС генерал-полковника Репина, наркома авиапрома Шахурина и других авиационных деятелей. Курировавший авиацию член Политбюро ЦК ВКПб Г.М.Маленков тоже попал в немилость и был изгнан из Кремля в Ташкент. Правда, его Сталин вскоре помиловал и вернул в Кремль, а вот авиационные деятели, чтобы выйти на свободу, были вынуждены дожидаться смерти вождя. Военным инкриминировали забвение перспективы, а также то, что они пошли на поводу у промышленности, всегда настроенной на количество, а не на качество. Авиапром обвинили в том, что ни одного подходящего проекта самолета у него не было подготовлено для смены старых самолетов. Сейчас бы по этим меркам нужно было сажать все правительство подряд. Несколько по другому поводу был арестован маршал авиации С.А.Худяков. Я обещал кое-что добавить о Тегеранской конференции. Так вот, после Тегеранской конференции, на которой Сергей Александрович присутствовал, органам контрразведки стало известно, что во время конференции кто-то сболтнул лишнее англичанам, и те стали обладать некими сильно охраняемыми сведениями. Стали анализировать, кто из делегации мог это сделать. Сталин, Молотов и Ворошилов отпадали автоматически, ввиду своей непогрешимости. Оставались Штеменко, Худяков и Кузнецов. Подозрение по характеру сведений пало на Худякова, и он оказался на Лубянке.* (Сноска: Автор, видимо, путает. С.А.Худяков был в Тегеране в качестве личного пилота Сталина. А консультантом он был уже на Ялтинской конференции, где поразил Рузвельта глубиной своих познаний в области авиации. Свой восторг эрудицией Худякова Рузвельт выразил тем, что подарил лично ему спортивный самолет. Самолета Худяков в глаза не видел, т.к. сразу же передарил его аэроклубу, но в немилость у Сталина впал автоматически. Сталин не любил, когда в его присутствии кто-то перетягивал внимание на себя. Арестовали же Худякова после того, как пропал высланный им в Москву с Дальнего Востока самолет с золотом императора Манчжурии Пу И. Комментарий С.Е.Сидоровой.) Сергей Александрович Худяков был армянином из Нагорного Карабаха. Его «девичья» фамилия была Ханферянц. Сергей Александрович Худяков был его псевдоним, правда мало кто знал его настоящее имя и настоящую национальность, даже сам Сталин, с которым судьба сводила его много раз: и до революции в Баку, и во время гражданской войны на Царицынском фронте, и во время Отечественной войны. Официальной версией жизни под псевдонимом была следующая легенда. Во время гражданской войны Арменак Ханферянц командовал кавалерийским полком. Когда в бою был убит комиссар этого полка, он взял себе его имя, чтобы имя не ушло в небытие вместе с комиссаром. Арменак был должником у комиссара, потому что тот в свое время спас ему жизнь, когда он тонул в Каспии. Арменак Ханферянц не только взял себе имя Сергея Худякова, он еще и женился на его вдове и усыновил сына. Потом из кавалеристов Арменак Ханферянц уже под именем Сергея Худякова переквалифицировался в летчики. Он учился одновременно с папой в Академии имени Жуковского, только на комфаке. Жили они тоже в доме на Красноармейской улице. Жена его, Варвара Петровна, была знакома с моей мамой. С 1937 года по 1944 год С.А.Худяков гигантскими шагами просто взлетел вверх по карьерной лестнице. Он прошел путь от майора до маршала авиации. Отличился он, в основном, на штабной работе, короткие сроки он командовал армиями на второстепенных направлениях. Варвара Петровна в 50-60-е годы близко сдружилась с моей мамой, часто бывала у нас в гостях и рассказывала следующее.

Мама с Варварой Петровной Худяковой. Якобы Худякова вызвал на допрос сам Берия и бросил ему в лицо: «Ты английский шпион!». Худяков же ему на это ответил: «Ты сам английский шпион!». Возможно это заявление было не таким уж беспочвенным, тем более, что Ханферянц и Берия пересекались в Баку еще до революции, а там английское влияние чувствовалось очень сильно. К тому же Арменак работал в Баку телефонистом и много чего знал о жителях города не понаслышке, а из подслушанных разговоров. После этого заявления допрашиваемого маршала Берия вынул из письменного стола пистолет и лично застрелил Худякова. Не понятно одно, откуда у Варвары Петровны была эта информация. Подробности о порядках, царящих на Лубянке, редко доходили до родственников заключенных. Иногда им выдавали какую-то информацию как бы по секрету, но эта «утечка информации» никогда не была спонтанной, она тоже четко контролировалась чекистами с Лубянки. Возможно, и с Варварой Петровной поступили так же. Мужа ее прессовали на Лубянке четыре месяца! Потерять человеческий облик можно и за более короткий срок. Затем его расстреляли в Донском монастыре, о чем есть документальные свидетельства. К концу войны Берия давно уже занимался строительством атомной бомбы, а не ловлей «врагов народа» и английских шпионов. Поэтому было бы уместно предположить, что кто-то ей намеренно рассказал о легкой и красивой смерти мужа. Варвару Петровну с младшим сыном, Сережей, сослали на Енисей, видимо, на поселение. Примечательны подробности ее ареста и выдворения из Москвы. Пришли за ними двое. Один откровенно глумился и наслаждался свой властью. Другой, увидев, что женщина находится в полном замешательстве, стал сам собирать ее вещи. Он велел ей взять шубу, сам отвинтил швейную машинку от деревянной подставки, все компактно упаковал. Потом на поселении Варвара Петровна продала шубу и купила корову, а швейная машинка позволила ей обшивать местное население и сводить концы с концами. Арестовали ее с сыном зимой. Сережа в это время лежал с ангиной. Везти их должны были в неотапливаемом фургоне. Солдат, который помог ей собраться, уступил свое место в теплой кабине больному мальчику, чем, скорей всего, спас ему жизнь. На поселении Варвара Петровна не только обшивала крестьян, она собирала в лесу живицу, завела огород, сама доила корову, короче говоря, совершила трудовой подвиг и сохранила сына. После смерти Сталина Худяков был реабилитирован. Варвара Петровна вернулась в Москву. Она получила за мужа двухкомнатную квартиру на Тишинской площади и денежную компенсацию, позволившую ей купить небольшой дачный домик. Старшего сына приняли в Академию, младшего, Сережу, через некоторое время приняли в Институт международных отношений. Казалось бы, жизнь стала налаживаться. Только недаром в народе говорят «Варвара великомученица» или «Варюха-горюха». Младший сын, Сережа, женился, привел в дом жену и тещу, и они Варвару Петровну из дома выжили. Она попросила у государства себе однокомнатную квартиру. Ей дали, и она от сына уехала. Но сын с первой женой развелся и уговорил Варвару Петровну отдать свою однокомнатную квартиру его бывшей жене. Она отдала жилплощадь и вернулась в квартиру на Тишинской площади. Сын женился во второй раз. Опять стало тесно. И вдруг – о, радость! Одинокий сосед сверху, которому угрожало уплотнение, предложил ей поменяться. Он отдавал ей трехкомнатную квартиру(без доплаты!!!), а сам переезжал в их двухкомнатную. Казалось бы – подарок судьбы! Только вот Сережа все три комнаты забрал себе, а ей отвел темный угол в своем кабинете, да еще и заставил ее, пожилую больную женщину нянчиться со своим ребенком. Тогда она обратилась за помощью к старшему сыну, Володе. Володя приехал в Москву и определил ее в богадельню. В богадельне Варвара Петровна прожила около двух месяцев и умерла. Вот такие дела.
* * * Продолжу тему кризиса в авиации. По поводу ареста руководства папа говорил, что Берия собирает компромат на Булганина, в котором видел своего соперника. Сейчас говорят, что Сталин побаивался авторитета Жукова, и для его остравтки принялся за генералов. Мне кажется, что оба предположения одинаково допустимы, но вина генералов очевидна. В Советском Союзе накопилось несколько экземпляров американского самолета «Боинг-29», известного в то время под названием «летающая крепость». Один самолет посадили на Камчатке и не вернули американцам. Сохранили также несколько упавших на нашу территорию б-29 из числа тех самолетов, которые совершали челночные операции по бомбежке Германии с посадкой в Полтаве. Сталин собрал конструкторов и промышленников и сказал им: «даю вам год на то, чтобы скопировать Боинг. Если будет изменен хотя бы один винтик, сниму голову!» Это была труднейшая задача для всей промышленности страны, потому что нужно было осваивать прежде всего конструкционные материалы: сталь, дюраль, пластмассу, резину и т.д. Из наших тогдашних материалов такой же самолет построить было невозможно. Предупреждение о невозможности «изменения винтиков» было очень своевременным. Мне известно, как наши конструкторские бюро «копировали» немецкую подводную лодку XXI серии. Они подлаживались под возможности нашепромышленности, в результате чего построили совершенно другую лодку, гораздо худшую. Промышленности предстояло впервые осваивать сенсорные устройства, системы гидравлики, колеса новой конструкции, моторы и еще много чего. И через год должен был быть готов не какой-нибудь макет, а настоящий боевой самолет. Самолет был сделан к сроку. Получил он название ТУ-4. Я побывал на первом самолете. Получилось это так. Я был в отпуске после четвертого курса. Папа все время пропадал на аэродроме в Кратово. Этот аэродром принадлежал летно-испытательному институту авиапрома. Однажды, заскочив домой, он взял меня с собой на аэродром и предоставил мне возможность наблюдать прцедуру сдачи столь важного самолета. Военных было немного. Преобладали конструкторы в кожаных тужурках, которые держались очень уверенно. По папиной просьбе инженер-майор Томан (то ли борттехник этого самолета, то ли военпред ) провел меня по самолету от хвоста до носа. Я сравнивал самолет с подводной лодкой и говорил, как выглядит то или иное устройство на лодке. При этом Томан считал, что самолет лучше подводной лодки, а я наоборот. Самолет отличался от ранее виденных мною насыщенностью электроникой и размерами. Почему-то большое впечатление на меня произвело шасси с огромными колесами. Оказалось, что папа тоже принял участие в создании этого самолета. Он был председателем государственной комиссии по приемке моторов, которые осваивались авиамоторным заводом в Молотове (Перми). За создание ТУ-4 папа был награжден орденом Красной Звезды. Далее события развивались следующим образом. Когда самолеты уже пошли в серию, девятку самолетов ТУ-4 было решено показать на ноябрьском параде в 1948 году. Главный маршал авиации Голованов решил лично пилотировать головной самолет, чтобы в репортаже о параде прозвучала его фамилия, как флагмана столь престижного полета. Однако, ему сказали, что в головном самолете полетит Вася Сталин, занимавший в то время пост командующего ВВС Московского военного округа. Голованов пытался воспротивиться, и тут же был отстранен от командования Дальней Авиацией, создателем которой он являлся. Его назначили командиром десантного корпуса. Голованов потребовал, чтобы ему дали возможность сначала закончить курсы «Выстрел», поскольку он в пехоте ничего не понимал, а потом уж назначать комкором. Его пожелание было удовлетворено. На этом я, пожалуй, закончу описание кризисной обстановки в авиации, которая характеризовалась, с одной стороны, быстрым решением проблемы, а с другой, обстановкой террора, присущей культу личности. Развивая эту тему последовательно, я забрел в своем повествовании в 1948 год. Между тем, в 1947 году произошли события, о которых хотелось бы упомянуть. Впервые после 1936 года папа получил отпуск и поехал в санаторий в Сочи. На третий день отдыха ему стало плохо, и его срочно самолетом отправили в Москву в госпиталь Бурденко. Обследование показало, что одна почка не работает. Папу положили на операционный стол и отрезали то, что осталось у него от левой почки, а именно: оболочку с гноем внутри. Такое состояние почки было последствием его прыжков с ПО-2 под Сталинградом. К сожалению, раньше поставить диагноз не удалось. Вместо отдыха в папиной жизни случилась операция, после которой он долго приходил в себя. Полкорпуса у него было разрезано, и шов заживал плохо. В госпитале папу навестил Голованов, что вызвало там страшный переполох.
* * * У меня летняя практика была разбита на три части. Сначала мы в Ленинграде стажировались на дизелестроительном заводе №800, что за Невской заставой. Затем мы уехали в Полярное, и первую половину практики я плавал на подводной лодке Л-20, на которой совершил переход в Белое море. Вторую же половину практики я провел на плавбазе «Печора». Эта плавбаза была трофейной немецкой. Она была печально знаменита тем, что во время войны заходила в Карское море и являлась базой для восьми немецких субмарин, терроризировавших Северный морской путь.

Плавбаза «Печора» На этой плавбазе были новейшие дизеля, в том числе двухтактные двойного действия. Все это было очень интересно изучать. Однажды на плавбазе сыграли большой сбор, и мы выстроились в первом сроке (выходная форма одежды) на верхней палубе для встречи адмирала флота Николая Герасимовича Кузнецова, прибывшего к борту плавбазы на торпедном катере. Кузнецов, наскоро поздоровавшись с нами, удалился в кают-кампанию, где его ожидал обильный ужин. На утро следующего дня он спустился в машинное отделение, где мы занимались. Наш начфак Лобач-Жученко доложил Кузнецову о том, что проходят практические занятия, и приказал мне описать энергетическую установку плавбазы. Мой доклад Кузнецов прослушал равнодушно и уехал. Накануне я пытался натаскать начфака, чтобы он мог все это доложить самостоятельно, но тот понял, что запутается и передоверил это дело мне. Вообще наш Лобач-Жученко был большим пижоном: курил трубку, носил огромную фуражку, а на двери своей каюты вывесил табличку: «Помощник командующего Северным флотом по практике курсантов». Видимо, его интеллекта хватало только на подобные усилия. Скоро выяснилось, что Кузнецов уже не нарком ВМФ, а начальник управления ВМУЗ (военно-морских заведений). Подоплека нам была неизвестна. Вскоре наркомом стал адмирал Юмашев, начальником ВМУЗ адмирал Трибуц, а Николай Герасимович Кузнецов, разжалованный до контр-адмирала, уехал в Хабаровск, где стал заместителем по морской части Главнокомандующего войсками Дальнего Востока маршала Р.Я.Малиновского. Название этой должности максимально приближалось к анекдотичному «замком по морде» – заместитель командующего по морским делам. Когда после практики я приехал домой в отпуск, папа мне рассказал, что присутствовал на суде чести высшего комсостава. Председательствовал на этом суде маршал Говоров. Судили четырех моряков: Кузнецова, Алфузова, Галлера и Степанова. Общественным обвинителем был адмирал Абанькин.

Адмирал В.А.Алфузов (1959 г.) Судили ни за что. Обвинили моряков в преклонении перед иностранщиной. Предыстория такого обвинения была следующей. Во время войны союзники передали нам технологию изготовления радиолокаторов и Асдиков (гидролокаторов). Наша сторона передала союзникам торпеду РАТ (реактивная авиационная торпеда). Эта торпеда сбрасывалась с самолета на парашюте, и в воде начинала описывать циркуляции в надежде наткнуться на вражеский корабль. Эффективность торпеды была низкой, а ее ценность по сравнению с подарками союзников несопоставимой. Начальник минно-торпедного управления Н.И.Шибаев пытался на суде выгородить Н.Г.Кузнецова и принять удар за злосчастную торпеду РАТ на себя, но его не слушали. Приговор был предрешен. Кузнецова сняли с должности и направили на Ладогу начальником полигона. Вице-адмирал Степанов, бывший начальником ВМУЗа, обвинялся еще и в том, что возил по академиям и судостроительным заводам английского адмирала Фрезера, прибывшего с визитом в Ленинград во главе эскадры. Якобы он разгласил военную тайну из раболепия перед этим английским адмиралом. Во-первых, протокол визита был согласован с инстанциями заранее, а во-вторых, в тайне нужно было держать то убожество, которое трудно было скрыть. Никаких сверхдостижений Степанов раскрыть не мог, потому что их просто не было. Суд над моряками был неправедным, но они держали себя с достоинством. Кузнецов защищал подчиненных и брал всю ответственность на себя. Папа оценил эту акцию против моряков, как звено в цепи событий, запланированных Берией с целью дискредитации Булганина, своего соперника в борьбе за власть. Сейчас многие считают, что этот процесс был вызван борьбой Сталина с Жуковым. Я же более склонен придерживаться первой версии. Жуков тогда уже был в опале, и бояться его было нечего. Где-то в это время Сталина хватил инсульт. По выздоровлении, врачи разрешили ему работать не более двух часов в день. Обязанности председателя Совмина выполняли за него по очереди трое: Маленков, Булганин и Берия. Сталин на свободе занимался базисом и надстройкой, а также языкознанием, а его замы в это время тянули одеяло каждый в свою сторону. Кроме того общеизвестно негативное отношение Жукова к флоту, поэтому подобным процессом его никак нельзя было скомпрометировать. Раз уж я взялся за эту тему, то продолжу ее до конца. В Академии я учился вместе с сыном вице-адмирала Степанова Андреем. Он мне рассказал, что Степанов сидел в Бутырской тюрьме в одной камере с Алафузовым и Галлером. Им разрешали свидания, а также пользование буфетом за свои деньги. Жена Степанова распродавала старинные книги из семейной библиотеки, чтобы носить мужу передачи. Андрея, для порядка, перевели из Талина на аналогичную должность в Советскую Гавань. После смерти Сталина Степанова оправдали и освободили. Галлер же умер в тюрьме, не дождавшись оправдания. Оба освобожденных были восстановлены в званиях и получили работу-синекуру в издательстве «Морской атлас».

Николай Герасимович Кузнецов (фото 1942 года). У Н.Г.Кузнецова все было сложнее. Сначала ему доверили командовать Пятым флотом. В то время Тихоокеанский флот был разделен на Пятый (Владивосток) и Седьмой (Советская Гавань). Рассказывает адмирал Николай Иванович Шибаев. В 1951 году Сталин заслушивал доклад начальника Генерального Морского Штаба Адмирала А.Г.Головко. Сталин задал вопрос: «Что Вы думаете о наркоме ВМФ Юмашеве?» Головко ответил, что это преданный партии революционный матрос, что он обладает лучшими качествами моряка, что на мостике корабля ему нет равных, но у него есть неизлечимый недуг, а именно: пристрастие к спиртному. Далее он сообщил, что с наркомом говорили по-товарищески, что он все понимает, но справиться с этим недугом не может, а это уже начинает мешать делу. Сталин сказал, что надо Юмашева по-хорошему убрать, например, назначить начальником Академии. На вопрос, кого Вы можете предложить на пост на пост наркома, Головко ответил, что более достойного кандидата на этот пост, чем Н.Г.Кузнецов, он не знает. Сталин был удовлетворен. Н.Г.Кузнецов был вновь назначен наркомом ВМФ, И ему было присвоено звание адмирала флота Советского Союза. Придя в наркомат, Кузнецов первым делом поинтересовался, чем занимается адмирал Абанькин. Узнав, что тот является его заместителем по кораблестроению и вооружению, Николай Герасимович распорядился перевести его в Ленинград в гидрографическую службу, а по получении там квартиры, уволить на пенсию. Аналогичный вопрос был задан и о Шибаеве. Шибаева Кузнецов передвинул на Северный флот первым заместителем командующего и повысил в звании. Это называется решением оргвопросов. После смерти Сталина в правительстве и ЦК КПСС произошли перестановки. Наркомат ВМФ был ликвидирован. Кузнецов стал главнокомандующим ВМФ. Одновременно был сокращен секретариат ЦК КПСС, и не у дел остался Л.И.Брежнев. Ему подыскали место члена военного совета ВМФ. Когда Брежнев пришел к Кузнецову представляться по поводу назначения на новую должность, главнокомандующий спросил его сурово, служил ли он на флоте и понимает ли, чем отличаются чаяния матроса от солдатских чаяний. Брежнев ответил отрицательно. Тогда Кузнецов сказал ему в глаза, что не его месте он серьезно бы задумался, прежде чем браться за такое дело. Брежнев снял морскую форму и уехал в Казахстан. Тем временем к власти рвался Н.С.Хрущев. Он последовательно убирал своих соперников. Он набирал себе команду соратников из партийных работников, с их помощью сваливал очередного соперника, затем менял команду и принимался за следующего. Так промелькнули его верные помощники Кириченко, Козлов, Фурцева и другие. В 1956 году, находясь в Крыму в отпуске, Хрущев в подражание Сталину посетил крейсер «Молотов». Во время этого визита его сопровождали Г.К.Жуков и Н.Г.Кузнецов. Рассказывает капитан I ранга Павел Михайлович Зубко. В кают-компании крейсера гости корабля сначала как следует выпили и закусили, а потом принялись решать судьбы флота. Жуков высказал тезис о том, что с появлением авиации крупные корабли стали очень уязвимы, а с появлением ракет вообще беззащитны. Далее он высказал свое мнение о том, что флот вообще стал не нужен. Хрущев ему поддакнул. По его мнению крейсера стали годиться только для развешивания флагов, для расцвечивания по праздникам да для производства салютов. Кузнецов на эти высказывания огрызнулся. Он сказал: « Когда говорит маршал Жуков, я его внимательно выслушиваю, потому что его мнение много значит. А Вы-то куда лезете в разговор? Что Вы понимаете в предмете обсуждения?» Хрущев после такое оплеухи стал рвать на себе рубашку и кричать, что он государственный деятель. Кузнецов объяснил ему, какой он государственный деятель. Он сказал: «Петр I и Ленин были государственными деятелями. Они понимали, что без флота Россия не может быть Великой Державой. А рассуждать так, как Вы, может только недоучка, пролезший к власти путем интриг». Хрущев закатил истерику и обсуждение флотских проблем на этом прекратилось. Хотелось бы сделать собственное замечание по поводу высказывания маршала Жукова. Я не стану говорить о роли современного флота, который в ряду стратегических сил вышел на первое место и у нас и у американцев. А вот о крупных кораблях, современниках Жукова, замечу следующее. Американцы, видя беззащитность крупных кораблей от ракет, законсервировали свои линкоры. А сейчас их выводят из консервации и модернизируют. Уже плавают «Миссури» и «Нью-Джерси», последний, кстати, успешно обстреливал Бейрут. Они оснащены современными ракетами, средствами противовоздушной и противоракетной обороны, основанными на современных достижениях в системах управления. Эти линкоры стали абсолютным оружием. Сами они неуязвимы, а им не может противостоять ни один корабль. При всем моем уважении к Жукову, надо отметить, что в данном эпизоде он проявил недальновидность. Рассказывает контр-адмирал Николай Григорьевич Иванов, бывший командир дивизии эсминцев на Черноморском флоте. Однажды в 1956 году командиров соединений вызвали в штаб флота. В зале заседаний военного совета флота во главе стола сидел Н.С.Хрущев. Ближе к нему расположились, с одного бока, первый заместитель главкома ВМФ адмирал С.Г.Горшков, с другого бока, командующий флотом адмирал Касатонов. В конце стола с отсутствующим видом сидел Н.Г.Кузнецов. Хрущев открыл совещание и пригласил присутствующих высказать свои мысли о перспективах развития военно-морского флота. Естественно, что подводник говорил о подводных лодках, командующий эскадрой о крейсерах и эсминцах, катерники о катерах, а летчики о самолетах. Никто к совещанию не был подготовлен, поэтому ряд выступлений был на довольно низком уровне. По такому вопросу нужно заслушивать главкома, главный штаб, академии и НИИ, а не командиров соединений одного флота, да и тех экспромтом. Хрущев с вопросами обращался к Горшкову, ему же давал поручения, а Кузнецов молчал и ни на кого не глядел. Подводя итог совещания, Хрущев отметил, что у моряков нет единой концепции развития флота, что недостаточно внимания уделяется достижениям научно-технического прогресса, что в этом виновато прежнее руководство, а с приходом нового руководства положение должно исправиться. Вскользь он упомянул, что относительно Кузнецова состоялось решение ЦК партии. Н.Г.Кузнецов был разжалован до вице-адмирала и уволен в отставку. Хрущев в ходе своей деятельности реабилитировал наказанных Сталиным, Брежнев реабилитировал наказанных Хрущевым, а вот до Кузнецова никакая реабилитация не добралась. Кузнецов мог кому угодно высказать в глаза свое мнение, вот и восстановили его в звании только через тринадцать лет после смерти.
* * * Теперь надо вернуться назад в 1947 год. Когда я после практики на Севере приехал в Москву в отпуск, мои родители жили около метро «Сокол». Мне запомнилось празднование восьмисотлетнего юбилея Москвы в сентябре 1947 года. Все улицы были разукрашены. В декоративном оформлении преобладали хвойные гирлянды и красные цвета. Народ вышел на улицы, движение транспорта в центре города было прекращено. Люди радовались, смеялись, танцевали, пели, кто во что горазд. Народное гулянье продолжалось чуть ли не до самого утра. Этот яркий праздник врезался мне в память, потому что ничего подобного я больше не видел за всю последующую жизнь. Последний раз, но гораздо скромнее, народ выходил на улицу с радостью после полета Гагарина. В конце моего отпуска ко мне приехала погостить Рита, и я познакомил ее с родителями. Впечатление она оставила хорошее, и мы отправились в Ленинград вместе. В декабре 1947 года я был принят в партию. В это время руководство партии начало дурить. Одно за другим стали выходить постановления, от которых попахивало мракобесием. Под предлогом безыдейности стали запрещаться кинокомедии, вполне безобидные по содержанию. Пересматривался репертуар театров. Если раньше мы ходили в театр комедии, что возле Елисеевского магазина, чтобы посмеяться, то с выходом этих самых постановлений там стали зевать не только зрители, но и актеры на сцене. Власти запретили Зощенко и Ахматову. Анну Ахматову никто из нас тогда не читал, поэтому особого сочувствия к ней не было. Но после публичной травли у нас осталось ощущение недопустимой грубости по отношению к творческому человеку. А вот Зощенко был нашим любимцем. Его рассказы передавались по радио, были записаны на пластинки, он заполнял своим творчество потребность народа в юморе процентов на 60. Кстати, об Ильфе и Петрове критика тоже начала глухо сопеть. К счастью, до анафемы дело не дошло. Все читатели, и я в том числе, были на стороне Зощенко, а не Жданова, который пытался присвоить себе роль ценителя искусства в последней инстанции. Но это мнение оставалось лишь на уровне обмена впечатлениями между друзьями. Затем партия почему-то с необыкновенной злобой набросилась на вейсманистов-морганистов. Я рассуждал так: «Черт с ней, с генетикой, если уж она так встала партии поперек горла. Пусть торжествует теория Лысенко, которую никто не понимает. (Сильно подозреваю, что сам автор тоже.) Однако, генетики объясняют, почему дети похожи на родителей, и это соответствует элементарной логике, а Лысенко этого не признает И другим не велит верить глазам своим.» Сейчас говорят, что в то время прикрыли еще и кибернетику, как явную чертовщину, но я такого постановления не помню. Возможно, это произошло негласно, и люди, далекие от кибернетики не были в это посвящены. Впрочем, и сейчас кибернетику у нас еще не «открыли». Создается впечатление, что научные прогнозы кому-то у нас в стране не выгодны, и лучше все делать на «авось». В это время появилось много новых писателей. Наряду с откровенной халтурой и приспособленчеством Ф.Панферова, С.Бабаевского, В.Ажаева и других, появились и хорошие книги Шишкова, Сергеева-Ценского, А.Толстого, Казакевича и других. Доступнее стала классика. Русскую классику печатали в Лейпциге на отличной бумаге, а иностранную классику – в Риге на оберточной. Главные же наши мысли были заняты все же не этим. Все очень много думали и рассуждали о судьбе страны. Все хотели извлечь уроки из войны, победа в которой досталась нам такой дорогой ценой, чтобы не повторять ошибок. Наш уровень информированности и знаний был таков, что, что все мы, основная масса людей вместе с ВКПб, считали, что нужно: Восстановить хозяйство. Усилить индустриализацию, т.к. без большого количества металла, нефти и электроэнергии следующую войну мы проиграем. Не надеяться на договоры, т.к. они вероломно нарушаются, не надеяться на союзников, которым своя рубашка всегда ближе к телу, а надеяться только на себя, на собственные силы. Добиваться военного паритета, поскольку американцы уже начали потрясать атомными бомбами. (Они более 80 раз официально, в том числе и с трибуны ООН, грозились закидать нас атомными бомбами). Теперешние политики видят выход из тяжелого положения в демократизации общества, но сейчас война уже забылась и так остро о себе не напоминает, как это было тогда. Сейчас у людей совершенно другая психология, и, чтобы понять образ мышления людей сороковых годов, надо ощутить себя в их шкуре.
Папа следил за моим становлением. Несколько раз он то один, то с мамой приезжал в Ленинград на 2-3 дня, приглашал в гостиницу меня и моих друзей, а позже и Риту, водил нас в театры, угощал в ресторане. Мне он присылал техническую литературу, в том числе и книгу по теории двигателей внутреннего сгорания с автографом академика Микулина. К сожалению, эта книга у меня впоследствии пропала. Я стал получать экспресс-информации по зарубежной авиации. Там было много новинок и по моей специальности – по двигателям. Когда у меня накопилось много материалов, я разыскал лист фанеры, оформил его как «Доску техники» и прикрепил к нему кнопками те статьи, которые могли заинтересовать наших ребят.

За «Доской техники». Месяца за три накапливался новый материал , и я освежал эту доску. Никто мне этого не поручал, я делал это из собственных добрых побуждений, чтобы не сидеть на полезном для всех материале, как собака на сене. Вдруг наступил такой момент, когда вешать на доску мне стало нечего. Экспресс-информации приходили, но в них почти не было статей по двигателям, все внимание было обращено на самолеты и вооружение. И тут на партсобрании меня пропесочили за вялую работу. Видите ли, уже пять месяцев не обновляется «Доска техники». Вот уж действительно: инициатива наказуема. Я воспринял эту критику как партийное поручение, пошел на кафедру и всем преподавателям установил сроки написания статей для «Доски техники». Преподаватели сами с интересом почитывали мою «Доску», поэтому на мои поручения реагировали дисциплинированно. Они стали писать статьи и приносить их мне с почтением. А Елена Ивановна, моя будущая теща, их аккуратно перепечатывала на машинке.
1948 год был для меня этапным. Мы уже дружили с Ритой два года, и я не мог себе представить, как я уеду на флот и с ней расстанусь. Когда еще я попаду в Ленинград? За это время найдется много добровольцев поухаживать за ней, и чем все это кончится – неизвестно. Весной я сделал ей предложение, которое было принято благосклонно, и 18-го июля 1948 года, в День Военно-морского флота, состоялась наша свадьба. На свадьбу приехали мои предки, была Ритина родня и мои друзья. Свадьба была скромной, но веселой. Все было очень здорово.


Молодожены. Рита закончила первый курс киноинженерного института, а я в это время писал дипломную работу. По окончании училища меня назначили на Четвертый флот. Тогда Балтийский флот был разделен на Четвертый (Балтийск) и Восьмой (Таллин). Перед отъездом на флот у меня еще был отпуск, который мы провели в Москве. Поскольку киноинженерной промышленности нигде в Военно-морских базах нет, то мы с Ритой посоветовались, и она перешла учиться на заочное отделение в Педагогический институт им. Герцена. В Москве мои родители в это время уже обитали на Беговой улице. Там немецкие военнопленные построили целый город из двухэтажных домов. В этом городке, в основном, жили военные, хотя были и исключения. Например, в соседнем доме жили артисты Борис Тенин и Сухаревская. На улице часто попадалась навстречу Раневская. 7 ноября состоялся тот самый парад, на котором летели самолеты ТУ-4 по водительством Васи Сталина. Папа был занят подготовкой этих самолетов. Однажды вечером он приехал домой с командиром дивизии этих самолетов, генералом Набоковым. Он вместе с нами отмечал праздник. В разговорах за столом я и узнал о перипетиях между Головановым и Васей Сталиныи, о которых написал выше. Отпуск пролетел быстро, я уехал за назначением в Балтийск. Рита еще немного задержалась в Москве, а потом уехала в Ленинград на зимнюю сессию в пединституте. Я получил назначение в Либаву (Лиепаю) в Первую ордена Ушакова Краснознаменную бригаду подводных лодок. Там меня назначили командиром группы движения на подводную лодку Н-27, XXI серии. Лодка была немецкой трофейной. Командиром у меня был прославленный подводник Герой Советского Союза капитан 2 ранга Семен Наумович Богорад, а непосредственным начальником – командир БЧ-У, Евгений Родионович Сергеев.

Командир Краснознаменной подводной лодки «Щ – 310» Семен Наумович Богорад Поближе к весне приехала Рита. Об этих временах хотелось бы рассказать подробнее, и я их опишу в рассказе о своей жене. Тем временем папа получил новое назначение. Его перевели служить в Чкаловскую под Москвой. Назначен он был первым заместителем начальника ГК НИИ ВВС (Государственного Краснознаменного научно-исследовательского института военно-воздушных сил). Это была крупнейшая военная организация. В институте было 5 управлений: по испытанию самолетов, моторов, вооружения, приборов, парашютов и планеров. Эти управления располагали более, чем тысячью лабораторий, полигонами в Ногинске и Владимировке (Астраханская область), несколькими аэродромами и жилыми городками в Чкаловской, Ногинске, Владимировке и Медвежьих озерах. Командовал институтом генерал Редькин. Среди начальников управлений были Герои Советского Союза Благовещенский и Данилин. Остальных я не помню. Среди командования папа был единственным инженером, и на него легла вся научная и техническая нагрузка. Да и организационные вопросы, которые посложней, спихивали на него. Редькин больше заседал в президиумах, да ездил в Москву по любому поводу. Он и жил в Москве. Папа же переехал в Чкаловскую. Там квартира была лучше московской, все соседи – сослуживцы, воздух чистый, пропахший сосной.

Чкаловская март 1950 г. В центре Редькин, справа от него папа. В Чкаловской протекает река Клязьма. В те годы там была лодочная станция, и можно было покататься на лодке. А вот купаться было нельзя. Выше по течению был расположен щелковский завод основной химии, имевший дело с серной кислотой. Этот завод спускал в Клязьму такие отходы, что там даже лягушки вывелись. Вода была черная, непрозрачная, с неприятным запахом. Впоследствии этот завод закрыли и вода в Клязьме начала оживать. В помещении закрытого завода разместился Научно-исследовательский институт химических удобрений и ядохимикатов (сокращенно НИИХУЯ). Уже одна эта аббревиатура невольно вызывала большое сомнение в эффективности научных изысканий данного коллектива. В наш первый отпуск из Либавы мы приехали в Чкаловскую. По выходным дням ездили всей семьей в Москву в кино или в театр. Иногда ездили с папой за покупками, заглядывая в фирменные магазинчики грузинского и молдавского вина. В этих магазинчиках вино можно было дегустировать, и мы пропускали по стаканчику вкуснейшего марочного вина. Из грузинских вин мы предпочитали «Саамо», а из молдавских – «Фетяску». Выглядело это вполне культурно и чуть ли не празднично. Сейчас, когда все в стране деформировалось, исчезли эти прекрасные магазины, и остались одни гадюшники с бормотухой и алкашами. Несколько раз мы ездили на реку Ворю, где ловили рыбу, варили уху и отдыхали на природе. Папа любил посидеть с удочкой, но для ухи всегда в резерве была покупная рыба, чтобы мероприятие не сорвалось из-за прихоти рыбацкой фортуны. Такая предусмотрительность у папы была во всем. Он ее называл «поправкой на дураков», Сам в своей работе он всегда делал эту поправку и подчиненных учил делать. Как-то раз папа узнал, что друг моего детства, Алик Бондаренко, учится в Академии. Мы с ним съездили в Академию, разыскали Алика и пригласили его в гости. Алик с женой, Тоней, приехал к нам в Чкаловскую в гости. Когда я вернулся из отпуска к месту службы, я узнал, что переведен с повышением на «Малютку» серии ХУ командиром БЧ-У. Служба на этой лодке была очень тяжелая: тесно, душно, вахта двухсменная, в море круглый год. 20 октября 1949 года у нас родилась Светочка, наш первенец. Меня отпустили по этому поводу на несколько дней в Ленинград. Рита запомнила розы, которые я по пути купил ей в Риге, а я запомнил, как нес новорожденную на руках из родильного дома с улицы Маяковского на Фонтанку. В следующий наш отпуск мы приехали в Чкаловскую уже втроем.
Шел 1950 год. Восстановление народного хозяйства практически закончилось. Жить стало легче в материальном плане. Тем более, что я получил еще одно повышение по службе, а именно: стал командиром БЧ-У большой гвардейской подводной лодки «Л-3». Я стал прилично зарабатывать. В то же время в воздухе витала тяжелая атмосфера. Прежде всего, это было усиление пропаганды культа личности. Она превзошла уже все пределы и носила нарочито наглый характер. Например, секретарь ЦК Поспелов, выступая по поводу годовщины смерти В.И.Ленина, озаглавил этот доклад так: «Сталин – это Ленин сегодня». Архитектоника этого доклада была следующая: бралось любое положение ленинизма и показывалось, что Ленин только сказал, а Сталин сделал. Пошел в гору Вася Сталин. Появились разговоры о его назначении главнокомандующим ВВС, а пока он тешился тем, что создавал футбольную и хоккейную команды, переманивал туда лучших игроков и строил дворцы спорта, в нарушение всех правил капитального строительства в армии. Сильно обострился еврейский вопрос. Говорили, что существует некая международная организация «Джойнт», которой подчиняются все евреи и выполняют ее волю в Советском Союзе. Якобы один из лидеров этой организации, американская журналистка Анна Стронг, прилетала в Советский Союз с полномочиями эмиссара, собрала еврейскую элиту и наставляла ее на путь, предписанный «Джойнт». Якобы жена Молотова, Полина Жемчужина, нелегально слетала с Анной Стронг в Израиль, а по возвращении домой была арестована. Ходили слухи о предотвращенной диверсии на конвейере автозавода ЗИС (теперь ЗИЛ). Диверсию эту якобы затевали евреи. Лично я был свидетелем проявлений государственного антисемитизма в случае с моим командиром. С.Н.Богорад был выдвинут кандидатом в депутаты на выборах в местные советы. Мандатная комиссия обнаружила, что в партбилете его имя и отчество значатся как «Самуил Нахманович», а в удостоверении личности как «Семен Наумович». Его кандидатуру срочно убрали из списков, самого осрамили на партсобраниях как, чуть ли не шпиона, сняли с должности командира дивизиона, которую он к тому времени уже занимал и перевели на полигон в Виндаву (Вентспилс). В этом же году возникло «ленинградское дело». Поводом послужило то, что в Ленинграде по своей инициативе провели всесоюзную ярмарку. Из этого факта было построено целое сооружение о том, что Ленинград противопоставляет себя целой стране, что он метит в столицы, если уж не СССР, то, по крайней мере, РСФСР. Ленинградцев обвиняли в том, что они пролезли на руководящие должности: А.А.Кузнецов – в ЦК партии, А.Н.Косыгин – в Совнарком СССР, Вознесенский – в Госплан, Родионов – в Совнарком РСФСР. Считалось, что, находясь у власти, ленинградцы помогают друг другу, отдают в своих делах предпочтение Ленинграду и, вообще, вынашивают антисталинский заговор. Раз было заведено дело, то и расправа не заставила себя ждать. Странным образом после этой расправы уцелел только Косыгин. Сейчас стало ясно, что причиной всей этой заварухи явилось намерение А.А.Кузнецова прибрать к рукам КГБ, которое не него, как на секретаря ЦК ВКПб, формально замыкалось. В народе политика партии и правительства тоже вызывала недоумение. Например, однажды на политзанятиях матросы задали мне вопрос: «А как же насчет шкуры?» Видя мое недоумение, они мне объяснили ситуацию. Живет, к примеру, в деревне старушка. Муж и сыновья погибли на фронте. Она кормится с приусадебного участка. И вдруг ее облагают налогом, которым определено, что с единицы площади участка она обязана сдать государству столько-то картофеля, столько-то мяса, столько-то яиц и одну овечью шкуру, при всем при том, что овцу ей пасти негде. На эту головоломку я ответил морякам, что по справедливости старушке государство должно платить пенсию, а о законе насчет шкуры я впервые слышу. Матросы были удовлетворены. Это они прощупывали, что я за человек, прекрасно понимая, что повлиять на положение теоретической старушки я не могу.
В 1951 году папу перевели на новую должность. Его назначили главным инженером Военно-Воздушных Сил СССР. Это была особая должность в вооруженных силах. Из всех авиационных начальников по идее наиболее интеллектуальным должен быть главный инженер. В свою очередь, авиация в то время превосходила все остальные роды вооруженных сил по технической оснащенности и внедрению современных достижений науки. Но особенность этой должности заключалась не в том, что ее должен занимать «самый, самый инженер», а в том, что на этого человека традиционно сваливали все нерешенные проблемы, и он автоматически становился козлом отпущения. На него, в случае неудач, показывали пальцем все: и маршалы авиации, которые искренне считали своим уделом рисовать красные и синие стрелы на картах, и Министерство авиапрома. Чего не сделаешь, когда речь идет о защите чести мундира? Я уже писал, что папин предшественник, генерал-полковник Репин, был посажен в тюрьму, а его приемник, генерал-полковник Марков тоже не сам ушел с этого поста. У него была арестована жена. Он же был переведен в Люберцы начальником ЦНЭБ (экспериментальная база). Маркова сменил один из его замов, яркий представитель канцелярского аппарата. Я таких деятелей, в зависимости от настроения, называю либо «паркетными генералами», либо «лукавыми царедворцами». Этот деятель, как работник, совершенно не устраивал главного маршала авиации П.Ф.Жигарева, вновь ставшего главкомом ВВС. Жигарев пригласил на эту должность папу. Папа делился со мной своими сомнениями. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что надо отказаться от этого предложения, но сделать это было невозможно. Сложность момента усугублялась тем, что в авиации полным ходом шло перевооружение. Эффективность нового вооружения проверялась немедленно на полях сражений, а именно: в небе Кореи. В армию поступали истребители с реактивными двигателями, изменилась бомбардировочная авиация, вошла в силу радиолокация, усилилось ракетное вооружение, были приняты на вооружение атомные бомбы. В Корее шла война, и наша страна в ней участвовала тем, что держала в Корее истребительный авиационный корпус под командованием генерала Каминского. Нашим летчикам строго-настрого запрещалось перелетать линию фронта или береговую черту, чтобы исключить вероятность опознания в сбитом летчике советского военнослужащего. Американцы, воевавшие на стороне Южной Кореи всеми видами вооруженных сил и не скрывавшие этого, тоже вносили ограничения в действия своей организации авиации. Американским летчикам разрешалось ввязываться в воздушные бои только при наличии десятикратного превосходства. Это было вызвано тем, что в единоборстве наши летчики обычно побеждали. Ведь самолеты у нас были уже не хуже, а боевой опыт у наших летчиков был гораздо лучше. Сталин, работавший в эти годы, как я уже говорил, всего два часа в день, находил время интересоваться ходом войны в Корее. В условиях нарастающей волны репрессий попадать в поле его зрения было ни к чему. Война в Корее продолжалась три года (1950 – 1953). После поражения Японии во второй мировой войне, Корея, входившая в состав Японии, как генерал-губернаторство, была оккупирована союзниками. Севернее 38 параллели японцев принимали советские войска, южнее – американские. В 1949 году по обе стороны этой параллели образовались самостоятельные государства. В 1950 году они стали друг с другом воевать за воссоединение государства в единое целое, каждый под своей эгидой. Когда южные корейцы стали одолевать северных, к последним на помощь пришли китайские «добровольцы». Они не только освободили северные территории, но и стремительно погнали дальше так, что даже захватили Сеул. У южан оставался только один только порт Пусан на самом южном конце Кореи. И тут в дело вмешались американцы. К берегам Кореи пришли их авианосцы и линкоры. В тылу китайских войск был высажен десант, освободивший Инчхон (Чемульпо) и Сеул. Китайцам пришлось также стремительно наступать, как стремительно они наступали. Свежие китайские полки заняли оборону по 38 параллели, и тут проявилась особенность боевых действий китайцев в обороне. Если наших красноармейцев в 1941 году никак нельзя было приучить к рыть траншей полного профиля, то китайцы зарывались в землю как кроты. Они успевали за несколько дней устраивать под землей казематы на пять этажей в глубину. Они рыли подземные ходы в разных направлениях на многие километры. Выкурить их оттуда не было никакой возможности. Этот экскурс в историю корейской войны я сделал для того, чтобы прояснить фон, при котором происходили описываемые события. Сейчас эта война совсем позабыта, и, естественно, никакого материала по ней нет. Первое время папа ездил на работу из Чкаловской. Это было очень неудобно, поскольку его распорядок дня стал совершенно необычным. В 12 часов дня он уезжал на работу и находился там до 2-3 часов ночи. Так тогда работало начальство, подлаживаясь под распорядок Сталина, который бдел по ночам. В аппарате главного инженера было 4 управления и 3 самостоятельных отдела. Не могу сейчас точно сказать, какое управление чем занималось, но вместе они охватывали вопросы эксплуатации и ремонта самолетов, автотракторной техники и всего другого технического, что только есть в авиации. В отличие от Военно-Морского флота, где все виды оружия и техники закреплены за ведомствами, главный инженер ВВС занимался самолетами в комплексе, не взирая на принадлежность той или иной аппаратуры к тому или иному министерству-поставщику. И это, с мой точки зрения, совершенно правильный подход. Я его перенял, и в той области, которая мне была подвластна, ввел комплексный ремонт атомных подводных лодок и узурпировал права вооруженных управлений (к их несказанной радости). Остальные работники нашего управления крепко держались за свои узкие рамки, и только в 1989 году их насильно заставили заниматься всем кораблем в комплексе. В 1951 году состоялся переезд в Москву на Октябрьскую улицу, где сейчас я одним пальцем дербаню на печатной машинке свои воспоминания.

Октябрьская 69 в 1954 году. Езды на работу стало меньше, но, все равно, распорядок дня был ненормальным, а работа изнурительной. Помимо перечисленных выше проблем, повседневные заботы тоже отнимали много сил и времени. И это понятно, ведь самолетов было много тысяч, за каждым усмотреть было невозможно. Для управления всем этим хозяйством, нужна была отлаженная система. Папе не пришлось начинать все с чистого листа, но существующая система требовала переналадки. Переналадка требуется всегда, ведь жизнь движется вперед, все течет, все изменяется, и система должна на это реагировать. В авиационном же хозяйстве был некоторый застой: не было адекватной реакции на кардинальное обновление авиационной техники. За это папа прежде всего и взялся. Однако вскоре он опять вступил в разногласия с Жигаревым. Речь шла о списании устаревших изношенных самолетов. Жигарев боялся идти к Сталину или к его первым замам по этому вопросу. Папа увидел, что здесь толку не будет и стал их списывать своей властью тысячами. Таким образом обновлялся самолетный парк и прекращались ненужные расходы на поддержание в строю морально и физически устаревших самолетов. В разгар корейской войны папа все-таки попался на крючок. В ходе воздушных боев у наших МИГов обнаружилось слабое место, а именно: недостаточно мощная броня, прикрывающая затылок летчика. Против немцев она была достаточна, а американские боеприпасы ее пробивали. Сталин разгневался и объявил по строгому выговору конструктору Микояну и папе, который за толщину бронеспинок не отвечал. Это было в ведении заказывающего управления, не подчиненного папе. Кто-то некомпетентный подсказал, что нужно наказать и главного инженера. Папа очень переживал это взыскание. Военнослужащий переживает любое взыскание, а тут взыскание, которое невозможно снять. Какие это сулило последствия? Ближайшим было то, что отозвали представление на следующее звание. Но это же сущий пустяк по сравнению с тем, что могло за этим последовать. К этому времени у папы начала барахлить оставшаяся почка. До нас дошли слухи (сам папа об этом не говорил), что в рабочие часы он нет-нет да и приляжет на диван на часок у себя в кабинете, и никого не велит к себе пускать. В 1952 году папа получил казенную дачу в Монино, и мы там провели свой очередной отпуск.

На даче в Монино. Дачный поселок был построен для большого авиационного начальства. Достаточно сказать, что соседом по даче был Иван Никитович Кожедуб. Дачные домики были небольшие, но в них был водопровод, газ, туалет как в городе и даже телефон. Участки были большие. Вокруг дома было большое открытое пространство, где можно было сажать все, что душа попросит, а в тылу был кусок соснового леса, где мы смогли повесить детские качели и два гамака. На границе с лесом поставили простой стол со скамейками, где часто пили чай из самовара. Самовар разжигали сосновыми шишками, которых под ногами было просто немерено. Мы смогли сделать на своем участке волейбольную площадку без ущерба для сада, огорода и цветника. Папа никогда не забывал о том, что вырос в деревне. У него была врожденная любовь к земле. На новой даче он принялся сажать фруктовые деревья, ягодные кустарники, цветы, овощи, клубнику. Все у него принималось и хорошо росло. Осенью 1952 года, после длительного перерыва, прошел XIX съезд Партии. С отчетным докладом выступил Маленков, с докладом по уставу партии – Хрущев, а Сталин выступил после прений с коротким призывом к заграничным компартиям выше держать знамя. Получился вроде бы призыв к мировой революции. Никакие проблемы на съезде решены не были, их загнали внутрь. Съезд продемонстрировал одну особенность: появление новой поросли партийных администраторов. У этой новой когорты было хорошо развито умение приспосабливаться к обстановке и использовать с пользой для себя любые ее изменения. Этому молодому племени стало уже тесно у подножия пьедестала, и вместо политбюро был образован президиум численностью в 25 человек, не считая массы кандидатов и секретарей. ВКПб переименовали вКПСС. Сталин то ли выздоровел, то ли почувствовал, что власть ускользает. После съезда он сильно активизировался, принялся распекать ближайших помощников. Сначала он взялся за Ворошилова и Кагановича, а потом принялся за Молотова и Микояна. Похоже, что Берию он уже боялся, потому что стал подозрителен к пище, отказывался от лекарств и вообще от врачей. И тут как раз началась кампания по аресту врачей-отравителей. Арестовывали профессоров- евреев из кремлевских больниц. В народе ходили слухи о том, что их собираются казнить публично. Однако казни им удалось избежать, потому что 5 марта 1953 года Сталин умер. Его смерть была воспринята всем народом, как беда. Люди искренне плакали и задавали вопросы, как же дальше жить, на кого опираться, где искать защиты. Плакал даже поэт Евгений Евтушенко, если верить его воспоминаниям, а уж у него-то озлобленность ко всему советскому просто плещет через край, ибо внутри ей места давно не хватает. Похороны Сталина вылились в мрачный разгул стихии. Все рвались к Колонному залу. Улицы перегородили студебеккерами, цепи солдат старались пропускать в центр узенькие ручейки людей. Однако людские толпы бушевали, заграждения сносились, возникала давка. В районе Трубной площади от давки погибли тысячи людей. В свое время давке на Ходынке Л.Толстой посвятил свой рассказ. Сейчас в прессе искусственно раздуваются страсти о давке в Лужниках, когда публика уже начала покидать трибуны, а Спартак неожиданно на последней минуте забил гол. Передние стали возвращаться, а задние продолжали выходить. Вот и получилась на лестнице давка. Только это все кошкин вздох по сравнению с тем что было при похоронах Сталина. Просто борзописцы по молодости лет этого не знают, а то бы на этой теме они, как следует, оттянулись. Давка продолжалась до тех пор, пока Сталина не подложили к Ленину в мавзолей. О смерти Сталина ходили разные слухи. Одни говорили, что его пристукнули евреи, чтобы спасти своих. Другие говорили, что его придушили соратники, которые почувствовали, что над их головой занесен меч. Третьи говорили, что он умер не 5 марта, а раньше, когда объявили о его тяжелом состоянии. Но вожди никак не могли поделить портфели, поэтому радио продолжало вещать о том, какой у Сталина пульс. В пользу последней версии свидетельствуют довольно авторитетные люди. Например, генерал Александр Степанович Простосердов, бывший во время войны начальником штаба того корпуса, которым командовал Вася Сталин, цитировал Васин рассказ. Сталин якобы перед сном полил выращиваемый им лимон, взялся за ручку двери и рухнул замертво. Позже, когда я после демобилизации работал в Минсудпроме, на эту тему мне удалось поговорить с Павлом Николаевичем Максименко – заместителем начальника отдела, в котором я работал. В 1953 году Павел Николаевич служил в охране Сталина. Он был в чине полковника. Смерть произошла не в его смену, но все подробности ему были известны. Рассказывать об этом он отказывался. (Еще бы! Он же давал подписку.) Тогда я предложил ему паллиативный вариант. Я сказал, что буду задавать вопросы, а ему предложил отвечать на них как компьютер, «да» или «нет». Он засмеялся и согласился. Из этого допроса, в котором участвовал весь отдел, мы выудили из него следующую информацию. Охрана обнаружила Сталина лежащим мертвым и в одежде. Врачи боялись ответственности, и никто не решался констатировать смерть. Перемещение газов в трупе признавали за отдельные вздохи. Это Павел Николаевич сказал определенно, отступив от своих сакраментальных «да» и «нет». Сейчас об этом любят писать мемуаристы, но они, в том числе и Хрущев, кривят душой. Охрану Сталина после его смерти разогнали, всех перевели на периферию. Павел Николаевич сначала осел в Подмосковье, а потом перебрался в КГБ, где даже был начальником управления. Папа к этим события отнесся сдержанно, но сразу отметил, что Никита Сергеевич будет рваться к власти. Ведь он единственный из окружения Сталина имел опыт самостоятельной работы. Папа к этому времени чувствовал себя совсем плохо. В мае 1953 года в возрасте 50-и лет он ушел в отставку по здоровью.
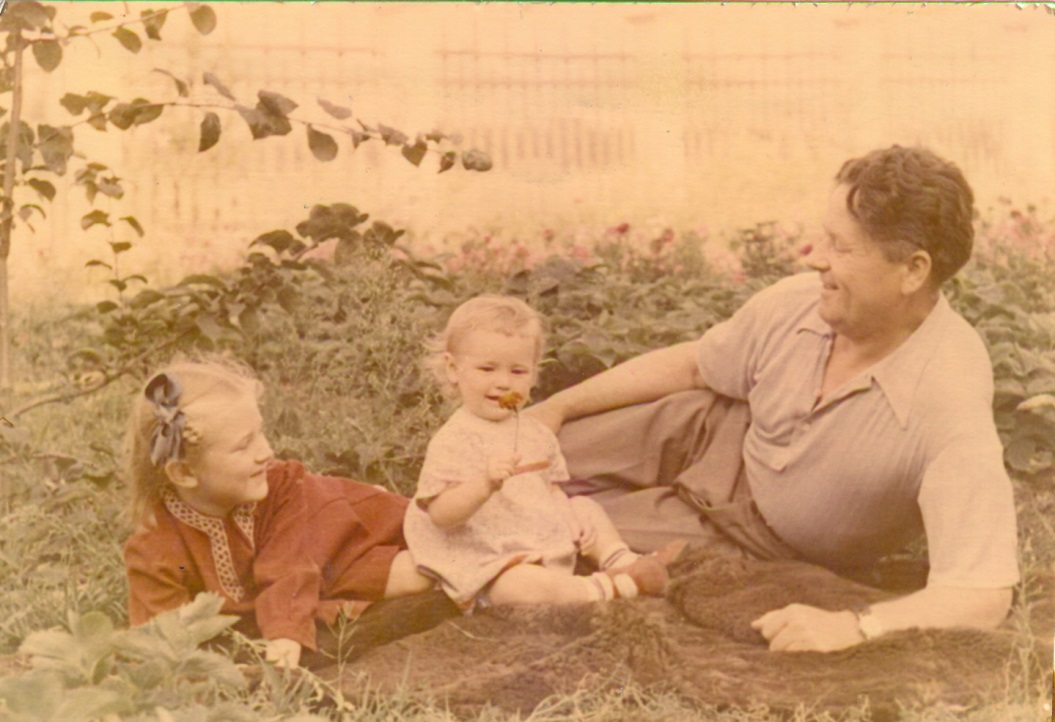
Монино. С внучками. Осенью 1953 года я уехал в Ленинград сдавать вступительные экзамены в Академию Кораблестроения и Вооружения им. Крылова. Почему-то я был зачислен кандидатом на кораблестроительный, а не механический факультет. На кафедру проектирования подводных лодок набирали не корабелов, а механиков-подводников. Все предметы сдавались за курс высшего учебного заведения. С огромным трудом экзамены были сданы, и я приступил к учебе в Академии.

В Академии. В марте 1954 года у нас родилась Танечка, принесшая Рите здоровье, поскольку нормализовала ей работу щитовидной железы. В 1954 году мои родители поехали в Трускавец, где лечат почки водой из источника «Навтуся». Это был ошибочный шаг. Камень в папиной почке оказался большим, и его не стоило вымывать со своего места. После Трускавца родители приехали к нам в Ленинград. В поезде у папы разболелась поясница, и мы его дома сразу же уложили в постель. Попытки как-то помочь были безуспешны. Папа мне дал телефон, и я позвонил его бывшим подчиненным. К нам немедленно приехал генерал с двумя врачами. Папу увезли в медицинскую академию им. Кирова. Оказалось, что из лоханки вышел большой камень и заткнул мочеточник. Началось отравление организма. У папы изо рта шла коричневая пена, сам он был желтый как лимон. Температура держалась около 40 градусов, сознание еле теплилось. Папа не жаловался, он боролся с болезнью. Врачи катетором вернули камень назад в почку, и к папе стало возвращаться здоровье. Уйдя в отставку, папа занялся цветной фотографией, стал собирать библиотеку художественной литературы, копался потихоньку на даче в Монино, которую ему Жигарев оставил на два года. Этого, конечно, было мало для нестарого человека, привыкшего к нечеловеческому труду. Но здоровье не позволяло увеличить нагрузку. При постановке на партучет в райкоме папа попросил прикрепить его не к ЖЭКу, а к предприятию. Его поставили на учет на автобусной базе на улице Образцова. Там его полюбили и на собраниях всегда ждали его слова, которое, как правило, оказывалось решающим. После ленинградского эпизода с почкой хорошее самочувствие к папе уже не возвращалось. Каждый день где бы он ни был, в Москве или в Монино, к нему приезжали медсестры и кололи ему пенициллин. Видеться мы стали реже. В 1955 году после нашего отъезда из Монино в Ленинград папа поехал в междуречье Волги и Дона. Там в станице Иловлинской он купил дом с участком. Это решение у него созрело по двум причинам. Во-первых, закончился срок аренды казенной дачи, а папе хотелось быть поближе к земле, к этому у него была природная тяга. Во-вторых, у него остался контакт с одним из отдыхающих в Трускавце. Он очень сильно расхваливал Иловлю, говорил, что это идеальное место для почечников, ибо там сухо, жарко и много арбузов.

Иловля. 1955 г. Станица находилась в восьмидесяти километрах от Сталинграда, на берегу реки Иловля, в десяти километрах от ее устья. Станица была районным центром, и населяли ее донские казаки. Только вот пожить в этой станице папе не удалось. В январе 1956 года я приехал в Москву со Светочкой на короткие зимние каникулы повидать родителей. Папа очень любил внучек и обрадовался нашему приезду. В каждый наш приезд он делал Свете хорошие подарки. Не обошлось без подарков и на этот раз. Он подарил Свете платье, которое все потом почему-то называли французским, и большую куклу. Однажды днем он вдруг попросил меня сфотографировать его в парадном мундире. Когда снимок был сделан, он, как бы в раздумье, сказал, что это, вероятно, будет его последний снимок. Я что-то стал говорить ободрительное, на что он печально улыбнулся и уточнил, что это последний снимок в парадной форме. Так оно и вышло.

Последняя фотография. Я вернулся в Ленинград, приступил к занятиям, а потом вдруг обратил внимание, что давно не было от папы писем. Меня охватило нехорошее предчувствие. Мы с Ритой пошли на переговорный пункт звонить в Москву. Трубку взяла мама. Она сказала, что папа в госпитале, что ему сделали операцию, но он очень плох. Вызывать меня он не велел, чтобы не срывать учебу, но раз уж я позвонил, то надо ехать. На другой день я написал рапорт, и меня отпустили на три дня. Когда я в Москве подходил к дому, то увидел Простосердовых, ведущих маму под руки. Я понял, что случилось непоправимое. 24 апреля 1956 года папа скончался.

Ваганьковское кладбище. На похоронах было много народу, среди военных я узнавал папиных друзей по Академии, по службе в Ташкенте, Харькове и Чкаловской, не говоря уже о последнем месте службы, которое взяло на себя все похоронные хлопоты. Но это все уже не имело для него никакого значения. Так прошла жизнь моего отца. Не знаю, удалось ли мне передать его обаятельный образ, но я старался. По крайней мере, я описал, как смог, эпоху, с которой совпала его жизнь, которую он строил своим трудом и которой отдал весь свой талант и силы. Думаю, что его потомкам будет полезно знать, каким был их прадед. Они могут им гордиться. Продолжая его род, они не должны забывать своих корней. История народа состоит из суммы историй людей. Ее надо не ругать, а понимать. Чем больше человеческих судеб мы узнаем, тем дальше мы продвинемся в понимании истины. Я поведал об одной человеческой судьбе, и ни в чем не покривил душой. Надеюсь, что кто-нибудь из моих потомков продолжит летопись нашего рода.
22.11.1988 – 30.09.1989

Последние комментарии