Знал, видел, разговаривал. Рассказы о писателях [Юрий Фомич Помозов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Знал, видел, разговаривал
УРОКИ УЧИТЕЛЕЙ
«СЧАСТЛИВОГО ХОЖДЕНИЯ ПО ВОЛГЕ»
Мне всегда везло на знакомства с хорошими людьми. Среди них оказалось немало писателей — тех, кто как бы сгущал в своем сердце людские радости и тревоги, кто умел в ярком слове выразить самую суть народной жизни. Встречи с такими самобытными творцами всегда были для меня праздничным озарением, дружеское общение с ними — непреходящим счастьем. Константин Федин… Давно уже полюбились мне фединские произведения — в каждом я находил поэтическое очарование. «Города и годы», например, пленили мое воображение новаторской формой письма и сложностью психологической обрисовки героев. А книга «Братья» — о музыканте Никите Кареве — сама, помнится, прозвучала прекрасной и мужественной музыкой в честь Революции. И уже выдающимся стилевым искусством, полновесностью каждой фразы, высотой взятого и выдержанного до конца повествовательного тона покоряли романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», с их живописными картинами безудержных просторов Волги и сценами стародавней жизни саратовских улиц, куда впечатывала свои железные шаги революция воспрянувшего народа. С этим проникновенным художником-летописцем мне довелось познакомиться и посчастливилось постоянно ощущать излучение его дружеской и взыскательной доброты во время работы над книгами о Волге. Конечно, всю щедрую меру отпущенного мне фединского внимания я, без самообольщения, отношу на счет звучащей в моих книгах волжской темы, столь близкой сердцу Константина Александровича, волгаря, саратовца, и именно поэтому считаю ее завышенной. Но случайной ли?.. Нет, пожалуй. Федин всегда с горьковским постоянством старался откликаться на книги молодых писателей и при случае поддержать их. Думается, мой пример — лишнее тому подтверждение.СПУСТЯ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ
В 1950 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя первая книга. Называлась она «Наши товарищи» и включала ранние рассказы о Поволжье и лесостепной Тамбовщине. Первая книга! Автор в начальную пору праздничной радости не расстается с ней ни на миг: на сон грядущий он кладет ее под свою подушку, а утром, еще не согнав липкий туман с ресниц, вчитывается в собственные строчки с такой блаженной отрешенностью, будто и не он написал их в минуты кропотливого труда. А сколько потаенно-стыдливых мыслей о славе, о молниеносном признании твоего таланта пробуждает эта первая книга — хрупкое и в общем-то беззащитное создание, укрывшееся за картонной обложкой, пахнущее солоноватым, маслянистым запахом типографской краски, которую, однако, вдыхаешь, как душистую свежесть зацветающего луга! Свою книгу я, конечно, вручил друзьям, раздарил знакомым. И вот однажды в мою сырую полуподвальную комнатушку в старинном Крутиковом доме за Невской заставой вбегает восторженный мой приятель Алеша Гребенщиков, в то время студент Ленинградского университета, худой, с впалыми щеками юноша, чудом выживший, как, впрочем, и я сам, в блокаду, стремительный и угловатый в движениях, с быстрым говорком. Он тут же, с ходу, сообщает, что отправляется в дальние края, к родным, по пути заглянет в Переделкино, на подмосковную дачу Константина Федина, друга своего отца по двадцатым годам, и, само собой, вручит мой сборник рассказов знаменитому писателю. Я растерялся. Теперь, когда представлялась нечаянная возможность передать книгу прямо в руки искуснейшего словесного мастера, радость первых дней вмиг сменилась мрачным чувством недовольства. Собственные рассказы вдруг показались мне всего лишь ученической пробой пера. Но сомнения сомнениями, однако и соблазн был велик — выйти с первой книгой на суд большого русского писателя. И с отчаянием робости я написал Константину Федину неловкие слова посвящения, в которых было все: и смятенная надежда на отеческую отзывчивость, и восторг преклонения ученика перед учителем… Да, я любил Федина-писателя! Тем горше было молчание его. Проходили месяцы… вот уже и год минул с той поры, как хороший друг отвез маститому писателю мою книгу, но желанного отклика все не было. Исподволь стала расти обида на Федина, который, по моим понятиям, являлся восприемником горьковских заветов в советской литературе и, следовательно, должен был без всякой задержки отозваться на книгу начинающего автора. И хотя я убеждал себя в том, что Федину мои рассказы не «приглянулись», что его молчание — вынужденное, деликатное, все мое существо, жаждущее правды, какой бы жестокой она ни была, не хотело, да и не могло примириться с мыслью о снисходительной пощаде: это же было не по-горьковски, не по-горьковски!.. Проходили годы. Минуло уже целых шестнадцать лет со дня выхода моей первой книги. И вот однажды, зайдя в магазин «Академкнига» на Литейном, я приобрел интересный сборник «Творчество Константина Федина». Сборник поражал своей многослойностью: он включал и монографические статьи, и теплые воспоминания друзей, и добросовестную библиографию произведений Федина, и его письма давних и недавних лет… Когда я прочитывал 379-ю страницу сборника, то вдруг ощутил праздничное озарение.«На днях, — писал К. А. Федин в 1950 году А. А. Фадееву, — вышла в «Советском писателе» книга Юрия Полозова с интересными маленькими рассказами «Наши товарищи». Видно, что у молодого писателя (это дебют) есть вкус к этому жанру…»Так сквозь толщу годов прорвались ко мне эти дорогие фединские строчки. Но вместе с радостью я почувствовал смущение и чувство вины за прежние несправедливые суждения о равнодушии, о безответственности Федина. Ведь он же тогда просто не знал моего домашнего адреса (начинающие авторы, как известно, забывчивы на сей счет), оттого и не смог ответить!
ПЕРВОЕ ПИСЬМО
В 1959 году я отправился к истоку Волги, в деревеньку Волгино Верховье. Там, в сельмаге, купил добротные резиновые сапоги и пошел вдоль ручейка, который, едва родившись в подгорном болотце, уже назвался Волгой. О своих хождениях по волжским берегам от истока до города Калинина я написал книгу «Верхневолжье». Выход ее чудесным образом совпал со статьей Константина Федина, напечатанной в газете «Советская Россия». Уроженец Саратова, истинный волгарь, Федин бросил с газетных страниц страстный клич — воспеть великую реку, эту становую жилу России. В своей статье он с молодой одержимостью мечтал о будущей книге и как бы воочию видел ее, созданную дружественными усилиями ученых и писателей, краеведов и художников… Фединское призывное слово взволновало меня. Нахлынули раздумья, возгорелись творческие замыслы. Я вдруг решил: нет, «Верхневолжье» — это лишь начальный «запев» о могучей нашей реке, за ним последуют «песни» о средних и нижних плесах. Как невольный отклик на статью, послал я Федину свое «Верхневолжье» и заодно письмо вложил в книгу: вот, дескать, отважился я, волгарь не по рождению, но по духу, создать серию волжских книг, а чтобы не было удручающей монотонности при описании всех плесов от истока до устья, «мобилизую» на службу дерзновенному замыслу все литературные жанры, и пусть-ка они, цепляясь подобно звеньям, составят цепь непрерывного и мозаичного повествования… Вскоре пришел ответ.12 января 1964
Дорогой Юрий Фомич, получил Ваше «Верхневолжье» и недавно прочитал отдельные вещи из этой книги. Спасибо за нее. Задумали Вы, как видно, нечто очень обширное, если на рассказы только об истоке Волги понадобилась целая книга. На весь замысел требуется по Вашему счету — десять. Это уже добрый Эмиль Золя, если не сам Бальзак. Молодость смела — не ей отступать перед дерзостью фантазии. Поэтому — ни пера, ни пуха! О книге. «Многожанровость» Вашего письма должна, кажется мне, способствовать решению большой задачи. Прием благодарный, поскольку стержнем композиции служит лирика, которой насыщаются и прозаические отрывки, и стихотворные «резюме», обобщения различных мотивов. Склонность к философическим выводам из наблюдений природы, к аналогиям между внешним миром и авторским «я» несколько напоминает пришвинскую манеру. Все дело здесь в том, чтобы не прибегать к такой форме выводов слишком часто, то есть не придавать ей механичности. Словарь Ваш богат — ни у кого не занимать стать. Не чувствуете ли Вы иногда нагроможденность определений? Я в подобных случаях вспоминаю знаменитый афоризм Вольтера: «Прилагательное есть враг существительного». Ваша книга, конечно, самый приятный отклик из всех, полученных на мой призыв «воспеть Волгу». Самым неприятным является то, что писатели и издательство «Советская Россия» вознамерились вовлечь меня в осуществление этой идеи о книге «Волга». Но это, конечно, обязаны сделать именно сами издатели, ибо от о р г а н и з а ц и о н н о й стороны дела зависит его успех или провал. Я не обладаю ни малейшей способностью организатора и не гожусь ни к такой роли, ни к тому, чтобы номинально «возглавлять» работу над этой книгой. Единственно же, что сделаю — это попытаюсь подтолкнуть образование инициативной ячейки, которая должна будет поработать над общим планом книги и созданием необходимой редколлегии ее. Желаю Вам здоровья, успехов и всего доброго.Дружеское, ободряющее письмо! И вместе с тем с какой деликатностью, точно опасаясь ненароком причинить боль авторскому самолюбию, К. А. Федин указал на мои чисто литературные погрешности. Он как бы давал мне почувствовать: перед дальней дорогой паруса авторского дерзания должны быть надежными, чтобы всегда их полновесно наполнял крепкий ветер жизни.ДружескиКонст. Федин.
И СНОВА ОТКЛИК
Замечу: как ни окрыляюща была духовная поддержка многоопытного и доброжелательного писателя, какую радостно-упорную волю к работе она ни пробуждала, но муки творчества возрастали, ибо к ним еще прибавились довольно-таки едкие сомнения насчет композиционной прочности моего обширного замысла. Согласно этому замыслу, неповторимость волжских плесов должна была как бы отбрасывать отсвет на каждую мою новую книгу и делать ее непохожей на предыдущую как по тону, так и композиционно. Если, например, в «Верхневолжье» лиризм автора-путешественника словно бы изнутри высвечивал жизнь встречных сел и городов, то уже в «Хождении за три моря», второй книге волжского повествования, прием был иной: автор здесь «самоустранялся» и передавал эстафету рассказа о преображенной реке самим волгарям — пассажирам старенького пароходика, который не спеша шлепал на плесе Калинин — Рыбинск, и те, прежде чем сойти на родной пристани, оставляли миру… разные затейные истории о Волге, о своем житье-бытье и, по существу, сами же творили книгу. Что же касается третьего произведения — «Века и плесы» (оно тогда еще писалось), суть его составляли записки двух путешественников — дореволюционного и нынешнего, причем оба повествовательных течения шли перекрестно, вперемежку и не столько контрастировали, сколько роднили прошлое и настоящее великой реки. Так что же мучило меня? Мне казалось, что все написанные книги из-за разнобойной манеры не могут слиться между собой с естественностью волжских плесов, что я едва ли дотяну свою повествовательную цепь до волжского устья… Тут явно требовался взгляд со стороны — взгляд заинтересованного человека. И как только вышло из печати мое «Хождение за три моря», я отправил книгу Константину Федину, а в нее, конечно, и письмо вложил со всеми думами-сомнениями. Ответ был скорый, взволнованный.Под Москвой5.VI.66
Дорогой Юрий Фомич, пришла Ваша книга, хорошо названная, отчетливо напечатанная. Начал прочитывать — увлекся, и нет у меня ни капли сомнения, что вся она полна художнической мысли, оригинальности, основательного знания материи — полна любви ко всему человеческому. Что Вас мучает? Разнобой манеры, в какой складывается триптих? Почему разнобой? Почему не разные ключи? Одна и та же тема разрабатывается музыкально в разных ключах. Этот в т о р о й ключ, в котором написано «Хождение…», воспринимается живо, легко, в нем вольно дышится, и он убедителен. И с «Верхневолжьем» у него гораздо больше сродства, чем разноречья, представьте себе. Так что Вы не тревожьтесь и за манеру третьей книги, а спокойненько езжайте собирать в кузов грибы на четвертую… Вот что я посоветовал бы Вам, Юрий Фомич: пошлите в редакцию журнала «Волга» (Саратов, набережная Космонавтов, 3) свою новую книгу — для «информации». А я напишу (теперь же), чтобы саратовцы отозвались о книге в журнале: есть там, кроме главреда Шундика, такая Е. М. Рязанова, член редколлегии, я ей и черкну. Счастливого хождения по Волге.Это письмо было для меня врачующим, оно утишило боль сомнений. А кроме того, растрогала деятельная забота Константина Александровича: он хотел, чтобы о моей книге узнало как можно больше читателей, он собирался оповестить о ее выходе саратовских журналистов! И он сделал это без отсрочки, буквально на следующий день после отправленного мне письма. Такую подробность я узнал впоследствии «Из переписки с земляками». Она была опубликована во втором номере журнала «Волга», в феврале 1967 года, когда Константину Федину исполнилось 75 лет. Вот что он, в частности, писал Е. М. Рязановой:Будьте здоровы!Конст. Федин.
Другая книга — еще более примечательна[1]. Это вышедшая в Ленинграде повесть-очерк или «жизнеописание» нынешнего и былого верхнего плеса Волги — Калинин — Рыбинск под названием «Хождение за три моря» отличного ленинградского прозаика Юрия Полозова. Его первая книга из задуманного цикла посвященных Волге повествований называется «Верхневолжье» (она вышла в 1963 г. в изд-ве «Советский писатель» так же, как и «Хождение»), Ее тема — уклад бытованья и метаморфозы нынешних (но и былых, разумеется) земель от истока Волги до Калинина-Твери. Всех книг будет несколько: автор отправляется сейчас по республикам народов Поволжья — к чувашам, марийцам, татарам…И далее Константин Александрович высказал пожелание:
Мне хочется попросить Вас, дорогая Екатерина Михайловна, побудить редакцию журнала выступить со статьями (или, может быть, основательными отзывами) о книгах названных литературоведа и писателя. Сделайте это дело — оно того стоит. Оба автора достойны внимания сугубо такого журнала, как «Волга». Книги выпишите от издательств. Впрочем, я написал Помозову, чтоб он послал редакции, да он скромен, боюсь — застесняется…Вскоре журнал «Волга» отозвался на мою книгу деловой и основательной статьей критика Ю. Лейтеса.
«ПРОЗА НАША БУДЕТ РАСТИ»
Человек обязательный, К. А. Федин, несмотря на многозанятость, не оставлял без внимания бесчисленные читательские письма. …В январе 1968 года я укрывался за Крымскими горами, в Ялте, от промозглой ленинградской зимы. Много работал и читал, особенно молодых тогда писателей — П. Проскурина, В. Белова, Е. Носова, В. Астафьева, Ю. Сбитнева… Сочная живопись их письма, глубинность проникновения в жизнь народную, свежесть извлеченных из нее людских характеров — все это наводило на мысль о надежном наращивании в русской прозе мощного плодородного пласта. Кроме того, мне посчастливилось перечитать фединское мемуарно-художественное повествование «Горький среди нас». В нем силой пластического дара Константин Федин как бы вызвал из небытия своего друга и учителя — я ощущал «телесность» Алексея Максимовича, слышал наяву его глуховатый, окающий голос, ловил жадным взглядом его угловатые жесты… Ялтинский Дом творчества, где я жил, почти безлюден в зимнюю пору — случается, что и поделиться не с кем мыслями о прочитанном. Но я не испытывал одиночества. Тысячеверстное расстояние не отдаляло от меня Константина Александровича. Сердечные письма его заставили меня поверить в его стойкое дружелюбие, во всегдашнюю его готовность откликнуться по-товарищески. И я излил ему душу в пространном и, помнится, очень мозаичном письме. Когда я вернулся в Ленинград, меня уже «поджидал» ответ К. А. Федина.18.2.1968,под Москвой
Дорогой Помозов, спасибо за ялтинское письмо, за отклик на моего «Горького». Я всякий раз терплю припадок муки мученической, когда доходят до меня читательские отзывы на эту книгу. В издании «Молодой гвардии» милейшие комсомольцы умудрились расположить такое множество уродств корректуры, что с ним не поспорят все опечатки во всех моих книгах, вышедших за доброе ½-столетие. Виноват наполовину я сам, потому что, по крайней усталости, не мог вычитать верстку с былой своей добросовестностью… Кстати: Ваши одобрения молодых авторов-прозаиков, обративших на себя внимание читателя последнее время, я разделяю, несколько знаком с некоторыми из них (Проскурин, Белов), и добавлю к ним… Василия Шукшина. Проза наша будет расти — это так. Признание этого утверждаться будет трудно, так как необычайно растет разновеликий наш читатель. Теперь — к Вам просьба. Я не мог у себя отыскать адреса Алексея Яковлевича Гребенщикова (а может быть, и не записал его при знакомстве с Гребенщиковым в Карачарове). Но я пообещал прислать «Завещания — о книгах» Якова Гребенщикова — отца нового моего знакомца, славного библиографа Петерб. Публичной библиотеки, моего друга далеких 20-х годов. Я рад, что Ал. Як. оказался близким Вашим знакомым, и я хочу просить Вас — передать прилагаемое мое письмецо адресату. Жму Вашу руку. Будьте здоровы. И — счастья Вашим книгам — готовым и подготавливаемым!Конст. Федин.
ВСТРЕЧА В ПЕРЕДЕЛКИНЕ
Все последние годы я работал… с думой о Федине. Не раз я мысленно представлял, как бы он взглянул на те или иные главы новой книги из цикла волжских повествований. И признаюсь, тревожным холодком обдавало меня изнутри: не тороплюсь ли я в своих пеших хождениях по городам и весям, не сказывается ли такая, подчас резкая стремительность пешехода на ускорении ритма и, значит, пагубной беглости письма?.. Думы о Федине исподволь вызвали естественную потребность свидеться с ним. Зимой 1969 года я приехал в подмосковное Переделкино и поселился вблизи дачи К. А. Федина, но тут дала себя знать необоримая робость, и расстояние в несколько десятков метров — от дверей Дома творчества до заветной зеленой калитки — оказалось почти непреодолимым. Впрочем, лучше всего о волнующих переделкинских денечках поведают тогдашние мои записи.* * *
В кайме узорчатых сосен белый платок квадратной поляны — Неясной, как она зовется. Из-под тонкого наслоя снега — торчащие былинки конского щавеля, полыни, репейника… Кто знает, может быть, степной этот простор, заброшенный в Подмосковье, напоминает Константину Федину родную Саратовщину; может, почудится ему иной раз, как метнется округлой порывистой тенью перекати-поле, царапнет по забору и притихнет.* * *
Узнал в Доме творчества от медсестры — похварывает К. А. Федин, делают ему по утрам уколы, однако дело идет к лучшему.* * *
Издали в погожий солнечный денек кажется фединский дом… смолкой-живицей, вытопленной из сосен: такой сочной и ясной желтизной он теплится, так органично вписывается в окружающий его ландшафт.* * *
Пожалуй, уже началась пришвинская весна света! Утром, при тридцатиградусном морозе, вершины деревьев еще вморожены в льдисто-колкую синеву, но к полудню, при солнце, мороз сдает. Тогда ели, прижав к стволам заснеженные лапы, четко острятся маковками, всем своим видом выражают взлетность. Сосны — те секут льдистый холодок ребрами лап и тут же подставляют их под солнце ладошами, ловят хвоистым сумраком лучи, впитывают их подобно губке. А какое преображение у берез! Размягшие на высоте, почернелые, гнутые их ветви как бы фонтанируют под солнцем, при ликующе-звонком теньканье синиц и деловитых постуках дятлов. Видит ли, слышит ли все это Константин Александрович? Просится ли и к нему в грудь это раннее чувство весны?..* * *
Позднью вечерней, мглисто-морозной, когда московское зарево над угольной чернотой сосновых лесов накалит небо докрасна, иду я краем Неясной поляны, вдоль плотного зеленоватого забора, из-за которого выбрасываются на дорогу длинные ветви лип. Каждый вечер я натаптываю тропу вблизи тихой фединской дачи. Чувство какого-то дружеского, томящего беспокойства притягивает меня к ней. И если я не увижу теплого розоватого свечения верхнего окна, сердце сожмется: опять недужится Константину Александровичу, опять небось отлеживается в сумрачном уголке, наедине с невеселыми стариковскими мыслями, — ведь нынче, в феврале, ему 77 исполнится, шутка ли!* * *
Почти физически ощущаешь излучение неких частиц, заряженных творческой энергией Федина, которое исходит из верхнего освещенного окна его дачи. Думаешь: человек, годами преклонный, работает самозабвенно, по 16 часов в сутки (свидетельство литературоведа Б. Брайниной), а ты празден, беспечен… И — спешишь, спешишь к письменному столу! В мою привычку вошло… осведомляться каждое утро о самочувствии Константина Александровича. Сегодня молодая улыбчивая медсестра, как бы одарив его частью своего розовощекого здоровья, сообщила на радостях с какой-то звонко-весенней певучестью синичьей: — Лучше Константину Александровичу! Уже в город ездил!* * *
Считанные деньки остаются до отъезда, а я так еще и не решился дать о себе знать… Чем вызвана моя робость? Совестливым ли сознанием причинить беспокойство человеку, который болен… и так мало принадлежит себе, своей работе, ибо сколько людей желает, чтобы он прежде всего принадлежал им? Или же сковывает мою решимость щекотливая боязнь предстать перед мудрым всевидящим оком Федина, которое высветит тебя до донышка?.. Да, скорее всего, я страшусь проницательных голубых фединских глаз. В кабинете директора Дома творчества висит акварельный портрет Константина Александровича: вскосмаченные брови как бы под напором вылетающего прицельного и неотразимого взгляда, заветная трубка, сизый плотный дымок, который, однако, не в силах затуманить прострельную мощь взгляда, сгустившего в себе, казалось, целеустремленность всего существа, его напряженную готовность познать что-то еще непознанное. Ветер с ледяным свистящим гулом скорого поезда проходит сквозь промороженную хвою сосен… Неспроста вырвалось это слово — «поезд»! Вот уеду — и век буду казниться, что не повидал Федина. Рукой, не верной мне, а подчиненной, кажется, воле самой судьбы, вывожу одну-единственную строчку:Дорогой Константин Александрович, был бы очень признателен, если бы Вы предоставили мне счастливую возможность повидать Вас хотя бы 2—3 минуты.Записку эту согласилась передать медсестра, тут же сказала уверенно: — Завтра же он ответит вам.
* * *
День прошел в ожидании, в некоем даже страхе перед возможным отказом во встрече. Потом все примирила мысль: да, самочувствие Константина Александровича не позволит принять меня! А утром — легкий стук в дверь моей комнаты, улыбчивое лицо медсестры, синеватый, словно в добром отсвете подмосковного неба, конверт в ее протянутой руке… Нарочно медленно, чтобы отдалить чтение, вынимаю вчетверо сложенный листок, еще, кажется, медленнее разворачиваю его — и взгляд, будто магнит, разом притянул размашистые строчки:Дорогой Юрий Фомич, буду рад повидаться с Вами! Приходите сегодня, 5 февраля, в 8 часов вечера. Заметьте: щеколду надо приподнять (не нажимать книзу). Собачьего племени на участке нет.Жду. К. Федин
* * *
Ветреный вечер 5 февраля. Вверху — луна, быстрые тучки, стирающие с нее позолоту; внизу, на поляне, в самом деле Неясной, — скользкие пробежки дымчато-грязных теней и голубовато-блестких пятен острого морозного света, их мелкая и уже совсем смутная зыбь где-то там, за овражком, у сосновой вскидистой гривы. Метет с поляны сухим скрипучим снежком. У зеленой калитки — хохлатый сугроб. Давлю его ногами, приподнимаю щеколду, как советовал Константин Александрович, кверху и вхожу в затишек просторного двора в теплом, уютном свете окон. Сердце колотится хлестко. Стараюсь ни о чем не думать — и тревожно мне, и хорошо от этой тревоги доброго ожидания.* * *
В яркой прихожей, к тому же подсвеченной длинным, от пола, лучистым зеркалом, меня встречает дочь Федина — Нина Константиновна, все с теми же улыбчивыми глазами, которые запомнились по семейной фотографии, помещенной в книге «Творчество Константина Федина»: там сидит она в белом платьице, сложив загорелые руки на крепких коленках, — озорная, судя по улыбке, девочка, однако покорно притихшая под большой и доброй отцовской ладонью, легшей ей на голое плечико. Я называюсь. Мы ведем удобный для незнакомых людей разговор о погоде — о постоянстве ядреных нынешних морозов. Вдруг — легкий скрип, и я, подняв голову на звук, вижу, как по крутой лестнице, словно бы вонзенной в потолок, бесшумно, с каким-то осторожным и вместе смелым изяществом спускается в матерчатых тапочках, в черном джемпере улыбающийся, ослепительно седой Федин. Я почти физически ощущаю у своей щеки касание его приветственной улыбки; я вижу добрую прищурку приглядчивых стариковских глаз и то, как эти глаза внезапно распахиваются и словно предлагают мне, смущенному, войти в их волжскую синеву, как в родную для меня стихию. Удивительны фединские глаза! Своей синью они будто бы и тебя бодряще освежают, и самого хозяина чудесно молодят. Ласкова его улыбка, спокойны и точны движенья. — Здравствуйте, Юрий Фомич, здравствуйте, — отчетливо бархатистым голосом произносит Федин еще там, на высоте ступенек, но я, обласканный и ободренный, уже кидаюсь навстречу и сразу обеими руками пожимаю протянутую руку Константина Александровича — большую рабочую руку с широкой, твердой ладонью. — Идемте-ка, знаете, ко мне наверх, — по-домашнему просто предлагает он, — там и поговорим, и поужинаем. С этими словами он легонько подергивает зажатую в моих руках ладонь, но не для того, чтобы высвободить ее, — нет, он, гостеприимный хозяин, точно бы подтягивал меня, увлекал за собой ввысь, в свою творческую мастерскую, с тем заветным верхним окном.* * *
Есть кресла, которые студят клеенчатым холодком, норовят подтолкнуть тебя сзади какой-нибудь озорной до нахальства пружиной, дабы ты, гость, подолгу не засиживался. Но это коричневое, с чуточку притертыми подлокотниками кресло, прислоненное бочком к старинному письменному столу, как бы вжимало вглубь, словно даже пыталось погрузить тебя не только в свой мягкий уют, а и в самую атмосферу творческой жизни, закипавшей здесь, в кабинете, при счастливом одиночестве. Век бы не вставать с этого доброго кресла! — Ну-с, рассказывайте, Юрий Фомич, как ваша Волга движется, скоро ли к последней пристани причалите? — Потихоньку движется, Константин Александрович: запруд на пути много. Но все же бросил якорь уже у Волгограда. — Ого! Теперь, видимо, последует обширная книга об этом славном городе? — Роман буду писать о сталинградцах. Нынче ведь все романы пишут, вот и я решился. — Что ж, роман давно уже стал центральным жанром литературы, поэтому писательская тяга к нему закономерна. Да и где вы можете дать такие развернутые картины действительности, перейти к столь широким обобщениям и вообще не спеша осмыслить нашу историю, как не в романе. Так что дерзайте! — Хочу, знаете, вдохновиться толстовской размашистостью, его въедливостью в жизнь. — Да-а, Толстой… Он никогда не старится. В одной из своих статей я, помнится, писал, что толстовский источник бьет неиссякаемо в русской литературе, и мы снова и снова припадаем к нему, и нам кажется, будто мы еще никогда не пили такой чистой, прозрачной и свежей воды. Можно сказать смело: толстовская традиция подспудно лежит в нашей литературе, от нее идет все лучшее. Учитесь у Толстого! Только помните: открытия бывают там, где кончается знание учителя и начинается новое знание ученика[2].* * *
Заметил: в минуты волнения Константин Александрович вдруг съежит лицо, сощурится, сведет к переносью ощетиненные брови — и тут же, округлив глаза, раскрылив эти серебристые, пробитые черным волосом брови, выбросит ярко-синий, молодой взгляд, казалось, из глубины души. — А вы читали, Юрий Фомич, книгу «Легенды и были Жигулей»?.. Молодцы куйбышевцы! Получилась у них, представьте, хрестоматия волжской жизни. — Я еще верстку читал, будучи в Куйбышеве. Вскоре написал рецензию в «Литературную Россию»: вот, дескать, куйбышевцы первыми откликнулись на фединский призыв «воспеть Волгу», теперь дело за вами, астраханцы и саратовцы, горьковчане и ярославцы! — А вы не прислали мне рецензию? — Да как-то не догадался… — Жаль, жаль!* * *
Он мог бы сесть в кресло напротив меня — это придало бы нашей беседе еще большую доверительность. Но я понимаю: простенький стул с подушечкой, священное место мастера у письменного стола, влечет его бессознательно, неодолимо, он не мыслит и часа прожить, чтобы не врасти в него всем своим существом, — именно врасти, ибо сидит он, вжав голову в плечи, по-орлиному нахохлившись, весь как бы вобравшись внутрь себя, нагнетая энергию духа для броска в новую, незнаемую творческую высь. Невольно припомнились его крылатые слова: «Я отдаю всего себя искусству, как боец отдает жизнь». Несколько месяцев назад я закончил новую «волжскую» книгу — о саратовских плесах. Создана она из отрывистых путевых записей, с виду будто бы и хаотичных, на самом же деле нанизанных на острие внутреннего, или, как еще говорят, подводного, сюжета. Но все-таки не радость свершенного испытываю я, а какую-то смутную давящую неудовлетворенность… и хочется доверить все тревоги Константину Александровичу, под обаянием его терпеливой и участливой вдумчивости. — Чувствую, тороплюсь я, как путешественник, который устал в дороге и соскучился по дому, — признаюсь я. — К тому же побаиваюсь: едва ли меня одного хватит на всю Волгу. Уж лучше бы, пожалуй, составить из всех книг одну… — Это что ж, наподобие Библии, вроде некоего фолианта? — усмехается Федин и обжигает меня синим холодком из-под обвисших бровей. — Нет, вы уж продолжайте свою волжскую эпопею. А в одну книгу всю реку-богатыршу не втиснешь — куда там! Она широко и вольно вошла в жизнь России, так пусть и ваш замысел не утрачивает широты.* * *
Меня волнует ленинская тема в нашей литературе. Сама Волга, прихлынув к Ульяновску, привела меня к раздумьям о Ленине и вдохновила на создание рассказов о его детстве и отрочестве на береговых кручах знаменитого симбирского Венца. Я сделал попытку изнутри раскрыть характер Володи Ульянова, вперекор распространенной манере рисовать его внешним, то есть описательным штрихом, и я был огорчен, когда мое благое стремление не нашло поддержки ни у редакторов, ни у большинства писателей, причем один из них заявил упрямо, непререкаемо: «Еще не пришло время изображать вождя… через его мироощущения». — Но ведь это же полное отступничество художника! — горячо исповедуюсь я. — Есть только один путь для глубинного раскрытия характера — путь всепроникающего психологизма. Почему же надо ему изменять при изображении Ленина? Федин слушал внимательно — так, как только умеет слушать он: с прицельной сосредоточенностью всего существа в остром и твердом взгляде, при полной неподвижности на стуле, словно опасался, что каждое его, пусть нечаянное движение может, подобно выскочившему порожистому камню, нарушить плавное течение рассказа собеседника. Когда я умолк, Константин Александрович не возразил мне, но и не выразил одобрения моим запальчивым словам. Какая-то кроткая размягченность пропитала острые черты его суховатого, с орлиным профилем, лица, а щеки тонко порозовели, тронутые жаром скрытого, где-то у сердца закипающего волнения. — Знаете, летом двадцатого года мне, тогдашнему корреспонденту «Петроградской правды», посчастливилось присутствовать на открытии очередного конгресса Третьего, Коммунистического Интернационала… В голосе Федина, уже незнакомом, глуховатом, чувствовалась медленная раздумчивость: он словно бы еще сгущал напряженным усилием памяти драгоценные россыпи воспоминаний. Но едва он произнес слово «Ленин», речь его убыстрилась, голос набрал звучную силу, все слова празднично засветились. И я как бы воочию увидел Владимира Ильича: вот он торопливо идет через весь зал, и его голова, наклоненная вперед, точно рассекает встречный поток воздуха и прибойный гул аплодисментов; а вот, стоя уже на кафедре, он долго перебирает бумажки — ждет, пока не угомонится бушующий зал, наконец не выдерживает — вскидывает руку, начинает трясти ею, но когда и это не помогает — принимается сердито постукивать по циферблату часов. И, оживляясь, Федин порывисто выкинул левую руку, подержал ее на отлете, как бы показывая часы… и вдруг принялся крепко, ребристо приударять по твердой ладони двумя соединенными пальцами правой руки, причем приударял с веской артистической пластичностью (ведь он когда-то был актером) и все больше, казалось, воодушевлялся дорогими воспоминаниями молодости: играл в такт речи бровями и всеми мускулами разгоревшегося лица. — Конечно же, я написал об этой встрече. Образ Ленина, несмотря на отпущенные мне два небольших столбца газетного набора, получился наглядным, да жаль, в композиции недоставало воздуха, пространства. Тогда-то у меня и возникла мысль написать рассказ. А случилось это так: перечитывал я как-то свой очерк и обратил внимание на одну фразу — про то, как художник пересаживался с места на место, чтобы получше зарисовать Владимира Ильича… Я слушал Федина, невольно припоминал его, ставший уже хрестоматийным, рассказ «Рисунок с Ленина», и мне казалось, что Константин Александрович мягко и ненавязчиво, самим жизненным фактом, отстаивал право писателя и на внешнюю изобразительность вождя, но при одном решающем условии: если неподдельное волнение художника возвышает его до избранной ответственной темы и если дорогой образ, прежде чем утвердиться на бумаге, прошел сквозь твое сердце и стал л и ч н о дорогим тебе.* * *
Удивительно прост Федин в обращении — чувствуешь, что разговариваешь с человеком чуть ли не равным тебе по годам, другом-единомышленником, поневоле забываешься и держишься сам естественно, без натянутости. И все-таки… все-таки я постеснялся прочитать из новой своей книги главку, заранее припасенную на случай встречи, — вот эту самую главку:Не могу представить Сызрань без молодого Федина! Вот он, одержимый жаждой сотворения новой жизни, гордый сознанием причастности своей судьбы к судьбе народа, весь как бы раскованный после вынужденного замкнутого прозябания в немецком плену, приезжает зимой 1919 года в глухую уездную Сызрань. Он худ, угловат совсем по-юношески, но в его высокой, гибкой фигуре, в остро выпирающих при ходьбе коленях — напряженная готовность бойца к броску. Его чутко раздвинутые уши точно бы прислушиваются к дыханию притаившейся незнакомой жизни; в синем взгляде волгаря — пытливая и тревожная сосредоточенность разведчика, первооткрывателя… Вскоре Федин пишет отцу в Саратов: «Я издаю, вернее, буду издавать и редактировать литературный, научный и политический журнал (вероятно, еженедельник). За отсутствием литературных сил придется нести всю работу на своих плечах. В моем распоряжении типография и небольшой штат служащих литературно-издательского подотдела, которым я заведую». Новорожденный журнал назывался «Отклики», он вышел только семь раз, но в горечи этой неудачи для молодого Федина таилась некая искупительная отрада: ничего, что этот рахитичный ребенок, рожденный, казалось, одной дерзостью горячей молодости, не оправдал скромных ожиданий уездного городка, зато какую жажду творчества он пробудил в рабочих, в крестьянах! «Ну а для меня, мечтающего о писательстве, — рассуждал Федин, — разве ж бесплодной была попытка издавать журнал? Я же тут прошел свой подготовительный класс необходимых работнику печати навыков, Я понял цену ответственности, смелости, самокритики, умению сотрудничать с товарищами и смотреть на любой труд в редакции одинаково уважительно». Вихревая неугомонная молодость! Федин произносит речи на площадях, с балконов, в театре; он редактирует уездную газету и работает секретарем городского исполкома; он — лектор и учитель; он, наконец, собирает добровольцев в красную конницу… Брожу по улицам Сызрани с думой о Федине: «Да, здесь он, мужающий, стремительный, жал с отсветом красных знамен в глазах! Здесь он, после долгих лет плена и душевного одиночества, припал по-сыновьи к груди матери-Родины, вдохновленный ее новой прекрасной судьбой!»
* * *
Разговаривая, Константин Александрович часто прикусывает заушник очков, забывчиво оставляет его во рту, как заветную трубку курительную — ту самую, которая прославлена на многих фотографиях и рисунках, а сейчас лежит, бездымная, подобно потухшему угольку, на краю стола, среди коробочек и склянок с лекарствами и, должно быть, чувствует на себе их давящую укоризну: дескать, сколько лет ты отравляла хозяина, и вот теперь нам приходится замаливать твои горькие грехи — подлечивать его расстроенное здоровье!.. Что могла ответить трубка, если бы опять вдохнули в нее огонь и опять закурчавился из нее душистый дымок? Она, быть может, так ответила бы, с вкусным посапыванием и легким шипучим потреском сгорающего табака: «Когда-то вместе с моим жаром пылало вдохновение хозяина, мой дымок увлекал вдаль его мысль, и жили мы дружно, друг другу в радость, и не чаяла я, что служба моя полезная обернется во вред. Но все-таки хозяин хоть и не курит больше, а не бросает меня: значит, дорога́ я ему доброй памятью, — дорога, как и каждая написанная страница. Так чего же вы меня корите, если он не корит и только ласково и грустно поглядывает на меня?»* * *
Сутулится он круто, необоримо — подчас кажется, что его затылок вот-вот коснется взгорбка спины. И однако ж это не стариковская, а чисто профессиональная сутулость — она рождена порывистой устремленностью художника… к листу бумаги, подвижническим трудом взыскательного мастера, который может часами самозабвенно отделывать каждую страницу, часами не выпрямлять спины. Вот уж поистине можно сказать: годы пригибают К. А. Федина не к земле, а все ниже и ниже — к письменному столу.* * *
Полюбопытствовал я осторожно: — А ваш «Костер», Константин Александрович, все разгорается? В ответ горестный взмах длинной и гибкой фединской руки: — Где там! Медленно идет дело! Ведь я не только «свободный художник», но и лицо должностное. Вот и приходится вникать во многие дела по нашему писательскому ведомству. — А помощники?.. — Нет! — ответил Федин пылко, с молодой обидчивостью. — Нет, я уж сам, сам стараюсь во все вникать: привычка, привычка, ничего не поделаешь! И только тут я вспомнил: ведь Константин Александрович — председатель правления Союза писателей СССР!* * *
В нем, по-моему, нет сознания своей старости. При разговоре он то и дело снимает очки — и тогда молодой яркой синью брызжут его глаза. У него просторные, по-волжски размашистые и легкие жесты гибких артистических рук, но их как бы отяжеляют огромные ладони вечного труженика, привыкшего сжимать перо, как кузнец молот, — ухватисто, цепко, влюбленно. На этих ладонях морщин больше, чем на лице. Потому-то, наверно, и кажутся мне фединские руки — думающими. Да, да, думающими руками!* * *
Недавно я читал начальные главы «Костра», а лучше сказать, пил медленными и неутоленными глотками родниковую свежесть фединской прозы. Мне хочется выразить признательность мастеру, и я говорю, что роман его поражает эпическим спокойствием, прозрачностью тонов и оттенков при описании людей и природы, зрительной ощутимостью каждого человеческого жеста. — Вот у вас, Константин Александрович, — замечаю я, — гостья к Веригиным приехала, так она все кофту этак вот — щипками — обдергивает, а я через эти «щипки» вижу весь ее драчливый, занозистый характер. Федин смущенно откликается: — Да ведь так и вы можете изображать. — Нет, — продолжаю я, волнуясь, — это же целое откровение! Как бы иной написал? А просто: «Женщина обдергивала кофту». И фраза была бы необязательной, невещественной, что ли, и скользнула бы мимо сознания. Да и «скользят» такие фразы, когда читаешь иные книги: не на чем глазу остановиться! Константин Александрович откинулся слегка, выставил щитком ладонь — будто бы отбивает горошины похвальных слов. Но я эгоистичен в своем стремлении — вот так прямо, в упор, выразить художнику радость приобщения к миру прекрасного искусства, й продолжаю упрямо: — А сколько «вкусных» слов в вашем романе! «Обиход», «оборотье», «рассоха»… Действие в первых главах происходит на Смоленщине, значит, это тамошние, областные слова? — Не всегда, — с застенчивой улыбкой отзывается Федин. — Я к смоленскому говору примешиваю речения из других областей: ведь все равно это русский язык. Меня давно заботит «скудобедность» нынешнего литературного языка и то, что почти каждое яркое слово местной закваски предается анафеме в статьях даже и очень почтенных критиков. А между тем, по моему разумению, приток областных слов во многом может избавить наш язык от болезненного малокровия,усвоенной книжности, когда готовые слова и речевые обороты точно берутся на прокат. Своими мыслями я делюсь с Фединым — он отвечает не спеша, веско: — Писатель, конечно, должен пополнять свой словарь областными выражениями, но все дело тут в том, чтобы отбор слов для общенациональной русской литературы был одновременно и необходим и удачен. Слово, которое имеет хождение в ограниченном крае страны, способно приобрести всеобщность. Но в каком случае? А в том, если понятие, обозначенное этим словом, не располагает в языке более метким и определительным, если оно широко доступно для понимания и не противно слуху.* * *
Не всегда выдерживаешь фединский взгляд… Вот голубизна его глаз сгущается до синевы, сходится в некую прицельную точку — и вдруг как бы вырывается из-под бровей острой вспышкой внимания к человеку, в стремлении уяснить его суть. Почти физически, как если бы это была заноза, ощущаешь проникновение фединского взгляда в глубь твоего существа, а с ним — медленное и цепкое погружение чужой пытливой мысли в твои. И такая же физическая ощутимость взгляда возникает, когда он, извлекший из души собеседника что-то питательное для раздумий о нем, медленно втягивается назад, под брови, как бы задымливается ими, чтобы не рассредоточиться и не утратить цельность вынесенного впечатления о человеке.* * *
Прямые гладкие волосы его, часто свисающие, отливают серебристой нежностью милых наших русских берез. Да, он истинно русский писатель, взвеянный степным волжским простором на ту высоту национального искусства, которая, пожалуй, недосягаема для многих, даже крупных писателей современности. А критики и литературоведы как-то невнятно говорят о сыновьем сродстве Константина Федина с отчей землей; читаешь их книги, статьи — и порой недоумеваешь: неужто вот так сразу, без отталкивания от родного порога, он сделал первые шаги в литературу, к вершинам мировой славы?.. Своеобразие именно русского таланта Федина хорошо чувствовал А. Фадеев. В «юбилейном» письме Константину Александровичу он писал проницательно:С того момента, как я прочел «Города и годы», первую из твоих книг, какую мне довелось прочесть, и с первых дней нашего личного знакомства я почувствовал в тебе ту предельную писательскую честность, которая является одной из главных черт именно русской литературы. Глубоко национальные истоки «Братьев» только укрепили во мне это чувство.
* * *
Поглаживая краешек дубового стола, говорю совестливо: — Вот повидал вас, Константин Александрович, поговорил — пора и честь знать. Он — уторопленно: — Ничего, ничего, мы сейчас поужинаем, вы о себе расскажете… Да вон, кстати, и ужин дочка принесла! Идемте-ка в гостиную. — Нет, — бормочу я раскаянно, упрямо, — отвлек вас от работы, помешал… А Константин Александрович тут же весело и подхватил: — Русский писатель любит, чтоб ему мешали. Это еще Чехов сказал, авторитетный, надобно заметить, литератор. Да-с.* * *
Так же незаметно, как свет кабинета переливается в яркую гостиную, оказываешься в большой комнате. Слева — выбеленный камин с тщательно прорисованным кирпичом, резко, энергично вылепленный бюст К. А. Федина, приземистый стул, на который пирамидой уложены роскошные издания столь могучих книг, что им ни на одной полке не уместиться; справа — длинный, во всю стену, стеклянный книжный шкаф, тут же, за стеклом, выставлены фотографии (среди них редкий портрет молодого Горького), пестрые коробочки, шкатулки, автограф Блока под спасительным целлофаном — кстати, любимого поэта Федина, и вообще тут много других, явно подарочных вещей; а прямо, перед широким клетчатым окном, в которое, кажется, увидишь самые далекие российские дали, не будь оно сейчас разузорено кудреватым проказником морозом, — кипень вечнозеленых, самых причудливых растений: от маленькой кокетливой пальмы до колюче-угрюмого кактуса… В общем, от гостиной веет некоей музейностью, даже холодком неприкасаемости. Но это ощущение длится до тех пор, пока хозяин, мягко перетаптываясь, рядом в своих матерчатых тапочках, не просит гостя садиться за маленький, на два человека, круглый стол, снежно белеющий твердой, накрахмаленной скатертью, призывно мерцающий льдистыми гранями прозрачнейшего графина, и к тому же очень затейливого, ибо внутри его, среди подрагивающих искорок жгучей влаги, упрятан стеклянный петух с огненным гребнем… Я уже сел на стул, но Константин Александрович, сияющий какой-то милой домашней уютностью, все еще хлопочет рядышком, разрезает надвое яичницу, придвигает маринованные грибочки, паюсную икру, и все это проделывает с неподдельным изяществом и с душевностью самого хлебосольного хозяина, каким всегда отличались волжане, вскормленные доброй Волгой-матушкой. Наконец и он уселся; мы помолчали, точно бы приглашая к нам на минутку, ради торжественности, подсесть тишину. И вдруг мягкий фединский голос произнес: — За успех вашей работы.* * *
О чем мы говорили за столом? Федин расспрашивал меня о житье-бытье в Ленинграде, о родителях, о блокадной поре, и глаза его широко распахнулись, словно и они слушали; но когда я поведал об одном мрачном эпизоде голодных военных лет, он сцепил щеточки бровей, помрачнел, выговорил с участьем: — Ну, о блокаде вам тяжело вспоминать, — и перевел речь на другое: — А у вас редкостное по нынешним временам отчество! Я рассказал, как родители моего отца, уроженца глухой смоленской деревеньки, повезли новорожденного крестить в Монастырщину, богатое и славное село, но дорогой запамятовали, какое мудреное имечко собирались ему дать, переругались, перессорились на виду у церкви и всего честного народа, да тут поп — будь он неладен! — проявил инициативу: посоветовал наречь младенца Фомой. — А вы бывали на родине отца? — Нет… вообще не бывал на Смоленщине. — Жаль, жаль… Прекрасный край! Я там провел немало отрадных дней — ходил-бродил по лесам, по полям вместе со своим другом Соколовым-Микитовым. Там меня сама Россия поила ключевой водой, а народ — чистыми родниками своей поэзии… Да вот, погодите, поужинаем, я вам книжечку Расторгуева покажу — о смоленских говорах. Весьма питательная книга! И — вдохновляющая! Взглянете на нее — и, может быть, потянет вас на отцовскую родину.* * *
Выпили за здоровье Константина Александровича. Я шутливо сказал, что грешно болеть здесь, в холмистом сосновом Подмосковье, где воздух бодрящ и крепок, где можно поставить рекорд писательского долголетия. Федин улыбнулся, потом посерьезнел и спросил озабоченно: каково мое здоровье? — Пока не жалуюсь, — отвечал я. — Но вот какая метаморфоза происходит! Обостряется зрительная память, слабеет логическая. Желая как бы утишить мое огорчение, Федин солидарно заметил, что и у него такое случается. «Ах, милый Константин Александрович! — подумалось мне. — Да ведь вам же скоро восемьдесят». Высокий интеллект, изящную простоту, умение слушать собеседника (а это тоже талант!) — все это ощущаешь в К. А. Федине при первой же встрече, и все это в каждом человеке, будь он даже стеснительный и замкнутый, вызывает желание высказать заветные думы. — Не кажется ли вам, Константин Александрович, — говорю я, — что за последнее время в книгах многих литераторов усилился «критический запал»? Я давно заметил в нем строгую дисциплину ума, как бы заранее исключающую поспешность временных суждений. И сейчас, свесив брови, давя на них набегающими морщинами, погасив голубизну глаз, все больше и больше самоуглубляясь, Федин словно бы отливал свою мысль в четкую форму. Наконец он медленно произнес низким и, казалось, тоже самоуглубленным голосом: — По-моему, направление социалистического реализма вовсе не умеряет критику, только дает ей иную цель: устранять помехи на пути создания социалистического общества.* * *
Памятлив, памятлив Константин Александрович! О ком и о чем бы мы ни говорили — о Паустовском и Лидине, о Ясной Поляне, о статье критика Чалмаева, только что напечатанной, о гоголевской квартире в Ленинграде, о горе-беде Соколова-Микитова («Совсем плохо видит мой друг, давно диктует рассказы») — Федин помнил о книге Расторгуева. Когда мы отужинали, он увлек меня в комнату-боковушку, к стеллажам, и принялся азартно разыскивать «смоленские говоры». Но книга все не давалась в руки, хозяин начал поругивать ее, с добродушной, впрочем, досадой: «Ведь вот тут же была, в этом углу, сама в глаза лезла, проказница, а как нужна, так и нет ее!..» Поискам книги-любимицы Федин отдавался всем существом. — Да вы не хлопочите, Константин Александрович, — уговаривал я, чувствуя себя неловко от чрезмерности его заботы. — Расторгуевскую книгу я непременно разыщу в Публичной библиотеке. — Тогда я, знаете, набросаю по памяти ее титульные данные… — И Федин тут же присел на подножную скамеечку, положил прямо на широкую не стариковскую коленку бумажный листок, весь вдруг как-то пружинно съежился и стал писать. Но как он писал, с какой страстью и самоотдачей! Его перо словно бы врезало своим острием в белизну бумаги каждое слово. И чувствовалось: для него, Федина, нет, видимо, «сословного», что ли, разделения между написанием обыкновенной записки и страницы художественной прозы — любому делу он отдается с равной уважительностью истинного трудолюбца. — И все-таки я ее разыщу, — вручив листок, пообещал он. — Вдруг что-нибудь не так написал…* * *
Вот и наступила последняя минута нашей встречи… Стоя внизу, в прихожей, у самых дверей, обитых клеенкой, хотел я сказать Федину какие-то особенные слова благодарности за его доброту и участье в моей литературной судьбе, но разволновался и слов нужных не находил. Да и чувства мои были сильнее слов и, значит, невыразимы. Будто бы от внутреннего толчка я вдруг кинулся к Федину, глядящему на меня с прощальной улыбкой, прижался щекой к его плечу… и выбежал за порог — в метель, в холод…* * *
Тут бы и поставить последнюю точку в моих записях, но жизнь продолжила их. Утром мне принесли небольшой пакет и голубой конверт. Я вынул из конверта сложенный листок и прочитал:Дорогой Юрий Фомич, только что Вы ушли, как музыка книги далась прослушать себя. Нашел! Вот точный титул издания:А в пакете оказалась книга «Города и годы», с портретом писателя и его дарственной надписью:Ак. наук СССР
институт русского языка
П. А. Расторгуев
«Говоры на территории Смоленщины»
Изд-ство Ак. наук СССР
Москва 1960
страниц 207
Цена 12 руб.
С 1/I 1961 — 1 руб. 20 к.
Приветствую Вас.К. Ф.
Юрию Помозову на память о переделкинской встрече —дружески — Конст. Федин5 февраля 1969 г., дача
* * *
Я мог бы долго говорить о К. А. Федине; в заключение прибавлю лишь одно. Если из книг любимого писателя я неизменно выносил О б р а з в р е м е н и, который он, по собственному признанию, «включал в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести», то из встречи с Фединым, пусть краткой, я вынес О б р а з ч е л о в е к а того революционного времени, мудрого и простого, живущего интенсивной душевной жизнью творца, истово служащего литературе — и заразительно, ибо каждый, наверно, кто хоть раз встретился с Константином Александровичем, уносил от него заряд творческой энергии и возвышенной веры в свои собственные силы, в то, что лучшая книга еще впереди, и, значит, прикипай всем существом к письменному столу и работай вдохновенно и мастеровито, р а б о т а й п о-ф е д и н с к и!ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Снова вмешалась жизнь… и раздвинула пределы моего очерка. В 1975 году я закончил последнее произведение из цикла «волжских повествований» и на радостях послал К. А. Федину письмо, в коем перечислил все восемь книг, посвященных Волге. В конце письма (до сих пор не могу простить себе докучливость) я посетовал на издателей, притормозивших выпуск моей новой книги. 83-летний Федин быстро откликнулся:Ю. Ф. Помозову Ленинград6.IV.1975
Дорогой Юрий Фомич! Итак ц и к л повествования о Волге закончен! Поздравляю Вас. Уверен, что работа Ваша будет оценена не раз, хотя, может быть, и не сразу… Вас не должны огорчать трудности по пути отыскания издателя. Очень возможно, что придется подумать о вариантах публикации всего эпоса. Надо только представить себе, какое множество областей, городов, народов охвачено живым глазом автора, чтобы вновь и вновь дать волю авторской фантазии, не боясь и отступить от ранних планов композиции и ринуться в новые широты созданных повестей и очерков под заново (или скорее — изнова) оживленными лучами света. Помочь в Вашем и н о м деле, которое приторможено издателем и, как видно, сильно расстроило Вас, я — к большому своему сожалению — сейчас обещать не в состоянии. Виною тому — нездоровье. Я вот уже полгода не вылезаю из-под крыши. Дело это муторное. И если на что жаловаться, то единственно — на возраст. Связаны суставы. Играют нервы. Вторят им сосуды. Вся сложность, которая еще на днях могла быть названа слаженностью, нынче расслабилась… Как эта история должна отозваться на способности человека подчинить свои силы труду — легко себе представить… Что и как могу я на себя взять, будучи полуразвалиной, — решайте сами. Если способен буду поправляться — тогда пообещаю служить друзьям, как самому себе. Обнимаю Вас, желаю Вам здоровья и удачи во всех начинаниях — будь они новыми или постаревшими. Благодарю за дружеские строки письма.Ваш Конст. Федин
1969—1978
ПИСЬМО ЛИТЕРАТУРОВЕДУ
Боюсь, не смогу Вам помочь в той мере, в какой хотелось бы. Мои розыски неутешительны: Александр Александрович Фадеев за послевоенные годы бывал в Ленинграде всего два раза, выступал на писательском собрании лишь однажды, да и то стенограмма его речи не сохранилась, а вернее, ее вовсе не вели, так как собрание было обычным, не отчетно-выборным. Теперь — о дате выступления А. А. Фадеева. Насколько помню, это произошло в 1953 году, где-то в конце октября, ибо уже хлестали с Балтики ураганные ветры, Нева дыбилась, далеко забрасывала через гранитный парапет тяжелые брызги и мутные клочья пены… Еще в гардеробе я повстречал знакомого литератора, одного из тех, кто все, решительно «все знает» и гордится своим знанием даже подводных течений многосложной литературной жизни, кто как бы в искупление собственной малой творческой активности мужественно взваливает на себя всякого рода «общественные нагрузки», возглавляет различные секции, составляет тематические сборники к определенной дате, ходит в записных ораторах и при этом очень обижается, если его, добровольного мученика, не избирают в президиумы собраний. — А вы слышали новость? — обратился ко мне этот всезнающий литератор с таинственным видом, с плохо сдерживаемой улыбкой самодовольства. — В Ленинграде находится Александр Александрович Фадеев. Есть вероятность, что он выступит на нашем собрании. Впрочем, весть о приезде А. А. Фадеева была уже многим известна. Едва я поднялся по мраморной лестнице в «белый» зал, как меня поразил на редкость возбужденный говор. Имя Фадеева, выдающегося советского писателя, можно сказать — живого классика, было у всех на устах; оно создавало атмосферу торжественной приподнятости и отчасти тревожного ожидания: о чем же поведет речь генеральный секретарь Союза писателей СССР? Хотя, прислушавшись, можно было уловить в общем говоре и настойчивые нотки недоброжелательства. Один литератор предположил: «Опять, наверно, генсек станет директивы читать». Другой тут же подхватил: «Ничего не поделаешь! Таков стиль волевого руководства». Третий посетовал: «Снова Александр Александрович не ответил на мое письмо». Четвертый вздохнул: «Неподступен, замкнут генсек, особенно когда глаза прищурит, губы тонкие сожмет». Пятый, всех других моложе, проронил: «Говорят, начинающие авторы у Фадеева не в чести…» Предугадываю Ваше возражение: да ведь вокруг большого писателя всегда ходят разные кривотолки, переходящие в обывательские сплетни, так следует ли, мол, придавать им мало-мальски серьезное значение?! Но позвольте тогда и Вам, в свою очередь, возразить: все имеет свои причины. А причины для такого рода высказываний имелись. Александр Фадеев редко наведывался в Ленинград вообще; книги ленинградских литераторов читал «избирательно», и отношение его к их творчеству было, на мой взгляд, весьма сдержанное. Конечно, Вы, как литературовед, можете оспаривать мое мнение, находя его субъективным. Но давайте реально смотреть на вещи. Появляется роман Даниила Гранина «Искатели». Александр Фадеев дает ему в целом положительную оценку. Однако послушайте, что он говорит дальше в своих известных «Заметках о литературе»: вся история личных отношений героев «не имеет никакого отношения к главной теме романа, она совершенно произвольна». А возьмем роман Веры Кетлинской «Дни нашей жизни». Положительная в общем оценка Фадеевым этого произведения отнюдь не отменяет существенные, по его мнению, авторские просчеты: техника зачастую заслоняет человека, «технологические процессы… не всегда преломляются через «человеческое», много в романе скучных диалогов, иллюстративности…». Сдержанно отнесся Фадеев к роману Всеволода Кочетова «Молодость с нами», вовсе не познакомился с таким талантливым произведением Сергея Воронина, как повесть «На своей земле», хотя обстоятельства, казалось бы, побуждали к этому. Не могу не привести отрывок из автобиографической книги Сергея Воронина «Время итогов»:И как снег на голову среди ясного лета, приговор критика Ф. Левина на обсуждении в Москве на секретариате Союза писателей книг, выдвинутых на соискание Государственных премий: «Я бы не хотел жить и работать в таком колхозе, который показал Воронин». И так как, кроме него, никто не читал повесть, то Фадеев сказал: «Ну что ж, коли так, то снимем его с выдвижения. Сергей Воронин еще молодой, успеет получить».Разумеется, были и другие причины разъединенности, но главная все-таки заключалась, по-моему, в недостаточном знании творческой жизни и творческих забот ленинградских литераторов. Быть может, сознание этого и побудило Фадеева к поездке в Ленинград: ведь человек он был совестливый, беспокойный, о чем убедительно свидетельствуют его письма. Я отвлекся, хотя и убежден: нужно было правдиво воссоздать для Вас, молодого литературоведа, ту обстановку, которая предшествовала выступлению Фадеева. Да и не следует «воспоминателям» рисовать только «благостные лики» пусть даже и очень знаменитых писателей, иначе многое останется за пределами литературного портрета, — этот упрек я адресую и себе, и другим мемуаристам… Итак, собрание началось. Но Фадеев не появлялся… Мой знакомый, добровольно несущий бремя общественных нагрузок, на сей раз был избран в президиум собрания. С величаво-покровительственным видом он слушал выступления писателей, да вдруг и оглядывался с каким-то уже чисто служебным беспокойством, кидал пытливые взгляды в глубь переполненного зала… Вдруг председатель собрания (им был Всеволод Кочетов) объявил: — Слово имеет Александр Александрович Фадеев, генеральный секретарь Союза писателей СССР. В зале наступила та мгновенная, внятная тишина, когда можно было, пожалуй, расслышать хлесткие удары невских волн о гранитную набережную. Затем все задвигались, заскрипели стульями, стали поворачивать головы к проходу… От входных дверей через весь зал шел, твердо, даже как-то по-армейски ступая, с четкими, в такт шагам, движениями рук, Александр Фадеев — высокий, ладный, без всякой профессиональной сутулости человек. Его грудь казалась выгнутой, седая, словно из чистого серебра, голова — слегка откинутой. Это лишь подчеркивало стремительность походки Фадеева. А когда одна седая прядь вдруг отвисла вдоль смуглой щеки, затрепетала, точно под напором встречного воздуха, и Фадеев очень красивым жестом плавно взмывшей руки закинул ее поверх головы — мне уже почудилось в его походке что-то летящее, хотя он, вероятно, всего-навсего ускорил шаги, как это обычно случается перед подъемом на трибуну. При взгляде на крупную, натренированно прямую, сильную фигуру Фадеева мне, помнится, подумалось, что голос у него должен быть звучный, «ораторский», но я вскоре ощутил разочарование: Александр Александрович заговорил слабым и тонким, предельно натужным голосом. Вот что он сказал — и не без юмористической нотки — в начале речи: — Меня тут величали генеральным секретарем, и это звучит неоспоримо внушительно. А между тем я нахожусь в Ленинграде проездом. Я здесь скорее гость, чем официальное лицо со всеми степенями положенных мне служебных отличий. И к вам на собрание я пришел просто как товарищ, как единомышленник, такой же, как вы, рядовой служитель социалистического реализма. Переход от этого вступления к разговору о волнующих проблемах литературной жизни был непринужденным и потому незаметным. Скоро я уже весь был захвачен волевой, напористой речью «гостя». Высокая идейная убежденность в каждой фразе, полнейшее отсутствие словесной трескучести отличали эту речь, благородно возвышенную, духоподъемную, несмотря на изрядную долю критики. Теперь я вовсе не замечал натужно-тонкого голоса, — он был звонок, местами пронзительно-резок и часто отдавал твердостью металла. О чем говорил Фадеев? Какие тревожные думы занимали генерального секретаря? Фадеева тревожило, что далеко еще не весь широкий, многонациональный творческий актив вовлечен в общественную и идейно-творческую жизнь Союза писателей, и говорил он об этом не только с сожалеющей грустью, но и самокритично: дескать, мы, руководители творческой организации, только мы в первую очередь несем тут полную ответственность! Запомнились также его слова о воспитательной роли критики: вот, мол, мы часто осуждаем того или иного писателя за идейные просчеты в его книге, а как он дорабатывал свое произведение — не интересуемся, а значит, и не можем дать справедливой оценки новому варианту, допустим, романа Валентина Катаева «За власть Советов». Известна пожизненная любовь Фадеева к Бальзаку. На собрании, ратуя за высокое художественное мастерство советских писателей, за освоение неизбывного творческого наследия классиков, он наизусть процитировал высказывание гениального французского реалиста: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт!.. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатления! Впечатления! Да ведь они — только случайности жизни, а не сама жизнь!.. Ни художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатления от причины, так как они нераздельны — одно в другом». Помню, как затем прищуренным взглядом Фадеев медленно обвел лица писателей в первых рядах и внезапно воскликнул: — Я вижу перед собой литераторов старшего и младшего поколения! Такое их соседство естественно здесь, и оно должно быть естественным в литературе. Старшие должны помогать молодым терпеливо, по-горьковски. Но… — Из уголков губ Фадеева выжалась мудро-ироническая улыбка. — Но и писатели старшего поколения, несмотря на все их творческие успехи в прошлом, обязаны и к себе проявлять строгость. Подчас, обласканные «юбилейными» похвалами, они начинают работать торопливо, небрежно и, как говорится, с одышкой, а такой их, извините, «опыт» не на пользу молодым. В своем выступлении Александр Фадеев ратовал за развитие всех жанров. И тут-то из зала подали ядовитую реплику: — Что ж, и фарс нам нужен? — Да, и фарс! — убежденно возразил оратор. — Иначе искусство социалистического реализма будет только беднее. Речь А. А. Фадеева часто прерывалась аплодисментами, возгласами: «Верно!», «Правильно!». И я уже видел перед собой пламенного оратора, коммуниста-борца, который бесстрашно партизанил в годы гражданской войны, который и во время длительных идейных схваток во имя полного торжества принципов социалистического реализма предельно отточил слово, начинил его таким взрывчатым зарядом мыслей и эмоций, что оно вовсе не нуждалось в подкрепляющих жестах. В самом деле, Александр Фадеев не «дергался», не жестикулировал на трибуне, не обхватывал ее полированные края с судорожной цепкостью; его руки лежали вытянутыми, лежали спокойно и веско, лишь сильнее оттеняя своей красноречивой неподвижностью полет каждой окрыленной фразы. И как же он был красив, несмотря на скулы, на выпирающие желваки! Он весь словно бы светился выстраданной любовью к литературе, к людям, творящим ее, и вся его тревога за общее дело тоже была от любви, от любви! Недаром же глубоко в душу запали фадеевские слова: — Время писателя надо беречь — это неоспоримо. Заседательская «суета сует» ни к чему. Даже творческие дискуссии имеют смысл лишь в том случае, если они способствуют созданию хороших художественных произведений. Фадеев закончил свое выступление под аплодисменты. Председатель собрания пригласил его сесть за стол президиума. Но в ответ Фадеев шутливо выставил ладонь, тут же для вящей убедительности отрицательно мотнул головой, причем серебристая прядь, послушная во время выступления, выбилась. Однако он почему-то не поправил ее и быстро сошел с трибуны в зал — уже под бурные аплодисменты. После собрания я возвращался со своим прежним знакомым. Он сказал раздумчиво: — Признаться, я ожидал, что Фадеев все же сядет за стол президиума… Не было ли в его отказе желания поиграть в демократию? Нет, я уже не верил всяким досужим измышлениям! К тому же самим фактом своего естественного, логичного поведения А. А. Фадеев как бы преподал «предметный» урок моему знакомому, явно не чуждому карьеристских замашек, склонному больше проявлять себя в заседательской суетне, чем за письменным столом, наедине с героями своих книг. Вот о чем я хотел поведать Вам, мой дорогой литературовед. И если кое-какие штрихи в человеческом и писательском облике Александра Александровича Фадеева для Вас окажутся новыми, интересными, то я сочту свое письмо полезным.
1982
УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ
I
Соколова-Микитова редко можно было встретить в Доме писателя имени Маяковского на собраниях литераторов, да это, пожалуй, и неудивительно: он считался вечным странником по родной земле, поистине лесковским «очарованным странником», и самым преданным певцом ее красоты. А в представлениях литературной молодежи Соколов-Микитов вообще являлся легендарной личностью, средоточием неуемной и заразительной страсти к путешествиям. Эта страсть, по-видимому, была прирожденной; ее, кстати, отмечает и друг Соколова-Микитова Константин Федин в своей статье о нем. Но, думается, тут еще сказалась извечная тяга русского человека к познанию Родины, людей ее, та самая осознанная тяга, которая взволнованно передалась Соколову-Микитову через книги Максима Горького о его скитаниях по российским градам и весям («Где же я наконец живу? Что за народ окружает меня?..») и конечно же через произведения прославленных певцов родной природы С. Т. Аксакова и Михаила Пришвина. Помню, как у меня, тогда еще начинающего прозаика, оказалась в руках книга И. С. Соколова-Микитова, только что выпущенная издательством «Молодая гвардия». Называлась она «По лесам и горам». Правда, тогда же, при чтении, я был крайне удивлен излишне простой, вовсе даже простоватой манерой авторского повествования, однако мощный напор жизни, бьющей с каждой страницы, буквально потряс и захватил меня. Мне тоже вдруг захотелось увидеть доселе еще не виданное, познать еще не познанное, но, само собой, не на проторенных дорогах. И я (дело было в 1949 году) отправился на Тамбовщину, на маленькую, пересыхающую речушку Цну, которую степняки хотели оживить…II
Фигура, лицо Ивана Сергеевича Соколова-Микитова при первом же взгляде резко, отчетливо отпечатались в моей памяти. …Стоит он, высокий, сутуловатый и, пожалуй, даже застенчиво-неловкий, в сумрачной нише, неподалеку от двери в бильярдную, откуда доносится хлесткий стук костяных шаров. Голова его вжата в плечи, словно давит низкий лепной потолок, — и до чего же это великолепная голова! Она, казалось, хранит отблеск дальних странствий. По крайней мере, мне чудится и в ясной белизне короткой закругленной бородки, и в колком серебре распластанных усов, и в как бы заиндевелых волосах вокруг широкого голого темени стойкий холодок Арктики. В то же время само это бронзовеющее темя, этот утесистый лоб с поперечной морщиной, наконец, эти смуглые щеки — по-южному горячие, накаленные… Иван Сергеевич стоит широко расставив ноги, носками вовнутрь, как моряк на палубе (кстати, он в молодые годы плавал на многих морях), и то вложит в рот, уже по-старчески усохший, втянутый под усы, коротенькую трубку-носогрейку, то отведет ее, потрескивающую, от лица, прищурится как бы от залетевшей в глаза дымной горечи, а на самом деле наверняка для того, чтобы подметить в человеке какую-нибудь особинку. …Вот-вот должно начаться отчетно-выборное писательское собрание. Мимо плавно движется огневолосая Вера Панова в черной, с блестками, шали, небрежно накинутой на плечи, и какой-то литератор из молодых проворно кидается ей навстречу и целует ее руку. Размашисто ходит в распахнутом пиджаке, в тугой жилетке громогласный Илья Садофьев. Тяжело, веско переставляя ноги, идет коренастый Александр Прокофьев с кипучей ладожской синью в глазах, рядом с ним — Анатолий Чепуров, строгий, подтянутый, в очках. Гордо несет свою седеющую голову молчаливо-суровый Александр Решетов, да вдруг, при оклике, улыбнется простовато и открыто. Остановился неподалеку усталый, но с горячими глазами Сергей Воронин, в ту пору — главный редактор «Невы» (в одной руке — папка, в другой — портфель), и вслушивается в то, что говорят ему попеременно Елена Серебровская и Александр Хватов, члены редколлегии журнала… А Соколов-Микитов по-прежнему неколебим в своей спокойно-раздумчивой наблюдательности, в некоей даже отстраненности. Кажется, он забрел под писательский кров случайно, как путник, сбившийся с дороги, и вот сейчас выкурит заветную трубочку да и уйдет в просторный мир природы, поселится на каком-нибудь лесном кордоне или же, наоборот, презрев годы, отправится по зову извечной бродяжей страсти на Таймыр, к геологам…III
В 1957 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник моих повестей — результат поездок по Волго-Балту, по Закарпатью и белорусскому Полесью, и я, окрыленный этой удачей, пустился в новые странствия по родной земле — на этот раз в Закавказье, на Каспий. Говорю это не ради саморекламы — во имя истины, хотя и горькой, но целительной. Ибо окрыленность эта вскоре обернулась самоуверенностью, при которой, как известно, литератор, тем более молодой литератор, утрачивает чувство самокритичности. А такая беда как раз и случилась со мной. Я вскоре написал повести обо всем увиденном и, более того, с излишней торопливостью представил на суд издательства. В то время главным редактором в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» работал Илья Корнильевич Авраменко. Однажды я зашел к нему в кабинет справиться о своей рукописи и увидел вздернутые к вискам резкие черные брови и приспущенные кончики запорожских усов, что, по общей замете, не предвещало ничего доброго. Так оно и случилось. Резко, тычком, далеко выбросив прямую, без сгиба, руку, Илья Корнильевич протянул мне рецензию. Я начал читать и похолодел после первых же строк:При чтении рукописи Юрия Полозова неприятно раздражают неряшливости языка, спутанность содержания, бесчисленные несообразности, которые находишь почти на каждой странице. Автор рассказывает о своих поездках в Армению, Грузию, Азербайджан. Вместо простого, связного и увлекательного рассказа получилось что-то надуманное, путаное и неудобоваримое. Автор путается в безвкусице надуманного «народного» сказа и напыщенной ложной литературщины. Старики и молодые говорят в его повестях неестественным, выдуманным языком, часто вставляя в речь полюбившиеся автору замысловатые словечки и поговорки, знанием которых автор как бы хочет щегольнуть.Далее немилосердный рецензент приводил примеры литературной безвкусицы и языковой неряшливости. Я читал, а игольчатый холодок мелкого, почти болезненного озноба все глубже проникал в спину, тогда как все лицо мое смятенно пылало от прихлынувшей крови. Однако рецензент не давал наказуемому собрату по перу ни малейшей поблажки — и продолжал гневно:
Автор плохо знает природу и жизнь животных, уверяя, например, в повести «Сыны Севана», что лысухи (общеизвестные в Закавказье, живущие на озерах птицы, которые, по устройству своих ног, не могут ходить по земле, а только плавают и ныряют), «выходят щипать травку на берегу озера» и пр. и пр.Впрочем, в конце отзыва рецензент несколько смягчался и отмечал, что в рукописи «есть просто и ясно написанные страницы», что «некоторые вставленные в рукопись словечки, фразы, сообщения о самом себе явно изобличают литературную опытность автора». Но едва ли я тогда нашел хотя бы даже слабое утешение в скупой похвале. Лавина грозных, карающих слов, право, была сродни горному обвалу… Уж и не помню, каким образом у меня под мышкой оказалась злосчастная рукопись, как я вообще выбрался из тесного и душного редакторского кабинета… Самое же прискорбное для меня заключалось в том, что рецензия была написана не кем иным, как Соколовым-Микитовым — моим негласным вдохновителем в странствиях по родной «теплой земле»[3]. Я был ошеломлен, подавлен. Но боль распаленного авторского самолюбия не затихала, молодая горячая кровь по-прежнему палила лицо — и я в порыве досады и обиды позвонил Ивану Сергеевичу. Я наговорил ему много злых, оскорбительных слов и старался не вслушиваться в тихий и кроткий увещевающий стариковский голос: «Поостыньте маленько… Не горячитесь, ради бога…» Теперь я со стыдом вспоминаю свою бездумную горячность, тем более что все критические замечания Соколова-Микитова впоследствии были учтены мною и сослужили, как говорится, добрую службу в доработке рукописи и пополнении ее новыми повестями. Но тогда я не оценил всего блага отеческой порки, которую учинил мне старейший писатель России, охотник и натуралист, наконец, просто человек, обладающий бесценным жизненным опытом. Тогда-то мне было невдомек, что строгий к себе правдолюбец не терпел ни малейшей фальши в других, что ценность каждого прочитанного произведения он, прежде всего, рассматривал с позиции знания автором жизни, без чего, как известно, любое художество становится лишь назойливым украшательством.
IV
Январь 1963 года. Зимняя Ялта — воистину зимняя! Выпал снег, напластался на крутобокий Дарсан, погасил румянец черепичных крыш, надел белые чехольчики на кипарисы — и вот уже целую неделю держится стойко, победителем, побратавшись с морозом. Я живу в Доме творчества, но привычный ритм работы нарушен. Ведь снег для Ялты — нечаянный небесный подарок! Поэтому я с радостью брожу по заснеженным улочкам, глубоко вдыхаю бодряще-колкую свежесть и попутно делаю записи в неразлучном блокноте. Вот некоторые:Скучающие курортники играют в снежки с ребячьим задором. Студеное море, окатывая пеной и брызгами набережную, навешивает на фонари, на кусты магнолий ледяные серьги. Десятиградусный мороз, снежный покров в десять — пятнадцать сантиметров — сущее бедствие для птиц. Их стаи с голодным писком мечутся вдоль побережья. На пустынном пляже немало выброшенных окоченелых чирков. В нагорном парке Дома творчества, среди сосен и лавровишен, бродит, прихрамывая, с суковатой палкой, Соколов-Микитов, разбрасывает на снегу хлебные крошки — подкармливает черных дроздов. А то вдруг палкой разворошит под снегом лиственный настил, где укрылись гусеницы: дескать, слетайтесь, други милые, питайтесь!..Да, в Доме творчества живет Иван Сергеевич Соколов-Микитов. С тех пор как я видел его, старик заметно сдал: в плечах усох, лицом посерел, отчего только пронзительней стала снежная белизна короткой бородки, усов. К тому же и сейчас ему недужится. Он частенько покашливает, в столовую приходит в мохнатом шарфе. Но все та же спокойно-раздумчивая пристальность в его взгляде — признак мудро пожившего и много повидавшего человека. Я здороваюсь с Соколовым-Микитовым, а в душе замираю от совестливого страха, что он в конце концов признает в вежливом молодом человеке болезненно-самолюбивого автора и взглянет на него с гневным укором или осуждающе покачает своей великолепно лобастой головой, которая теперь, при усохших плечах, и вовсе кажется мощной, сократовской. Правда, я надеюсь, что хворому Ивану Сергеевичу сейчас не до любопытства, да и утешительная мысль приободряет: ведь он же ни разу не видел меня и, поди-ка, напрочь успел позабыть о моем существовании. Однако все случилось иначе. …Стоит хмурый, тепленький денек. С кипарисов ломтями отваливается снег. По каменистой лестнице, спускавшейся от столовой к главному корпусу, сбегает с прискоком, с пришлепываньем мутная талая вода. И оттуда же, сверху, как бы завороженный весенним потоком, сходит в галошах, пристукивая палкой, Соколов-Микитов в развевающемся шарфе, с непокрытой головой, очень бодрый с виду, кажущийся даже великаном снизу, от подножия лестницы, где я стою и замираю то ли от недоброго предчувствия, то ли от все того же неизбывного совестливого страха. Но Соколов-Микитов, точно разгадав мое смятение, вдруг останавливается. Взгляд его, только что устремленный на меня, переносится вдаль, на серые, как и небо, туманно-зыбкие горы. — А вы знаете, Юрий Фомич, — произносит он глуховатым, трудным голосом, — там буки гибнут… Я вздрагиваю, краснею… и верю и не верю, что это именно ко мне обращается Иван Сергеевич дружески, доверительно, совсем как к старому знакомцу. — Читал, читал вашу статью[4] в защиту природы, — между тем продолжает великодушный старик. — Да-а, там у нас, под Ленинградом, Кобринская роща редеет, здесь, в Крыму, лесные исполины один за другим выбывают из ратного строя… Мы разговорились. Я рассказываю Ивану Сергеевичу о своей давней поездке в Крымские горы, об Алуштинском заповеднике, где, слава богу, вековые буки находятся под надежной охраной, о том, как спускался с Никитского плоскогорья неподалеку от холмистой вершины Роман-Кош, к побережью, да потерял тропку и в отчаянии ринулся вниз по крутосклону в предательски-скользкой слежавшейся хвое, хватаясь за корявые стволы сосен, чтобы притормозить невольный бег, пока вдруг не повис над скалистым обрывом, ощущая подмывающее веянье гибельной пустоты под собой… — Э-э, да вы бывалый человек, погляжу я, — удовлетворенно замечает Иван Сергеевич. — Нечто подобное и со мной приключилось в Закавказье… От гор тянет сырым ущельным ветром, потом начинает сеяться дождик, а мы продолжаем свой разговор, как два равноправных завзятых путешественника, и он чудесно сближает нас и, не в пример ветру, развеивает давний сгустившийся туман, какой нередко наслаивается в человеческих отношениях. — А вы того… заходите вечерком на чашечку чая, — приглашает Иван Сергеевич. — Милейшие детгизовцы прислали только что изданную книжку «Звуки весны», так я вам и надпишу ее на память… Не знаю, мучился ли старик излишней резкостью своего приговора моей рукописи, или же просто тут проявился незлобивый характер русского человека, но он первым протянул мне, во сто крат неправому, руку примирения и дружбы.
V
Конечно же я схватил только некоторые черточки в облике Соколова-Микитова, но если бы, предположим, воедино собрать все устные рассказы многочисленных друзей Ивана Сергеевича — его спутников на охотничьих тропах или во время рыбалок, то, видимо, тогда обрисуется многогранный и очень цельный характер. В житейском обиходе, как, например, рассказывал мне один литератор, Соколов-Микитов был мягким, деликатным человеком («Слова бранного от него не услышишь»). Но однажды мальчишки прямо на глазах его разоряли птичье гнездо. И гнев преобразил Ивана Сергеевича. Его аккуратная бородка вздыбилась, усы растопорщились («Этакие иглы-пики!»), а кончики бровей задергались. Больше того, старик, словно ему воздуха не хватало, широко открыл рот… и вдруг окатил маленьких вихрастых разбойников крепчайшей, отборной руганью. Да, Соколов-Микитов не терпел ни малейшего надругательства над природой, был не только ее певцом, но и верным стражем.VI
В 1966 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга «Хождение за три моря», продолжающая в географическом плане предыдущее повествование о Волге — «Верхневолжье». Отважившись, я послал новую книгу на суд Константина Федина. Вскоре он отозвался письмом, где, между прочим, были и такие строки:Я недавно пожил в Карачарове, и было приятно встретиться с упомянутыми в «Хождениях…» Свердловом, Плосками, Конаковом, Корчевой. Посередке между ними — хата Ивана Сергеевича. Вы, судя по книге, бывали у него. Нынче впритык к его усадебке вырос дворец-люкс в самом модернистом духе. Неизвестно, долго ли еще продержится Ив. Сер. на правах одно-дворца-единоличника — не съедят ли его многозначительные соседи? Впрочем, не в этом теперь горе-беда Соколова-Микитова: болен он — ослеп, и не стало больше надежды на прозрение. Тяжко видеть его беспомощность.Тут необходимонекоторое уточнение: в «хате» Ивана Сергеевича я так и не побывал, несмотря на его приглашение перед отъездом из Крыма. О чем сожалею и по сей день. Но этот старейший писатель России, продолжатель аксаковских и пришвинских традиций в отечественной литературе, творец простых и ясных, воистину хрестоматийных произведений о русской природе и русском человеке, постоянно возбуждал во мне острое, тревожно-пристрастное внимание, как любимый мастер в прилежном ученике. Я внимательно следил за появлением каждого его нового произведения — будь то короткие рассказы-миниатюры о дореволюционной смоленской деревне, напечатанные в «Новом мире», или же пространный очерк о болотистом верхневолжском крае в журнале «Звезда». Зимой 1969 года мне посчастливилось побывать в Переделкине у Константина Александровича Федина и стать свидетелем выражения его трогательного товарищеского чувства к Соколову-Микитову. — Вот-с, взгляните, — сказал Федин и протянул мне газету «Вечерняя Москва». — Иван Сергеевич, будучи слепым, творит, пишет!.. Слагает гимны милым пичужкам России, и в этом он, поверьте, прозорливее многих, для кого родная природа — лишь место праздного отдыха, кто душой слеп, но кому все-таки рано или поздно придется встать на ее защиту. За ужином Константин Александрович, со свойственной ему неутоленной и, я бы сказал, горьковской пытливостью к человеку, расспрашивал о моем житье-бытье, о родителях и, узнав, что отец мой — уроженец смоленского края, но что я так и не побывал на его родине, в Монастырщине, воскликнул: — Сейчас я покажу вам «юбилейное» письмо друга! Удивительное это письмо. В нем беспредельная искренность сочетается с волнующей поэтичностью, оно все дышит любовью к человеку и отчему краю.
Как забыть наши душевные долгие разговоры? — пишет Соколов-Микитов. — Случалось, мы проводили ночи в лесу у охотничьего костра, с восторгом слушая симфонию наступавшего утра. Охотились на волков в глухом непролазном Бездоне. Охотничья наука тебе давалась не сразу, и ты подчас удивлялся моему «уменью» метко стрелять, разбираться в лесных путаных стежках, отчетливо различать голоса птиц и зверей. Тебя изумляли наши смоленские мужики, удивляла деревня, переживавшая крутые переходные времена. Ты навсегда запомнил лесную речку Невестницу и речку Гордоту (как хорошо, как трогательно звучали их имена!), тихий Кисловский пруд, в котором мы ловили в «норота» золотистых жирных линей, очень похожих на откормленных поросят. …Тебе, наверно, памятны имена и клички кочановских мужиков и баб, забавные, порой как бы с усмешкой звучавшие названия смоленских сел и деревень: Кочаны, Кислово, Теплянка, Вититнево, Желтоухи, Подопхаи. Ты запомнил «дядю Ремонта», нашего деревенского бессребреника пастуха Прокопа, его приемную дочку Проску с трагической судьбой шекспировской героини. И уж, наверное, помнишь деревенскую красавицу Таню, на которую мы любовались. Для тебя и для меня это была подлинная, не показная, не выдуманная Россия, Россия полей и лесов, народных песен и сказок, живых пословиц и поговорок, родина Глинок и Мусоргских, вечный и чистый источник ярких слов, из которого черпали ключевую воду великие писатели и поэты, а терпеливые ученые составляли бесценные словари. …Там, на речке Невестнице, где я некогда писал мои шуточные «Былицы», в лесной деревеньке Кочаны, в моей скромной «келье», обитой еловой корою, ты дописывал свой первый роман «Города и годы», там же зачиналась твоя книга «Трансвааль».
* * *
Той памятной зимой у меня была возможность повидать и Соколова-Микитова: он жил уже в Москве, на проспекте Мира, и К. А. Федин написал мне наиподробнейший адрес своего друга. Но то ли я постеснялся беспокоить старейшего писателя, то ли приспела пора отъезда, но Ивана Сергеевича я тогда не проведал. И теперь уже никогда не проведаю… Но мне, как и прежде, открыт путь к нему через книги его, в которых живет душа «очарованного странника» и певца бескрайней родной земли.1975
ТРИ ВСТРЕЧИ В БОЛШЕВЕ
I
В 1952 году в Подмосковье стояла ранняя, почти без заморозков весна. Дачный поселок Болшево с утра до вечера был обласкан солнцем. На липах вздулись, закраснели почки — этакие крохотные угольки, готовые вспыхнуть зеленым пламенем. Среди бурых травянистых оклочьев, особенно на припеке, острилась молодая сочная травка, и почему-то хотелось сорвать ее и пожевать. А снега уже не было и в помине, несмотря на первые апрельские денечки. Неширокая в здешних местах речка Клязьма давно успела опрозрачиться после короткого, но буйного паводка и если временами мутилась, то лишь от сточных вод, которые сбрасывал старенький, закопченный заводик на противоположном берегу. В лучах весеннего солнца особенно были заметны и змеистые трещины на колоннах, и обитая штукатурка на фасаде Дома творчества кинематографистов. Его вот-вот собирались поставить на капитальный ремонт, но совещание начинающих киносценаристов помешало этому. Сюда, в Болшево, слетелись из многих краев обширной страны молодые прозаики и драматурги, дабы постигнуть тайны киносценарного искусства. Здесь и тихий, застенчивый башкир Анвер Бикчентаев, и улыбчивый, щуркий киргиз Касы-Малы Джантошев, и белорус Андрей Макаенок — резкий в движениях, с волевым лицом, в неизменно белой льняной рубашке с узорчатой вышивкой на вороте, на груди, и молдаванин Федор Пономарь, чернявый, словно весь какой-то обугленный, с рубцами от ожогов на щеках: в войну он едва не сгорел в танке… Стремительное знакомство в первый же день, чувство мгновенного товарищеского единения, даже братства, — вот что поражало! Каждый «семинарист», как мы шутливо именовали себя, непременно избирал в соседи по комнате человека другой национальности, ибо все мы были собратьями по перу, детьми одной матери — советской литературы, и всех нас чудесно роднил общий друг — русский язык. Мне помнится, что худенький, с длинной жилистой шеей, грузин с гортанным голосом Реваз Джапаридзе, автор интересной повести «Вдова солдата», жил в комнате с темнолицым таджиком Джалолом Икрами, у которого всегда спокойно, матово светились крупные карие глаза и движения отличались мягкостью, каким-то плавным изяществом. А весело-грубоватый, со степной распахнутостью души, украинец Петро Лубенский поселился вместе с литовцем Алексисом Балтруносом, сдержанным, немногоречивым. Как сейчас вижу Марику Бараташвили: задумчивая, она легко, неслышно, будто в грузинском танце, движется по песчаной дорожке в черном пальто среди черных деревьев парка и сливается с ними вдали… До сих пор как бы слышен мне хрипловатый смешок белорусского, уже в годах, прозаика Макара Трофимовича Последовича, а от смеха сотрясается над его высоким морщинистым лбом клок желтовато-седых волос… Памятен мне и детский писатель Юрий Сотник: во-первых, потому, что он единственный из всех ходил в летнем, ослепительной белизны, полотняном костюме, а во-вторых, по причине своей задиристости в спорах с начинающим писателем Георгием Лезгинцевым, статным и курчавым, ходившим в кителе горного инженера, ибо он был срочно вызван из Восточной Сибири, где добывал золото, а теперь намеревался «извлекать золото из словесной руды», по словам того же насмешника Юрия Сотника… Участниками семинара молодых киносценаристов были также белорусы Иван Громович и Алексей Кулаковский, москвичи Валентина Осеева и Лев Устинов, ленинградцы Никодим Гиппиус и Георгий Трифонов (последний заканчивал сценарий о спортсменах «Большой заплыв»), молдаванин Яков Кутковецкий, туркмен Гусейн Мухтаров, украинец Олесь Ковинька — самый, кстати, старейший из «семинаристов» и самый, пожалуй, жизнерадостный: он сотрудничал в сатирическом журнале «Перец»… Если говорить о себе, то я, автор двух сборников рассказов, вчерне написанной повести о плавании на самоходке по Волго-Балту, прежде и не помышлял об освоении нового и, по всему видно, весьма трудоемкого жанра, но ехал в Болшево с благой надеждой приобщиться к нему. Поселился я вместе с Борисом Бедным. Этот крепыш с округло-добродушным лицом, но с твердо выдавленным на нем подбородком, уже поседелый, несмотря на молодые годы, с грустинкой в темных, глубоких глазах, сразу как-то понравился мне своей деловитостью, внутренней дисциплиной. Проснувшись, я всегда видел его за письменным столом, у окна, в которое еще с прищуркой заглядывало туманно-сонливое солнце. Сидел он по обыкновению в трусах и в майке (видимо, сразу после физзарядки) и писал зло, упрямо, с каким-то вдохновенным ожесточением. О Борисе Бедном я уже был наслышан. Он дебютировал в литературе большим рассказом «Комары», очень емким по насыщенности жизненного материала, по сути дела повестью, в которой досконально и с впечатляющей образностью описывались первые шаги на лесосплаве молодого инженера Воскобойникова. Рассказ был напечатан в «Новом мире» — критики и читатели восторженно приняли его. Затем «Комары» вышли в серии книг библиотеки «Огонька» вместе с другими рассказами — «Государственный глаз» и «В конце месяца». Это случилось незадолго до открытия семинара молодых киносценаристов, и Борис Бедный подарил мне свою первую книгу с трогательной и отчасти ироничной надписью — ирония вообще была свойственна его доброму таланту. В Болшеве Борис заканчивал сценарий по рассказу «Государственный глаз», потихоньку поругивал привередливого режиссера, но все-таки с упрямством отчаяния продолжал делать бесчисленные варианты, хотя уже производил впечатление человека замученного, порабощенного, даже, пожалуй, лишенного права полного авторства, так как режиссер (не помню его фамилию) привносил в киносценарий много «отсебятины». Лекции по киноискусству нам, «болшевским семинаристам», читали известные режиссеры и сценаристы, критики и теоретики в области кино И. Пырьев, Г. Рошаль, М. Роом, Г. Александров, М. Блейман, Е. Помещиков, Ю. Райзман, Г. Фиш, И. Вайсфельд, Н. Коварский; намеревались встретиться с нами и причастные к кино в большей или меньшей степени Леонид Леонов и Константин Симонов; шел слух о том, что приедет к нам и Александр Довженко. Все мы, конечно, с нетерпением ожидали приезда знаменитых писателей — и наконец эти праздничные дни наступили.II
…Огромная веранда, далеко, как мыс, выброшенная в зеленеющий парк. В приоткрытую дверь врывается теплый ветерок, щебет птиц, солоновато-вкусный запах весенней дышащей земли. Перед «семинаристами» четко прорезается в солнечных лучах легкая, стремительная фигура Константина Симонова. Он выставил перед собой стул, держится за его спинку, а одну ногу, согнутую в коленке, положил на мягкое сиденье и мерно покачивается — в такт плавно струящимся словам. Чувствуется, что К. М. Симонов, руководящий работник в аппарате Союза писателей СССР, привык часто выступать с трибуны, и в данном случае обыкновеннейший стул уподобился ей. В сущности, Симонов — не сценарист. С помощью кинорежиссеров он лишь экранизировал свои произведения, в их числе пьесы «Парень из нашего города», «Русские люди», «Жди меня», роман «Дни и ночи». Жанр киносценария — это, пожалуй, единственный жанр, обойденный им, писателем разностороннего дарования, в тот период творчества[5]. «Семинаристы» с интересом слушают сравнительно молодого, но уже широко известного литератора. Своим блистательным началом «на заре туманной юности» — стихами и поэмами — он как бы доказал скептикам-критикам, что для каждого истинного природного таланта нет возрастных канонов, что возмужание таланта происходит соразмерно возмужанию писателя как человека, если только он находится в гуще современных событий. …Мерно льется речь, напоминая длинные словесные периоды в недавно опубликованном романе Симонова «Товарищи по оружию». Мерно покачивается стул, а с ним и фигура нашего собеседника. Да и вообще от Константина Михайловича веет спокойствием, даже, пожалуй, бесстрастностью: видимо, частые выступления в людных аудиториях стали для него докучливой, хотя и терпимой, обязанностью. Разве изредка он встряхнет гладко зачесанными от висков, вьющимися на затылке волосами с ранней сединой или двумя пальцами — большим и указательным — проведет сверху вниз по своим аккуратно подбритым в виде треугольника усикам. Я слушаю Константина Симонова под торопливое шуршание карандаша стенографистки, на которую тот быстро, властно взглядывает матово-черными глазами — каждый раз после нарочито замедленно произнесенной фразы, вероятно очень значительной и для самого выступающего, и для его нынешних слушателей, и для тех, кто когда-нибудь прочтет записанное выступление. В общем, К. М. Симонов производит впечатление счастливого, удачливого писателя, «баловня муз»; у него, кажется, и в будущем предопределены одни творческие успехи, ежели опять же судить по спокойно-уверенной манере держаться и говорить с невозмутимой плавностью, говорить — как писать. Но я все-таки излишне пристрастен и потому, видимо, не совсем справедлив. Симонов вдруг совершенно простецким жестом выдергивает из нагрудного кармана пиджака коротенькую трубку, принимается набивать ее табаком из обыкновенной папиросной коробки, а руки его, тонкие, с голубыми прожилками руки, начинают дрожать… Наконец, закурив, затянувшись, прищурив один глаз, другим же наблюдая, как синеватый клубок дыма распластывается в солнечном луче, Константин Михайлович произносит в тревожной задумчивости и выдает глубоко потаенное: — Знаете, мне очень хочется, но я боюсь… да, да, поверьте, боюсь приступить к теме Великой Отечественной войны!.. Наверно, надо, чтоб отстоялись все впечатления. Тогда, возможно, отсеется все мелкое, останется главное… И еще надо дождаться второго дыхания.III
…Идет теплый, спорый, очистительный дождь, после которого обычно трава пускается в бурный рост, деревья и кусты буйно одеваются глянцевитой листвой, а воздух особенно нежно, трепетно голубеет от озона. Пока же на веранде холодновато, сумрачно. Серым и зябким кажется лицо нашего гостя — выдающегося режиссера и кинодраматурга Александра Довженко. По всему видно, он переживает трудные времена. Но вся его нервно напряженная высокая фигура выражает вместе с природной горделивой статью и мужественную готовность бойца выстоять при любых обстоятельствах, перебороть безденежье, презреть немилость временщиков. Медленно, трудно начинает он свой рассказ о постановке кинофильма «Щорс», но мало-помалу чудесной васильковой синью расцветают его невеселые, прищуренные глаза, взволнованно-ярким становится лицо в застарелом степном загаре… К сожалению, я не записывал высказывания Александра Петровича Довженко о многотрудной работе кинодраматурга: было не до карандаша, не до бумаги, когда сидишь точно бы омываемый кипучим потоком слов, подчас резких, ожесточенных, но неизменно смягчаемых южной, украинской распевностью, высветленных в общем-то доброй, отходчивой душой мастера-творца, который ради выстраданных высоких помыслов всегда умеет подавлять в себе личную обиду и боль, причиненную чиновниками от искусства. …Утоньшились облака, проглянуло солнце — и свежим, струистым блеском полыхает в парке каждая весенняя веточка, каждый молодой клейкий листок. Мы, уже духовно приобщенные к бесстрашному художнику, полные сострадательной нежности к нему, провожаем Довженко к служебной машине, а он, растроганный, сам полный к нам заботливой ласки, говорит почти отечески: — Неудачи в кино неизбежны, хлопцы… Вот я написал сценарий об Антарктиде, многое менял в нем, но пока что не добился своего… Важно другое — вера в собственные силы, способность дерзать и устремляться по-орлиному ввысь ради свершения самых высоких творческих помыслов. Если ж этого нет — тогда хоть камнем вниз… Прощаясь, Довженко вконец растрогался: — Так вы, значит, помните меня!.. А ведь я человек, который больше задумал, чем сделал.IV
Не думал, не гадал я, что когда-нибудь встречусь с любимым писателем Леонидом Леоновым! И вот он передо мной — по-молодому стройный, даже изящный, в плотно облегающем, новом, с иголочки, костюме, с этими характерными и памятными по фотографиям непокорными, на обе стороны рассыпавшимися волосами. Круглое и открыто-ясное русское лицо, не притемненное ни одной сумрачной морщиной; крупный прямой нос, по-доброму приютивший редкие, во всю верхнюю губу, усики, хотя они кажутся все-таки чуждыми; серые, спокойно-внимательные глаза, задерживающиеся на человеке ровно столько, чтобы подметить в нем и запомнить какую-нибудь неповторимую черточку, — таков, пожалуй, беглый портрет нашего дорогого гостя. Мы затаили дыхание, ждем, когда заговорит Леонид Леонов и непременно выскажет в первую же минуту что-то мудро-возвышенное, весомое, ибо сам речевой строй леоновских произведений как бы предопределяет подобное ожидание. А он, взглянув на стенографистку, тоже настороженную, но, конечно, по-своему, улыбнувшись ей и как бы улыбкой задабривая, произносит мягким бархатистым голосом: — Записывать ничего не надо. Мне уже довелось побывать под автобусом. Последнюю фразу, разумеется, надо понимать не буквально, а исходя из свойственной Леонову повышенной метафоричности и в том смысле, что слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Несколько разочаровывает и его явно извинительный тон вступления к беседе: — Я, видите ли, не прирожденный киносценарист, на сценарном поприще практиковаться не вознамериваюсь, и ежели моя пьеса «Нашествие» увидела экран, то сие событие свершилось вовсе не потому, что я знаю специфику сценарного дела, а скорей благодаря драматургическому заряду, заложенному в пьесе. Поэтому я поведу свой разговор о драматургии… Здесь Леонид Леонов делает паузу и… вдруг совершенно по-домашнему опрощается, то есть расстегивает пуговицы явно тесноватого пиджака, расслабляет галстук у шеи и тут же широко распяленной рукой захватывает свислые волосы и зачесывает их не хуже, чем гребенкой, к затылку. А я сразу облегченно вздыхаю. Мне уже ясно, что Леонид Леонов не из чувства предосторожности пренебрег стенографией, а именно в силу природной размашистости своей чисто русской натуры, которую, видимо, записи стенографистки так же стесняли бы, как и пиджак. — Итак, поговорим о драматургии, о ее особенностях, — продолжал четко и звучно после паузы Леонид Леонов. — Помните: зритель не хочет сидеть безучастным в зрительном зале. Его можно удержать на месте, если только он является действующим — пускай без роли! — лицом. Он всегда должен быть одним из углов действующего в драме треугольника, который, на мой взгляд, и представляет собой главный двигательный механизм пьесы. В этом треугольнике — автор, зритель, персонаж — один всегда не знает того, что известно двум другим. Раскрытием этой непрерывно возникающей тайны движется конфликт пьесы. Да тут легче, по-моему, без головы остаться, чем вступить в опасную игру без точного диспетчерского плана! Здесь необходимо разъяснение: мысли, которые высказывал Леонид Леонов в беседе с нами, «семинаристами», он затем доверил и участникам III Всесоюзного совещания молодых писателей (январь 1956 года), а вскоре включил свое выступление, под названием «Талант и труд», в собрание сочинений. Поэтому я, не полагаясь на свои торопливые «семинаристские» записи в блокноте… и ради строжайшего соблюдения леоновской лексики, продолжу отдельные, особенно памятные извлечения из последующего выступления писателя: — Мы все еще не слишком хорошо разбираемся в различии литературных жанров. Если, положим, «Иван Петрович пошел в баню» — то это будет проза. Если будет: «И в а н П е т р о в и ч. Я пошел в баню» — то сие считается драматургией. Если же, наконец: «И в а н П е т р о в и ч (нараспев и вприсядку). Эх, мать честная, давно я в баньке не бывал…» — то это будет нечто вроде водевиля с краковяком посередке. Очень воодушевленно и, я бы сказал, с выстраданным беспокойством за младших товарищей по перу говорил Леонид Леонов о языке художественной прозы: — Как часто при чтении произведений молодых авторов читатель жалуется на скудный, порою просто убогий язык! А ведь язык — это каким количеством пальцев ощупать вещь, характер, событие. Язык — это дополнительные ступени вовнутрь страницы, по которым можно сойти и осмотреть изнутри описанное явление. Языком для меня мерится грузоподъемность строки. Он для меня как станок, производящий множество одновременных операций. В драматургии же язык несет особую функцию. Здесь каждая реплика действенна и выполняет, кроме основной, множество дополнительных нагрузок, которых никаким иным образом не выполнишь из-за лимита времени и места. Непонятно мне, почему же не пошли молодежи впрок наши замечательные литературные богатства: кипучего, разящего наотмашь, магического языка Гоголя или языка Салтыкова-Щедрина, который мне представляется симфоническим по обилию звучащих в нем инструментов, или Лескова, который копил словцо к словцу и, ровно Кощей накопленным златом, любовался и пересыпал их в руках. И ведь у многих из вас, молодые люди, было по бабушке, по собственной Арине Родионовне, которая, наверно, немало пересказала вам в зимние вечера из уст в уста, из глаз в глаза, даря вам бесценные золотинки родного языка — в сказках, поговорках, приметах и просто воспоминаниях о своем житье-бытье. Откуда же язык у вас иногда такой серый, скучный?..V
Незабвенная пора «семинарского» ученичества, пусть краткого, но плодотворного! Со временем некоторые из «семинаристов» овладели трудным искусством построения добротного, динамичного сценария и, думается, благодарно вспоминали тех, кто помог приобрести первые навыки. Назову того же Бориса Бедного, который мастерски экранизировал свою веселую, искрометную повесть «Девчата». Хороший сценарий Валентины Осеевой послужил надежной основой создания умного фильма о детворе. Никодим Гиппиус написал сценарий двух кинокартин — «Старожил» и «Удивительный заклад», а кроме того, сценарий о юности Репина. Его земляк, ленинградец Георгий Трифонов, явился сценаристом телефильмов «Мост разводится в полночь» и «Шоссе через лес». Петро Лубенский — тот одарил кинозрителя знакомством с жизнерадостной, озорноватой «королевой бензоколонки» из фильма, созданного по его пьесе, да еще стал одним из авторов кинокомедии об украинских футболистах. А кто не помнит забавного фильма «Стрекоза» и его сценариста Марику Бараташвили!.. Но и те, кому по различным причинам не удалось подружиться с кинематографом, уверен, не посетуют на время, проведенное в подмосковном Болшеве. Там мы впервые познали чувство товарищеского единения и увидели вместе с весенним цветением земли новые добрые всходы молодой советской многонациональной кинодраматургии.1952
РОМАНТИК ОСТАЕТСЯ РОМАНТИКОМ
Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Константином Георгиевичем Паустовским в Ялте — и поздней осенью, и зимой, когда Дом творчества почти пуст. Но не только благодетельной тишины искал здесь певец Черноморья, не одна память о молодых скитаниях по Крыму влекла его сюда в преклонные годы. Здешний целительный воздух манил писателя, задыхающегося от астмы. При первом же взгляде мне запомнилось резко вылепленное лицо Паустовского: сухой нос с горбинкой, с чутко вздернутыми ноздрями, летящие к вискам брови, похожие на изломистые крылья, узкие, но твердые губы среди поперечных крупных складок-морщин. И конечно, печально запомнилась темная, нездоровая желтизна всего лица; навсегда остались в памяти карие глаза — пристально-строгие, почти не мигающие, с золотистыми точками в глубине зрачков, словно там что-то хотело вспыхнуть, разгореться — и не могло. Вообще при первом впечатлении Паустовский показался мне мрачноватым и неподступным человеком, сосредоточенным на одних своих недугах. Но вот один из знакомых литераторов вовлек меня в общую беседу, а там вскоре я и не заметил, как превратился в жадно-внимательного слушателя. Сидя в плетеном кресле, под бесстрашно зацветшим миндалем (был февраль), Константин Георгиевич принялся рассказывать о своих многотрудных поисках дома или даже одной его половины, дабы прочно обосноваться в Крыму. Весь рассказ его был насыщен забавными приключениями, множеством метко очерченных характеров и сдобрен юмором весьма своеобразным — каким-то замедленным, когда произнесенное комично-хлесткое, словцо лишь спустя несколько секунд точно бы взрывается в сознании на множество осколков-смешинок. И мы, конечно, смеялись без удержу, непрерывно. А Константин Георгиевич хоть бы улыбнулся! Сидит нахохленный, поглядывает на нас исподлобья, и голос его, некогда, видимо, сильный, густой, звучит надтреснуто, вяловато. Но приглядишься — в карих глазах уже раздулись золотистые точки, лучатся иронией и над участниками этой житейской истории, и над самим собой — горе-приобретателем. Тогда же я, помнится, отметил про себя, даже втайне подосадовал, что в художественных произведениях Паустовского юмор куда менее ощутим, чем в его устных рассказах. Но тогда же, вдоволь насмеявшись, я проникся сострадательной грустью: под зацветшим миндалем сидит, в сущности, медленно умирающий человек и шутит над своим неумением купить дом, который мог бы продлить ему жизнь в благословенной Ялте! Константин Георгиевич вообще любил общаться с людьми, особенно с литературной молодежью, и был трогательно добрым, участливым к ее всегдашним треволнениям. Вот поселился в ялтинском Доме творчества студент литинститута, худой, бледный юноша с растрепанными волосами… да и с чувствами тоже, пожалуй, растрепанными. Само собой, он тут же стал изливать перед нами горькую обиду на редакторов, не признающих его стихи, и в конце концов стал декламировать их завывающим голосом. А стихи были хотя и напористые, но — «под Маяковского». Мои знакомые, прозаик и поэт, мигом метнули в эпигона-подражателя критические копья, критика вскоре перешла в язвительную насмешку. Бедный студент едва ли не плакал… И тогда-то внезапно раздался трескучий кашель. Оказывается, спинка плетеного кресла скрывала от нас отдыхающего Паустовского, который сам же не вынес своего деликатного молчания и до удушья взволновался таким судом-разносом. — Это жестоко, — заговорил он, задыхаясь, с хрипом. — Так нельзя, друзья… Чтобы выдать свой сплав в литературе, надо сначала переплавить в тигле своего сердца творческие манеры многих художников слова. От встречи к встрече все ближе мне становился Паустовский как человек (ибо как писатель он давно уже был близок — с первых же страниц «Мещерской стороны», прочитанной мною еще в школьные годы). Однажды в январе выпал в Ялте глубокий снег, долго лежал на земле при крепком морозце, а горные перевалы и вовсе занесло высокими сугробами. Дорожная связь между Симферополем и Ялтой прервалась — продукты в Доме творчества были на исходе. И Константином Георгиевичем овладело деятельное оживление. — Ничего, не пропадем! — приговаривал он, потирая ладони. — Можно будет организовать лов скумбрии!.. Зафрахтуем какое-нибудь суденышко и все до единого, от горничной до литератора, уйдем рыбачить в море! Похоже, в нем вспыхнула давняя страсть рыболова и возникла, как в юности, отрадная тяга к приключениям, к романтике. Он был рад, что наконец-то нарушено монотонное, терпеливое житье на местном Олимпе — горе Дарсан; его творческое воображение воспламенилось… И как же он был огорчен, когда в столовую стала поступать скумбрия, выловленная местной рыбачьей артелью! Известна скромность этого большого художника слова. Транзисторов тогда еще не было — в вестибюле Дома творчества имелся репродуктор для всеобщего, так сказать, пользования. Но он почти всегда безмолвствовал: писатели ценили свое рабочее время, а работники Дома оберегали их труд от малейшего постороннего шума. Как вдруг узаконенный «обет молчания» был нарушен. Дежурная каким-то образом узнает, что по радио будут передавать утром рассказ Паустовского. Она вызывает его в вестибюль, где, кстати, собираются и писатели. Константин Георгиевич, однако, и минуты не прослушал. Вздернутые его брови от висков сошлись к переносью, едва ли не сцепились, придав всему лицу выражение мрачной, насупленной скуки. — Плохой рассказ, — заявил он отрешенно, безжалостно, точно речь шла о чужом произведении. — Он мне не нравится, да и другим едва ли придется по душе. Поэтому я просил бы выключить радио… Я уже упоминал, что Паустовский трогательно-заботливо относился к литературной молодежи. Он охотно делился с нею «секретами» мастерства. Но находились среди начинающих авторов весьма докучливые, безотвязные — им, как говорится, все вынь да по-ложь! Припоминается один из семинаров молодых драматургов в Ялте. Константин Георгиевич в ту пору, преодолевая болезнь, упорно работал над новыми главами многотомной «Повести о жизни». Он редко покидал свою комнату; завтраки, обеды и ужины ему приносили прямо к письменному столу. Зато когда приходилось подниматься по лестнице к столовой — отбоя не было от вопросов. Особенно досаждал Паустовскому один долговязый драматург с бесцветными глазами; своим нудящим голосом он всегда спрашивал об одном и том же: «Как же вы работаете, Константин Георгиевич?» Не выдержал больной писатель, но ответил по-своему деликатно, не без юмора: — Работаю я, знаете, не совсем обычно — вокруг кота. — То есть как это? — опешил начинающий драматург. — А вот представьте: сидит на моей рукописи любимый кот, даже не просто так сидит, а дремлет, мурлычет, проказник. Ну мне, конечно, жаль его тревожить, и я начинаю ходить вокруг кота и делать записи на краях рукописи. — Да ведь это же замечательно! — воскликнул простодушный драматург, приняв все всерьез. Кстати, в каком-то из давних номеров «Литературной газеты», в воспоминаниях одного писателя о Константине Паустовском, тоже рассказывалось об этой забавной истории с котом, но подавалась она именно всерьез, а к ней еще присовокуплялось свидетельство якобы очевидцев: будто Константин Георгиевич делал заметки на папиросных коробках «Казбек», на обрывках газет… Верится в это с трудом: последние годы Паустовский все реже отлучался от письменного стола — спешил закончить «Повесть о жизни», следовательно, у него под рукой всегда находился чистый лист бумаги. Теперь — о последней, предотъездной встрече с Константином Георгиевичем. Выхожу с тяжелым чемоданом на асфальтовую площадку перед Домом творчества — здесь кого-то поджидает такси. Неожиданно появляется Паустовский в коричневом берете, в темно-синем осеннем пальто. Он задумчив, озабочен. — Садитесь, садитесь, — поторапливает. — Я вас подброшу к троллейбусной остановке. — А вы куда собрались, Константин Георгиевич? — удивляюсь я, зная его усидчивость, предписанную врачами. — К Чехову, — отвечает сокровенным шепотом. — Сегодня экскурсантов не будет… Похожу один по дому… Быть может, в последний раз… Вскоре астма задушила все-таки Константина Георгиевича. И уже не так тянет в Ялту, словно бы осиротевшую без него. Зато все неодолимее влечет к себе скромный домик в Тарусе, где Паустовский провел последние годы. Хорошо бы побывать в нем, уже домике-музее, остаться там наедине со своими думами о большом советском писателе — продолжателе лучших традиций русской литературы, истинном поэте в прозе, который сохранил лирическую ноту в ее мощном звучании, да и не только сохранил, а обогатил бесценный русский язык светлой и задушевной мелодичностью.1977
ТВАРДОВСКИЙ ПИШЕТ РАССКАЗ
Мила зябкому северному сердцу солнечно-теплая крымская зима! 1958 год. Конец января. Но день за днем ловишь на своем лице зеркальный отблеск доброго моря, ощущаешь губами, как бесконечно ласковый поцелуй, его солоноватую бодрящую свежесть — и это счастье! А от прогретых бокастых гор веет сухим, почти летним ветерком. Голубоватый воздух тонок и прозрачен, словно только что протертое стекло. Даже далекие на западе горы прорезаются неомраченно четко. С балкона Дома творчества писателей, вознесенного над всей Ялтой, во всю ширь разглядишь их прогнутую хребтину с взлетистой и вдруг обрывающейся, как трамплин, зубчатой вершиной Ай-Петри. В Доме творчества — приютная пустынность и тишина, которую обретаешь только зимой. Проживает здесь не более десяти литераторов, среди них Константин Паустовский и Алексей Арбузов, а также мои новые знакомцы — поэт Владимир Гнеушев, критик Владимир Воронов. Дни проходят размеренной чередой, под шорох исписанных листов, и в этой их разумной размеренности — ощущение долговечной незыблемости, радостного затворничества. Наступает февраль — и тоже теплый, солнечный! В парке зацвел миндаль, на южном склоне ближней горы Дарсан распустились ослепительно-желтые крокусы. Горничная приносит целую охапку этих нарядных посланцев ранней весны. Ее приход чудесно совпадает с приездом Александра Трифоновича Твардовского, и она тут же одаривает его праздничными весенними цветами. — Спасибо, спасибо, — благодарит он. — Вы как сама весна. Никогда прежде я не видел Твардовского. Тем более он поражает меня крупной и легкой фигурой, решительными и вместе плавными движениями, которые присущи мужчине, находящемуся в самом расцвете душевных и физических сил. Правда, он прогуливается по парку с сучковатой палкой, но едва ли она служит ему опорой, — скорей всего, это непринужденное средство лишний раз напомнить о близости перевала — пятидесятилетия, о том, что вышагивать теперь можно и без прежней молодой размашистости, а более осмотрительно, мудро, осанисто, что ли… Вместе с Твардовским приехали его жена Мария Илларионовна и дочь Оля. Держится он по-семейному замкнуто, разве в столовой двумя-тремя словами перебросится с Паустовским, а затем, обычно после обеда, куда-то уедет на черной машине — то ли собственной, то ли предоставленной знаменитому поэту местными, ялтинскими властями. Вообще веет от него, живого классика, некоей неподступностью, когда неразлучная сучковатая палка уже представляется посохом патриарха. Сероватым холодком стали отсвечивают его небольшие твердые глаза — не поддаются ласковой голубизне крымского неба. Голос же его отрывист, резковат, хотя, впрочем, в нем можно уловить и мягкие, покровительственные нотки. — Чрезмерно ваше беспокойство, Константин Георгиевич, — говорит как-то в столовой Твардовский соседу Паустовскому. — Новые главы вашей «Повести о жизни» не утрачивают столь счастливо обретенного тона. Так что нелишне вас, приунывшего, напутствовать плещеевскими словами: «Вперед! Без страха и сомненья». Возможно, эти крылатые слова — девиз самого Твардовского. Начиная от первой поэмы «Страна Муравия» его творчество развивалось по восходящей линии. Критическое чутье на свои произведения у поэта, видимо, было предельно обостренное и потому безошибочное. Тем более меня поражает дальнейшее. Не проходит и неделя со дня приезда Твардовского, как манера его поведения заметно меняется Прежние размеренно-степенные движения поэта становятся вроде бы торопливыми. Например, его длинно, упруго вышагивающие ноги уже опережают выбросы сучковатой палки, то есть четкого ритма теперь не получается, — наоборот, происходит явное нарушение «стихотворного размера», если употребить поэтический термин. — Ты заметил перемену в Твардовском? — спрашиваю я у Владимира Гнеушева. — Он явно чем-то встревожен. — Большой поэт всегда наполнен тревогами века, — отзывается Гнеушев. — Возможно, у него возник замысел нового стихотворения или даже поэмы. Тем разговор и кончился. Но вот мы стали замечать, что обычно твердый взгляд серых, «стальных» глаз Александра Трифоновича все чаще делается щурким, точно бы размягченным изнутри какой-то безотвязчивой беспокойной мыслью, да к тому же этот взгляд нет-нет и остановится на наших молодых лицах, и в нем теперь — пытливая заинтересованность. — С чего бы такое внимание? — недоумеваю я. — Ведь прежде взгляд Александра Трифоновича был скользящим. Тогда критик Воронов высказывает предположение: — Кажется мне, Твардовский имеет какие-то виды на нас… И чем дальше, тем больше поведение именитого поэта приобретает черты загадочности. В вестибюле Дома творчества, при входе, находится приземистый столик, на котором обычно раскладывается прибывающая почта. Однажды я замечаю, как Твардовский берет адресованное ему письмо из журнала «Огонек», но берет довольно нерешительно. — Чувствую, поспешил, поспешил, — бормочет он. — Не следовало бы отсылать… А на следующее утро я вижу Твардовского и вовсе взволнованным, даже хмурым. Он только что поднялся по обходной пологой лестнице вместе с шумно дышащим Паустовским и теперь перетаптывается в матерчатых тапочках у дверей в столовую, так же шумно, тяжело дышит. — Нелегка, знаете, дорога, — жалуется он. — И прозаические вершины тоже трудно брать прямо, с ходу. Нужен маневр, обход. — Тогда как же быть с плещеевским призывом: «Вперед! Без страха и сомненья»? — напоминает ироничный, грустный Паустовский. — Ну, Плещеев-то выразился так совершенно по другому поводу… Судя по всему, Александра Трифоновича что-то мучает, его одолевают сомнения. Он теперь часто прогуливается, а точнее, мечется по тесному парку, сердито постукивает палкой-посохом по асфальтовым дорожкам, словно ищет и не может найти тенистого покойного уголка… И вдруг все разъясняется. Ко мне в комнату заходит критик Воронов; в руках у него вдвойне сложенная, довольно плотная, перепечатанная на машинке рукопись — второй экземпляр. — Вот, — объявляет он удивленно-радостно, — Александр Трифонович дал нам почитать свой рассказ «Печники» и попросил начистоту высказаться. Я уже прочитал его, можно сказать, в один присест, у меня сложилось вполне определенное мнение. Теперь ты познакомься с рассказом. Так вот оно что! Оказывается, Твардовского «мучило» рожденное им детище, и он решил или развеять все сомнения насчет его несовершенства, или, наоборот, признать свою творческую неудачу. Признаюсь, я с тем большей охотой взялся прочитать рассказ Твардовского, что он как прозаик был неведом мне. И одновременно я насторожился: окажется ли проза поэта достойна его поэзии? Но уже первая «запевная» фраза настраивает меня на восприятие высокого словесного искусства; от нее веет чем-то классически-хрестоматийным:О печниках, о их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством, — обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.Далее автор повествует о печнике Мишечке, знаменитом, между прочим, и тем, что ел глину, и свидетельствует уже как очевидец:
Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела, как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда.Кажется, речь пойдет об этом кудеснике Мишечке, но нет, автор мало-помалу расширяет повествовательные рамки, усиливая читательский интерес сообщением о добрых и злокозненных чудачествах печников, — о том, например, как вмазывалось где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко, и печь начинала петь на всякие унывные голоса… Это вступление незаметным образом переходит к истории мытарств и переживаний самого автора, когда он, будучи преподавателем русского языка в сельской школе, пытался обуздать крутой нрав домашней печки, сложенной пленным немцем, отчаянно дымившей, так что хоть на улицу беги, под мороз. Повествование развивается неторопливо, основательно; в него вовлекаются расторопная сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор, которые растапливали печь весьма ловко, каждый на свой манер, однако ж печь продолжала отчаянно дымить, вся квартира учителя уже напоминала черную баню — и становится понятно, почему из нее бежали все прежние постояльцы. Забавная вроде бы история с печкой перерастает в драму, особенно когда мы узнаем о скором приезде из города молоденькой жены учителя и его ребенка, когда автор делает горькое признание: «От плохой печки можно в короткий срок постареть». Впрочем, к чему я пересказываю содержание рассказа? Теперь он опубликован, и читатель сам может стать сопереживателем учителя-автора и довольно-таки зримо представить пластично выписанных наиглавнейших героев рассказа — и майора из райвоенкомата, доброхота-печника, который при улыбке исподволь прикрывал рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины, и конечно же Егора Яковлевича, отставного железнодорожника, самого надежного искусного мастера печного дела, человека с длинным, строгим лицом нездорового, желтоватого цвета и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой, с тяжелыми кистями рук, похожих на рачьи клешни, таких впечатляющих при тщедушном теле… Этот-то, в сущности, обыкновенный человек, едва соприкоснувшись с любимым делом, становится вдохновенным поэтом, только свои певучие, долговечные строфы он складывает из веских и стройных строк каменной кладки, приговаривая: «Талант должен быть у человека один». Вероятно, найдется критик-исследователь, который раскроет секреты мастерства Твардовского при создании образа современного Левши, точнее — продолжателя его тончайшего кружевного искусства, поэта-печника Егора Яковлевича, и одновременно расскажет о том, как в этом характере широкого национального размаха отразилось извечное трудолюбие русского народа, завещанная потомкам страсть вершить любое дело как высокое художество. Очень взволновал меня рассказ Александра Твардовского; я перечитал его дважды, наслаждаясь музыкой слова и дивясь авторскому умению поэтично рассказывать о вещах, казалось бы, сугубо прозаических, самых что ни есть житейских и тоже возвеличить их до степени высокого искусства. …Пока рассказ ходит «по кругу», я часто замечаю в прищуренныхглазах Твардовского притаенную тревогу. Да и вообще он, словно обыкновенный начинающий автор, чья рукопись находится у придирчивого литконсультанта, охвачен чутко-нервным ожиданием или приговора, или похвалы. Это душевное беспокойство понятно мне; оно сближает с Александром Трифоновичем общностью и своих когда-то пережитых творческих тревог. И хочется подойти к нему и сказать от всего сердца: «Хороший рассказ вы написали! Большое вам читательское спасибо!» Но я робею почему-то… Наверно, все-таки потому, что с всесветно прославленным писателем надобно разговаривать как-то на особинку, без пылкой восторженности читателя, а скорее всего — со спокойной и мудрой доказательностью, на какую я, взволнованный, сейчас просто неспособен: для меня если произведение хорошо, то оно и хорошо, и тут, собственно, архикритические разговоры ни к чему!.. Между тем погода во второй половине февраля начала портиться. С севера наползают серые, студенистые тучи, и видно, как они, истаивая под южным солнцем, сливаются с гор в приютную ялтинскую долину подобно мутной, пенистой воде. А вскоре и вовсе занепогодило — сквозь ущельные лазейки прорываются холодные ветры. Тучи уже бурно клубятся и надолго гасят солнце. Над черепичными крышами, над остриями кипарисов, над потемневшим морем летят лоскутья мокрого снега… Вчера уехал Алексей Арбузов; запомнилось, как, садясь в такси, он крепко, враз обеими руками, прижимал к груди оранжевый портфель, где, вероятно, хранилась новая пьеса. А сегодня с натужным гулом, наперекор глинисто-бурым потокам, взбирается по асфальтовой крутизне к Дому творчества черная машина. Паустовский, закутанный в плед, оповещает свистящим, придушенным голосом: — Твардовские уезжают… По неписаному закону всех оставшихся постояльцев мы провожаем Александра Трифоновича. Он пожимает нам руки. И вдруг я слышу обращение к себе: — Ну что же вы, Помозов, так и не высказались о моих «Печниках»? Я начинаю что-то выборматывать, но, боясь показаться вовсе смешным, собравшись к тому же с духом, выкрикиваю явно в искупление своего прежнего робкого и долгого молчания: — Да ведь это же замечательный рассказ!.. И в то же время это не совсем рассказ! Где-то он переходит в очерк, а потом — в повесть, как это случается в самобытной русской прозе, не всегда признающей жанровые рамки!.. А проще говоря, это раскованное, свободное повествование!.. Твардовский на миг задумывается, тут же улыбается и уже с сиденья, из приоткрытой дверцы машины, заглядывает мне куда-то глубоко под ресницы светлыми, очень светлыми глазами…
* * *
Когда, вернувшись в Ленинград, я рассказал знакомому критику о встрече с Твардовским, он усомнился в правдоподобности сильного волнения знаменитого поэта при ожидании отзыва о своем рассказе — и от кого? — от молодых, если не начинающих литераторов. Да, признаться, и мне самому подумалось: уж не преувеличил ли я все «переживания» Александра Трифоновича? Но вот мне довелось прочитать опубликованные дневники последних лет Михаила Пришвина, его записи во время работы над рассказом «Заполярный мед». Трудно поверить, что взыскательный, многоопытный мастер слова в свои восемьдесят лет с неуверенностью начинающего автора сомневается в удаче одного из лучших своих рассказов, а между тем это так. 22 ноября 1950 года Пришвин записывает в дневнике:Вечером у меня собрались послушать «Полярный мед». Читалось тяжело, и, прочитав, я сам объявил, что затея моя не удалась.Наступил 1951 год — и вновь сомнения:
Все выправил, подчистил, подскреб в рассказе «Заполярный мед». Хочу попросить Тарасенкова[6] прочесть его, скажу, что рассказ приготовлен на конкурс «Огонька», но боюсь его отдавать, опасаясь провалиться с ним.Да, истина остается истиной: перед читательским судом все равны — и великие, и малые; всех охватывает тревожное волнение, то скрытое, то явное. И только прилежный ремесленник, лишенный взыскательной совести, остается холодным и безучастным к мнению Читателя.
1959
СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
I
Председатель собрания объявил: — Слово предоставляется Сергею Венедиктовичу Сартакову, секретарю правления Союза писателей СССР. Из-за стола президиума упруго поднялся коренастый, плотный человек и привычно быстрой, деловой походкой, припадая на носки, с силой отталкиваясь ими, подошел к трибуне и сразу словно бы врос в нее, тоже плотную, коренастую… Собственно, это было не выступление. Сергей Венедиктович Сартаков познакомил ленинградских писателей с изменениями в уставе Союза писателей СССР, ответил на некоторые вопросы, улыбнулся на чью-то реплику — и опять занял привычное место за столом. Эта четкая, спокойная деловитость, особенно после затяжных речей отдельных литераторов, любителей словопрений, произвела очень отрадное впечатление. Подкупала вообще манера Сартакова держаться на трибуне. Казалось, он с той же домашней непринужденностью, с какой обычно делятся новостью с близкими товарищами, поведал и нам важную новость. После собрания мне довелось познакомиться с Сергеем Венедиктовичем, посоветоваться с ним насчет издания своей «многотрудной» книги о Волге, более того, заручиться его помощью. И я как-то сразу проникся доверием к нашему гостю, отныне уже москвичу по прописке, одному из руководителей Союза писателей СССР.II
Спустя пять лет после нашего знакомства в Ленинграде, то есть именно в январе 1973 года, я повстречал Сартакова в Ялте — во время его так называемого «творческого отпуска». Увидеть Сергея Венедиктовича можно было лишь в столовой Дома творчества: он много и, видимо, с неутоляемой жадностью писал, что, впрочем, и неудивительно после освобождения, пусть даже временного, от служебных обязанностей. — Великолепно здесь, в Крыму, работается! — воскликнул он. — Не понимаю, почему вы, ленинградцы, там у себя киснете в зимней сырой мозглятине. А здесь вы и под солнышком отогрелись бы, и в море теплом покупались бы. Да, да, непременно теплом! Ведь в Ялте действует прямо под открытым небом довольно-таки обширный бассейн, куда закачивается, где и подогревается морская ласковая водичка. Я выставил веский довод: Литфонд не очень-то охотно выдает путевки со скидкой, хотя мог быть чуточку подобрее, учитывая, так сказать, несезонность. Сергей Венедиктович нахмурился, опустил голову и даже плотными плечами обмяк, как бы вновь ощутив служебное бремя. — Тут, знаете, надо что-то придумать, придумать. Негоже, чтобы такой замечательный Дом творчества пустовал зимой! Отблеск крымского солнца угас в глазах Сартакова, и я пожалел, что стал невольной причиной его озабоченности. Мне захотелось поскорей вернуть ему наверняка трудно обретенное состояние творческой возбудимости и отрешенности от всех побочных дел. — Над чем вы работаете, если не секрет? — спросил я. — Пишу роман, — с живостью отозвался Сергей Венедиктович. — О революционере Дубровинском, верном ленинце, к сожалению рано умершем и мало, очень мало кому известном. Но я побывал в местах его ссылки, разыскал бесценные материалы о нем и попытаюсь… вырвать эту светлую личность из тьмы забвения. Помолчал, а затем прищурился пытливо, чуточку насмешливо: — А над чем трудитесь вы после жарких баталий с издателями? Мне было известно, что Сергей Венедиктович выполнил свое обещание — посильно помог в издании книги о Волге. Я поблагодарил его и так ответил на его вопрос: великая русская река продолжает неуклонно течь к Каспию, значит, будут и новые книги о ней, да путь-то длинный и потому жди впереди и перекатов, и штормов. — Да, да, всякое будет впереди! И тут важна направленность творчества, надежность избранного повествовательного фарватера. Сам Сергей Сартаков работал в Ялте с предельной самоотдачей, хотя, конечно, его подхлестывал не только этот почти непрерывно дующий с моря ветер, — подхлестывала неизбежность скорого отъезда в Москву, необходимость возврата к служебным обязанностям, когда уже будет не до романа. Однако сибирский характер и тут сказался — ему явно хотелось вырваться из комнатных стен и соприкоснуться с живой жизнью. Однажды, когда мы уже отобедали, Сергей Венедиктович сказал мне: — Знаете, в Ялте, где-то на окраине, вблизи речушки Учан-Су, проживает любопытный человек — самородок, изобретатель в области световой энергии. Адрес у меня имеется, так давайте-ка сейчас и отправимся к нему. А о потерянном времени заранее не сожалейте: возможно, вам еще придется в каком-нибудь своем новом произведении иметь дело с ученым, который, кстати, почему-то нам, грешным, всегда представляется этаким старичком с чудинкой, даже вовсе человеком не от мира сего, а в действительности может оказаться совершенно другим, то есть именно таким, каким и должен быть в жизни, а не в книгах. Я с радостью принял приглашение Сартакова. Мы наискосок, срезая петли нагорного шоссе, спустились к остановке, сели в автобус и поехали на городскую окраину, затем сошли вблизи какой-то древней, пылящей на ветру глинистой стены, спросили у встречного старика, несшего в обеих руках бутыль с вином, название необходимой нам улицы, а после того, как он взмахнул ковыльно-длинной бородищей в сторону бренчавшей в каменьях речушки, направились к ней и, выйдя на береговые, опять-таки пылящие глиняные взгорья, побрели вдоль выбеленных домиков под черепицей, мимо сложенных из камней оград, откуда подобно иссохшим костлявым рукам устрашающе выбрасывались искривленные побеги виноградных лоз с раскосмаченной и мертвенно шелестящей на ветру блекло-серой кожицей… Изобретатель находился дома — похоже, встреча была условленной, и он поджидал Сартакова. По крайней мере, они встретились непринужденно, без всяких неловких вступительных слов, и сразу деловито прошли в жарко нагретый солнцем дом (а быть может, даже и отопленный дополнительно выжатой из небесного светила энергией, как невольно подумалось мне, почтительно и робко вышагивающему за изобретателем). Это был уже седой, с красным то ли от загара, то ли от возбуждения лицом, очень подвижный человек, а сейчас, при встрече гостей, еще и суетливый. Он мигом усадил нас на стулья в белых, провинциально-чистеньких чехлах, около неказистого столика, на котором не было даже клеенки, — видимо, демонстрационного столика, — и начал с небрежной ловкостью фокусника расставлять на нем какие-то пластмассовые кубики, прозрачные и матовые стеклянные палочки, лампы самых причудливых форм, металлические колпачки и, наконец, выставил перед нами, чтобы вовсе уже ошеломить, целый прибор с затейливо-пестрыми кнопками и выпуклыми круглыми глазками. После этого он завесил окошко черной тряпицей, выкрикнул с петушиной звонкостью: «Внимание!», тут же щелкнул кнопками — и все то, что находилось на столе, вмиг ликующе засветилось в сумраке. «А теперь я, заметьте, отключаю!» — провозгласил он торжественно и опять щелкнул, но все предметы продолжали стойко пылать заряженной энергией, и я почувствовал на щеках приятное пощипывание колких лучиков… Эффект был поразительный — мы сидели потрясенные или, правильнее сказать, ослепленные, а изобретатель конфузливо бормотал: — Знаете, при полной тьме все выглядело бы эффектнее… Так что вы уж извините… Нам попозднее надо было встретиться… Затем изобретатель стал образно, вдохновенно, сам как бы светясь в сумраке своим накаленно-красным лицом, рассказывать о солнце, о беспредельном его могуществе и ничтожно малом использовании солнечной энергии человечеством, в то время как все его кубики, стеклянные палочки, лампы и колпачки продолжали невозмутимо, сами по себе, гореть, наглядно свидетельствуя, что зато уж сам хозяин этого дома с лихвой использует даровой небесный свет. Мы с интересом слушали ялтинского чародея, потом всю дорогу обменивались впечатлениями. — А заметили вы, Юрий Фомич, — вдруг обратился ко мне Сартаков, — что в этих подчас провинциально безвестных ученых и изобретателях горит святая, пожизненная преданность выстраданной идее, пусть даже и ошибочной, что ради нее они пошли бы и на самосожжение? Их и жаль, но им и поклоняешься. Ведь если бы каждый в своем деле излучал столько чистейшей бескорыстной энергии, над миром давно бы засияло второе бессмертное солнце! …Наступивший февраль грозил мне серьезным испытанием. Как и обычно, съехались на семинар в ялтинский Дом творчества молодые драматурги со всех уголков страны. Все комнаты отдавались в их распоряжение; тот же из писателей, кто задержался здесь по разным причинам, должен был немедленно выехать и искать пристанище в гостинице. Такая участь и меня ожидала — я каждую минуту ждал внушительного стука рослого, молодцеватого директора Дома творчества и все, помнится, выходил на балкон и окидывал прощальным взглядом приютный городок внизу, под горой, белые вспышки волн в далекой синеве моря, пассажирский теплоход и рыбачьи сейнеры в гавани, зубчатую вершину Ай-Петри среди развеянных облачных косм — там, вероятно, бушевал сильнейший ветер… Вдруг в дверь постучали, я открыл ее в тревоге… и увидел Сергея Венедиктовича. — Вы не волнуйтесь, работайте, — успокоил он. — Я все уладил… Вы теперь в некотором роде неприкосновенная личность. Помолчал, переминулся с ноги на ногу, затем — резко, в упор, с прищуркой: — Как вы смотрите на то, чтобы изобретатель выступил перед «семинаристами»? — Замысел превосходный! — одобрил я. — В таком случае я обо всем договорюсь, а вы уж, голубчик, доставьте ученого мужа и все его приборы в целости-сохранности. Вот так Сергей Венедиктович! И о моем душевном спокойствии, и о духовном насыщении «семинаристов» озаботился — опять себя дал знать широкий и масштабный сибирский характер! Между прочим, выступление изобретателя состоялось, он был в «ударе» и особенно убедительно продемонстрировал свои опыты в темном кинозале, о чем свидетельствовали дружные аплодисменты взыскательных слушателей — и «облученных», как в шутку отметил жизнерадостный прозаик и драматург из Калмыкии Алексей Балакаев. В конце февраля, то есть незадолго до завершения работы семинара, в Дом творчества приехал представитель Министерства культуры СССР, элегантный, приветливый и… находчивый. Он, в частности, уговорил Сартакова, как секретаря правления Союза писателей СССР, сказать напутственное слово молодым драматургам. Вскоре было вывешено объявление, солидно, крупными буквами оповещавшее о встрече с С. В. Сартаковым как именно с официальным лицом участников семинара. После обеда молодые драматурги собрались в кинозале. Стоял непривычно серенький для Ялты денек. Сквозь ближние кипарисы в припыленные окна процеживался зеленовато-тусклый свет. Пришлось зажечь лампы. Сразу стало уютнее. Да и сам Сергей Венедиктович держался как-то по-домашнему просто. — Я хочу вам рассказать, — заговорил Сергей Венедиктович, — о том, как из меня… не получился драматург. Начало было ошеломительное! А Сергей Сартаков, четко прорисовываясь своей великолепно круглой, мощной головой на белом полотне экрана, стал, похоже, с удовольствием повествовать о написании едва ли не в отроческом возрасте пьесы о золотоискателях, о своих мытарствах с ней, о вспыхивающих и тут же угасающих надеждах на постановку… — С тех пор, — заключил Сергей Венедиктович, — я поклялся никогда больше не писать пьесы, и вот уже облысел, а клятву свою держу крепко. В кинозале стояло неловкое молчание, только слышалось ерзанье «семинаристов». А Сергей Венедиктович зорко осмотрелся и стал преспокойно говорить уже о другом — об истории создания своих широкоизвестных повестей и романов «Не отдавай королеву», «Философский камень», «Хребты Саянские», поделился впечатлениями о том, как разыскивал материалы к новому роману, который пока условно назван «А ты гори, звезда». Рассказывал он увлеченно, но все-таки ощущение возникшей вначале неловкости не проходило. Но вот вечером, прогуливаясь по парку, напоенному приторно-сладким запахом цветущего жасмина, я услышал голоса: — К чему поведал Сартаков о себе как несостоявшемся драматурге, до сих пор не пойму! — Да что ж тут непонятного? Наверняка среди нас есть драмоделы или попросту неудачники — те, кто из самолюбия, из упрямства будет влачить тяжкую ношу. Вот Сергей Венедиктович и предостерег очень умно от такой зряшной маеты, дал понять, что, может, мне, к примеру, или кому другому следует овладеть иным жанром, как более свойственным его художнической натуре. …Между тем наступала пора отъезда. Я зашел к Сартакову проститься. — Счастливого пути! — сказал он. — А ленинградцы пусть и зимой приезжают в Ялту. Я уже думал, прикидывал и нахожу, что стоимость путевок в зимний период можно снизить. По крайней мере, я постараюсь этого добиться. Сибирский характер!.. Я его ощутил при своих, пусть редких, зато памятных встречах с хорошим русским писателем и душевным человеком Сергеем Венедиктовичем Сартаковым, да и те, кому приходилось с ним общаться, уверен, были обласканы его чутким, дружеским вниманием, а если требовалось, то и деловой поддержкой, столь необходимой в нашем общем многотрудном писательском деле.1973
Я МОГ УЗНАТЬ ИХ ТОЛЬКО В ЛЕНИНГРАДЕ…
В ПОИСКАХ «ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО ЧУДА»
I
Солнечный май предвоенного года. Сдан последний экзамен по географии — но что же дальше?.. Я, столь нетерпеливо ждавший конца занятий в семилетней школе, заранее радовавшийся будущей своей освобожденности от педантично выверенного, непреложного порядка ученической жизни, вдруг почувствовал, что обретенная свобода не только не тешит мое отроческое сердце, а наоборот — страшит именно отсутствием четко усвоенного распорядка в мыслях и поступках, полной неизвестностью, когда требуется уже самому, без помощи учителей, решать наитруднейшую, да притом еще жизненную задачу: кем же наконец мне, четырнадцатилетнему пареньку, стать — исцелителем людей или врачевателем паровозов (по примеру слесаря отца), художником или писателем?.. Последнее желание все-таки властительнее, необоримее. Ведь я уже напечатал в газете «Ленинские искры» маленький рассказик. Кроме того, я очень люблю читать книги, и обязательно толстые, хотя и не всегда понятные, вроде романа Эмиля Золя «Рим», что давно уже, чуть ли не с младенческих лет, покоится на этажерке и, кажется, одним своим древним, вкусно пахучим кожаным переплетом с неомраченно-золотыми буквами вызывает восторженную жажду чтения. А эта страсть к обладанию книгами?.. С тех пор как начали строить во дворе нашего Крутиковского дома новые сараи и сносить старые, я только и копаюсь на развалинах, среди слежавшегося хлама. Мне уже удалось раздобыть сочинения Пушкина и Лермонтова в издании «Дешевой библиотеки», обугленный том Чернышевского без начала, без конца, жизнеописание Роальда Амундсена, книгу за «Голубым песцом» М. Марьенкова, шестой том Полного собрания сочинений Писемского (издатель А. Ф. Маркс), кудлатую, наподобие нечесаной головы, подшивку «Нивы» за 1889 год, которую к тому же изгрызли мыши… Однако есть и еще одна причина, почему я возмечтал стать писателем. Ровно через каждые две недели — в дождь ли, в снегопад ли — я бегаю к газетному киоску у заводской проходной и с наслаждением покупаю новенькие, насквозь сладко пропахшие типографской краской номера журнала «Ленинград». И вот однажды я увидел на последней обложке портрет Леонида Борисова и был поражен его благородно-сухощавым, даже, пожалуй, изможденным, но прекрасным лицом с большим ясным лбом, как бы отбросившим на обе стороны светлые и длинные жидковатые волосы. А затем происходит нечто чудесное. Летом, живя в пригородной, дачной Карташевской, я встречаю писателя на Красной улице, среди столетних шумливых берез, и тотчас же узнаю его худое, впечатляющее лицо. Но теперь оно кажется еще более сухим, изможденным, как бы подсушенным жарким июльским солнцем, и в то же время еще более выразительным, одухотворенным: узкий подбородок вскинулся, рассекая воздух, тонкие ноздри почти опрозрачились под солнцем и чутко подергиваются, кустистые брови свесились и трепещут, казалось, не от встречного ветерка, а от сквозящего в них взгляда синих, очень синих глаз. Этот взгляд, пристальный и блесткий, зажженный мыслью, устремлен ввысь и, наверно, видит там нечто не доступное ни для меня, ни для других прохожих. Больше того, этот разгорающийся, летящий взгляд словно бы увлекает за собой и все легкое, стремительное тело… Оказывается, в конце Красной улицы, в двухэтажном бревенчатом здании под зеленой крышей, поселились литераторы, и, значит, появление в дачном поселке Леонида Борисова вполне естественно. Однако естественность этой встречи нисколько не лишает ее чудесной прелести. И с той поры все мои возвышенные представления о писателе как бы соединяются в образе одного Леонида Борисова, и страсть к сочинительству усиливается. «Вот бы стать писателем! — мечтаю я. — Пошлю-ка лучший свой рассказ в журнал «Ленинград». И если напечатаюсь, трудная задача сразу будет решена и будущее станет ясным, определенным». Есть у меня рассказ о дачной жизни в Карташевской: поспорили два мальчишки, что не испугаются ночью пробраться в заброшенный глиняный дом у пруда, где будто бы водятся привидения, а как до дела дошло, так оба и струсили — кинулись наутек, приняв бултыханье лягушки в воде чуть ли не за игривый плеск всплывшей со дна русалки… Этот превосходный, с точки зрения автора, «изумительный» по описаниям природы рассказ и отсылается в любимый журнал. Вскоре приходит ответ, не менее изумительный:Здравствуй, Юра! Ты прислал нам свою рукопись и просишь ее напечатать. Однако ты сам же лишаешь нас такой возможности. В твоем сочинении много грамматических и синтаксических ошибок. Ты закончил седьмой класс средней школы и, следовательно, при желании мог бы писать лучше. Научить тебя этому умению писать грамотно, толково и по-русски должна была школа, куда ты ежедневно ходил учиться. Но никто, никакая школа не в состоянии научить тебя писать художественно. Ты сам понимаешь, что нет на свете таких школ, где бы людей учили писать романы, рассказы и повести, где бы людей делали художниками слова. Для этого необходимы природные способности, то, что мы называем талантом. Если нет таланта, то никакая грамотность тебе не поможет; но человеку одаренному, имеющему способности излагать свои мысли в художественной форме, грамотность обязательна. Ты же еще плохо знаешь грамоту, ты еще с трудом связываешь слова в предложения, — значит, тебе нужно думать о том, чтобы учиться русскому языку на «отлично». Ты, например, пишешь: «Ночь сковала природу в страшную таинственность». Сковывают чем-то, а не во что-то. Здесь у тебя уже ошибка, и, кроме того, читатель не видит предмета изображения. Ведь в самом начале рассказа ты говоришь, что лес стоял невзрачный. Однако дальнейшее описание леса противоречит этому утверждению. Помни: самое лучшее не говорить о том, каков человек, лес и поле, а показать и человека, и лес, и поле… Читатель сам увидит изображаемое. Вот ты сказал: «Поле залито бледным светом». И я уже вижу, что ты имеешь в виду луну: дело-то происходит ночью! Но ты совсем напрасно много разглагольствуешь о луне. Это не нужно; я уже вижу поле, залитое бледным светом. Далее ты пишешь: «Деревья качаются». Это ты выдумываешь, так как деревья не могут качаться: они лишь гнутся при сильном ветре и чуть покачиваются при слабом. Кстати, ветер ты называешь невидимым. Это все и без тебя знают; ты лучше-ка изобрази ветер так, чтобы мне яснее была видна погода и все ее особенности. Затем у тебя есть фраза: «Мрак придавал всему окружающему печать тоски». Это у тебя не по-русски сказано. Мрак может наложить печать тоски, но никак не придать эту тоску. И подобных нерусских оборотов в твоей рукописи немало. Ты, кроме всего, много выдумываешь, — следует же быть наблюдательным и хорошо знать жизнь. Конечно, в твои годы еще простительно не знать того, что знает человек взрослый. Но писать ты мог бы лучше, и это зависит от тебя. Значит, больше читай, учись на «отлично», особенное внимание уделяй русскому языку. Без знания языка и талантливый человек ничего интересного и полезного не напишет.Да, это было изумительное, почти отеческое по тону, но сокрушительное по силе убеждения письмо, и подпись под ним стояла знакомая: Леонид Борисов. Так кем же, кем же мне быть, когда рухнула самая радужная мечта?..
II
Кем быть?.. На этот вопрос безоговорочно, решительно ответила война. Я поступил в ремесленное училище при заводе имени Ленина и стал обучаться токарному делу… непосредственно на обточке снарядных донышек. Но юная страсть к сочинительству не угасала даже во тьме и холоде блокадных дней; наоборот, ее только обостряли впечатления всего увиденного и пережитого. Бывало, накину на себя два одеяла да сверх того полушубок погибшего отца и, скорчившись, дыша на окоченелые пальцы, вывожу непослушным пером при моргающем свете коптилки такие, примерно, строчки: «Мороз на улице трескучий, и кровью плещется заря. От солнца ей приказ получен — рождать Седьмое ноября». Во время частых перебоев с электроэнергией я оформлял в училище стенгазету и вдобавок выпускал сатирический листок «Снайпер», который заполнялся моими фельетонами, баснями, частушками. А когда вновь, после голодной зимы 1941/42 года, стала выходить заводская многотиражка «Молот», я дерзнул напечататься в ней. И вот однажды, робея, вошел в двухэтажный домик, где на втором этаже была редакция. Но на большее у меня не хватило смелости. Вместо того чтобы вручить редактору свое стихотворение, воспевающее героический Кронштадт, я подсунул его под дверь и кинулся наутек… Осенью 1944 года я, выпускник училища, токарь по профессии, стал работать… секретарем заводской многотиражки: недоставало тогда опытных газетчиков. К той же поре относится моя попытка написания первых рассказов из блокадной жизни ремесленников, — попытка, на взгляд самого автора, настолько удачная, что он отважился заявиться с рукописью на улицу Воинова, в Ленинградское отделение Союза писателей. Помню, меня, донашивающего тогда черную шинельку с голубыми петлицами, очень ласково встретил один из секретарей писательской организации, Иван Федорович Никитин. Коренастый, меднолицый, чем-то похожий на кузнеца, с бугристыми скулами, притиснувшими к надлобью темные глаза, он поразил меня огромнейшими косматыми бровями, концы которых, право, можно было бы закручивать на палец не хуже, чем усы. И. Ф. Никитин взял мою толстую тетрадку, подержал ее на грубовато-широкой, по-рабочему крепкой ладони, как бы взвешивая весомость всего написанного, и пообещал быстро ознакомиться с рукописью. А затем он стал расспрашивать меня о жизни родного училища (шинель выдала!) и, в свою очередь, рассказал, что в блокаду работал заместителем директора одного из ремесленных училищ и сам думает написать о его учениках рассказы[7], да времени пока не хватает… В положенный день я заявился в служебный кабинет И. Ф. Никитина. Очень, конечно, волновался в ожидании приговора и старался не смотреть на щетинисто-грозные, прямо-таки толстовские брови писателя. А он, прожигая их завесу угольно-черными глазами, озаряя меня разгорающимся добрым светом, проговорил мягко, басисто: «Вижу, вижу по рассказам, что вы, Юра, неплохо обтачивали обдирочным резцом болванки-заготовки. Ну-с, а теперь надобно учиться обтачивать каждую фразу!» Помолчав, улыбнулся, прибавил: «Пошлем вас в литературную студию при нашем писательском союзе. Осваивайте новое ремесло, но только — чур! — будьте в литературе не ремесленником, а вдохновенным мастером слова!» Литературной студией руководил Борис Дмитриевич Четвериков, писатель опытный и человек добрейший. Между ним и студийцами скоро установились товарищеские отношения. После занятий мы часто провожали его до дома, вели по дороге несмолкаемые разговоры о литературе, и громкий, раскатистый голос Бориса Дмитриевича гулко отдавался в затемненных парадных и подъездах, а редкие прохожие и милиционеры с любопытством, даже, пожалуй, с некоторой настороженностью оглядывали его крупную, с легкой поступью, фигуру. Вел занятия Борис Дмитриевич своеобразно — зачастую давал «задание на дом»: описать, положим, утренний рассвет, собственную комнату, какой-нибудь уголок города, а уж по умению схватывать натуру живым глазом и запечатлевать ее словесными штрихами он выявлял творческие способности каждого студийца. И кстати, умел постоять за своих учеников при любом случае. Помню, как однажды в разгар занятий заявился один поэт, одетый в новенькую армейскую форму, человек самоуверенный, скорый на суд. Во время обсуждения стихов бывшего фронтовика Владимира Зотова (он был тяжело ранен под Синявином), незваный гость, литератор-профессионал, неоправданно резко и с каким-то снобистским высокомерием критиковал стихи начинающего поэта. Борис Дмитриевич заволновался, стал по обыкновению перекатывать карандаш между большим и указательным пальцами. Наконец и вовсе не выдержал — поднялся и, ощетинивая черные, густые брови, дал суровую отповедь этим наскокам. Вообще нашу литературную студию «тайком, дабы не уронить свой писательский авторитет», как посмеиваясь и, похоже, не без удовольствия отмечал Б. Д. Четвериков, посещали многие литераторы-профессионалы — должно быть, стосковались за годы войны по шумным литературным сборищам. Но часто они приходили по просьбе самого Бориса Дмитриевича и с великой охотой выступали перед студийцами. Тогда я впервые увидел и запомнил Веру Инбер — худенькую, остроносую, бледнолицую, с крутым валиком белых волос надо лбом, который и вовсе казался льдисто-холодным, словно она до сих пор не оттаяла со времен блокадной стужи. Но вот хрупкая женщина заговорила звонким распевным голосом — и светлые глаза ее вспыхнули весенней голубизной, в движениях появились плавность и сила сдержанной энергии… Припоминаю занятие, посвященное новелле. Как сейчас вижу нашего гостя — Михаила Зощенко, веселого, любимейшего читателями рассказчика. Но, странно, его бледно-матовое лицо, с проступающей на лбу и на щеках болезненной желтизной, печально, неподвижно, словно маска; разве только на кончиках губ, сдавленных глубокими морщинами, подрагивает тихая и грустная ироническая улыбка да перекликаются с ней большие и темные, где-то в уголках смеющиеся глаза, будто они уже подметили что-то забавное в окружающем мире, пусть еще суровом, военном, но вот-вот готовом распахнуться для улыбчивых шуток… В ту пору ученичества я вновь увидел Леонида Борисова. Плечи его заострились, и черный заношенный пиджак болтался на них, как на вешалке. Сплющилось, словно бы в тисках голода, лицо, да таким и осталось — пергаментно-сухим, с втянутыми щеками. По-знакомому свисали волосы, но казались уже незнакомо яркими от седины. Как будто бы прежней синью отсвечивали глаза, хотя, приглядевшись, можно было заметить легкую задымленность в зрачках — след пережитого… В отличие от спокойного и печального Михаила Зощенко, Леонид Борисов весь был насыщен нервной энергией, поражал своей напружиненной фигурой, резкими жестами, гибкими и цепкими пальцами, которыми он вдруг схватывал свой колючий, плохо выбритый подбородок — и задумывался, затихал… чтобы снова взорваться. Не помню подробностей тогдашнего выступления Леонида Борисова, но отчетливо запомнилась его счастливая отрешенность, когда он произносил самые прекрасные, восторженные слова о родной русской литературе, о любимых писателях — Пушкине и Лермонтове, Блоке и Александре Грине, Стивенсоне и Жюле Верне… Он уже точно не замечал своих слушателей — взгляд его опять, как и при давней встрече в Карташевской, казался летящим, устремленным, наверно, в ту заветную даль, где возможно было хоть на миг соприкоснуться с душами великих творцов. И вдруг мне подумалось: «Должно быть, эту восторженную любовь к литературе Леонид Борисов не только вынес из неразлучных спутников-книг, но еще и выстрадал в холоде блокадных ночей, когда наверняка растапливал печурку какой-нибудь очень и очень дорогой книгой и оплакивал ее жгучую смерть безутешно, как гибель самого близкого, родного существа». И еще подумалось: «Этой-то трепетной и стойкой любовью к литературе поддерживалась при голоде жизнь в иссохшем, щупленьком теле!»III
Я бережно хранил довоенное письмо Леонида Борисова и за время долгого своего ученичества в литературной студии успел взлелеять честолюбивое желание — предстать перед ним в новом, что ли, качестве, даже, пожалуй, щегольнуть своей грамотностью, показать что-нибудь из напечатанного в заводской газете «Молот», ибо напечатанное, по тогдашним моим наивным понятиям, уже как бы заранее ограждало автора от разносной критики и, наоборот, вызывало всяческое уважение к его словотворчеству. Леонид Борисов сразу же после окончания войны стал работать литконсультантом в журнале «Звезда». И вот однажды я пришел к нему в мрачноватый кабинет с узким, чуть ли не единственным оконцем, — пришел с солидной ледериновой папкой, где хранились газетные вырезки с моими стихотворениями, и среди них было, как мне казалось, самое лучшее — «Родина». Лампа с зеленым абажуром вырывала из натекших вечерних сумерек, из вязкой завесы папиросного дыма резкий профиль Леонида Борисова. Он сидел за письменным столом, точнее — припал к нему грудью в порыве вдохновенного усердия и, положив один сухонький кулачок на другой, утвердив на этой живой подставке острый подбородок, буквально в упор въедался своим немигучим, прямо-таки инквизиторским взглядом в рукопись. А рядом, в тени, весь сжавшись, сидел автор, лобастый, застенчивый детина, и глаза у него были прикрыты… — Что ж, неплохо, вовсе даже неплохо! — вдруг воскликнул Леонид Борисов, резко откидываясь от стола к спинке стула. — Но не забывайте о подтексте! Как у лисицы, да, впрочем, и у любого пушного зверька, плотность подшерстка повышает ценность меха, так и в художественном произведении подтекст придает прозе особую крепость и выразительность. Одним словом, избегайте прямолинейности и обнаженности, иначе вы скоро наскучите читателю. Он ведь, читатель-то, любит и сам додумывать, домысливать, если автор схитрил — недосказал кое-что, а вы, словно не доверяя ему, поводырствуете и разглагольствуете без удержу. Настал мой черед — я протянул Леониду Борисову стихотворение «Родина». Он прочитал первую строфу, и сейчас же в его потемневших синих глазах вспыхнули колкие звездочки, которые, право, напомнили мне, блокаднику, разрывы зенитных снарядов в ночном небе. — «Родина, с какою силой нежной я люблю размах твоих дорог», — повторил он и фыркнул обиженно: — Ну почему же любовь к Родине надо выражать с дорог, да еще с их размаха?.. — А вы читайте дальше, дальше! — загорячился я, привскакивая на стуле. — Нет, извините! — прервал Леонид Борисов и с силой пристукнул своим легким кулачком по газетной вырезке, словно поставил на стихотворении клеймо производственного брака. — Нет, читать я дальше не буду! Уже первая строфа свидетельствует, что из автора ничего путного не выйдет. — Но нельзя же судить по одной строфе! — Нет, можно и должно! — сквозь зубы, со сдержанным ожесточением проговорил Леонид Борисов. — Вот послушайте начало одного стихотворения… И он своим резким голосом отчеканил:IV
Дальше, на протяжении многих и многих лет, я не встречался, как говорится, лицом к лицу с Леонидом Борисовым, не разговаривал с ним, хотя и видел его эпизодически, от случая к случаю. Наступили трудные времена в жизни писателя. Леонид Борисов не избежал ударов критической дубинки. Разносу подверглись его повесть об Александре Грине «Волшебник из Гель-Гью» и сборник «Дунайские волны», куда вошли художественно-биографические рассказы о писателях, памятные мне еще по довоенным номерам журнала «Ленинград». Насколько помнится, критики обвиняли Леонида Борисова в вольном обращении с фактами писательских биографий, в излишне больших дозах вымысла, что было бы отчасти и справедливо, если бы за всем этим не угадывался подтекст: «Вы, литератор Л. И. Борисов, отныне и навсегда лишаетесь права выражать собственное понимание творчества Некрасова, Тютчева, Чехова, Мопассана и других классиков; вы должны в будущем опираться на апробированные труды таких-то и таких-то литературоведов, чтобы личность выдающихся писателей освещалась методологически правильно, безошибочно!» К чести Леонида Ильича Борисова, он стойко переносил такие нападки «блюстителей законности» в литературе. Пожалуй, именно тогда он вынашивал замыслы своих будущих блистательных и теперь уже широко известных романов-биографий «Под флагом Катрионы» и «Жюль Верн», не менее известных повестей о Римском-Корсакове и Рахманинове, то есть он шел неукоснительно прямой, ясной дорогой, подсказанной сердцем, он хотел быть самим собой, ибо измена выстраданным убеждениям означала духовную смерть. Да, жилось тогда Леониду Борисову трудно. Однажды я увидел его в магазине «Старая книга» на Литейном. Стояла гнилая ленинградская осень. Он в растоптанных галошах, в мокром стареньком пальто со вздернутым воротником стоял у приемного окошечка и совал туда, как в топку, книгу за книгой, а оценщик, добрый старик с белым клинышком бородки, увещевал хрипловатым тенорком: «Помилуйте, помилуйте, Леонид Ильич! Вы продаете «Гербовник», «Золотое Руно», «Старые годы», да еще за девятьсот седьмой год!.. Это же неслыханная редкость!.. Сочувствую вам!..» Но на лице Леонида Борисова не дрогнула ни одна морщинка. Наоборот, он вскинул подбородок, весь напружинился, как боец, готовый отразить любую напасть. И я устыдился своей невольно возникшей сострадательной жалости… Примерно начиная с середины пятидесятых годов книги Леонида Борисова стали издаваться и переиздаваться большими тиражами и получали в печати неизменно высокие оценки. Оказалось, что образно-глубинное раскрытие облика выдающихся писателей, показ самого процесса их одухотворенного творчества, воспевание их рыцарской готовности служить до последнего вздоха родному народу и Отечеству — все это очень нужно современному читателю, все это находит у него живейший и благодарный отклик. Несмотря на вдруг нахлынувший вал славы, Леонид Борисов оставался все тем же непритязательным в быту человеком — ходил вроде бы в одном и том же сереньком старомодном пальто с воротником, обшитым черным плюшем, в темном костюме, при галстуке, опять же черном. Да и прежним своим привычкам он нисколько не изменил, среди которых была одна, причинявшая многим собратьям по перу беспокойство, — привычка говорить правду в глаза… и вообще быть по-ребячьему непосредственным в выражении своих чувств. За писателем он признавал только одно-единственное право — быть ведущим благодаря мощному излучению мысли в написанных книгах, благодаря захватывающей, убеждающей силе художественных образов.V
С 1962 года я стал часто встречаться с Леонидом Борисовым как с соседом по дому. По утрам, примерно раза два-три в неделю, старейший ленинградский литератор (ему уже было под семьдесят) спешил — в дождь ли, в снегопад ли — к трамвайной остановке. Под мышкой у него неизменно был зажат желтовато-бурый, а местами и вовсе добела вытертый кожаный портфель с двумя безнадежно испорченными замками. Этот видавший виды портфель давно возбуждал во мне самое почтительное любопытство. Однажды при встрече с Леонидом Борисовым на трамвайной остановке я заговорил о его молчаливом, но довольно-таки выразительном сопутчике и даже, помнится, огладил ладонью морщинистую кожу и заржавленный замок. — О, мы с ним не расстаемся, считай, с декабря семнадцатого года! — восторженно воскликнул Леонид Ильич. — Тогда я, представьте, работал в Смольном и очень бойко перепечатывал на «ундервуде» важные документы. Затем — служба в Красной Армии, секретарство у начальника политуправления Петроградского военного округа, лекторство в воинских частях… А где, спросите, был портфель? Да всегда при мне, всегда под рукой! С ним же, родимым, я после демобилизации хаживал на фабрики и заводы, руководил там литкружками. В нем принес первый свой роман «Ход конем» в издательство «Прибой», к милейшему Михаилу Алексеевичу Сергееву, а обратно, этак месяца через полтора, уже уносил авторские экземпляры… Вернее, не уносил, а словно бы летел с ним в обнимку по воздуху! Ибо тогда неразлучный портфель-дружище казался мне, гордому и счастливому, сказочным ковром-самолетом. Тогда я и поклялся ему в вечной дружбе. И, как видите, держу клятву! Мне было известно, что Горький неоднократно отзывался с похвалой о романе «Ход конем»; я спросил Леонида Борисова, встречался ли он с Алексеем Максимовичем. — Как же, как же!.. В двадцать девятом году, в июне, только не помню какого числа, зато припоминаю жаркий солнечный полдень, пыль, топот ломовых лошадей, я и еще шестеро товарищей явились в гостиницу «Европейская», к Горькому. Беседовали долго, около трех часов, но как-то, знаете, беспорядочно. Впрочем, я больше молчал. Мне хотелось по душам поговорить с Горьким, а на людях я стеснялся… Зато весь обратился в слух. И услышал и запомнил на всю жизнь горьковские слова: «Писатель чаще всего и почти всегда работает не тогда, когда он пишет, а когда, на взгляд постороннего, он ничего не делает». Вдали показался трамвай, и я спросил торопливо: — Что ж, вам так и не удалось поговорить с Горьким по душам? — Нет, отчего же! Уже на следующий день я свиделся с ним. Обхитрил личного секретаря Алексея Максимовича и проник в кабинет Горького, а он завтракает… Поначалу, конечно, нахмурился, но потом признал меня, усадил за стол, стал потчевать… Да обэтом, кстати, я собираюсь написать в новой книге!..VI
…Куда же все-таки спешил старый литератор по утрам? В книжные магазины, на поиски «ослепительного чуда» — Книги, той самой Книги, которая, по признанию Леонида Борисова, пришла «в мышиное детство, в бесперспективное существование мальчика из бедной ремесленной семьи», которая «добрым воздействием своим на внешний и внутренний мир мой… воспитала то лучшее, что было заложено во мне в начале моей жизни». Возвращался Леонид Ильич обычно усталый, иногда очень удрученный, но чаще всего — счастливый, с особенно цепко прижатым к груди раздобревшим портфелем, с задорно и как-то по-мальчишески вскинутым подбородком, причем походка его казалась в тот удачливый день на редкость стремительной, а вся легонькая, сухонькая фигурка — летящей. Однажды, встретив меня, точнее — наскочив на меня сгоряча, в съехавшей на затылок кубанке из кроличьего меха (дело было зимой), глядя куда-то поверх голов прохожих, он ликующе объявил своим резким, дребезжащим тенорком: — Сегодня у меня табельный день! Я приобрел, представьте, томик Анри де Ренье, один из восемнадцати, которые продал в войну. Да, да, тот самый! Впоследствии Леонид Борисов подарил мне свой сборник «Родители, наставники, поэты» — пламенную исповедь книголюба, самый, быть может, возвышенный гимн Книге. И там, между прочим, были такие строки:Город на себя не похожий. И не то страшно, что фашисты обстреливают районы и бомбят с воздуха, — не то страшно (говорю о себе и от своего лица), что дают кусочек хлеба размером чуть больше спичечного коробка, и не страшно даже отсутствие воды и света. Страшно другое: жизнь выбита из ритма духовного. Нарушен ритм интеллектуальный. Фашисты, возможно и наверное, предусмотрели и это, и даже в первую очередь. Произошло нечто страшное с моим сознанием — я изменил себе, я предал себя самого. Я беру двадцать — тридцать книг и несу их в лавку писателей. Полученные деньги немедленно отправляю в Галич, куда эвакуировались моя жена и дочь… …В мае сорок второго года к сердцу подступила тоска по чтению. Пришли белые ночи, стали выдавать хлеба по пятьсот граммов. Думалось и крепко верилось, что блокада вот-вот кончится, а там и конец войне, и пойду на вокзал встречать своих родных… Никогда раньше не читал я с таким упоением, с такой душевной радостью, соразмерной счастью… И стихи и проза заново, первобытно звучали в каждом слове, и каждое слово казалось чем-то новым, ранее неизвестным вовсе… Еще сильнее, жарче полюбил я Лермонтова, Блока, Бунина, Пастернака, Цветаеву. Читаешь волшебные магические строфы, а фашист тем временем обстреливает мой район. Дураки, пустышки, да вам ли напугать мой интеллект? Он ведь бессмертен, он в сговоре с бессмертными, мы взаимно посещаем друг друга, а ты думаешь убить меня снарядом из своей пушки… Ну предположим, — убьешь, но в руках моих книга, та, что живет и потом, когда потухнет мое сознание, когда ты жить не будешь, — сколько дней твоему, фашист, веку? Это презрение к врагу с его пушкой помогало и мне, и всем нам, блокадникам, пережить страшные (страшнее ада) дни, месяцы, дни и ночи. Что касается лично меня, то книга еще и еще раз спасла меня. А сегодня я мыслю так: продавая книги, я, в сущности, расставался с оболочкой, с формой, но не с самой мыслью, которую никто и никогда не убьет. Да, жаль изданий «Академии» (в особенности жалею моего милого Анри де Ренье — маленькие томики, их было, кажется, восемнадцать, — сегодня они вовсе не попадаются в магазинах), жаль Сабашникова — он был весь… Но — мне взамен утерянного дали ощущение человека во мне, гордости за то, как и о чем я мыслил в темные дни блокады.Пусть не посетуют на меня за приведенный столь обширный отрывок. Но разве ж не свидетельствует он, вперекор недоброй молве, о мужестве и патриотизме замечательного русского прозаика Леонида Борисова! Разве не в его вере в человеческий разум, в торжество добра над злом отмирающего мира варваров надо искать некоторым скоропалительным на суд критикам ключ к открытию душевной кладовой писателя, который славил в своих книгах выдающихся гуманистов и творцов, который пробуждал в читателе чувство глубокого уважения к ним, а значит, и к своему высокому человеческому предназначению!
VII
Есть люди твердых, цельных характеров, которые в глубокой старости как бы размякают, становятся излишне чувствительными, утрачивают многие драгоценные качества души и даже внешние привычки меняют. Но Леонид Борисов до самых преклонных лет оставался верным своей натуре: так же был резок, крутоват в суждениях, с прежней юношеской воодушевленностью говорил о литературе, не любил многоречивые писательские собрания и держался всегда особняком — не к собственной, конечно, выгоде. Что же касается внешности, то он был из тех людей, которые легко не поддаются годам. Впрочем, с годами лицо его съежилось, утончилось до того, что выделялись на нем лишь сухие и нервные, насмешливые губы да глаза, горящие как-то судорожно, вспышками, глядящие словно бы поверх тебя… И этот взгляд смущал своей отрешенностью от повседневности. Я не раз замечал, как знакомые проходят мимо Леонида Ильича не здороваясь, не раскланиваясь: дескать, не стоит выключать его из мира воображаемых образов! Да и сам я порой поступал так же — и ошибался. Леонид Борисов все видел, все замечал; он вовсе не был затворником, анахоретом, человеком не от мира сего, как судили о нем некоторые недоброжелатели. Он дружил с одним литературоведом, тоже заядлым книголюбом, советчиком и помощником (однажды тот раздобыл редкую английскую книгу о Стивенсоне в самый разгар работы Леонида Борисова над романом об этом писателе). Он приветил молодой, крепнущий талант Николая Внукова, автора увлекательной книги об О’Генри. Он сердечно отзывался о Константине Коничеве: «Это, возможно, единственный знаток побасенок, прибауток, острых словечек мужицкого северного обихода». Не знаю, помнил ли Леонид Борисов свой давний приговор мне: «Из автора ничего путного не выйдет». Но если все-таки помнил (а он был памятлив), то тем дороже его признание: «Читал ваш рассказ в «Нашем современнике». Хороший рассказ»[8]. Поражала скромность Леонида Ильича. К 75-летию писателя в издательстве «Художественная литература» вышел двухтомник его сочинений. Помню, мы шли по Невскому. Стоял жаркий весенний день, около «Пассажа» продавали золотистые мимозы. Я сказал Леониду Ильичу, что издатели напрасно поскупились, могли бы выпустить его сочинения в четырех томах — это было бы для читательской души большим весенним праздником. — Что вы, что вы, голубчик! — Леонид Ильич отмахнулся. — Я и так очень доволен. Ведь было время, когда меня вовсе не издавали. Тогда мне каждая весна представлялась хмурой, зябкой осенью. Не то что сейчас. Прохладный ветерок, веющий из подземного перехода, забрасывал жидкие косицы седых волос на костистый лоб писателя, на глаза — голубые, весенние, но уже устремленные не ввысь, а как бы заземленные, глядевшие в упор на прохожих, словно они хотели выделить из толпы своих друзей — читателей… Незадолго до смерти Леонида Ильича я побывал у него на квартире, причем захватил с собой его давнее письмо, адресованное мне, — захватил не без тайной надежды доставить старику пусть маленькую, но все-таки приятную радость при встрече с прошлым. Письмо оказалось кстати. Леонид Ильич чувствовал себя неважно. Сначала он пожаловался на сердце, потом сказал с придыханием: — Долго не протяну… У каждой жизни свой закат… И утешенья тут ни к чему!.. Если о чем и сожалею, так только о том, что мало времени осталось на перечитывание хороших книг. Красноватое вечернее солнце освещало на стене резной из дерева барельеф хозяина, стеклянный книжный шкаф, ровный строй книг — милых, верных детей, которые переживают своих творцов и всегда остаются молодыми, если, конечно, в них переселилась ясная и мудрая, жизнелюбивая душа художника и мыслителя. — Дочка и внучка на даче, — тяжело ронял слова Леонид Ильич. — Один остался… То есть не совсем один… С книгами! — вдруг воскликнул он тенористо, дребезжаще и палец указательный вверх поднял, словно вызов бросая судьбе, и подбородок колючий вскинул, плечи остро вздернул — весь ощетинился: вот, мол, я каков, меня живьем не схватишь!.. Нужно было снять напряжение этой раздражительности заодно со старческим бодрячеством, и я протянул Леониду Борисову письмо. Он взял его длинными пальцами, приналег грудью на письменный стол и стал читать медленно, старательно, — ведь чтение для него, как и писательство, являлось кропотливым повседневным трудом. — Ишь как я вас! — приговаривал он, прицокивая языком, усмехаясь. — И поделом, поделом! — кивал он головой. — Порка — вещь полезная, а в литературе тем паче. Затем поднялся из-за стола, довольный, отдал письмо, сказал утешительно: — Вашу-то школьную малограмотность еще можно простить! А вот как быть с учеными тетями и дядями? Глянул на меня с прищуркой и сам же себе ответил: — Снисхождение к ним неуместно! Они вот недавно в одной газете написали: «Летайте самолетами». И я поневоле представил, как люди, раскинув руки и ноги наподобие крыльев, парят в воздухе… Но сие им противопоказано, да и просто невозможно. Так я и заявил редактору. А он обиделся… Вообще эти газетные тети и дяди очень обидчивы, когда их уличают в малограмотности. Только, позвольте спросить, кто им позволил калечить русский язык?.. Ловите их с поличным, держите их в страхе божьем! Что, кстати, я и делаю и буду делать до скончания дней своих. Это была последняя моя встреча с Леонидом Борисовым.1973
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ… УЛЫБНУЛСЯ
Впервые я увидел Михаила Михайловича Зощенко в последний год войны, зимой, — он был приглашен Б. Д. Четвериковым, руководителем литературной студии при Ленинградском Доме писателя, на очередное занятие, чтобы поделиться со студийцами, в основном бывшими фронтовиками, «секретами» мастерства. Морозное низкое солнце, врываясь сквозь заледеневшие окна «голубой» гостиной со стороны Невы, в упор освещало его прямую сухощавую фигуру в хорошо отглаженном костюме, но так и не могло высветлить развеселить его болезненно-серое лицо с глубокими провалами на месте щек или хотя бы искорками отразиться в небольших печальных черных глазах — слишком уж печальных для юмориста глазах. Стоя, без всякой жестикуляции, Михаил Михайлович буднично негромким, чуть хрипловатым голосом высказывал студийцам мысли на излюбленную и, видимо, выстраданную тему — о написании рассказов, так сказать, по вдохновению, «нутром», и о создании их с помощью одной «голой техники», как он выразился, то есть во всеоружии художественного мастерства. Михаил Михайлович говорил полчаса… час, а мы, студийцы, всё сидели затаив дыхание, явно заинтригованные. Даже в этом устном рассказе писателя чувствовалась внутренняя сюжетная «пружина» — там проходила внутренняя борьба между авторскими симпатиями к написанию рассказов одним «нутром» (слово самого Зощенко) и, наоборот, при помощи выработанных «технических навыков». Поэтому слушателей волновало: чему же автор отдаст предпочтение? Однако в конце концов он примирил два творческих состояния, сказав примерно так: если вдохновение иссякает, то ни в коей мере не надо ставить успех своей работы в зависимость от него, а нужно сразу же подключать основные приемы-навыки художественной техники и продолжать работу над произведением, добиваясь, чтобы не было «швов» на месте стыков, чтобы рассказ или повесть выглядели монолитными, то есть написанными как бы на одном дыхании. После выступления Зощенко студийцы задавали ему много вопросов. Приведу некоторые из них и особенно памятные ответы. — Почему все-таки нельзя работать одним «нутром»? — Да потому, что при первой же болезни вам придется сложить свое оружие и заняться лечением уже самого натурального нутра. (В зале смех.) — Есть ли у вас, Михаил Михайлович, рассказы, написанные без вдохновения, в упадке, что ли, творческих сил? — Конечно есть. Рассказ «Баня», один из самых любимых мною, до войны изрядно-таки затрепанный эстрадой, характерен в этом плане. Я писал его искусственным путем. Что это значит? Это значит, что я, как рыболов из реки или озера, вытаскивал из записной книжки самонужнейшие слова. Из этих слов тщательно и, признаюсь, мучительно составлялась фраза за фразой. Но литературная техника была уже такова, что искусственные швы, по-моему, не разглядит даже придирчивый критик, не то чтобы читатель. — Значит, записную книжку надо обязательно вести? — Дело это, как говорится, хозяйское. Но весь улов за день, какую-нибудь услышанную хлесткую фразу или меткое словечко, я именно заношу в записную книжку. — Часто ли вы работаете по вдохновению? — Довольно часто. — А что такое вдохновение, на ваш взгляд? — Когда физическое здоровье, бодрость, нервная свежесть в каждой клетке тела, уверенность в душе и сердце в своих творческих силах счастливо сочетаются, когда все мысли подчинены одной творческой цели и, как говорится, теща не мешает (в зале смех) — это и есть, по-моему, вдохновение. Да, при ответах Михаила Зощенко студийцы часто смеялись, сам же он, отвечавший с заученной твердостью, даже как бы предугадывающий вопрос, хоть бы улыбнулся! Его лицо не меняло своего спокойно-вдумчивого выражения; оно ничего не отражало внешне, как не отражает гладкая поверхность пруда глубоко скрытую жизнь на дне. Недаром его звали: «Человек, который не смеется». И невольно вспомнилась суровая биография Зощенко: сражался на полях первой мировой войны, был ранен и отравлен газами; служил после Октябрьской революции в пограничных войсках; затем опять фронт, бои и, наконец, демобилизация по болезни сердца; скитания по стране, работа следователем в уголовном розыске, смена множества профессий… Вот когда он прошел закалку жизнью и, видимо, приобрел эту внешнюю непроницаемость (под которой, похоже, сохранял в священной неприкосновенности и врожденное драгоценное чувство юмора). Но все же мне казалось, что я мог бы поколебать его невозмутимость. Для этого, пожалуй, следовало задать Михаилу Михайловичу всего лишь один мучивший меня вопрос: кто же все-таки поверяет миру грустно-забавные истории — сам писатель-рассказчик или же его герои, в коих он как бы перевоплощается, а иногда и вовсе не делает этого — говорит их грубовато-будничным, корявым языком, хотя тут же называет себя писателем? Такого вопроса я не задал ни тогда, на литературной студии, ни после, при нежданном общении за ресторанным столиком… Случилось это уже в первом послевоенном году. Только что окончилось заседание секции прозы. Мы, начинающие авторы, ко всему еще изрядно проголодавшиеся да и вообще жившие скудно, поспешили в писательский ресторан. Сообща заказали скромный ужин. Как вдруг официантка с лукавой улыбкой выставляет на наш круглый столик три бутылки шампанского, а мы на нее глаза таращим… Спустя некоторое время к нашему кружку подходит изящный, безулыбчивый Зощенко и робко, деликатно осведомляется: — Можно ли присесть рядышком? Мы бурно приветствуем такое желание маститого прозаика-юмориста и ставим перед ним великолепно-древний стул из красного дерева, с высокой спинкой в сплошной резьбе, затем наливаем ему в бокал шампанское. Михаил Михайлович подсаживается, но не пьет и, помолчав немного, обтерев бледные, суховатые губы белоснежным платком, начинает внезапно расспрашивать нас о бытие молодых прозаиков: трудно ли печататься в ленинградских журналах, кто выпустил первую книгу или готовит ее в печать, есть ли среди нас юмористы и сатирики?.. Завязалась интересная беседа. Мы все были тронуты искренней заинтересованностью знаменитого писателя нашей творческой судьбой и долго не отпускали его, пили за его не очень-то крепкое здоровье… Нетрудно было догадаться, что не шибко денежным начинающим прозаикам выставил бутылки шампанского именно он, Михаил Михайлович Зощенко. С той поры я не встречал его много лет. Что же случилось? Всем, конечно, памятно постановление партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором произведения Михаила Зощенко были подвергнуты резкой критике. О крутом переломе в своей жизни после этой критики сам писатель так пишет в автобиографии:В августе 1946 года я был исключен из ССП. За годы 46—52 я главным образом занимался переводческой работой. Было издано четыре книги в моем переводе: 1. М. Лассила. За спичками, 2. М. Лассила. Воскресший из мертвых, 3. Антти Тимонен. От Карелии до Карпат, 4. М. Цагараев. Повесть о колхозном плотнике Саго (в издательствах Госиздат КФССР и «Советский писатель» — Москва). В июне 1953 года я вновь принят в ССП.Летом того же года я и увидел вновь Зощенко в Ленинградском Доме писателя. Он пришел в ресторан пообедать и уселся за столик неподалеку от меня, наискосок через проход. Немало довелось пережить Михаилу Михайловичу, но серое лицо его по-прежнему казалось невозмутимым, только у рта особенно глубоко прорезались складки и резко темнели впадины на месте щек, да и то, пожалуй, потому, что над самой головой писателя горело бра, удлиняя, усиливая тени на лице. Мимо часто проходили знакомые литераторы, здоровались с Михаилом Михайловичем, и он в ответ кивал аккуратно подстриженной черной глянцевитой головой, а сам между тем с каким-то старомодным изяществом продолжал неторопливо и хладнокровно разрезать явно жестковатое мясо. От всей его фигуры веяло выстраданным достоинством и вместе неподступностью. Видимо, трудное для себя время он пережил в одиночестве и сейчас тоже хотел оставаться независимо одиноким, заранее исключая любое возможное сочувствие к своей нелегкой литературной судьбе. Но вот, заметил я, к столу Зощенко приблизился вкрадчивой походкой литератор с длинным, унылым лицом, тут же выпустил на него любезную «дежурную» улыбку, кашлянул в кулачок деликатно, вопросил вежливо, даже как-то приниженно: — Не позволите ли присесть рядышком, Михал Михалыч?.. Зощенко не отозвался, лишь резко наклонил голову, так что все его невеселое лицо накрылось мрачной тенью от бра и само сделалось вконец мрачным. — Тогда позвольте пожать вашу мужественную руку, Михал Михалыч? — не отступал назойливый литератор. Но Зощенко и руки не протянул… даже как-то инстинктивно брезгливо отдернул ее. Впоследствии я узнал, что этот литератор, когда-то считавшийся приятелем Михаила Михайловича, просто отступился от прежнего друга, хотя мог бы и ободрить в трудную пору. Так в тот вечер Зощенко и сидел один. А мне было грустно и больно угадывать его страдающую душу под покровом гордой, неподкупной непроницаемости. Ведь было время, когда эта душа рвалась к людям, к нам, тогда еще начинающим литераторам! Должно быть, именно поэтому мне захотелось в ответном, пусть запоздалом порыве кинуться к Зощенко и сказать ему какие-нибудь утешительные слова… Впрочем, такие слова нашлись сами собой. Я подошел к писателю, поздоровался с ним и произнес непринужденно: — Михал Михалыч, а ведь однажды вы сидели за этим же самым столиком, а мы, молодые прозаики, пили шампанское за ваше здоровье. Зощенко поднял свинцово-тяжелые веки и как бы недовольно, исподлобья, взглянул на меня. Но тотчас же слабая улыбка соскользнула с уголков его дрогнувших губ, и была она подобна бледному лучу усталого осеннего солнца, которое пробилось сквозь туман. — Да, да, — отозвался Зощенко, как бы припоминая давнюю встречу. — Веселая была жизнь… Спасибо за память. Но туман невеселых дум вновь притемнил лицо, и улыбка угасла сама собой… Угасла ли? Нет, она, эта умная и неповторимая зощенковская улыбка, живет! Живет в его книгах, чтобы мягко и ненавязчиво высветить всякие человеческие несовершенства.
1984
С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКУ
Меня познакомил с ним на литобъединении, — кажется, в начале 1945 года, — молодой поэт Лев Егоров, шустрый, с острым носиком человек, коротко, под «ежика», стриженный, часто помаргивающий белесоватыми ресницами. — Это Сергей Воронин, — представил он. — Таежник, изыскатель с Дальнего Востока, а теперь — корреспондент газеты «Смена». На меня быстро и цепко глянули прищуренные темные глаза, потом вдруг горячо вспыхнули, как раздутые угольки, и точно бы обожгли…* * *
В его книге «Думы о жизни», книге во многом воспоминательной, пронизанной какой-то дерзкой, щемящей искренностью, есть и такое признание:«Смена» — молодежная ленинградская газета. Многим обязан я ей, и прежде всего уверенностью в том, что могу писать. Мне дали большой стол с ящиками бумаги, на столе чернильница. Тишина, никто не мешает. Сиди, пиши. Первое время я настолько был увлечен газетной работой, что приходил в редакцию даже в выходные дни, досадовал, что есть праздники…Как я его понимаю! Восемь лет он, изыскатель, ходил по звериным тропам глухой дальневосточной тайги, едва не утонул в бурной, капризной Амгуни, брел с опасностью для жизни по марям-болотам, мерз в пятидесятиградусные морозы, а затем — новые скитания по Уралу, по Кавказу, по Волге, постоянный неуют и тоска, тоска по тихой комнате, по письменному столу, по неомраченно чистому листу бумаги, на котором нет ни капнущей смолки-живицы, ни кровавых пятен от раздавленной комариной гнуси…
* * *
На литобъединении Сергей Воронин дебютировал рассказом «Иван Куличок». В ту пору своего литературного ученичества под руководством Всеволода Александровича Рождественского я, как, впрочем, и многие кружковцы, находился под обаянием рассказов Сергея Антонова — лиричных и весенне-светлых по общему настрою, щедро расцвеченных яркими и всегда неожиданными сравнениями, уснащенных меткими деталями, которые вызывали даже чувство завистливого восхищения и горячили страсть к подражательству. У Антонова, например, в рассказе «Весна» «студеный, как вода, воздух, вздымая занавеску, полился в горницу», «языки во всех лампах враз, ровно по команде, начали подскакивать» (во время пляски), у сеялки «изредка взблескивал, как топор, обод большого колеса, и грачи прыгали сзади как-то наискосок, ровно их сносило ветром…» А рассказ «Иван Куличок» был написан как-то буднично-просто. Ни одного, ну решительно ни одного сравнения, если не считать, что у невесты Куличка, дородной Прасковьи, брови были «густые, черные, словно намазанные углем»! Да и «детализация» тоже не была в чести у Сергея Воронина, — он как бы клал широкие, но явно жидковатые мазки: «Во дворе все было по-прежнему, на своих местах. Всюду лежал снег: и на земле, и на рябине со скворечником, и на перилах крыльца. Там же чернела навозная куча, и белесый пар поднимался от нее в морозное утро». Признаться, эта проза не очень-то убеждала! Мне хотелось бы зримо представить, как лежал снег на той же рябине со скворечником — толстыми, слежавшимися ломтями или легкой, пушистой пеленой; опять же и поднимавшийся вверх белесый пар не создавал картинности, ибо я не видел, да и домыслить не мог — струился он или же вздымался мохнатыми клубами. Но вот что удивительно! Я в то же время рельефно — стоило только прикрыть глаза — воображал щупленького самолюбивого Ивана Куличка и его Прасковью с покатыми плечами, которые могуче шевелились, а главное — глубокой жизненностью веяло от их взаимоотношений, от тех же комично-сердитых потуг демобилизованного Куличка утвердить свою хозяйскую власть в доме: «Баньку сготовь. Слышь? Баньку спроворь без промедленья!» «Так в чем же тогда дело? — недоумевал я. — Автор употребляет самые обыкновеннейшие слова и самые наипростейшие средства художественной выразительности, а впечатления от его незатейливого с виду рассказа таково, что ты и улыбнешься сострадательно, и нет-нет да и слезу смахнешь, будто воронинские герои стали для тебя очень близкими, родными людьми… Так в чем же секрет? — снова спрашивал я себя. — Может, в правде жизни, которая не нуждается в приукрашивании, или же в тонком умении так изображать жизнь, что искусство живописания даже не ощущается?..» Издавна я замечал молчаливое творческое соревнование Сергея Антонова и Сергея Воронина за право крепко, весомо утвердиться в литературе. И возникло оно, думается, сразу после выхода их сборников в Лениздате — выхода почти одновременного, но отмеченного по-разному критиками. Рассказы Сергея Антонова по художественной, подчас изощренной отделке выглядели более притягательными, о них больше и с большей охотой писали, чем о рассказах Сергея Воронина, которые как бы изнутри лучились жизненностью и внешними достоинствами, конечно, не могли поразить с первого взгляда. Помню, оба они, в ногу шагнувшие в литературу, хотели это событие подкрепить и творческим содружеством, то есть задумали совместно написать остросюжетную повесть из жизни партизан. Но соавторство их вскоре распалось: уж больно разные по творческим устремлениям были молодые писатели. Если Сергей Антонов шел к познанию человека и жизни через метко подмеченные детали, то Сергей Воронин прежде всего «отталкивался» от человека и, лишь познав его душу, познавал и детали — признаки окружающего мира.* * *
Наверное, каждый писатель втайне мучается: «Волнуют ли мои произведения, не пишу ли я впустую?» …Рассказ «Мать» Сергей Воронин написал там же, в редакции газеты «Смена», после поездки по Лужскому району. Увлекся так, что забыл об очередной статье в номер, забыл и о косых взглядах Михаила Краснихина, заведующего отделом сельской молодежи. А когда вспомнил, то решил оправдаться перед ним… рассказом. Это было волнующее и скорбное повествование… Василий Митрохин едет с Дальнего Востока к больной матери, совестится за долгую отлучку, везет ей подарки, думает забрать ее к себе, но, приехав в родную деревню, не застает матери в живых и в печали, с внутренним горьким упреком выслушивает о ней рассказ соседки тети Дуни — о том, как она, в сущности очень хрупкая, болезненная женщина, поднимала колхоз на опаленной врагом земле и как ждала сына, томилась разлукой с ним… Внимательно слушал Краснихин, затем молча вышел, долго пропадал где-то, а когда вернулся, опять же молча уселся за стол. Это удивило Сергея Воронина, он спросил: — Что же ты ничего не сказал про рассказ?.. Как рассказ-то?.. — Я ходил матери деньги посылать в деревню, — ответил Краснихин, не поднимая головы, едва слышным голосом… В своей книге «Думы о жизни» Сергей Воронин признается, что такой высокой оценки он «никогда ни от кого не получал, хотя потом рассказов мною было написано не менее трех десятков».* * *
С высоты мудрости, на которую его вознесли прожитые годы, он несколько снисходительно отзывается о раннем своем детище — романе «На своей земле»: — Какой я романист! Положу, бывало, кирпич — вроде бы и хорошо лежит, а как и куда другой класть — не знаю. Отсюда, должно быть, и неуверенная словесная кладка. — Но ведь то был первый роман, — возражаю я. — Можно быть и чуточку поснисходительнее к своим ранним промахам. — Нет, ты уж не мудри, — усмехается Воронин. — В сущности говоря, первый мой роман — это цепь новелл… Рассказчик я. Рассказчик! Но роман уже давно живет независимой от автора жизнью; он теперь вовсе неподсуден ему. Заботы ярославцев, переселившихся на суровую, гранитную землю Карелии, волнуют читателей, особенно тех, у кого тоже много трудностей с жизнеустройством. Интересен такой факт — в Чехословакии роман «На своей земле» был дважды переиздан… и воспринят как своеобразное художественное пособие-руководство в деле переселения словацких крестьян на новые земли.* * *
Показывал мне свои новые снимки, некоторые подарил на память, и вот что меня поразило в них: везде Воронин выглядит по-разному, то есть нет единого сходства в выражении его лица, даже совпадения одних и тех же черт. Это, впрочем, и понятно мне, знающему Сергея Воронина давно, почти сорок лет: он — человек импульсивный и быстрой смены настроений, которые подчас неуловимы для глаза человеческого[9], не подвластны и объективу фотоаппарата. Не знаю, как такая сменяемость настроений отражалась при оценках рукописей во время его работы главным редактором «Невы», но при написании рассказов, думается, способность часто переходить из одного душевного состояния в другое, подчас резко противоположное, была благодетельна. Ведь каждый рассказ требует особой тональности, которую не обретешь, пребывая в одном настроении, — тогда не исключена скучная повествовательная монотонность, один и тот же музыкальный ключ. Но загляните в книгу Воронина «Роман без любви». Вот три рассказа — и три определенных четких ритма: стремительный в одном, раздумчиво-грустный в другом и буднично-деловой в третьем.«Тишина… Только камышевка тоненько, как иголочкой, проколола ее своим свистом. И все! И снова нетронутая тишина… Три часа безостановочно я гнал лодку вдоль тростниковых полей, все дальше-дальше от егерской базы, от стоянок местных рыбаков, дальше, туда, где бы побыть одному, чтобы ни души, никаких разговоров, никаких встреч!»(«Только бы не было ветра…»).
«Да, она всегда к нам, на Север, запаздывает. Но в этом году особенно — вот уже май, а все еще холода. Из-за озера, с его правого берега, тянет сквозной северный ветер. И хоть греет солнце, пробиваясь через мглу нависших над землей туч, но все равно знобко, и деревья, как зимой, сухо стучат голыми ветвями, и нет травы на буграх, даже осота нет, и озеро по-осеннему тяжелое, тусклое, и скворцы куда-то исчезли, и снег еще до сих пор лежит в ямах, и куда ни посмотришь — холодно».(«Весенние раздумья»).
«Человек искал черепаху. Бродил от камня к камню по выжженной земле, кое-где прикрытой серыми колючками. От ног его отскакивали серые, как эта выжженная земля, как эти камни и колючки, маленькие кузнечики. Треща красными подкрыльями, они пролетали несколько метров и падали, сливаясь с землей, камнями, растениями».У него есть настолько поэтичный, насколько и жестокий по драматизму роман — «Две жизни». Главный герой Алеша Коренков, несомненно, несет на себе отсвет авторской личности: его дневники — это как бы дневники самого Сергея Воронина. — Ну конечно же это так, — соглашается Сергей Алексеевич. — Но вот что любопытно! Ныне строящаяся Байкало-Амурская магистраль проходит там же, где я вел до войны изыскания. Какое это было прекрасное и трудное время! А теперь юношеская романтика снова вернулась в те края. И значит, в литературу из глубин таежной жизни придут новые писатели! Связь писательских поколений нерушима. (Кстати о дневниках. Сергей Воронин вел записи день за днем во время изысканий. Только за 1937 год им было исписано тридцать тетрадок. Не будь их — едва ли был бы написан и роман «Две жизни». А ведь дневники не раз тонули вместе с Ворониным в сибирских реках; они, завернутые в клеенку, чудом уцелели в блокаду…)(«Убийство»).
* * *
Максим Горький советовал молодому литератору оттачивать свое мастерство на рассказах, а некоторые писатели из «маститых» вместе с почтенными критиками возвели этот совет в догму: рассказ — первая ступень к овладению литературной техникой, он — истинная лаборатория для прозаика, отправная, так сказать, точка в постижении более весомых жанров!.. Так-то оно так. Но нельзя же рассматривать рассказ как некое вспомогательное средство, подобное, например, бруску, которым вострят косу. Рассказ — могущественный жанр сам по себе, и овладеть им не легче, а во многом даже труднее, чем секретом построения повести или романа. Сергей Воронин — прирожденный рассказчик. Он писал очерки, пьесы, киносценарии, повести, романы, и весьма мастеровито, но все же вновь и вновь припадал к изначальному источнику, вспоившему его творчество, — к рассказу. Он неоднократно внушал мне: — Пиши рассказы! Помни: рассказ хоть и представитель «малой» формы, но и на этой небольшой вроде бы строительной площадке можно разместить большой мир наблюдений, картин, образов. Рассказ по емкости, как ни странно на первый взгляд, может быть соразмерен роману. Если Салтыков-Щедрин создает бессмертный тип Иудушки Головлева на широком полотне, то для того чтобы схватить типические черты «унтерпришибеевщины», Чехову понадобился всего-навсего «лоскуток» — рассказ.* * *
— Надо научиться задумываться над людскими судьбами, — советует Сергей Воронин. — Вот отправился я на Волгу, в один из прославленных колхозов Костромщины, с самой радужной мечтой — воспеть его боевую, оборотистую председательшу, а когда приехал на место да познакомился с ней поближе, то первоначальный план развалился, будто карточный домик. Кроме хороших черточек в председателе колхоза подметил я и такие, как самовлюбленность, как вера в собственную непогрешимость и безнаказанность, как страсть к парадности, фанфаронству — недаром в ее доме стоял на видном месте ее скульптурный портрет! Так возникла повесть «Ненужная слава». — Принесшая, кстати, очень нужную славу автору, — пошутил я. — Не в этом дело, — хмурится Сергей Воронин. — Пожалуй, именно после этой повести социально-нравственные проблемы стали всерьез занимать меня.* * *
Некоторое время мне довелось работать с Сергеем Ворониным в редакции журнала «Нева». — Мы должны знать творческие думы и заботы писателей, — внушал он, главный редактор, мне, заведующему отделом прозы. — Надо послать письма писателям с просьбой ответить, кто и над каким произведением работает, или даже устроить собеседование тут же, в редакции, за круглым столом. Высоко оценил Сергей Воронин острый, проблематичный роман Лидии Обуховой «Заноза». — Отличная проза! Заплатим автору не триста, а четыреста рублей за авторский лист. — Но ведь она, кажется, еще не лауреат, — съязвил Василий Николаевич Кукушкин, заместитель главного редактора, строгий блюститель финансовой дисциплины. — Ничего! — уверенно возразил Сергей Алексеевич. — Писательской манере этой, в сущности, очень больной женщины, ее терпеливой работе над каждым словом могут и лауреаты позавидовать! Если не ошибаюсь, в марте 1958 года главный редактор «Невы» получил письмо от Михаила Шолохова:Дорогой Сергей! Разбирая завал писем после длительного отсутствия в Вешенской, нашел нужду обратиться к тебе за дружеской помощью. Пересылаю тебе, как депутату Ленсовета, письмо Волынцева. Помоги ему в его беде. Кроме того, вручаю в твои руки судьбу высокоодаренного писателя Алексея Черкасова. Прочти отрывки из его романа «Хмель» и, если сочтешь возможным, свяжись с ним и дай человеку дорогу в жизнь. Я не читал романа целиком, но по главам можно судить, что Алексей Черкасов писатель самобытный и интересный.Обе просьбы Михаила Шолохова были выполнены.
* * *
У Ивана Бунина есть высказывание о том, что всякий истинный талант в своем развитии подобен дереву, которое вначале обычно растет медленно, не спеша, исподволь накапливая силы, но затем, надежно утвердившись на земле цепкими корневищами, вдруг с вольной широкой мощью раскидывает всем на загляденье долговечные ветви… Мне думается, талант Сергея Воронина, неприметный в начале его творческого пути, креп, мужал от книги к книге — и вот цепко, надежно утвердился на своей земле, всем видимый издалека, как могучий, широкошумный дуб в степном раздолье, признанный и читателями, и критиками, хотя для такого самоутверждения пришлось воронинскому таланту глубоко запустить свои корни в самые потаенные уголки многообразной русской жизни и вобрать в себя многие горести и радости людские.* * *
Случается, из давнего прошлого, как бы назло смерти, долетает до нас вечно живой голос друга. Вот что, например, Сергей Воронин мог прочесть о своей повести «Ненужная слава» в письме выдающегося советского прозаика и очеркиста Валентина Овечкина своему сыну:Из Москвы привез много рукописей и книг для прочтения перед совещанием, и вот, наконец, попалась одна вещь в рукописи — «Ненужная слава» Сергея Воронина — просто шедевр, чудесная повесть, небольшая, всего стр. 60. Вчера ее прочитал и сегодня проснулся с каким-то радостным хорошим чувством, будто случилось что-то очень хорошее. Вещь заслуживает большого разговора на совещании. Ничего не знаю об этом человеке, что он, кто он, что у него есть, где печатался, или это только начало. Пишу в Союз, спрашиваю о нем. Вещь интересна особенно тем, что совершенно оригинальна по сюжету, характерам, ни на кого и ни на что не похожа, свой голос, и очень крепкий. В общем — радость большая. Дай бог, чтоб это было рождением нового таланта…[10]У писателей, особенно молодых, вступающих в литературу подчас прямо с университетского порога, в моде так называемые «творческие командировки» — месячные выезды в жизнь, стремительные наскоки на героев и скороспелые раздумья над их судьбами. Я не сторонник такого «командировочного» изучения жизни, но все же лучше побыть в дороге месяц-другой, чем отсиживаться на месте, — этак и взгляд притупится, и сердце не встрепенется, видя примелькавшиеся картины. А Сергей Воронин в последние годы, как мне казалось, именно отсиживался то в городе, то на даче, и я дружески упрекнул его в этом. Он спокойно ответил: — У меня такое ощущение, будто я нахожусь в пожизненной творческой командировке. Только я никогда не задавался целью изучать жизнь. Я просто жил среди людей, которые затем сами входили в мои рассказы и продолжали в них жить своей жизнью. — Да, — кивнул я, — так было, когда ты работал изыскателем и, верно, полстраны исходил. Так было и во время войны, на строительстве железной дороги к осажденному Сталинграду… Ну а сейчас? — И сейчас я живу обыкновенной человеческой жизнью, среди людей. Их беды и меня огорчают. Они счастливы — и в моей душе покой. — Но для писателя покой равносилен душевному застою, — поддел я. — Да и что такое счастье, если говорить применительно к нашему брату литератору?.. Например, Чехов, по утверждению Бунина, говорил, что писатель должен быть нищим, иначе он обленится и станет писать хуже, а Короленко, мол, надо изменить своей жене, чтобы семейное счастье и благополучие не лишило его способности вообще писать. — Это как понимать счастье, — задумчиво произнес Воронин. — Вот недавно, живя на даче в своем Соснове, я заколачивал подволок, и тут же, в двух шагах от меня, вертелась внучка Леночка. А я, войдя в раж, бил и бил что есть силы молотком по обрезу крайней доски. Мне и в голову не приходило, что молоток может выскользнуть. Но вот я промахнулся — и молоток, будто его маслом намазали, вырвался и пролетел над самой головой внучки… Ну а если бы он угодил в висок? Я ведь сошел бы с ума от ужаса!.. Да, впрочем, и тогда я был сам не свой. Я понимал, что Леночку уберег лишь счастливый случай. Слезы текли по моим щекам, губы кривила не то улыбка облегчения, не то судорога. А в голове вихрем проносились мысли: «В каком же тесном соседстве находятся жизнь и смерть! Счастье и горе. Их отделяет неуловимая граница, которую ты можешь перешагнуть нечаянно, бездумно, вовсе незаметно для себя». И невыразимая нежность, ласковость к внучке переполнили мое сердце. Я обнял ее, прижал ее шаловливую головенку к своей груди и твердил и про себя и вслух бесконечно: «Какое счастье видеть ее, ощущать ее живое, теплое дыхание!.. Какое счастье, какое счастье!» Спустя некоторое время я прочитал в журнале новый рассказ Сергея Воронина — он так и назывался: «Счастье», и речь в нем шла о недавно пережитом.
* * *
У Сергея Воронина есть рассказ «Без названия» — там очень четко, зримо, убедительно вычерчен образ доброй, любвеобильной женщины. — Да ведь это же чеховская «душечка»! — воскликнул я при встрече с Ворониным, но, увидев его суженные глаза и сомкнутые губы, уточнил: — Современная «душечка». Однако и тогда Сергей Алексеевич ни словечка не проронил. По-видимому, разговор насчет такого возможного сходства, как сюжетного, так и психологического, был ему неприятен. Но при новой встрече он сам заговорил о рассказе «Без названия»: — Ты не так понял. При чем тут чеховская «душечка»? У моей героини запас нерастраченной любви. Она потеряла на войне мужа, недолюбив. И она с душевной щедростью одаривает и лаской и добротой людей. Но не всегда находит у них отклик. По сути дела, она тоже жертва войны. Да, умеет Сергей Воронин «постоять» за свой рассказ!* * *
Михаил Шолохов — любимейший писатель Сергея Воронина. И это душевное расположение к творчеству Михаила Александровича вскоре переросло в глубокую привязанность к нему, как к простому и сердечному человеку. Помню, приходит Сергей Алексеевич в редакцию празднично-счастливый, весь лучится какой-то добротой… И вдруг сообщает мне взволнованно, но тихо, сокровенно: — Вчера встретили Шолохова… Приехал познакомиться с нашим журналом… Судьба его далеко не безразлична Михаилу Александровичу… Есть надежда, что отдаст нам, «невцам», вторую книгу «Поднятой целины»… Потом были и другие встречи — на Дону, в Вешенской. Одна из них запечатлена на фотографии, помещенной в критико-биографической книге Леонарда Емельянова «Сергей Воронин». Задумчивый Шолохов и Воронин, оба в ватниках, в зимних шапках, как бы сродненные одной охотничьей страстью, переправляются на пароме «Дед Щукарь» через Дон, в займище… Но была и еще одна встреча — давняя, нечаянная, но словно бы предопределенная. Произошла она в суровом 1942 году, под Сталинградом, на Камышинской пристани, куда судьба забросила Воронина, строителя железной дороги на левом волжском берегу.И вдруг, словно ветерок, прошелестело оживление на пристани, — вспоминает Воронин в книге «Время итогов». — Я поднял голову и увидал невдалеке группу военных, и среди них могучего сложения генерала Гвоздевского и рядомс ним, небольшого роста, но как-то очень ладно, по-военному сработанного, подтянутого человека. Они прошли, когда до меня донесся голос: — Шолохов! Я даже привстал, не веря тому, что вижу того, чье имя в писательском мире всегда было для меня одним из самых дорогих.Мне кажется, человеческая близость Сергея Воронина к Шолохову не уступала близости творческой. Не только сама жизнь, но, думается, и книги выдающегося писателя учили младшего собрата по перу бесстрашному проникновению в неразгаданные глубины народного характера и мужественно-правдивому показу подчас драматических жизненных ситуаций в таких, например, повестях и рассказах, как «Заброшенная вышка», «Мать», «На трассе бросового хода», «Без земли»…
* * *
Тяжело болел Александр Андреевич Прокофьев. Незадолго до смерти его навестили Дмитрий Молдавский и Владимир Бахтин. Оба были грустные, молчаливые… да и о чем говорить в скорбные минуты прощания, при виде посеревшего лица поэта, его запавших щек. А Прокофьев вдруг непринужденно заговорил о литературе, стал вспоминать друзей — верных попутчиков, единомышленников. Зашла речь и о Сергее Воронине. — Молодец Воронин — писатель с хорошим языком! — воскликнул Александр Андреевич. Сергей Воронин узнал об этом отзыве выдающегося советского поэта спустя многие годы, и возникло такое ощущение, будто голос его долетел из дали лет.* * *
Сам досыта хлебнувший в жизни горького, он стойко привязчив к людям трудной судьбы. Я не раз видел, как мягко, сострадательно теплились его глаза, едва речь заходила о прозаике Леониде Семине, узнике Маутхаузена, чудом вырвавшемся из фашистской неволи. Знал, что он поддерживал его материально, помог ему и при первых шагах в литературе, а впоследствии напечатал в журнале «Нева» роман Семина о страданиях и подпольной борьбе — жестокий, набатный роман. Волновала его и литературная судьба романиста Валентина Пикуля, товарища по литобъединению. — Вот подхожу сегодня к Дому книги, — рассказывал он, — а там длиннющая очередь. Оказалось, продают нарасхват роман Пикуля «Слово и дело». Читатели давно признали его талант, но критика почему-то молчит…* * *
Как материнский укор забытого и утраченного мною, потрясло название вокзала ЯРОСЛАВЛЬ, выведенное по всему длинному фронтону славянской вязью. И с этой минуты, на что бы я ни поглядел, что бы ни слушал, о чем бы ни спрашивал, все в моем сознании проходило через эту старинную вязь, как бы неотступно напоминавшую мне об истории моей земли, о предках, которые здесь жили, готовили эту землю для потомков, в том числе и для меня, и о том, что позабыл я эту землю, оторвался от нее, — хотя вне родины себя никогда не чувствовал. Только родина, внушенная мне с детских и школьных лет, была вся страна — каждый ее клочок, будь то на Востоке, или на Юге, или на Западе, или на Севере. Вся земля, которую я знал и не знал, была моя родина… И как жаль, что не нашлось ни одного человека, который бы научил меня глубоко любить, всегда помнить вот эту землю, по которой я шел сейчас…Это отрывок из рассказа Сергея Воронина «История одной поездки». Очень искренний, самокритичный рассказ! С первой и до последней строки в нем ощутима неизбывно-совестливая боль человека, который ездил по всей стране, был и за границей, а о родине своей, о предках своих вспомнил спустя сорок лет. Читал этот рассказ и ощущал косвенный упрек себе и другим, позабывшим дедовские могилы, отцовский порог. Но через эту совестливую боль ты словно бы и очищался внутренне, вместе с автором… или, по крайней мере, горестно призадумывался: «А так ли я понимаю Россию, как надо понижать, да и понимаю ли ее вообще? Доходит ли до меня глубинный смысл этого слова? Или я просто привык к тому, как им оперируют в нужных случаях, и не задумываюсь над его сущностью?..» Воронинский исповедальный рассказ взывал к патриотическому чувству без всяких громких, призывных слов — через боль раскаяния. Пришел к Сергею Алексеевичу, а он прощается с худеньким, большеглазым пареньком. — Это Петр Железнов, начинающий прозаик. Напечатал первый рассказ в альманахе «Молодой Ленинград». Сейчас повесть пишет. Меня поразили грустно-улыбчивые глаза Железнова, тонкая шея, угловатые плечи и неожиданная крепость его широкой, ухватистой руки при пожатии. Когда он ушел, Воронин продолжил свой рассказ о госте: — Чуваш. И такой весь нервно-трепетный!.. Живет в общежитии. Там шумно, так он устроился кочегаром. В кочегарке и пишет. Способный! Слог у него певучий, взволнованный. Видать, маялся в жизни паренек, душа у него ранимая. А что в душе накипело, то и на бумагу хлынуло…
* * *
Сергей Воронин и молодые писатели — это же целая тема для исследователя! Будучи главным редактором «Невы», он поддерживает и печатает первые произведения Василия Белова, Глеба Горышина, Виктора Курочкина… С его добрым напутственным словом входят в литературу Василий Лебедев, Вера Чубакова, Павел Васильев, Борис Рощин… Прочитав как-то в одном журнале талантливый рассказ П. Краснова «Шатохи», он уже внимательно следит за творчеством молодого прозаика, а когда у него выходит первая книга — отзывается о ней похвально в журнале «Огонек»… Того же Петра Железнова, не имеющего «тихого угла», он поселяет у себя на даче, и начинающий автор, прожив там год в уединении, успевает закончить свою первую книгу, сдать ее в чувашское издательство, но как только возникают трудности с изданием книги, Воронин пишет к ней вдохновенное предисловие — и дорога к читателю автору открылась! В 1978 году, поздней осенью, Сергей Воронин пригласил меня поехать с ним в Пицунду. Он — неистощимый собеседник: весь долгий путь был расцвечен… и забавными и не очень-то веселыми историями, услышанными им, чутким литератором, в самой гуще жизни. Вдруг (это было уже за Туапсе) Воронин спросил: над чем я собираюсь работать в Пицунде? Я поведал сюжет повести о лесорубе-сибиряке, который всю жизнь под корень вырубал леса, нажил радикулит и поехал его излечивать под Актюбинск, в Баркын-Кумы, где, согласно молве, больные зарывались в раскаленный песок. Да ждало тут моего героя великое прозрение: увидел он, как велось облесение Баркын-Кумов, дабы замкнуть их, ползучих погубителей плодородных земель, в кольцо, укротить их буйный нрав. И вот волею обстоятельств мой герой начинает выращивать сосновые саженцы в песках… Воронин едва дослушал мое повествование. Глаза его на миг сощурились, затем вспыхнули, как раздутые огоньки. — Слушай, слушай! — воскликнул он пылко, горячо. — Родной лес гибнет!… А этот неказистый русский мужичок видит, как казахи ведут облесение песков, и плачет, плачет… На глазах Воронина тоже блеснули слезы. Видимо, что-то давно наболевшее всколыхнулось в нем — и полился рассказ, мелодичный и детализированный, пронизанный глубокой печалью… Я давно замечал в Сергее Алексеевиче талант импровизатора — покоряющий и нескудеющий родниковый талант. — Знаешь, родился рассказ! — не удержался я от восторженного восклицания. — Твой рассказ! Садись и записывай его сейчас же! Но Воронин внезапно угас, махнул рукой, отвернулся… Наверно, главное для него сейчас заключалось не в сотворении рассказа, а в том, что он, как человек, как патриот, прочувствовал в своих думах о скудеющем русском лесе.* * *
Лет десять назад он приобрел старый бревенчатый домишко на Чудском озере. Не знаю, как там у него, страстного рыбака, с уловом, но в сети его зоркой, цепкой наблюдательности уже попались интересные человеческие характеры — на этот раз псковитян. Нет конца-края его жадной, но и взыскательной любви к человеку. — Эх, хорошо бы, — признался он однажды, — продать свой домишко и обзавестись новым, теперь где-нибудь на Новгородчине. Да опять же пожить там лет этак с десяток, чтобы заглянуть в самую глубь России. А потом снова куда-нибудь надолго переселиться… Дай бог, чтобы эта мечта неутомимого рассказчика Сергея Воронина осуществилась и познание им народной жизни не знало предела!1945—1978
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Однажды во время выступления Ильи Корнильевича Авраменко на писательском собрании один из литераторов, человек вообще эмоционально взрывчатый, толкнул меня локтем в бок и зашептал восторженно: — Нет, ты только погляди, как красив этот человек! Да, Илья Авраменко был красив. В округлой мягкости его по-южному смуглого лица, в легких полукружьях темных бровей, из-под которых неожиданно светло глядели голубоватые глаза, в черных, вольно разметанных, как у запорожцев, усах чувствовалась украинская порода. Особенно замечателен был крутой и ясный лоб: волосы с него отливали к затылку длинной и плавно опадающей волной… Но нередко я видел его округло-мягкое лицо жестковатым, а подчас и одушевленным гневом. Тогда темные брови сталкивались у переносья, высекая поперечную морщину, глаза суживались, ноздри тонкого носа вздергивались и раздувались, усы топорщились и обнажали ярко-красные, как бы раскаленные губы. Именно тогда, в момент гневного возбуждения, в Илье Корнильевиче уже проступала суровость сибиряка — откровенно-правдивого, неуступчивого: он родился в переселенческой семье и, по собственным словам, «рос во глубине лесной Сибири». А возбуждался и гневался он довольно часто, так как слишком близко к сердцу принимал все события литературной жизни. К сожалению, мое знакомство с Ильей Авраменко как человеком состоялось поздно. Куда раньше я познакомился с его творчеством — и, на счастье, очень объемным, разносторонним, как бы спрессованным в один том «Стихотворений и поэм», который выпустил в 1955 году Лениздат. Это было то счастливое для поэта время, когда он писал на одном мощном дыхании, обретенном еще в молодости, в пору начальных своих путешествий по сибирским просторам, хотя в поэтическом голосе томича и ленинградца (он еще в юности поселился в Ленинграде) кое-кто из проницательных критиков уже улавливал нотки усталости и нет-нет да упрекал в рецензиях Илью Авраменко, что «некоторые его последние стихи написаны не на полном и едином дыхании, а скорее — за счет выработанной неплохой техники». Впрочем, для меня сборник избранной лирики поэта, сборник, отчасти даже подводящий кое-какие итоги его творческой биографии, явился подлинным откровением. Уже первый цикл «Ветер странствий» властно захватывал сыновней влюбленностью в отчий край, бодрой ритмикой:Новый сборник предваряют сугубо прозаические строки: «Илья Авраменко принадлежит к поколению поэтов, литературная работа которых началась в тридцатые годы». А если говорить точнее, первую свою книгу он опубликовал в 1931 году. Следовательно, ленинградский поэт вот уже сорок лет работает в советской литературе. Прожитые годы настраивают зрелую поэтическую мысль на раздумья о пережитом и выстраданном. Недаром же И. Авраменко признается:Нет, эта беда не грозила Илье Авраменко: запасы душевной энергии были неисчерпаемы в нем. Но подкралась старость, а с ней и болезни — тихие, вкрадчивые. — Вот вроде бы и ничего особенно не болит, — признавался поэт, лежа на кушетке, — да все что-то не можется… Урывками готовлю двухтомник к своему семидесятилетию… …Однажды, словно бы в недобром предчувствии, я вышел на лестничную площадку. Обитая клеенчатая дверь в квартиру соседа была распахнута с каким-то пугающим гостеприимством. В конце темного коридора мелькнул белый халат врача. Затем донесся настойчивый голос: — Илья Корнильевич, вы меня слышите?.. Вы слышите меня, Илья Корнильевич?.. Я кинулся в коридор… Около двери в спальню лежал на полу Авраменко с бледным лицом, голый по грудь, весь исколотый шприцами, уже бездыханный, а над ним склонялся молодой, в белой шапочке врач… Увы, дыхание не вернулось к Илье Корнильевичу. Конечно же это величайшая несправедливость природы, когда поэт, обретающий второе дыхание в творчестве, не может его обрести как человек в свой смертный час. Лишь одно смягчает боль утраты: открыв книгу стихотворений Ильи Авраменко, ты вновь ощущаешь мощное, неиссякаемое дыхание его честной и активной поэзии. И ты сам уже дышишь глубже, радостнее на любых жизненных путях и перепутьях, даже посреди ожесточенных «ветров ревущих»; ты не отворачиваешься от них малодушно, но встаешь к ним лицом.В новом сборнике мы действительно встречаемся с лирическими стихами-воспоминаниями о детстве, об ученических годах, о первой любви и, главное, с неторопливо-философским осмыслением того героического времени, когда «шло обновленье не только природы — жизни, уклада и песен страны». Читая эти стихи, предугадываешь склонность поэта к «подведению итогов». И счастливо ошибаешься! Поэт как бы вступает в спор с самим собой, восклицая:Память порой неожиданно резковспыхнет — и как бы сползет занавеска, —жизни твоей озарятся края:разом предстанет и четко, и ясновсе, что забыто давно и напрасно, —каждая малая дань бытия.Вставай лицом, но лишь к ветрам ревущим,чтоб как перед горой — перед грядущимне ощутить в усталом сердце лед!
1973
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ…
29 марта 1982 года
Каждая дорога сулит неожиданные встречи. Только отъехали от Ленинграда — из соседнего купе выходит Георгий Константинович Холопов. Оказывается, тоже едет в Крым, в ялтинский Дом творчества. Давно я не видел Георгия Константиновича. Вроде бы огрузнел — семидесятилетие накатывает, не шутка! В серых глазах какая-то дымчатая, застоялая усталость. Не хочется докучать ему, главному редактору «Звезды», разговорами на сугубо литературные темы, А он вдруг пытливо, профессионально: — Над чем будете работать? Отвечаю и, в свою очередь, любопытствую о его творческих намерениях. — А я постараюсь написать воспоминания о прозаике Вадиме Андрееве, сыне Леонида Андреева. И возможно, приступлю наконец-то к повести, которую обдумываю лет сорок. — Как! — невольно вырывается у меня. — Целых сорок лет? Медленно-тягостный кивок лобастой головы в поредевших седых волосах: — Да, около сорока… Слово за слово — и разговорились мы с досужей откровенностью «дорожных людей»…* * *
Утро. Пасмурная теплынь после морозно-солнечного Ленинграда. За Тулой — лоскутья снега среди черно выпирающей, дышащей земли. Мутно-усталые, притихшие после половодья реки. Промелькнула станция Косая Гора. Вдали за ней — клубы рыжеватых и пепельных дымов двух домен на взгорье, а в понизи — плоский рабочий поселок. — Косая Гора… Косогорск… — бормочет Холопов сдержанно-ликующе. — А я столько времени подыскивал название поселку в одном из своих новых рассказов! Уж чего только не перебрал в памяти: и Крутогорск, и Медногорск… Все привычно, все не то!* * *
Ночью приезжаем в Симферополь. Хлещет крупный, теплый, совсем летний дождь. Садимся в «Икарус» — и плывут навстречу в ливневых потоках, как корабли, бетонные глыбы высотных зданий и точно бы размываются в темноте душной, парной… — Осенью сорок четвертого мне, военному корреспонденту, — рассказывает Холопов, — довелось побывать в Симферополе. Низкие домишки в битой черепице, пустынные улицы с одичалыми собаками — вот первые впечатления… Но чем-то родным, южным уже веяло в воздухе, хотя я родился на Кавказе… Была возможность приобрести здесь, в Симферополе ил и Гурзуфе, хатку… Да разве думалось в ту пору о разных благоприобретениях!.. С годами, однако, юг все более притягательным становился для Георгия Константиновича. Я не раз слышал от него признание поселиться в Севастополе, был свидетелем его решимости вот-вот приобрести там одну половину дома вблизи моря. Но и тогда я уже знал: самым родным, единственным, надежным домом стала для Холопова «Звезда» — любимая, неотторжимая!2 апреля
Старожилы печалятся: нынешняя ялтинская весна призапоздала почти на месяц. Ветрено. В блеклой стылой голубизне несутся перекрученные жгутами облака. Высокие кипарисы гнутся упруго, со свистом. Трепетно, боязливо цветет миндаль. На платане тесные, рыжие сережки — точно слезы. Иногда косо стеганет дробью холодный, колючий дождик… Зато в библиотеке Дома творчества тепло, уютно. Слышен мерный, успокоительный шелест страниц. Это Холопов перелистывает, том за томом, сочинения Горького. Он уже в летней рубашке; обнаженные руки его крупны, по-рабочему мускулисты. Поневоле припоминаешь, что в молодости ему довелось быть и грузчиком, и слесарем-сборщиком. — Что разыскиваете, Георгий Константинович? — спрашиваю с порога. — Воспоминания о Леониде Андрееве. Хочу перечитать, прежде чем писать о его старшем сыне Вадиме. — В таком случае ваши розыски напрасны. — Почему же? — Да потому, что составители вот этого тридцатитомного собрания сочинений Горького не включили очерк об Андрееве из каких-то, видимо, высочайших соображений идейности. Обычно спокойно-рассудительный Холопов взрывается: — Но ведь это же один из самых что ни есть идейно значительных очерков из числа знаменитых горьковских литературных портретов! С какой беспощадной обнаженностью Горький рассказывает о «трудной» дружбе с Леонидом Андреевым и о разрыве с ним именно по идейным соображениям, или, как он сам писал, из-за «непримиримых разноречий» в оценках действительности.3 апреля
Уж наверняка после редакционной сутолоки Холопову хотелось пожить в Ялте уединенно. Но разве ж мог он подавить в себе природную общительность, острое и пристрастное внимание к собратьям по перу, жадный интерес вообще к жизни! Не проходит и двух-трех дней после приезда, а Георгий Константинович уже расспрашивает писателя-волгаря Виктора Крюкова о будущей плотине у Ржева, о том, каким образом гидростроители хотят взять в «оборот» речку Вазузу, и хватит ли ее чистейших вод для «подпитки» Москвы?.. Он же подолгу беседует с членом редколлегии журнала «Сибирские огни» Китайником. И он же по-редакторски придирчиво читает однотомник И. Василевского, поэта из Белоруссии, знакомится с переводами стихов Григоре Виеру в журнале «Кодры»…4 апреля
Довелось мне прежде слышать сетования некоторых поэтов: мол, недолюбливает Холопов стихи, идут они в «Звезде» только на подверстку… Отправился я сегодня подбить подковки и повстречал сапожника неподалеку от набережной, да какого необычного! Сидит он в своем киоске-теремке и то молотком пристукнет по каблуку, то сейчас же замусоленный блокнот выхватит из обрезков кожи, авторучку вынет из-за уха подобно папиросе и мигом что-то запишет, а у самого уже глаза сияют отрешенно и не видят, как заказчики квитанции протягивают или туфли скособоченные суют в узкое оконце. В конце концов выяснилось: сапожник стихи сочинял, зовут его Алексеем Никифоровичем Спасеновым, и не раз он печатался в местной «Курортной газете». Я заинтересовался стихами Спасенова, сказал, что живу в Доме творчества писателей. Он тотчас же заулыбался всем своим широким лицом и достал пухлую тетрадку из какого-то сокровенного ящичка. Пока я читал, сапожник успел не только набить подковки, но и на все мои старые ботинки навел глянец, а плату не взял. — Знаете, Алексей Никифорович, стихи мне нравятся, — сказал я словно бы в благодарность за бескорыстный труд, но совершенно искренне. — Особенно вот эти — о сапожнике, о том, как «ботинок раскрыл свой голодный роток» и как затем, после починки, показалось умельцу, будто «в небе звезды — как медные гвозди, а месяц подковою счастья горит». Ободренный Спасенов тут же прочитал только что законченное стихотворение:6 апреля
После завтрака пригласил Холопова съездить в Алушту и посетить музей Сергеева-Ценского, но он отказался: «Надо заканчивать воспоминания о Вадиме Андрееве». Вернулся я из Алушты к вечеру, стал делиться впечатлениями о поездке, пересказывать услышанные истории про выдающегося русского романиста, «алуштинского затворника», как его называли при жизни, а Холопов мрачнеет — и вдруг резковато: — Толстые романы сейчас плохо читаются. Я возражаю: хорошая проза читается независимо от размеров, а у Сергеева-Ценского к тому же отличная проза, и надо ее только почаще переиздавать, чтобы взыскующая читательская душа могла наслаждаться словесной живописью большого мастера. У Холопова непреклонно сжаты губы. И в душе я обижен на него: не оценил, не оценил «широкозахватную», размашистую манеру письма автора «Севастопольской страды» и многотомной эпопеи «Преображение России»! Но сквозь обиду мало-помалу проступает и трезвое понимание такой непримиримости. Самому Георгию Константиновичу свойственна лаконичная манера письма. Она выявилась отчетливо еще в первой его книге рассказов «Бегство Сусанны». И эту манеру не только не разрушили его романы «Огни в бухте» и «Грозный год», «Гренада» и «Докер», но, наоборот, укрепили в них тот же энергичный, сжатый стиль.7 апреля
Сегодня я похвастался: без устали прошел из конца в конец всю «Солнечную тропу»! Не без самодовольства прибавил, что во время «хождений» по Волге за день одолевал тридцать — сорок километров. В дымчато-серых глазах Холопова пробились озорноватые огоньки, но заговорил он невозмутимо, даже с каким-то безразличием: — Во времена оные, довоенные, работал я корреспондентом «Крестьянской правды». Однажды за сутки прошел по Валдаю восемьдесят километров. Вышел к Окуловке, смотрю: поезд на Ленинград стоит. Значит, надо поспешать! А ноги уже не слушаются: все мускулы одеревенели… Хорошо, рядом оказался пень. Грохнулся на него, вовсе окостенел… Так всю ночь и просидел на пнище. Да еще потом четыре дня отлеживался в окуловской больнице.8 апреля
…Пасмурный выдался денек, невеселый. Среди цветущего миндаля особенно мрачноватыми кажутся кипарисы. Траурно-похоронной цепочкой бредут они вдоль шоссе, над оврагом, где картавый лепет ручья, суетня черных дроздов, мертвенный шелест прошлогодних листьев… А над всей этой хмарью и печалью земной — властительно-реактивный гул сторожевого самолета. — Если думать о неотвратимости войны — перо выпадет из рук, — внезапно произносит Георгий Константинович. — Ведь все погибнет в ядерном пекле! И твое выстраданное слово, и то, которое еще не выговорено — назревает. Война, треклятая война! Она въелась в поры его солдатской души, именно солдатской, хотя был он тогда военкором. И нахлынули воспоминания… — Столько смертей повидал, что о своей не думалось. Было еще писательское любопытство — самому все узнать. Вместе с бойцами входил в освобожденные села и города. А когда затем приезжали другие корреспонденты, они уже мало что видели… …Жена моя Ольга Ивановна до войны была ворошиловским стрелком, посещала шоферские курсы. На фронт мы с ней ушли в первый же день войны. Жена сначала работала медсестрой, спасала раненых. Если на попутку их не брали — грозила револьвером. А сиганет струхнувший шофер в кусты — сама вела машину с ранеными!.. …Первые свои фронтовые рассказы я написал во второй половине сорок второго, в том самом селе Алеховщина, с которым сейчас столь дружна наша ленинградская писательская организация. Зимой того же года, в лютый мороз, приехал по Дороге жизни в осажденный Ленинград. По старой памяти зашел в редакцию журнала «Звезда». А там работало всего два сотрудника. На ладан, можно сказать, дышат. До моих ли рассказов им, отощавшим! Однако уже на следующий год, в январском номере, три из четырех моих рассказов были напечатаны. …О войне надо писать обобщающе, сгущенно, что ли… Вот интересный случай из собственной литературной практики. Есть у меня новелла о герое-черкесе «Гвардии капитан Хабеков». Всего две страницы! Но нашли этакие совестливые сомнения: не мало ли? Отважный черкес достоин обширного повествования. И поехали мы с женой на родину героя, прожили там больше месяца. Я собрал массу материала о Хабекове. А перечитал затем новеллу и понял: ни повесть, ни роман писать не надо — все уже сказано на двух страничках.10 апреля
Георгий Константинович сообщил мне, что закончил воспоминания о Вадиме Леонидовиче Андрееве, и попросил меня прочитать их, высказать свое мнение. Воспоминания увлекли меня с первых же страниц. Холопов очень простым и ясным, точным штрихом воссоздает образ деликатного и благородного человека, глубокого патриота: недаром же его ужаснуло, что дочка Герцена, живя во Франции, начисто забыла родной язык. В самом же Вадиме Леонидовиче чужбина лишь обострила тоску по родине, а тоска родила и прекрасные стихотворения, и превосходные автобиографические повести «Детство», «Возвращение в жизнь», роман «Дикое поле», которые впоследствии печатались в «Звезде». И разве ж не за свою Россию он сражался в рядах французского Сопротивления? В этих воспоминаниях ощутим и внутренний полемический заряд: эмигранты не все были одинаковы, у иных процесс осознания своей неправоты — разрыва с родиной — был мучительно-затяжным… Я знаю другие воспоминания Георгия Холопова. Но и в них он не уподобился просто мемуаристу, которому куда важнее изложить различные факты и случаи из жизни описываемых выдающихся людей, нежели художественно зримо воспроизвести их облик. Нет, Георгий Холопов скульптурно четко, выпукло лепит портреты Соколова-Микитова и Чапыгина, Александра Прокофьева и Михаила Слонимского… Поэтому его воспоминания о писателях — одновременно и художественные произведения.11 апреля
Отменный денек — ясный и теплый. Солнце проложило по морю к стылому еще ялтинскому берегу широкую ослепляющую дорогу. Прогуливаемся с Холоповым по набережной. Скрипуче, прожорливо кричат чайки над самой головой. В воздухе — сверкающая пыльца разбитых волн. — А море-то будто огуречной свежестью попахивает, — делаю я замечание. — Надо бы не забыть огурцов купить, — откликается он буднично, прозаично. Парниковыми огурцами, чудовищно огромными, выгнутыми как сабли, торгуют буквально на каждом шагу. Но их размеры угнетают Холопова. Он немножко гурман и старательно разыскивает самые нежнейшие, молоденькие огурцы, которые и впрямь благоухают морской свежестью. Вскоре сумка Георгия Константиновича полным-полна — я вызываюсь нести ее, увесистую, однако мое предложение отклонено. Кто из писателей не знает подъем к Дому творчества! Вроде бы он и пологий, но через какую-нибудь сотню метров ноги уже точно свинцом наливаются, шаг становится вязким, укороченным, дышится учащенно. То же самое происходит с Холоповым. Дыхание у него вырывается уже толчками, ноги точно вязнут в плавком, нагретом асфальте. — Давайте передохнем, — предлагаю я. — И вообще не мешало бы такси взять. Холопов отвечает не сразу — лишь после того, как отдышался: — Оно, конечно, можно бы и на такси. Да, как говорят, дурной пример заразителен. — Что-то я вас не понимаю, Георгий Константинович… — Тогда слушайте… В прежние свои приезды в Ялту я часто пользовался такси при подъеме. Однажды еду и вижу Мариэтту Шагинян. Лет ей в ту пору было восемьдесят, если не больше, а она спорым, упрямым шажком поднимается по шоссе, будто колобком катится, только вверх, вверх… Конечно, остановил машину, предлагаю: «Садитесь, Мариэтта Сергеевна, подвезем!» Она же сердито отмахивается: «Сама, сама!.. Без вас обойдусь!..»13 апреля
Вчера взял в библиотеке книгуГ. Холопова «Иванов день», уже прочитал повесть «Долгий путь возвращения» — о бывшем бандеровце Фесюке. С каким психологическим тактом писатель раскрывает заблудшую душонку его, но с какой праведной беспощадностью он выворачивает наизнанку кровавые души украинских националистов! Делюсь впечатлениями о прочитанном, говорю Холопову, что его повесть вообще направлена против националистического угара — увы, живучего. — Но, — прибавляю, — концовка повести могла быть более впечатляющей, динамичной: бандеровец не примиряется, что Фесюк избирает новый путь жизни, и убивает его. Холопов замечает спокойно, взвешенно: — В прежнем варианте повести концовка была более жестокая. Фесюк живет один, всеми отвергнутый, под тяжестью постоянного самонаказания. Но такая концовка вызывала во мне смутное чувство неудовлетворенности. Я решил показать повесть знакомому секретарю одного из райкомов Прикарпатья. После прочтения он сказал: «Таких Фесюков много. Их надо вовлекать в жизнь. Да так оно и есть в действительности: Фесюки через труд вовлекались и вовлекаются в нашу жизнь». Вот почему я считаю нынешнюю концовку повести и жизненно, и политически верной: она дает возможность задуматься скрытым Фесюкам.25 апреля
Каждый день, прожитый с Холоповым в Ялте, невольно обогащает мой дневник интересными высказываниями писателя. — Вот мы тут с вами рассуждаем о причинах долголетия горных жителей Азербайджана… А главная — в том, что они мало заседают. — Взял почитать статьи Руссо о литературе и искусстве. Какая перекличка с современностью! Не потому ли великие по-прежнему остаются великими? — Симонов работал по строго расписанным часам. Рецензию на мой роман «Грозный год» о Кирове продиктовал машинистке в Союзе писателей в девять часов утра. Хотел встретиться со мной, назначил время, да меня часы подвели. Являюсь, а машинистка говорит: «Он же вас ждал в девять утра». Хоть плачь! — Просматриваю книгу Александра Фадеева «За тридцать лет». Не согласен с его оценкой творчества Леонида Андреева. Фадеев судил с позиций социалистического реализма, а ведь тогда был критический.16 апреля
Прочитал еще одну «гуцульскую» повесть Г. Холопова — «Иванов день»[11]. В центре ее — судьба пригожей вдовы Ганны Стефарук, к которой немало женихов сватается, и все они назойливы и самонадеянны, все кичатся нажитым добром, а предпочитает красавица Ганна скромного резьбара Федора с тремя осиротелыми детьми: ведь им так нужна материнская ласка. — Какое разностороннее знание Прикарпатья и какое тонкое проникновение в характер гуцула! — говорю я Георгию Константиновичу. — И ни малейшего щегольства своими знаниями, какое свойственно писателям, побывавшим в творческой командировке! Вы органично, естественно слились с жизнью иного народа. Но все же скажите: откуда такие подробности бытия гуцулов? Холопов улыбается: — Представьте, подобный же вопрос задал мне и Микола Бажан. — А что вы ответили ему? — Я ответил, что целых пятнадцать лет посвятил Гуцульщине. Каждое лето жил там, начиная с шестьдесят третьего года, всю исходил ее. Изучил украинский язык. В оригинале прочел сочинения Михайло Коцюбинского, Леси Украинки, Ольги Кобылянской, Василия Стефаника, Марко Черемшины, Гната Хоткевича, причем некоторых — на галицийском диалекте, очень трудном.19 апреля
Не заладилась нынешняя крымская весна: то дождь, то туман, то солнце, скуповатое на ласку. И все же зазеленела мелко, еще пугливо березка в парке, растопорщил, как пальцы, свои удлиненные почки дуб, погнал листву зубчатую… Сегодня тоже туманно, да ко всему еще холодно. С моря долетают тревожные всхлипы словно бы заблудшего парохода… Я сижу в комнате Холопова и тяну вместе с ним сухое венгерское вино золотистого настоя. Да, день вроде бы привычный — тусклый, без всякого намека на солнце, а на письменном столе две бутылки, огурцы, копченая колбаса, а сам хозяин — в празднично-белой рубашке с отложным воротником, в отглаженных брюках. И думаю-гадаю: уж не произошло ли какое-нибудь знаменательное событие в жизни Георгия Константиновича? — Вчера из редакции получил телеграмму, — неожиданно сообщает Холопов, — а сегодня — сверку пятого номера «Звезды». «Нет, — размышляю я, — ради этого едва ли стоило бы раскупоривать бутылки. Сие пиршество, видимо, по более значительному поводу». А Холопов продолжает упорно и целеустремленно тянуть одну и ту же разговорную нить: — Сколько вы, Юрий, напечатали в «Звезде» рассказов и повестей примерно за четверть века? — Да немало, немало, Георгий Константинович, — отвечаю я, вконец заинтригованный. — Но почему именно за четверть века? Холопов задумался, не отвечает, хотя уголки его тонких губ лукаво подрагивают, и опять тянет свою загадочную нить: — Конечно, и «Звезду» можно в чем-то упрекать, но нам зачтется, что вот уж чуть ли не двадцать лет при редакции существует литобъединение молодых прозаиков. Успешно у нас работает и группа молодых критиков. Этим я особенно доволен. Ведь старички — те неохотно откликаются на новинки, все давно ушли в литературоведение, стали докторами наук. А сейчас вокруг журнала уже объединилось шестнадцать молодых критиков. Теперь все номера можно составлять из их критических материалов. Я замечаю с улыбкой: — Вас, Георгий Константинович, кажется, потянуло на подведение итогов своей редакторской деятельности? — Ну, итогов не итогов, а за двадцать пять лет работы в журнале кое-что сделано. — А-а, так вот, значит, какая славная дата в вашей жизни! — не могу не воскликнуть, не порадоваться я — и не призадуматься: четверть века «Звезда» сияла, не тускнея, и в этом, конечно, в первую очередь сказалась идейно-эстетическая взыскательность главного редактора, его глубокая партийность, а кроме того, был заметен и убедителен его индивидуальный редакторский почерк — бесстрашно и любовно печатать безвестных молодых писателей, предпочитая подчас их жгуче-современные повести, рассказы, романы «холодноватой» прозе маститых, ибо, как там ни суди, ни ряди, а будущее-то литературы — в них, молодых!22 апреля
Любимый писатель Холопова — Максим Горький, если судить по такому страстному монологу: — Вот вы говорите о спаде интереса современного читателя к книгам Горького, особенно молодого читателя… Согласен, согласен! А чем это можно объяснить? Отчасти тем, что многими сейчас овладела жажда необузданного потребительства, среди молодежи продолжается губительный процесс этакого «джинсового омещанивания», конечный результат которого — полнейшая бездуховность, безыдейность. Так отчего же этой части молодежи «любить» Горького? Он же, со своей воинственной проповедью против благополучно-сытеньких людишек, — укор им, он шевелит их заглохшую совесть… Да что там шевелит! Бьет прямо по мозгам каждым своим гневным словом! И от его карающего гнева, как ни отмахивайся, никуда не скроешься, даже за высокие заборы дач и вилл. А самгинщина?.. Недавно я снова перечитал «Жизнь Клима Самгина». Это ли не новаторская эпопея! Через своего отрицательного персонажа Горький сумел изобразить переходное время с его самыми прихотливыми и многослойными политическими течениями. И пригвоздил к позорному столбу Самгина и самгинщину — это двойственное отношение к жизни, стремление к личному удобству, склонность к предательству, к измене прежним светлым идеалам.26 апреля
Потеплело, зазеленело все вокруг. Гулко воркуют горлинки. На улицах — взрывчатое, слепительно-желтое пламя дрока, томное цветение мелкой, розовой японской розы, головокружительная мозаика невиданных цветов… Да, все расцвело, разнежилось, а надо уезжать, и уже поджидает на асфальтовой площадке перед Домом творчества черная «Волга». Поднимаюсь на второй этаж, захожу в комнату Холопова, чтобы помочь вынести чемодан и машинку. А Георгий Константинович… Он, представьте, задрал рубашку на животе и сует за ремень брюк плоский бумажный пакет. — Что вы делаете? — изумляюсь я. — Да так, знаете, надежнее, — отвечает не моргнув глазом Холопов, хотя он, кажется, врасплох застигнут. — Прячу рукопись воспоминаний о Вадиме Андрееве…[12] Привычка, привычка! — Откуда же она взялась? — С давних еще времен… Накануне первого Всесоюзного съезда писателей проводился в Ленинграде литературный конкурс. Я туда послал рассказ «Клепка», а копии не оставил. За рассказ мне присудили премию. Но кто-то из членов жюри потерял рукопись, и рассказ, естественно, не был напечатан… Так почему, если другой теряет мою рукопись, не могу ее потерять я сам? И уже при спуске по лестнице Холопов признается сокровенно: — Все я могу потерять, ни о чем не пожалею, кроме как об утерянной рукописи!.. …Прощай, Ялта! И — спасибо тебе! Ты помогла мне лучше узнать Георгия Холопова — старшего товарища и замечательного писателя.1982
«РУССКИЕ СТИХИ, С РАЗДУМИНКОЙ»
ВСПОМНИЛОСЬ…
Ветреный, морозно-солнечный февраль 1971 года. Комарово. Мы идем с Александром Ефимовичем Решетовым по просторной поселковой улице. Змеится, шуршит в ногах поземка. Поэт сутулится, казалось бы, необоримо, его слабые ноги в тяжелых валенках передвигаются скользяще, неторопливо — из-за опаски потерять опору. В простое и суровое лицо глубоко врезаны болезненные морщины. Знаю: Александр Ефимович недавно перенес тяжелую операцию, и надобно ему, согласно предписанию врача, отлеживаться в теплой комнате. А он в своем тонком осеннем пальто, в старенькой шапке-ушанке идет наперекор злющему ветру и собственной телесной немощи, словно и его, как крылатое сосновое племя, влечет в путь некая вдохновенная сила, неподвластная земным хворям-напастям. И почему-то вспомнилась мне блокадная зима. Иду я в длиннополой шинели ремесленника по сугробистому проспекту Невской заставы, прижимаю к груди тонкую-претонкую книжечку. Но сколько в ней пылкого жара мужественного сердца, как она согревает на лютом тридцатиградусном морозе! И губы мои сухие, без кровинки, вышептывают, как клятву, чеканные слова:«ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ»
Теперь как встречу скромный, вьющийся на камнях ручеек, так вспомню решетовское стихотворение «Лесной ручей»… Вот как будто и не знаменит он ничем, не вертит ни лопастей турбин, ни колес сельских мельниц, да и для сплава он тесен и крив, и знай себе несет пушинки ив. Но отчего же тогда, с виду неприметный, он любим и храним?.. Да оттого, что привлечет он своим струйчатым звоном и усталого тракториста, и босых мальчишек, что есть и его малая доля в реках и морях, что давно уже он стал «прекрасной черточкой живой родимой стороны». Мне кажется, поэзия Александра Решетова сродни этому ручью: неброская с виду, но проникновенная, она служит Человеку, она необходима ему.РЕШЕТОВСКОЕ СЛОВО
Чувство слова было предельно обостренным в Решетове — он мучительно и долго отделывал каждую строчку стихотворения. Порывистое желание откликнуться в газете стихами на какое-нибудь важнейшее событие сдерживалось выработанной требовательностью к себе. Он признавался: — Не люблю писать на даты, по заказу. Быстро писать не могу, а плохо не хочу. Затем эта честная исповедь облеклась в поэтическую форму:…Стихи — это ви́дение, понимание и ощущение жизни лишь одним человеком, их автором, с ним можно соглашаться и не соглашаться. И если стихи лишены убедительности, далеки от действительного состояния дел в той области жизни, которой они посвящены, то не вызовут они ни сочувствия в обществе, ни спора, нужного ищущим, не обреченным на застой людям.В отличие от тех, кто с бездумной готовностью делал дружеские авторские надписи на подаренных книгах, Решетов и здесь заботился о предельной смысловой наполненности каждой фразы, каждого слова, чтобы сжато, энергично высказать что-то заветное, наболевшее. Так, например, знакомому литератору он подарил книгу стихов французского поэта, весьма склонного к формалистическому экспериментаторству, под видом этакого «нового гуманистического лиризма» и надписал на титульном листе: «Почему-то в моей душе никак не воздвигается памятник этому поэту». Один из моих друзей так отозвался о Решетове: — Нет, неспроста Александру Ефимовичу дана эта фамилия! Сквозь емкое решето своей требовательности он каждое слово процеживает.
НА СОБРАНИИ
…Шло одно, довольно-таки скучное писательское собрание. И вдруг в порывистом броске, как боец, поднявшийся в атаку, взошел на трибуну поэт и взорвал скуку ясными и звонкими человеческими словами: — Будем внимательны друг к другу и отзывчивы на творчество каждого собрата по перу! Поэт — это был Решетов — вспомнил о многих хороших писателях, которых уже нет с нами; он с сердечной теплотой рассказал о своем друге романисте Евгении Александровиче Федорове, авторе трехтомной эпопеи об Урале. Но гневом наполнились слова поэта, когда он поведал о равнодушии к памяти замечательного литератора. А я подумал о живущих — о тех, кто и при жизни должен быть оценен по справедливости, в меру своего таланта. Ведь подчас случается так, что мы больше говорим о писателях, которые сами о себе постоянно напоминают бойкой и хлесткой скороговоркой, подменяющей истинное искусство, а о тех, кто не гонится за количеством написанного, но умеет в нужный час сказать народу единственно верные и необходимые слова, пишем порою до обидного мало и скупо…«НЕЖДАННОЕ И ПОЗДНЕЕ ЦВЕТЕНЬЕ»
Есть читатели, убежденные, что жизнь поэта в мире творчества кратковременна и подобна ослепительной вспышке звезды во мгле вечности, что в преклонном возрасте поэт обычно перепевает себя, то есть, как и угасшее небесное светило, излучает давний свет» а посему — лучше бы ему набраться благородного мужества да молчать достойно!.. Что ж, и такое случается, когда поэт перестает быть «колоколом на башне вечевой». Но если он жил и живет в лад с думами людскими, если его судьба неотделима от судьбы народной и в бедах и в радостях, — разве сызнова не встрепенется пусть даже и больное сердце поэта, разве на лбу его не перечеркнет морщины прожитых лет новая морщина глубокого раздумья о земле родной, о земляках и не вздохнет он полной грудью, чтобы вместе с обретенным «вторым дыханием» исторгнуть из душевных глубин самую лучшую, самую заветную, хотя, быть может, и самую последнюю песню! Выход в 1961 году книги «Роща» Александра Решетова свидетельствовал о щедром лирическом расцвете его таланта, о «нежданном и позднем цветенье», по словам самого же поэта. Критика тепло встретила полнозвучный, внятный шум «Рощи», тронутый первым багрянцем осени, роняющей первые печальные листья. В одной из рецензий говорилось:В поэзии Решетова мыслительное, духовное начало приобретает все больший удельный вес. Сокровенны раздумья поэта, афористичны его стихи. Многие строки западают сразу в сердце, запоминаются без всяких усилий.Да, это так. До меня вновь долетает из песенной «Рощи» «второе дыхание» поэта, опять я, взволнованный его горьким и мудрым откровением, повторяю:
«РУССКИЕ СТИХИ, С РАЗДУМИНКОЙ»
Был прощальный вечер в станице Вешенской, в доме Михаила Александровича Шолохова. В распахнутые окна гостиной врывался горьковатый полынный ветер с Задонья; там же, в предгрозовой сумеречи, поблескивали молнии… За длинным столом сидели гости Шолохова — датские литераторы во главе с Хансом Кирком, ленинградцы Сергей Воронин и Александр Решетов, украинский прозаик Василь Минко. Михаил Александрович попросил Решетова прочитать на прощание стихи. Сразу смолкли веселые голоса, предельно внимательным стал поэт и переводчик Эрик Хорскьер. И вот зазвучали раздумчиво-медленные, проникновенные решетовские строки:ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Однажды — кажется, в 1961 году — я заехал к Сергею Воронину, тогда главному редактору журнала «Нева». Сейчас не помню, какое дело привело меня к нему. Но запомнилась его озорновато-лукавая улыбка, вдруг просветлившая усталое лицо. И тут же он крепко потер руки, сказал с нескрываемо пристрастной редакторской удовлетворенностью: — А славное мы решетовское стихотворение напечатали! О том, что «в газетах мелькают плохие стихи стариков, когда-то прославившихся стихами». Я уже читал это бьющее наотмашь по былым кумирам, но и к собственной совести обращенное стихотворение. Оканчивалось оно так:ДОРОГАЯ НАГРАДА
…Будучи в Москве по делам, Решетов проведал на новой квартире своего большого друга, поэта Василия Кулемина, которого называл попросту — Лаврентьичем. Во время задушевного разговора друзей в кабинете остался сын Кулемина, маленький Саша. Он сидел тихо и с недетской серьезностью вслушивался в беседу. Вдруг Кулемин спросил гостя: — Скажи честно, ты переживаешь, что тебя в твое пятидесятилетие не наградили орденом? Гость ответил резковато — вопросом: — А разве дело в орденах, а не в стихах? — Дело в самочувствии, — сказал Кулемин… и тут же попросил гостя почитать новые стихи. Во время чтения маленький Саша незаметно выскользнул из кабинета. А когда вернулся, в руках его была шкатулка, где хранились милые ребячьему сердцу вещицы. Среди них нашелся значок с изображением Ленина. Сын стал просить отца наградить дядю Сашу… И вот трепетная детская ручонка наколола на пиджак гостя чудесный значок. На глазах у отца показались слезы, да и сам гость растрогался…ПОДРАНОК
Обычно после завтрака мы втроем — Ариф Сапаров, я и Александр Решетов, прихрамывающий после болезни, — гуляли по заснеженному Комарову. Однажды, при нежданно-негаданной оттепели, когда вдруг улыбчиво просияла среди облачных размоин почти весенняя голубизна, у Решетова вырвалось с протяжным вздохом: — Эх, отойти бы к лету, оттаять, как вон тем березкам-сестрицам, да вновь побродить по льняной своей Псковщине! Он стал расспрашивать меня о хождениях по Волге, чтобы, видимо, сильнее укрепиться верой в собственное путешествие. Я принялся рассказывать и, между прочим, поведал о том, как угодил в трясину вблизи верхневолжского озера Большой Верхит. — А вы знаете, и со мной нечто подобное случилось! — подхватил, оживляясь, Александр Ефимович. — Есть неподалеку от моего любезного Отрадного лесное зарастающее озерцо. Решил я там пострелять уток. Надел ватник, натянул резиновые сапоги и отправился с ружьецом в укромное местечко, где обычно хоронилась моя долбленка, будь она неладна!.. Дело в том, что это было уже ветхое, ненадежное созданье, но вы ведь знаете, русского человека часто «авось» вывозит… Однако на сей раз и спасительное «авось» не помогло! Примерно на середине озера дно моей лодчонки затрещало, вода зафонтанила, и я, любитель утятины, по грудь окунулся. А ватник набряк, сапоги под стать гирям… Чую: утягивает меня в самую приглубь. «Ну, — думаю, — это уже конец! На войне уцелел, а здесь тебе, Ефимыч, крышка!..» Да тут, на счастье-то, — рраз! — и зацепил я носком сапога корму долбленки. Оказалось, нос ее в дно вонзился, поскольку был тяжелее, а корма стоймя встала, как бревно-топляк. И я, не будь дурнем, на ней утвердился. Стою, руками бью по воде, чтоб не соскользнуть с нежданного пристанища, и, конечно, ору, призываю на помощь и бога, и черта. Решетов передохнул; взгляд его был горящим, блуждающим. — В общем, ты напоминал тогда подранка-селезня из своего же стихотворения, — пошутил Ариф Сапаров и продекламировал:ЕГО ЧИТАТЕЛЬ
Проведал меня в Ленинграде знакомый учитель из-под Старицы Дмитрий Иванович Смирнов. Много интересного рассказал он о далеком верхневолжском крае, о родном селе Глебове, но вдруг заторопился — сказал со смущенной улыбкой: — Мне Решетова надо бы навестить… Слышал: язвой мучается Александр Ефимович… Решил ему завезти народное лечебное средство… Да боюсь — примет ли, не засмеет ли?.. — Недавно похоронили мы Решетова… — проронил я. Из рук моего знакомого с тяжелым стуком выпал затасканный учительский портфель; он судорожно глотнул воздух и отвернулся к стене… Впоследствии ленинградский литературовед Н. С. Пантелеймонов нашел в архиве поэта такое интересное читательское письмо-отзыв:Дорогой Александр Ефимович! В дни новогоднего праздника под шум вьюги-завирухи прочитал Вату книгу избранной лирики. Все написано хорошо, каждое стихотворение наводит на воспоминания тяжелого прошлого, заставляет правильно осмыслить наше сегодня. Ваши ранние стихи не потеряли своей динамичности, они современны. Сколько в них чудесных строк!.. В стихах военных дней показаны вместе с личными переживаниями, вернее — через них, переживания всего народа, которому пришлось отражать натиск сильного и коварного врага. Посещая город моей юности Ленинград, не могу без слез проходить мимо тех мест, где жили мои товарищи и остались в осажденном городе. Многие из них погибли… Стихотворение «О сельской красоте» мне особенно пришлось по душе, потому что, не считая двух лет, прожитых в Ленинграде, вся моя жизнь связана с деревней средней полосы, которая сильно пострадала в годы немецкой оккупации… О себе. В боях под Ржевом получил тяжелое ранение. Демобилизовался в 1943 году инвалидом 2-й группы. Заочно окончил Калининский педагогический институт и вот уже два десятка лет учу сельских ребятишек в небольшой школе. С уважением к Вам и творчеству Вашему — Д. Смирнов, село Глебово, Калининской обл.
УПРЕК ИЗДАЛЕКА
Это была моя последняя встреча с поэтом… Заглянул в приоткрытую дверь редакторского кабинета — смотрю: Александр Ефимович склонился над столом, грузный, с набрякшими мешочками под крупными, словно бы выдавленными глазами, и что-то в упор разглядывает перед собой. — Заходи, заходи! — кивнул мне озабоченный Анатолий Чепуров, поэт, он же в ту пору — главный редактор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», — Вот тут Александр Ефимович в раздумьях — не знает, какую фотографию предпочесть для нового сборника… Может быть, ты посоветуешь?.. Давно я не видел Решетова: похварывал он, после больницы почти безвыездно жил на своей даче в Отрадном. Кинулся к нему и обрадованный нечаянной встречей, но и встревоженный: что-то он скажет о моих новеллах о нем, которые недавно были напечатаны в «Вечернем Ленинграде»?.. И сразу натолкнулся на хмурый взгляд поэта, хотя руку мою он пожал с прежней сердечной дружественностью. Невольно подумалось: «Огорчил Александра Ефимовича какой-то оплошкой, или же не хватило чувства меры и такта при воссоздании живых черточек его характера». Тогда, то есть летом 1971 года, в издательстве готовилась книга поэм, баллад и новых стихотворений поэта под названием «Запавшие в душу картины». Дело оставалось за малым — подобрать к сборнику фотографический портрет поэта. Мне понравился один снимок: Решетов в плаще, держа в руках какой-то зябкий и, видимо, запоздалый осенний цветок, стоит среди мшисто-суровых заполярных сосен, под дождливым небом, а сквозь тяжелые складки его одутловатого, нездорового лица прорвалась улыбка, еще скуповатая, без отблеска в глазах, — так солнце вдруг прорывается сквозь ненастные тучи, чтобы прощально обласкать землю — любимое свое детище… Я высказал свое мнение насчет снимка; Решетов отозвался бормотанием: «Пожалуй, пожалуй…» Потом, словно спохватившись, торопливо, глуховато произнес в нос: — Благодарю за добрые слова обо мне[13]. И будто тяжесть спала с моих плеч. …Сборник «Запавшие в душу картины» вышел в 1972 году, уже после смерти поэта. А спустя два года в том же издательстве «Советский писатель» вышла книга Николая Пантелеймонова «Александр Решетов». В ней я встретил понравившийся мне снимок и… слова упрека в свой адрес.«Конечно же, его заметки продиктованы добрыми намерениями, благородными мотивами, — высказывал свое суждение Решетов. — Несколько омрачило меня то, что он зачем-то изобрел свой вариант о моих встречах с Михаилом Александровичем Шолоховым, в частности о шолоховской фразе «русские, с раздуминкой». Эта фраза была произнесена не только по поводу «Походной были», а в кругу многочисленных гостей Михаила Александровича, съехавшихся к нему с писательского съезда, когда мне пришлось читать по просьбе писателя многие из своих стихотворений. Об этом правильно было написано Ворониным в предисловии к моей детгизовской книге. Но что поделаешь, заикнись я об этом — скажут: «Решетову не угодишь». Но и так оставлять эту фантазию не хочется…»
БЕССМЕРТИЕ
Недавно побывал на Богословском кладбище, посидел, погрустил у могилы Решетова… Май еще был в зачине. Но телесно-белые стволы берез уже были окутаны тонким зеленым кружевом. На кусте бузины, сливаясь с ее ранними румяными листьями, чисто, радостно пел краснобокий зяблик. В лучах солнца, вспыхивая и вдруг опрозрачиваясь, перепархивали бабочки-лимонницы. И где-то в южной стороне уже погромыхивало гулко, ворчливо, с раскатцем… Припомнились решетовские строки:1971—1975
ДОБРЫЙ, РАЗМАШИСТЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ
Впервые я увидел Павла Леонидовича Далецкого на улице около Дома писателя, и он сразу же поразил меня внешним видом: идет под осенним моросящим дождичком в деревянно постукивающих сандалетах на босу ногу, в каких-то несуразно коротких штанах, чуть ли не шортах, в гимнастерке цвета хаки, со множеством накладных карманчиков… Одни литераторы поговаривали: умеет, мол, человек удивлять своей внешностью, как, впрочем, и своими романами-«кирпичами»; другие припоминали забавный случай, когда Далецкого задержал милиционер, пораженный его вызывающе странным одеянием (дело было в начале пятидесятых годов); но те, кто близко знал Павла Леонидовича, свидетельствовали: «Он, дальневосточник, все никак не может выключиться из стихии тамошней пестрой разноязычной жизни». И рассказывали о богатой творческой фантазии Далецкого, приводили пример причудливого смешения воображаемого и действительного во время его работы над романом «Тахома»: будто бы писатель в одной из анкет написал о своем пребывании в Маньчжурии, хотя впоследствии выяснилось, что побывал он там лишь с помощью необузданно-яркого, крылатого воображения. Для Павла Далецкого как писателя, автора многих романов и двухтомной эпопеи о русско-японской войне «На сопках Маньчжурии», характерна была размашистая манера письма, даже, пожалуй, излишне размашистая. Ее очень метко подметил Константин Федин, писавший ленинградскому литературоведу и критику М. А. Сергееву:У Далецкого руки более мужские, он изредка доходит до живописи и пишет широко. В его «На сопках…» страницы, главы, даже целые части, — например, Ляоян, Мукден, вообще драма Маньчжурии, — сделаны широко и говорят о его даровитости. Но он устает, как косарь, который уж слишком широко забирает прокосы, и он не совсем отдает себе отчет — зачем уж так размахивать, и от усталости забывает о назначении своей работы: тема целого не требует от него такой широты и частностей[14].Друг Павла Леонидовича прозаик И. А. Неручев рассказывал мне, как во время подготовки к печати эпопеи «На сопках Маньчжурии» в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» редактор предложил Далецкому несколько расширить одну маленькую сценку, то есть написать еще две-три странички, дабы избежать конспективности в изложении. «Хорошо! Будь по-вашему», — согласился романист, причем в глазах его вспыхнули огоньки какого-то азартного вдохновения. И что же! Он так «расширил» сценку, что она переросла в объемистую главу. Редактору-вдохновителю оставалось только за голову схватиться! Само собой, в дальнейшем он уже предлагал трудолюбивому автору-многописцу делать лишь сокращения: рукопись и без того превышала договорные размеры. Да, Павел Далецкий был прирожденный романист. Если не ошибаюсь, за тридцать лет творческой работы он написал десять романов. А ведь создавались еще повести, рассказы, очерки! Особенно плодотворно работалось Павлу Леонидовичу в Комарове. Правда, об этом ничего не расскажут стены Дома творчества, зато есть очевидцы, собратья по перу. — Бывало, прогуливаешься по саду вечером, — вспоминал прозаик Аркадий Минчковский. — Душа, так сказать, жаждет отдохновения после трудов праведных. Хочешь внимать нежнейшим руладам птиц: до того осточертел стук собственной машинки. Но что за черт! Из ближнего куста вместо соловьиной трели раздается знакомая металлическая дробь. Раздвинешь куст — в укромном местечке сидит, скорчившись, Далецкий, барабанит на портативке… В досаде кидаешься в свою комнату. Не спится! Ждешь не дождешься утра… Наконец поднялось лучезарное светило. Бодрый ветерок манит в сад освежиться перед работой. Идешь по дорожке, хвоей похрустываешь. И вдруг из-за кустов жасмина, прямо из белого цветения, точно пулеметная очередь полоснула… Приглядываешься — и отшатываешься: в солнечном луче блестят очки со знакомым железным ободком… Далецкий уже на рабочем месте! Далецкий выдает на-гора очередной роман! Но все это — рассказы других. Сам я познакомился с Далецким во время заседаний секции прозы. Он был многолетним ее председателем — нес это общественное бремя терпеливо и, похоже, с удовольствием, ибо любил наблюдать сам живой процесс создания повестей, рассказов, романов — вообще любил писательскую среду. И писатели ему платили ответным душевным расположением. Они охотно читали чужие рукописи дома, чтобы затем обсудить их на секции прозы, помочь своему сотоварищу или молодому автору дельным советом. Если кто отклонялся, ссылаясь на перегрузку собственной работой, Павел Леонидович баском, с прорывавшимися металлическими нотками, убеждал: — Литература — наша боль и радость. Надо ради общего дела жертвовать своим временем. Возражать на это было трудно: председатель секции прозы сам являлся наглядным примером такой благородной жертвенности. Невольно вспоминается, сколько литераторов он привлек к обсуждению моей тоненькой книжицы путевых рассказов под общим названием «В моей Отчизне мирной» — книжицы, которая, пожалуй, и не заслуживала столь солидного, профессионального внимания. С виду Павел Леонидович казался суровым: жесткие складки стискивали его рот и как бы выпячивали острые губы; жесткие волосы, пробитые сединой, никогда, по-моему, не поддавались гребенке — топорщились, разваливались на обе стороны лба, а ко всему еще эти очки в металлическом ободке, которые будто бы и взгляду придавали выражение какой-то упрямой железной твердости, даже неумолимости. Но вот улыбнется Павел Леонидович — и все лицо, из каждой морщинки, лучится душевной добротой, притаившейся до поры до времени. Бесконечно добр он был к начинающим и молодым писателям. Помню, как один автор прочитал на секции прозы небольшую повесть. Раскритикована она была беспощадно. Автор сидел, нервно теребя рукопись, опустив голову. Далецкий, благо находился рядом, осторожно потянул на себя эту рукопись, уже растерзанную, разгладил ее бережно большой ладонью (он вообще был крупен) и заговорил гулким, басовитым, «председательским» голосом: — Что ж, приговор вынесен единодушно. Но я к нему присоединяюсь только наполовину. Кто-то из писателей подал реплику: — Да вы же, Павел Леонидович, никогда еще не раздваивались, не были половинчатым! В зале засмеялись. Но Далецкий упрямо, уже методично продолжал: — Конечно, показ в повести взаимоотношений супругов не вызывает доверия к автору как к тонкому знатоку супружеской жизни. По-видимому, он сам на себе еще не познал ее сладость и горечь. Но — друзья! Почему вы не пожелали заметить то зернышко правды, из которой может прорасти новое произведение? Вспомните картину мощения земляной плотины, сцену упоительного труда главного героя повести. Все здесь дышит поэзией труда; язык повести уже становится образным, энергичным… Нет, нет, вещь не безнадежна! Ободренный автор сразу поднял голову; в глазах его блеснула надежда… Природная доброта Павла Леонидовича и тут, в казалось бы заживо похороненной повести, отыскала единственно верную возможность для ее воскресения. Кроме руководства секцией прозы Далецкий имел немало других общественных нагрузок — в частности, он являлся членом редакционного совета Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Однажды в Доме писателя имени Маяковского была устроена встреча Нового года. Поднимаюсь я по мраморной лестнице, а у дверей в концертный зал стоит улыбчивый Павел Леонидович, поглядывает на меня сквозь очки лукаво, даже озорновато, да вдруг и оповещает: — А я, знаете, по примеру Деда Мороза вам подарочек новогодний приготовил. — Какой подарочек, Павел Леонидович? — Прочитал в издательстве вашу рукопись и в целом одобрил ее. Советую новую книгу озаглавить «Есть на Балтике остров» — по названию одной из повестей. Да, умел Павел Леонидович порадоваться за книги собратьев по перу. Умел! Во многих писателях остался отсвет его взыскательной доброты. И невольно думается: без нее, без этой доброты, едва ли вообще возможно нарастающее движение литературы. …Последним произведением Павла Далецкого, если не ошибаюсь, была очерковая книга о старейшем главном лесничем Сиверского опытно-показательного хозяйства Книзе. Я тоже знал этого великого природолюба — восьмидесятилетнего крепыша с рыжими усищами под наплывом большого носа, с хрипловатым «прокуренным» голосом, с мудрым взглядом из-под навесистых бровей — быстрым, как молния, взглядом. При встрече с Павлом Леонидовичем на трамвайной остановке у нашего дома (писатель уже ходил с сучковатой палкой-тростью!) я, вспомнив о Книзе, недавно скончавшемся, сказал: — Как хорошо, что вы успели написать о нем, и так душевно, поэтично! — А разве можно было без души написать об этом славном лесничем! — подхватил Далецкий. — Если он сам всю душу без остатка отдал русскому лесу. — И прибавил, помолчав, перекинув трость-палку из руки в руку: — Все наши книги должны быть достойны работящих советских людей. Сам истовый труженик, Павел Леонидович хорошо знал цену созидательной, животворящей силе, имя которой — Труд.
1966
ПОСТОЯНСТВО
Прямая натренированная осанка бывалого военного, не поддающегося старости. Медленно-спокойные, веские движения. Слегка откинутая голова с волнистым отливом седоватых волос от высокого лба к затылку. Приподнятый твердый подбородок, особенно броский на широком лице в мягких крупных складках. И — светлые, чуть на выкате глаза с прямым, упорным взглядом… Таким мне видится Ариф Васильевич Сапаров — прозаик и очеркист, человек немногоречивый, сдержанный в проявлении эмоций, но щедрый на передачу человеческих радостей и тревог в своих документальных книгах. Как-то критик Яков Назаренко, по-хорошему пристрастный к творчеству Арифа Сапарова, посетовал при встрече со мной: — Ни одного любопытного биографического факта из него не вытянешь! Скромен, застенчив. А так хотелось бы выведать: откуда у Сапарова пожизненная верность документальной прозе? Писал ли он в молодости беллетристику? Близилось шестидесятилетие писателя, написавшего около двадцати книг. Накануне своего юбилея он побывал в Луге — родном городе. — И сколько воспоминаний нахлынуло! — признался мне Ариф Васильевич в порыве какой-то душевной размягченности, а быть может, и просто из естественной человеческой потребности окинуть с мудрой высоты прожитых лет неоглядные дали своего бытия и, пожалуй, подвести некую мысленную итоговую черту. Меня обрадовала разговорчивость Сапарова. Я узнал, что именно там, в Луге, он еще мальчонкой продавал газеты и что запах типографской краски ему казался гораздо слаще благоухания цветов под окнами родного деревянного домишки. А повзрослев, он по комсомольской путевке уехал из Луги на коллективизацию сельского хозяйства в район Оредежа — многое тогда повидал и, главное, ощутил весь накал острейшей классовой борьбы. Тогда же лужский комсомолец стал одним из учредителей колхоза «9 Января» в деревне Вяжищи, и был избран его председателем. Еще одно ценное признание: «Запах типографской краски не давал мне покоя, рука сама тянулась к перу». И Сапаров пишет статьи и заметки в лужскую «Крестьянскую правду». Впоследствии становится штатным ее работником. За шесть лет проходит путь от репортера до ответственного секретаря газеты. Часто выезжает с бригадой, состоящей из наборщика с тремя наборными кассами и печатника с маленькой машиной — «американкой», в самые отдаленные сельсоветы и редактирует крохотные газетки «Штурмовка», «Даешь лес!». — Тридцатые годы еще ждут своих историков и романистов, — рассказывает писатель. — Не только в крупных промышленных центрах, но и в таких городах, как Луга, эти годы были деятельными, насыщенными удивительной инициативой. «Крестьянская правда», всего лишь районная газета, умудрялась, к примеру, устраивать фестивали с участием знаменитого Бориса Бабочкина, кинорежиссеров Эрмлера и Герасимова. А районный штаб комсомольской «легкой кавалерии» (начальником его довелось быть мне) проводил рейды по проверке семенных фондов или колхозных конюшен и вовлекал в эту активную работу сотни и сотни комсомольцев. Новое признание Сапарова, которое одновременно является как бы ответом критику Якову Назаренко: — Будучи журналистом, я втайне пописывал стихи… и роман из жизни великосветского общества под названием «Камергер его императорского величества».К счастью, отрезвление наступило быстро: к чему хитросплетения надуманных сюжетов, если жизнь каждый день одаривает тебя бесценными сюжетами, самыми правдивыми и героическими сюжетами! В конце тридцатых годов завершился «лужский период» молодого журналиста. А там вскоре грянула Великая Отечественная… С самого начала войны до Дня Победы Ариф Васильевич Сапаров в действующей армии. Оборона Ленинграда, штурм Берлина и освобождение Праги — вот славные вехи его боевого пути — солдата и журналиста, редактора армейских газет.Нелегкая это была жизнь, — писал я в «Вечернем Ленинграде», в статье, посвященной 60-летию писателя. — Зато как много узнано бесстрашных, пламенных сердец! Они, скромные и подчас безвестные защитники города Ленина, стали героями первой значительной документальной работы А. В. Сапарова — книги «Дорога жизни». И можно смело сказать, что в ней, в этой яркой летописи народного подвига, сполна проявились лучшие свойства творческого дарования очеркиста: уважение к факту, бережное внимание даже к малейшему штриху в облике героя, нетерпимость к словесному украшательству, к «подслащиванию» жизни, которая, конечно, в этом не нуждается. Недаром же своей мужественной правдивостью книга «Дорога жизни» приобрела широкую популярность и неоднократно переиздавалась в нашей стране и за рубежом.В послевоенные годы Ариф Сапаров написал немало интересных очерковых книг, и среди них «Волховские были», «Рождение мастера», «В море и на суше», «Скворцы перелетают Ладогу», «Камень опасности», «Четыре тетради», «Остановки не будет»… Я часто навещал Сапарова, благо жили мы в одном доме. И вот что я заметил: у писателя не было той «заветной» полочки, где стояли бы строго, по ранжиру, его «дети», рожденные зажигательной энергией мастера, и постоянно услаждали бы его взгляд и тешили сердце. Нет, Арифу Васильевичу, литератору деятельному, окрыленному новыми творческими замыслами, просто некогда было бы на них любоваться! Он почти каждый день встречался с чекистами-ветеранами — сподвижниками Дзержинского, вел неустанные розыски в архивах. И появлялись одна за другой документальные повести: «Битая карта», «Гороховая, 2», «Фальшивые червонцы», «Опасные комедианты». Все они имели довольно-таки скромный подзаголовок «Из хроники чекистских будней», как бы заранее настраивающий на восприятие сдержанного, суховатого изложения событий. Но читал я эти повести и радовался возросшему художественному мастерству писателя, его умению органически сплавлять сухую точность документа с яркой, взволнованной авторской речью, его дару глубоко проникать во внутреннюю жизнь героев. — Чем вызвано твое стремление писать книги о чекистах? — спросил я однажды Сапарова, и он ответил мгновенно, убежденно: — Страстной жаждой узнать, какие именно люди защищали революцию. В разговоре я отметил, что образы славных чекистов, особенно Ланге и Каруся, получились колоритными, но что и трудностей при воссоздании их образов, наверно, было предостаточно: дела-то давно минувших дней! — Да, затруднений было немало, — кивнул Сапаров вовсе уже поседелой головой. — Приходилось буквально по крупицам воссоздавать и характеры, и внешний облик рыцарей революции. Особенно не «давался» мне Александр Иванович Ланге. И ни одной его фотографии не сохранилось! Значит, волей-неволей пришлось вслепую, с помощью одного воображения, воспроизвести его лицо. А такая обрисовка мало того, что была не по душе мне, — она просто страшила возможным очевидным несовпадением с действительным портретом чекиста. Но что же было делать, если розыски фотографии ни к чему не приводили? И я решился… Я мог, пожалуй, решиться, потому что постиг характер Ланге, движения его души. Именно исходя из поступков героя, я воссоздал его внешний обаятельный облик. — И что же? — спросил я в нетерпении. — Интуиция сработала? — Считайте, сработала, — улыбнулся Сапаров широко, без обычной сдержанности, но мне уже не терпелось докопаться до самой сути, и я продолжал расспросы: — Как же, однако, удалось убедиться в правильности портретной характеристики Ланге? — А вот как! После выхода моих повестей под одной обложкой я неожиданно получаю письмо и фото Александра Ивановича. И от кого бы, ты думал? От вдовы Ланге! Она пишет, что мне удалось правильно воссоздать внешний облик мужа, что фотография — лишнее тому подтверждение. Хочется отметить: Ариф Сапаров был не только постоянен в творческой своей манере, в действительно пожизненной преданности документальному жанру, — стоек он был и в своих душевных привязанностях к людям, если находил в них твердую идейную убежденность и безусловную честность в поступках. К таким людям он тянулся, да и они тянулись к нему, веря, что он мудро распутает любой узловатый вопрос в обычно многосложных отношениях между автором и издательством, бескорыстно и без лишней промешки прочитает любую объемную рукопись, ободрит всегда убежденно, без ложного утешительства. Друзей Сапарова (и недругов тоже) поражала в нем мужественность поведения при любых обстоятельствах. Он долго болел, перенес тяжелую операцию, но болезнь скрывал от знакомых, и, глядя на его крупную, осанистую фигуру, на улыбчиво-светлые глаза, многие, пожалуй, завидовали: «Вот счастливец, которого природа не обидела здоровьем!» Но однажды зимой, живя с Сапаровым в Доме творчества «Комарово», я вдруг заметил: на лице его появилась какая-то костяная желтизна, трогательно-тонкой, совсем ребячьей стала шея, да и вообще он начал таять прямо на глазах. Наши прогулки прекратились. Сердце сжималось от сострадательной боли — невысказанной: Ариф Васильевич не любил расспросов о его «самочувствии»… Однако болезнь слишком, видимо, допекала моего друга, если однажды у него со вздохом вырвалось и недоуменно-горькое признание: — Знаешь, что-то к вечеру температура поднимается… Последний раз я видел Сапарова в его домашнем кабинете. Он уже не садился за письменный стол — больше отлеживался на кушетке, хотя и с блокнотом в руках. — Над чем сейчас работаешь? — поинтересовался я. — Задумал еще одну документальную повесть, — ответил Ариф Васильевич. — События в ней будут приближены к нашим дням и должны раскрыть всю остроту напряженной идеологической борьбы двух миров. Глаза его, особенно огромные при впалых щеках, вспыхнули огнем пытливой, дерзающей мысли. И мне подумалось: нет, смерть не будет спешить, она не погасит этого вдохновенного огня!
1973
«МЫ ВЫШЛИ ИЗ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ»
I
В 1968 году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу стихов Юрия Воронова «Блокада», и стала эта тоненькая, состоящая всего из двадцати семи стихотворений книга заметным событием в литературной жизни страны. Приветили ее и высоко оценили в своих статьях и рецензиях Николай Тихонов и Всеволод Рождественский, Михаил Дудин и Сергей Орлов… Вообще откликов было много; среди них мелькнул в журнале «Звезда» и мой, явно запоздалый отклик, едва ли тогда необходимый читателю, который конечно же давно успел познакомиться со стихами Юрия Воронова. Однако теперь, когда сборник его не раз переиздан и уже включает в себя более семидесяти стихотворений, есть смысл вернуться к прежней своей рецензии и попутно объяснить причину ее «запоздалости». На счастье, рецензия короткая — приведу ее полностью.Книга моего сверстника, товарища по суровым блокадным годам Юрия Воронова — это свидетельство мужественного сердца, сквозь которое прошла боль и мука Ленинграда, но которое все-таки не переставало биться в стылых ночах подобно метроному, и донесло свои удары до современников, и потрясло их правдой пережитого. Читаю стихи Юрия Воронова и представляю себе мальчишку двенадцати неполных лет, исхудалого, без кровинки в лице, с огромными и черными, как полыньи на ледяной Неве, глазами, в затасканном ватнике, подпоясаннном веревкой, так как кожаный ремень давно выварен и съеден, в непомерно больших валенках, какие, пожалуй, и не сдвинешь с места из-за телесной немощи, а сдвинуть все же надобно, иначе замерзнешь, закоченеешь и до школы не дойдешь. Вижу, как он, отогреваясь у печурки-времянки, ест вместо супа бурду из столярного клея; вижу его, нахохленного, на крыше дома во время очередной бомбежки и как бы его глазами смотрю с высоты на город, что в снег до пояса закопан, на улицы, похожие на окопы, в которых уже успела побывать смерть, на пожарища, на стынущие вагоны у пустых вокзалов, на каменного льва с оторванной осколком лапой, на людские очереди за хлебом, что опять короче, чем вчера, на ангела с Петропавловского шпиля (он в который раз уже пытается взлететь, дабы уберечься от обстрелов), на братские могилы у Пискаревки… Да, были немыслимые страдания голодных и осажденных, была смерть, но было и другое, перед чем она отступила, — будничное, каждодневное мужество ленинградцев. И в том, что школьник Юрий Воронов, взрослевший не по годам, писал тогда, при тридцатиградусном морозе, на остывшей уже давным-давно печурке стихи — в этом тоже было мужество.В стихах моего товарища не найдешь высокопарного витийства, неуместного бодрячества, изощренных сравнений, — нет, его стихи суровы и лаконичны, как сама правда тех дней. Только человек, переживший блокаду, мог написать такие благородно-простые и вместе с тем горделивые строки:Мы знаем:Клятвы говорить непросто.И если в Ленинград ворвется враг,Мы разорвем последнюю из простыньЛишь на бинты,Но не на белый флаг!Хотелось бы пожелать талантливому поэту счастливого продолжения его работы над книгой стихов о блокаде: ему есть о чем рассказать! Да и не вся песня еще спета про 900 легендарных дней обороны Ленинграда, про его людей, смертью смерть поправших.В блокадных дняхМы так и не узнали:Меж юностью и детствомГде черта?..Нам в сорок третьемВыдали медалиИ только в сорок пятом —Паспорта.
II
Познакомился я с Юрием Вороновым во Дворце пионеров на занятиях литкружка, руководимого поэтом Леонидом Ивановичем Хаустовым в предпоследний военный год, а дружба наша началась на занятиях литобъединения в Доме писателя имени Маяковского — во время оживления, правда еще робкого, литературной жизни после грозной осадной поры. Люди, пережившие блокаду, сохранившие в облике своем неизгладимые метки пережитых скорбей, узнают друг друга с первого взгляда, как собратьев по общим испытаниям, и сходятся быстро, надолго, если не навсегда, словно их судьбы отныне повинуются неписаным законам блокадного братства. А в Юрии Воронове сразу угадывался именно блокадник, сразу узнавались его характерные черты. Худое лицо Юрия так, по-видимому, и не способно было обрести нежный юношеский овал и румянец — оно остро, костисто прорезалось на скулах, в подбородке и все отливало какой-то нездоровой матовой бледностью. В его больших и неподвижных темных глазах точно застоялся мрак бессонных голодных ночей; его тонкие губы сжимались цепко, с бессознательно отчаянным непреклонством, как бы подавляя давнюю, но живучую боль, а если они вдруг и складывались в улыбку, то это была чаще всего вымученная, зябкая улыбка блокадника, который все еще не отогрелся, не оттаял после ледового плена блокады. Когда мы познакомились, Юрию Воронову было лет пятнадцать, не больше. Видимо, еще не осознанные до конца впечатления пережитого теснились в его возмужалой не по возрасту душе, которая в своем развитии явно опережала расцвет молодых физических сил. Юрий, хотя и посещал прилежно литературную студию при Доме писателя имени Маяковского, никогда не делился со мной творческими замыслами, ничего не читал из написанного: была в нем какая-то целомудренная застенчивость, хорошая человеческая скромность, явно воспитанная чувством самокритичности. Да и о блокадной поре он вспоминал неохотно — и не из боязни растревожить незажившие раны (подросткам едва ли свойственна такая умудренная осмотрительность), а скорее исходя из понимания того факта, что блокаднику-сопереживателю совершенно незачем напоминать про былые муки-страдания[15]. Впрочем, однажды Юрий решился все-таки прочесть мне свое стихотворение. Посвящено оно было победному возвращению советских солдат домой; в нем чувствовалось неподдельное волнение чистой и честной души, созвучно живущей со временем; ему был присущ лаконизм — уже немаловажные достоинства! И я, тогдашний литсотрудник заводской многотиражки «Молот», весьма уверенно заявил смущенному автору, что его стихи достойны печати и непременно будут напечатаны. Иной автор, увидев напечатанным свое первое стихотворение, пожалуй, решил бы, из чувства взыгравшего тщеславия, закрепить свой успех новыми стихами. Но Юрий и тут остался верен себе: застенчиво поблагодарил меня за дружеское участие, однако больше уже никогда не вспоминал про свое стихотворение, да и новые не читал. Казалось, присущая ему самокритичность чуть ли не обернулась неверием в собственные творческие возможности. При встречах он по-прежнему пылко говорил о поэзии Александра Прокофьева, Веры Инбер, Ольги Берггольц. При поступлении в Ленинградский университет Юрий избрал отделение журналистики, то есть явно предпочел филологу газетчика. Теперь мы все реже встречались в его квартире на улице Чайковского, вовсе не виделись в Доме писателя имени Маяковского. Наши пути разошлись и, думалось, никогда уже не сойдутся на литературном перекрестке. Юрий Воронов всю свою творческую энергию отдавал журналистике, — казалось, только ей! Одно время он редактировал ленинградскую молодежную газету «Смена», затем долгие годы был главным редактором «Комсомольской правды». По-видимому, на былое увлечение поэзией он уже посматривал со снисходительной грустью и, вероятно, не раз попрекал себя этим «грехом» молодости… Но как мы подчас ошибаемся даже в близких нам людях! Вот я смотрю на первую дату написания стихов в последнем издании книги Юрия Воронова «Блокада» (1942—1946) и понимаю: худенький подросток в самые многотрудные годы вынашивал замыслы своих стихотворений и втайне выводил озябшей рукой при свете коптилки, быть может, эти самые строки, в которых сгусток виденного и выстраданного, дыхание неугасимой героической жизни:*
*
*
(Стихи о ленинградке)
*
*
1974
АНГЛИЧАНИН… ИЗ БЛОКАДЫ
Декабрьские блокадные дни 1941 года. Электроэнергия в наше ремесленное училище подается урывками, станки часто простаивают. Мы топчемся в обширном холодном вестибюле — ждем, когда местная, заводская, электростанция расщедрится… В один из декабрьских дней в вестибюль вошел с улицы моложавый человек в заношенном осеннем пальто, в продранной шапке-ушанке, в громоздких сапогах со стоптанными подошвами. Меня неприятно поразило его округлое, чисто выбритое лицо со свежим, почти юношеским румянцем, — оно выглядело таким противоестественным среди худых, серых лиц моих товарищей! Но поразили также и глаза незнакомца. Светлые, большие, навыкате, они с пытливым сочувствием скользили по нашим голодным лицам и, казалось, еще больше расширились… Самое удивительное произошло потом. Когда незнакомец покидал училище в сопровождении нашего замполита Аркадия Прокофьевича Скороходова, на нем уже был ватник с надетой поверх форменной черной шинелью с голубыми петлицами, его рваную шапку заменила другая, с кожаным верхом, ушанка, а вместо громоздких сапог красовались новенькие, без всяких подшитых задников, валенки. Мы, ремесленники, промеж себя решили, что это пожаловал новый мастер производственного обучения, на место ушедшего на фронт мастера токарной группы Федорова. Однако новичок долго не появлялся в училище. Я увидел его только раз — в феврале или марте 1942 года. Лицо его посерело, щеки запали, зато крупные глаза стали как будто еще выпуклее. Видимо, он тоже хватил блокадного лиха… «Но кто он? Откуда взялся?» — такие вопросы, конечно, возникали у ремесленников… и сразу же забывались. Другое волновало, тревожило в ту пору: когда же наконец увеличат норму выдачи хлеба, когда будет прорвано окаянное блокадное кольцо?.. В третий раз я встретил загадочного незнакомца летом 1944 года на Аничковом мосту. Я узнал его тотчас же по выпукло-светлым, пытливым глазам. Опять же и лицо его обрело прежнюю округлость и гладкость, на щеках играл совсем юношеский румянец, а главное — в этой округлости и гладкости уже чувствовалось что-то улыбчивое, беспечальное и вполне созвучное общему душевному подъему ленинградцев при победных вестях с фронтов. Эпизодичность таких встреч, конечно, не способствовала их закреплению в сознании, хотя молодая зрительная память вобрала в себя образ незнакомца. И эта память дала себя знать, спустя, правда, два десятилетия. Однажды я проведал Скороходова. Вспомнили мы блокадные годы, многое вспомнили… — А что за незнакомец тогда появлялся в училище? — воскликнул я, точно вдруг спохватившись, и описал его внешность. — Это был английский писатель, — ответил Скороходов к моему великому изумлению. — Фамилию его забыл, но, кажется, она начиналась на букву «У»… Англичанин не раз выступал среди ремесленников в общежитиях… Мы его подкармливали как могли… — И приодевали! — напомнил я. — Да, и приодевали. — Но как же он очутился в осажденном Ленинграде, этот англичанин? — Что-то такое он рассказывал, да память моя стала дырявой… Прошло еще десятилетие. Я стал работать над рассказами и воспоминаниями о писателях. И вот тогда-то давние встречи с удивительным англичанином-блокадником сразу ожили в памяти. Мне страстно захотелось выяснить все подробности его жизни в осажденном Ленинграде. К счастью, я вспомнил, что поэт Всеволод Азаров в годы войны находился на Ленинградском фронте, и позвонил ему, почти уверенный в его знакомстве с английским писателем. Так оно и оказалось. Едва я только сказал, что фамилия того писателя начинается на букву «У», как Всеволод Борисович радостно подхватил: — Это Уинкотт!.. Леонард Уинкотт. Я с ним встречался в годы блокады. Он — из политэмигрантов. Человек замечательный! Редкостного обаяния. — А не знаете ли вы, где он сейчас проживает? Я хотел бы ему написать. — Посмотрите справочник писательских адресов. Уинкотт, насколько помнится, был принят в Союз советских писателей тогда же, в блокаду. Действительно, в том справочнике я нашел адрес Леонарда Уинкотта и без лишней промешки послал ему письмо со множеством вопросов. Вскоре пришел ответ, столь впечатляющий и столь исчерпывающий, что я не могу не привести полностью это письмо, тем более что за ним стоит большая судьба мужественного человека.Уважаемый Юрий Фомич! Вы не ошиблись, я и есть тот единственный англичанин, который пережил блокаду Ленинграда и выступал много раз в различных ремесленных училищах и в госпиталях перед ранеными красноармейцами. Всего за время войны я выступал 200 раз. Хотя мой русский язык хромает, Союз писателей получил много просьб прислать меня. Я не задавал себе вопрос: «Почему именно меня?» — до тех пор, пока не пришлось мне выступить в большом госпитале перед красноармейцами. Перед моим выступлением комиссар объявил, что пришел писатель, а также привезли кино. «Что вы хотите, товарищи, писателя или кино?» — «Какая картина, военная?» — «Да». — «Тогда давайте нам писателя». Я понял, что солдаты хотят отдохнуть. Поскольку я служил в английском флоте десять лет, объездил весь свет, у меня было что рассказать фронтовикам и дать им отдохнуть. Напишу Вам свою биографию. Родился я 19/I 1907 г. в городе Лестер (Англия) в семье бедного рабочего. Кроме меня было 7 детей. Отец был каменщиком, безграмотным и страшным пьяницей, часто бил нас, детей, и даже маму. В 14 лет я оставил школу и пошел работать на фабрику, а через 2 года — в 1923 г. — поступил в английское военно-морское училище в городе Шётли. Затем окончил школу подводного плавания. С 1925 года служил на различных кораблях английского военно-морского флота в разных частях света. В 1931 году, будучи матросом на крейсере «Норфольк», принял активное участие в восстании моряков и был уволен из флота. С 1931 по 1933 г. работал пропагандистом в МОПРе. В 1932 г. вступил в ряды английской компартии. Был кандидатом в г. Амстердаме на 1-й Всемирной конференции против войны. С ноября 1932 г. по январь 1933 г. был делегатом в Москве на 1-м Всемирном конгрессе МОПРа. Вернулся в Англию. Затем был послан в Ленинград для работы в Интерклубе моряков. Работал заведующим англо-американским сектором с 1934 по 1937 год. После закрытия сектора два года работал в промкомбинате Ленинского района города Ленинграда. Принял советское гражданство. С 1940 года работал консультантом при кабинете английской филологии в 1-м Ленинградском гос. институте иностранных языков. В это же время начал печататься в журналах: «Литературный современник», «Звезда», «Краснофлотец», «Советский моряк» и др. 1 июля был призван в ряды РККА. В декабре 1941 года демобилизован. Работал начальником ПВХО в Ленинградском Доме писателей. В 1942 г. был принят в члены Союза советских писателей. Был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медалью очень горжусь, поскольку я единственный англичанин, который получил эту награду. С 1957 года живу и работаю в Москве. В настоящее время я — пенсионер… Награжден медалью «Ветеран труда», которой тоже очень горжусь. Кроме очерков, рассказов и повестей, которые были напечатаны в журналах на русском и английском языках, я написал книгу «Инвергордонский бунтовщик» — о восстании 1931 года. Книга вышла в Лондоне на английском языке в 1974 году, и я был приглашен в Англию к моменту выхода книги в свет. В 1977 году книгу перевели на венгерский и издали в Венгрии. На русском книга не издавалась. Хотя с прошлого года она находится в издательстве «Прогресс» (Москва), но никаких сведений о ее переводе пока я не имею. На Ваш вопрос, не писал ли я о ремесленниках и о блокаде, отвечу — нет, не писал. Прошу Вас, Юрий Фомич, передать мой самый сердечный привет Всеволоду Азарову. До свидания. Желаю Вам успеха. Если я могу Вам быть в чем-то полезным, с удовольствием помогу, поделюсь своими воспоминаниями.С уважением L. Wincott.
1980
НА ВОЛГЕ ШИРОКОЙ
РУССКИЙ САМОРОДОК
СЛУЧАЙ С КОМАНДИРОВАННЫМ
Летом 1961 года плыл я по Волге и разговорился с одним пассажиром. Вот что он рассказал: — Случилась эта история со мной в прошлом году. На «Ракету» билета я не достал. И пришлось мне, горемыке, тащиться в командировку в Калязин вот на этом же самом допотопном пароходишке. Пристали мы к Кимрам. Началась выгрузка мешков, ящиков и черт-те знает чего! Спрашиваю матроса: сколько простоим?.. Отвечает, что часа два-три, не меньше. Дай-ка, думаю, сойду на берег и познакомлюсь с этими достославными Кимрами. А то вот, поди-ка, ношу ботинки с кимрским клеймом, а ни разу в жизни не удостоил город обувщиков своим вниманием. И пошел я в город. Только минул мост над речушкой Кимеркой, а тут уже недалечко и музей. Вход бесплатный. Захожу с жаркой булыжной улицы в музейную прохладу. В комнатенках тишина, даже мухи не летают. Зато я сам, как муха, от витрины к витрине перелетаю. За каких-то десять — пятнадцать минут, верите, побывал и в каменном и в бронзовом веках. Окунулся в них с головой, как в пыль музейную. Только где же обувь кимряков? Куда задевался этот самый капиталистический век, будь он неладен? Ибо, вспоминаю, еще Ленин писал об искусных кимряках-сапожниках в пору капитализма в России[16]. На мое счастье, сидит в уголке старушка в темном платочке. Сначала я, правда, подумал, это музейный экспонат: лицо сухонькое, этакое пергаментное, а ручки желтые, будто из воска вылеплены. Однако пригляделся — ручки шевелятся, вяжут что-то. Я и спрашиваю старушку дежурную: «Где тут, мать, распроклятый век капитализма?» Она кивает мне, встает — и возносит меня в капитализм… по лестнице на второй этаж, а сама усаживается и начинает вязать. Да, здесь я увидел самую всевозможную обувь искусников кимряков. Хожу от витрины к витрине, а в глазах, верите, уже рябит от всех этих остроносых и тупоносых дамских ботинок и мужских штиблет. И вдруг — чудо! Под отдельным стеклянным футляром, в почете, высится богатырский сапожище. Высота его — до полутора метров, след будет в полметра. Стоит, лоснится кожей задубевшей, в трещинках от древности, и подбит он, идол, подковными гвоздями на каблучищах. «Ух и гигант сапог! — не могу опомниться. — Его, наверно, сам Илья Муромец носил! Ведь он, согласно былинам, здешний родом, из-под Карачарова». Хожу я по залу уже тихонько, половицей не скрипну — видать, из почтения к этому гиганту, нет-нет да и оглянусь на него. А тут и беда случилась! Напоролся я на гвоздь в полу. Вылез он, окаянный, как все равно гриб-поганка после дождичка. И — рраз! — моя подметка отстала от носка. Глянул я на ботинок, а он уже на крокодила похож — так и разевает зубастую пасть. — Вот чертовщина! — выругался я. — Да тебе бы, мать, не вязаньем заниматься, а взять молоток да гвозди заколачивать! Старушка признается: — Уж мы колотим, колотим, недаром сапожному ремеслу сызмальства учены. А гвозди, как наступишь, все равно лезут, и нет с ними никакого сладу, потому как пол старый, в разруху пришел, а средств на ремонт не отпускают. — Так что же, — пытаю, — все тут подметки дерут? — Многие, многие, — утешает дежурная. — Не ты первый, не ты и последний. — Да я же в командировку еду! Как быть-то?.. — А ты сколько, сынок, — спрашивает старушка, — ботинки носишь? — Второй год. — Ну а при царе-то, — опять утешает старушка, — и за неделю сапог разваливался. Такая уж политура была. Ее готовили из всякой дряни — из тряпок, из глины. Зато и дешевая обувь была. Ой дешевая! А ты вот второй год носишь свои, и три носил бы, коли не гвоздь. И, чай, обувь-то наша, кимрская? — Ваша, ваша! — кричу. — Но что мне делать-то? Я ведь шагу не могу ступить! На крик прибегает заведующий музеем, сухонький, верткий такой и с лицом тоже пергаментным. — В чем дело? — спрашивает. Я объясняю. Он говорит: — Сейчас вам веревочку принесу, вы и подвяжете сапог. И не успел я слова сказать, как он уже упорхнул. Секунда — и несет веревку, советует: вы, мол, у нас днем с огнем не разыщете ремонтные мастерские, так ступайте-ка к частнику! — А может, вы почините? — язвлю от нервного расстройства. — Хе-хе, — смеется без обиды. — Есть мастера и позавиднее меня! Есть один такой, что мы его бюст в музее скоро выставим. — Да что вы про бюст? — серчаю не на шутку. — Давайте адрес, адрес! — Живет Макар Сапожник… хе, хе, за Кимеркой, на Зарецкой стороне, по улице Орджоникидзе, дом двадцать восемь. — Фамилия, фамилия! — требую. — Я же сказал: Сапожник. Макар Андреевич Сапожник. Такая его фамилия. Хе-хе!.. Подвязал я веревкой подметку и — вниз, на улицу. Тут, кстати, автобус подошел, и, на мое счастье, идет он как раз на Зарецкую сторону. Сажусь. Еду. Только сел — глянь, уже моя остановка! Слезаю на булыжной улице. Иду разыскивать дом двадцать восемь. Ступаю одной ногой на пятку, как больной, а то еще зацеплюсь носком — комедия будет на середине улицы. Наконец отыскал нужный дом. Выкрашен под охру, железная крыша. Добротный бревенчатый дом, и на высоком крыльце две скамейки друг против друга. «Это, наверно, для ожидающих клиентов, — отмечаю про себя. — Видать, и впрямь знаменитый сапожник этот Макар Сапожник». Деликатно стучусь в дверь, потом сильнее — как в барабан. Никто не подходит. «Уж не день ли неприемный? — замирает сердце. — Тогда я пропал. Как тогда до парохода дотащусь? Полчаса до отхода осталось». Однако тут я обнаружил кнопку — позвонил. И слышу — о, радость! — степенные, грузноватые шаги. «Ох, — трушу, — наверно, все же неприемный день! Не станет частник подбивать подметку. Они ведь народ капризный, балованный». Открывается дверь. Смотрю — стоит в темной прихожей осанистый человек, немного грузноватый, в белой русской рубашке, перехваченной шнурком на животе. Волосы у него густые; они слегка курчавятся и снежно белеют в прохладной прихожей. Лицо округлое — не то раздобревшее от сытой жизни частника, не то по старости расплылось. Нос крупный… и вроде добродушный. От носа идут книзу две глубокие морщины, и между ними зажаты седые усики, тоже снежные. Под усами мягкая улыбка прячется — и слышу глуховатый голос: — Ко мне?.. Тогда проходите, проходите. Хозяин ведет за собой направо, в комнату. «Вежливый, любезный, — думаю, глядя на его широкую спину. — Есть обхождение с посетителями. Зато и сдирает, наверно, втридорога». Вхожу в комнату с одним окошком, темноватую из-за ближнего дерева. Приглядываюсь — и даже, верите, назад подаюсь. Ведь ожидал увидеть сами знаете что — мастерскую частника. А тут очутился в кабинете. Справа от двери книжные полки до самого потолка. Напротив полок — клеенчатый темный диван. Над диваном — и это уж совсем неожиданно! — портрет Горького. А ведь он в молодости всем был, только не сапожником. Так зачем же было портрет вешать?.. Ладно, приглядываюсь дальше. Напротив дивана, впритык к окну, стоит просторный письменный стол. На столе листки разбросаны, книги и — что уж вовсе несуразно! — поблескивает пишущая машинка. Однако тут же мелькнула мысль: «Впрочем, нынче другой век. Нынче и сапожник пошел культурный. Да здесь к тому же и не мастерская его, а только приемная заказов. Важная птица! И все-таки, — продолжаю размышлять, — почему бюст частника будут выставлять в музее? Или это просто посмеялся надо мной заведующий музеем? Недаром все «хе-хе» да «хе-хе»… А может, я просто попал не туда?» Отважился спросить: — Вы — Макар Андреевич Сапожник? — Я, — отвечает спокойно и улыбается, причем усы растянулись, как гармошка. — У вас дело ко мне? Я слегка приподнимаю ногу да киваю на несчастный ботинок, обвязанный веревкой. Макар Сапожник слегка брови вскидывает (а брови темноватые у него, не в пример волосам), однако сам про себя чему-то улыбается — вот что подозрительно! Затем подходит к дивану, засовывает руку за его спинку и вытаскивает железную ногу, насаженную на деревяшку. — Снимайте ваш ботинок, — говорит уже серьезно. Пока я снимал, он гвоздочки мелкие достал и молоток, а сам на диван уселся и железную ногу в коленях сжал — ждет меня… Словом, подбил подметку, да так быстро, ловко, что я, верите, даже глазом не успел моргнуть. — Спасибо, — бормочу. — Я думал, вы откажете… Думал, день сегодня неприемный… — И рубль ему протягиваю. Он, будто ничего не заметив, отвернулся и стал что-то писать на столе. Я подумал: «Обиделся старик» — и затылок начал почесывать: прибавить или нет?.. Решил прибавить. Захожу вперед — и протягиваю два рубля. Два рубля, черт побери! Суточные! Но тут… Нет, вы даже не поверите!.. Тут он оборачивается и протягивает мне книгу в красноватой обложке. А на обложке написано наискосок: «Пробуждение». — Вот вам на память, — говорит хозяин ласково, со смешинками в глазах. — Иногда вспоминайте автора этой книги Макара Рыбакова. — Автора?! — восклицаю я, ошарашенный. — Рыбакова?.. — Рыбаков — это я. — Как вы?.. Но кто же тогда Сапожник? — И Сапожник — это тоже я. Только это — мой псевдоним. Тут я вообще онемел. Зажал книгу в одной подмышке, ботинок — в другой и спал пятиться к двери. — Да вы обуйтесь сначала, — советует Сапожник, он же — Рыбаков. — Ничего — бормочу, — я там, на крылечке… У вас там скамейки… Пришел я в себя только на пароходе. Открываю подаренную книгу, а в ней написано четким и мягким, ласковым таким почерком: «Странному посетителю на добрую и долгую память. М. Рыбаков (Сапожник)».МОЕ ЗНАКОМСТВО
И вот я — у хлебосольного Рыбакова, Макара Андреевича. Мы обедаем на веранде. Перед нами — яблоневый сад, буйно разросшийся. Коряво-изломистым стволам в весенней, уже поблекшей побелке очень тесно в плотном дощатом заборе, этом неумолимом обруче. Яблоневые ветки сцепились друг с другом в безмолвно-отчаянной борьбе за простор, за свет. Но только верхние достигли сияющей синевы полуденного неба. Заволжский ветер ласково-любовно овевает каждый листочек, а доброе солнце лета, вызолотив победные ветки, зовет их все выше и выше в ликующую синеву… Я невольно перевожу взгляд на Макара Андреевича. Сколько лет глухой «провинциальной» безвестности, вседневной цепкой борьбы с житейскими неурядицами, просто с мещански-тупым непониманием святого человеческого права быть выше сытости и благополучно устроенного существованьица! И вот наконец — победа, пусть поздняя, в семьдесят седых годин, но эта победа — победа необоримой воли и всегдашнего трудолюбия, когда все бедственное, постылое стало лишь достоянием все вбирающей памяти художника, и теперь перед ним — желанная солнечная высота, в которую вдруг, подобно молодым побегам старого дерева, устремились забродившие потаенные силы.* * *
Сошли в сад, уселись на скамейку, прижатую спинкой к стволу яблони, и беседуем о литературе под тревожно-громкий шелест листвы. — Меня иной раз корят, — признается, вздыхая, Рыбаков, — мол, все о старом пишу… Но вот подойди к этой яблоне вплотную, ткнись носом в ствол — и что ты увидишь? Да ничего, кроме трещинок и червоточинок на коре! А отступи от нее подальше. Ну-ка отступи, художник! И сразу узришь всю яблоню, во всей красе.* * *
В жизни он на редкость прост, и душа у него младенчески ясная, простая — она светится из глаз лучисто, тепло, солнечно. И все книги его — это чистейший отсвет душевный: они тоже ясные и сотканы из слов самых простых, незатейливых, даже обыденных. Но это именно та прекрасная простота чувств и слов, сквозь которую, как сквозь стеклышко, только увеличительное, видна жизнь во всей первозданной свежести и неприкрытой наготе. «Мы добираемся до нашей избенки с тремя подслеповатыми оконцами и бездонным горшком вместо трубы на соломенной крыше», — пишет он, и я, читатель, вижу через эту деталь — горшок бездонный — всю убогую жизнь российских печальных деревень. А вот какие у него житейски точные сравнения: «Зина с матерью до вечера пропадали на работе, а я томился в душной избе, точно забытая весной картошина в сыром подвале». Или: «День показался мне таким тягучим и длинным, словно серая нитка в основе холста».* * *
Спросил задумчиво: — Видели в музее сапожище на подковных гвоздях?.. Как ступишь, так след в полметра. — И прибавил строго, поучительно: — Ежели входить в литературу, то только в таких богатырских сапогах. Чтоб след твой не затерялся среди других.* * *
В кабинете над клеенчатым диваном висит портрет Максима Горького. Он взглянул на него и проговорил спокойно-веско, тоном отца-сердобольца, у которого много детей разбрелось по белу свету: — Надобно вам, молодым писателям, больше читать и перечитывать классиков. А то у вас в книгах полная механизация, упрощенчество. Уж больно краткие характеристики даете своим героям. А развернутый портрет исчез. Он мог так упрекать. Своих героев он лепит не спеша и прочно, из круто замешенного теста жизни.* * *
В городском саду — редкостное событие: вечер кимрских литераторов! Вход как будто бесплатный. Но у кассы — обширный книжный лоток, и надо непременно доказать свою бескорыстную любовь к отечественной литературе, то есть купить что-нибудь — брошюрку или солидный роман, эти своеобразные билеты на вечер. На вечере М. А. Рыбаков читал отрывок (юмористический) из повести «Лихолетье». Сначала, при описательной части, несколько затянутой, в гулком прохладном зале стояло леденящее молчание, только раздавался обидно-вежливый, тихий шелест перевернутых страничек благоприобретенных книг. Но вот легкий игривый смешок, словно ветреная зыбь, пробежал по застойной воде сурового безмолвия; вот он уже расплеснулся волнами, буйно накатил на сцену и веселыми брызгами обдал трибуну, на которой стоял старейший писатель Верхневолжья. Его крупные рабочие руки взволнованно сжимали края трибуны. Казалось, он боялся, что этими радостными волнами человеческого внимания его сорвет со сцены, унесет… После вечера он, еще одушевленный чтением, добрым вниманием кимряков, признался тоном довольной усталости: — Семьдесят лет — это, батенька, не шутка. А вот, поди ж ты, выступаю! Уже сорок выступлений провел. Да еще для кинохроники снимался.* * *
Сегодня Макар Андреевич получил читательское письмо из Кривого Рога.«Повесть «Пробуждение» не только мне нравится, — пишет криворожец, — но и моей жене, прочитавшей на своей жизни единственную книгу — это «Пробуждение» Рыбакова, которая и пробудила ее от душевной спячки».
* * *
Ходить с ним по городу приятно и почетно. Каждая прогулка — это радостное узнавание все новых и новых черточек в облике Макара Андреевича. Мы идем по щербатой булыжной мостовой. Кто ни встретится на пути — каждый здоровается с Рыбаковым, а он спокойно кивнет или загорелую руку в молодых весенних веснушках забывчиво приставит к открытой седовласой голове. Свой среди своих! Вот встретилась курносая девчушка, стремительное созданьице на тонких ножках, крикнула звонко: «Здрасте!» — и только ее видели… — Она из тринадцатой средней школы, — сообщил Рыбаков. — Там, знаете, школьники по моим книгам изучают развитие кустарного промысла и зарождение капитализма в России. Вроде бы похвастался, а взглянул на меня простодушно, открыто — по-мальчишески и вдруг что-то озорновато-счастливое вспыхнуло в его глазах и осветило лицо. Это был свет душевной молодости. Но тут же потемнел, нахмурился. Навстречу вышагивал сухонький голенастый человек в обвислом пиджаке, едко кривил тонкие недобрые губы. Сблизившись, буркнул что-то приветственное, а глаза отвел. Так и прошмыгнул мимо, отчужденный. — Это наш краевед… — Рыбаков посмотрел вслед, вздохнул: — Ох и колючий, беспощадный человек! Все никак простить не может некоторые исторические неточности в моей книге «Пробуждение». — И вдруг, прижав сильные руки к груди, прибавил с каким-то кротким отчаянием: — Но как же он не понимает, что правда художественная превыше всего!* * *
Долго собирался спросить о его первом произведении — событии памятном, незабываемом для каждого автора. — Первое произведение, — ответил Макар Андреевич, — я напечатал в двадцать восьмом году в «Тверской правде»… Хотя нет, вру! — поправился тут же, и в глазах блеснули смешинки. — Первое мое произведение увидело свет божий куда раньше! Еще в восемнадцатом году, когда я в Калязине работал уездным комиссаром земледелия. Да вот погодите… Сейчас… Он выхватил из письменного стола хрупкий ящичек, порылся в нем секунду-другую — и в его взволнованных тяжелых руках затрепетал ветхий бумажный лоскуток. — «Товарищи крестьяне! — прочел Рыбаков, чудесно преображенный, звонким хрипловатым голосом мятежной молодости. — Теперь наши бывшие угнетатели стараются всеми силами нас возмутить, натравить друг на друга, чтобы мы были в ссоре и задоре. Им самим стало невозможно, что они жалеют ими награбленных капиталов с нашего труда во время кровавой бойни, затеянной ими, и подкупают несознательный элемент из среды бедноты, который соглашается вести пропаганду и идет обратно за деньги в ряды капиталистов, забывает честь и совесть свободного гражданина и делается предателем свободной России». Замолчал, задумался — и вдруг восхищенно: — А хоть и безграмотно написано мое воззвание, зато крепко. И как написал тогда, так типография Воскресенского и Хрусталева и напечатала. В Союз писателей Макар Андреевич вступил давненько — лет тридцать назад. Членский билет ему выдан на имя Сапожника. — Да, да, я Сапожником тогда звался, — кивает Макар Андреевич и, достав из-за спинки дивана железную ногу на деревяшке, весь лучится смешливой добротой озорника Васьки Буслаева. — Если отвалится подметка — починю мигом. На его членском билете четкая подпись с милым знакомым наклоном чуточку влево: М. Горький. Я внимательно рассматриваю ее, потом тихонько спрашиваю: — А вам приходилось встречаться с Алексеем Максимовичем? И Рыбаков, погасив веселый блеск в глазах, сам тихонько, почти шепотом, отвечает: — Встречался, встречался… Тогда я прошуего рассказать о встречах с Алексеем Максимовичем, но он уже не слышит меня. Он нежно вглядывается в строгое, хмуроватое лицо Горького на портрете… Я неслышно выхожу из кабинета.* * *
Мы сидим на откосе, на щербатой скамейке, под липой. Откос начинается от самых наших ног; он весь размыт дождевыми потоками, реденько прошит короткой игольчатой травкой. — За мою жизнь, — говорит Макар Андреевич, — берег на пять метров поубавился. Хотели нынче латать его — несколько столбов вбили, да так и бросили… Внизу — Волга, разливистая, сумеречная по-вечернему, а он — дерзко: — Я, знаете, пожалуй, переплыл бы ее. Недавно прошел дождь — и воздух парной, травка по откосу блестит мелко, бисерно, даже курчавится, ожившая, а с липы срываются тяжелые капли и веско стукают по соломенной шляпе Рыбакова. — Хорошо!.. Ах, хорошо, милый! — трепетно-восхищенно говорит он, лаская кротким сиянием глаз и мглистую тучу над Савеловом, и яркие заводские огни, и Волгу, взбодренную морями, раздольную, и вон тот белый мигучий бакен на дальней излуке… Он, в свои годы глубокие, не устает восхищаться миром — он цветет вместе с ним и как бы заново переживает радость бытия. В его душе — половодье свежих чувств; там такой же могучий разлив, как и на Волге, отныне преображенной, омоложенной.* * *
Славная его книга «Пробуждение» уже вошла в жизнь людскую. — Перестань кричать, сидень головастый! Это молодая мать корила плачущего ребенка в коляске. Рыбаков подошел к ней, спросил, откуда такое выражение. — Да вот у нашего Рыбакова в книжке вычитала. Макар Андреевич отошел ко мне — сияющий, счастливый, как ребенок, наконец-то получивший долгожданный подарок; потом вдруг стал бормотать быстро, упоительно. Я прислушался. Это было начало его книги «Пробуждение».В синем небе сверкает добела раскаленное солнышко. Я, повязанный желтым платком, сижу в деревянном ящичке со скрипучими колесиками и облизываю языком сухие губы. Из раскрытых окон избенок, разбросанных по берегу Волги в два ряда, доносится перестук сапожных молотков и непонятные песни. Мне пятый год. Мои простуженные ноги не ходят. Девятилетняя сестра Зина везет меня по пыльной дороге и кричит: — Везу Макария уго-одничка! Макарий уго-одничек умер во вторничек! Угодником Зина зовет меня, когда у нее хорошее настроение, а обычно честит сиднем головастым.
* * *
Весь день ходил тихий, задумчивый, но в нем что-то напряглось до предела — это я чувствовал. Так чувствуешь близость грозы в застоявшемся воздухе. И вдруг, сидя со мной на хрустком, приятно холодном диване, под портретом Максима Горького, сказал: — Да, я видел его… Я знал его, говорил с ним — и это на всю жизнь.* * *
В Москве по инициативе Горького был организован конкурс на лучшую пьесу клубного характера. В сентябре тридцать третьего года объявили результаты. И — о радость! Моя пьеса «Зайчина» оказалась в числе пяти премированных. Алексею Максимовичу захотелось повидать авторов — победителей конкурса. Была назначена встреча в Доме Герцена. Но вот беда! В день встречи погода выдалась ветреная, дождливая, и Горькому нездоровилось. Мы прямо-таки отчаялись. А тут нам сообщают: Горький ждет товарищей у себя на Малой Никитской. Явились втроем: Персонов, Аверьянов и я, испуганно-счастливый, какой-то весь встрепанный. Алексей Максимович, как сейчас помню, встретил нас у входа в кабинет. На нем был черный пиджак, он был без галстука, частенько покашливал и хмурился: видать, крепко ему досаждала эта сырая погода. Я вошел в кабинет и осмотрелся, стараясь все запоминать. У окна стоял большой письменный стол; на нем — стеклянная чернильница с медным колпачком на подставке, пресс-папье, четыре карандаша, стопка писчей бумаги, рукописи. По одну сторону стола стоял диван, по другую — жесткое кресло хозяина и два стула для гостей. Когда мы, робеющие, уселись, Алексей Максимович стоя… такой, знаете, высокий, суховатый, подбористый… поздравил нас с успехом, потом сам сел и, все так же хмурясь, но как будто уже серчая на нас, сделал ряд замечаний по каждой пьесе отдельно. Листая мою пьесу, он спросил, почему я избрал себе псевдоним «Сапожник». В ответ я пробормотал: — Сапожник — это моя дореволюционная профессия. Алексей Максимович покачал головой неодобряюще, потом чуть-чуть улыбнулся сквозь усы, но сказал все-таки сурово: — Хотя в настоящее время это модно — выбирать подобные псевдонимы, но — неоригинально, неоригинально. Помолчал, подпер левую щеку рукой — и снова спрашивает: — А что вас заставило писать об ивановских кустарях-колхозниках, если вы сапожник и живете в Кимрах? Я объяснил, что промколхоз «Зайчина», которому посвящена моя одноименная пьеса, является одним из лучших в стране и ездил я туда по творческой командировке. В заключение с гордостью добавил: — Организатором и руководителем промколхоза является старший брат писателя Дмитрия Фурманова — Аркадий. По его совету я жил в селе Дунилове, в той же самой комнате, где Фурманов создавал своего бессмертного «Чапаева». — Так, так, — произнес Алексей Максимович, взявшись за подбородок. — Хотя второго «Чапаева» вы и не создали, но для начала получилось неплохо. — И, закурив папиросу, задал еще вопрос: — А что вас заставило в столь пожилом возрасте (мне было тогда сорок два года) взяться за перо? — Вы, Алексей Максимович, — пылко признался я. Он, держа окурок между пальцев, стал очень пристально, сквозь сизый дымок, вглядываться в мое лицо, потом сказал: — Никак не припомню, где мы с вами встречались. — И попросил рассказать, как же это он стал моим учителем. Да, это был мой учитель — человек, который поставил меня на правильную жизненную дорогу! И я начал с восторгом: — Алексей Максимович, моя жизнь до Великого Октября имела очень много общего с вашей, а потому, читая ваше «Детство», «Мои университеты», «Мать» и другие произведения, я, по своей наивности, думал: «Писать нетрудно, только стоит взяться!» И так продолжалось не один год. Но за перо я не брался. Однажды после сытного обеда, лежа в кровати, я раскрыл вашу книгу и прочитал примерно следующее: «Многие, лежа в кровати с книгою в руках, думают, что писать просто, стоит только взяться, но такие люди подобны клопам: они кусают других, но сами за перо никогда не возьмутся и ничего не создадут». Алексей Максимович улыбнулся, на его впалых щеках заиграл слабый румянец. Придвинув кресло ко мне, он заметил: — Хоть не совсем точно, но смысл правильный. И что же дальше? Он заинтересовался, он желал меня слышать, и я, счастливый, продолжал: — Меня тогда бросило в жар, стало стыдно самого себя. Я — клоп! Быстро, точно ужаленный змеей, спустил ноги с кровати и, глядя на ваш портрет, висящий на стене, дал клятву не быть больше клопом и все свободное время заниматься творчеством до самой гробовой доски. И вот с тех пор я верен своему слову. Алексей Максимович поднялся и, обеими руками сжимая мою руку, долго смеялся и сквозь смех повторял: «Мой клоп родил нового писателя!» На прощание проговорил: — Учитесь и пишите, из вас толк будет. А за то, что вы развеселили меня, — спасибо.НОВЫЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
На следующий год я вновь побывал у Рыбакова. Наше знакомство переросло в дружбу. В журнале «Нева», где я в ту пору работал, появился мой рассказ о писателе-кимряке. Быть может, это была первая весточка для всесоюзного читателя о скромном волжском трудолюбце, который упорно работал над эпопеей из жизни кимряков. Тронутый вниманием, Макар Андреевич прислал мне на память свое стихотворение. Начиналось оно так:То, что пишет Макар Андреевич Рыбаков, — проницательно замечает критик, — почти не искусство в привычном понимании этого слова: здесь не автор воплощается в своего героя, а, напротив, герой воплощается в автора, впитывая в себя черты его индивидуальности.Макар Андреевич звал меня приехать в Кимры на свой юбилей, но оказалась уйма непредвиденных дел, и я не проведал его ни тогда, ни после… И уже никогда не увижу его доброе и прекрасное вперекор старости одухотворенное лицо: на восьмидесятом году скончался этот мудрый летописец «кимрского сапожного царства». Смерть Рыбакова обострила во мне чувство всегдашнего сожаления о редких встречах с ним и в то же время пробудила пытливый интерес к малейшим штрихам его бытия: как он жил последние годы? Какие творческие думы владели им?.. Знакомство с калининским писателем Петром Дудочкиным, хорошо знавшим Рыбакова, написавшим о нем воспоминания, позволило мне отчасти ответить на эти вопросы. Петр Дудочкин переслал мне свои воспоминания; с его разрешения я привожу два отрывка из них.
В Калинине Макар Андреевич чаще всего останавливался в старой гостинице «Волга», где небольшие, но уютные номера с бесхитростной старинной мебелью. Признавался: — Без нового комфорта лучше думается. Привычка. Но однажды, помнится, и в этой гостинице у него было мрачное настроение. На вопрос «Что случилось?» показал только что прочитанную книжку «Родник» калининского поэта Семена Воскресенского. — Стихи не по душе? — Очень по душе. Талантливо! Давно не читал таких по-русски сочных стихотворений. Радуюсь и огорчаюсь. Стихи-то написаны несколько десятилетий назад, а свет увидели, когда автору на седьмой десяток перевалило. — И после раздумья: — Моя судьба такая же. А как бы первая книга окрылила душу поэта, если б появилась пораньше! Признать вовремя дар литератора — и вообще любой дар — все равно что не дать перебродить тесту в квашне. И начал страстно говорить о литературной молодежи, нуждающейся в поддержке.Рассказав о переиздании романов Макара Рыбакова большими тиражами, Петр Дудочкин замечает:
Но мало кто знает, что по разным причинам эти книги изданы лишь через четверть века после того, как были сочинены. Спокойно, без раздражения, тем паче озлобления писатель добивался своей цели. И добился. Кое-кто из молодых литераторов чересчур эмоционально возмущался его спокойствием. Он морщился, отвечал же хладнокровно: — Если писатель озлобляется — это снижает талантливость. Да, да, талант становится худосочнее, а то и вовсе немощным. По сути дела, писатель сразу две книги пишет: одна — та, что на столе, рукопись, а другая — поведение в обществе. Биография писателя — это, разрешите так выразиться, тоже своего рода книга. Ее страницы не повторишь, не переиздашь, опечатки не поправишь, как можно сделать при переиздании романа. Биография пишется сразу набело, без черновиков, и чем меньше в ней клякс и разных помарок, тем больше почитателей. И пока писатель жив, его ценят (хорошо это или плохо — судить не нам) не только по тому, что он написал, а и по тому, как он ведет себя в жизни.Светлой души был Макар Андреевич Рыбаков, любил людей, своих кимряков, и они всегда отвечали ему преданной, верной любовью: хранят его книги в городском музее, свято чтят память талантливого писателя-летописца. Перечитывая произведения Макара Андреевича, вспоминая задушевные беседы с ним в бревенчатом домике, в кабинете с одним оконцем, я вспоминаю и речушку Кимерку, тихую и скромную, впадающую в Волгу. И мне думается: «Вот так же тихо, на первый взгляд, быть может, и вовсе неприметно вливается творчество Рыбакова в большую советскую литературу и полнит ее вовек не оскудевающей животворной силой жизни!»
1961—1975
СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ
Волжская набережная мало-помалу поднимается на крутояр и как бы возносит ввысь, в свежесть и сумрак вечернего неба, теплую земную желтизну пятиэтажного дома, похожего на пчелиные соты. Из верхнего распахнутого окна легко, струйчато, как ручеек, льется прозрачная мелодия. В ней слышится младенчески радостное удивление перед миром. Но вот звуки прерываются, судорожно клокочут, будто светлый ревущий поток налетел на каменную преграду… Это добро схлестнулось со злом — между ними идет беспощадная борьба. И вдруг бурные звуки сменяются тихим, подавленным журчанием… Когда взгрустнется Осипову, возьмет он полузабытую скрипку, и она рыдает в его руках, оплакивая печальную участь чувашской девушки. — Бедная, бедная Нарспи[17], — вздыхают во дворе, под окнами, преданные слушатели, а кто постарше, тот, наверно, вспомнит и прошлые горести своей обездоленной родины…* * *
По признанию Петра Николаевича, ему всегда везло на хорошие скрипки. Почти полвека назад на казанской толкучке он случайно купил скрипку итальянского мастера Амати. Тогда он, сирота, жил в Казани у старшего брага Михаила, учителя, занимался в гимназии и одновременно в музыкальной школе по классу скрипки: видимо, от отца, гусляра, передалась ему страсть к музыке. А в 1917 году Петя Осипов, в стареньком мундирчике, с серебряной медалью в кармане, пошел наниматься в симфонический оркестр. Молодого скрипача назначили помощником концертмейстера. Начались концерты в красноармейских частях, гастроли по волжским городам…* * *
У него мягкие, добрые руки — они с одинаковой бережностью могут прикасаться и к смычку, и к больному: ведь он к тому же еще и врач! Кандидат медицинских наук. Автор тридцати научных работ. Главный терапевт Чувашской Автономной Республики. Уже будучи пенсионером, он вновь вернулся в клинику и возглавил кардиоревматологический центр Чувашии. Когда его спрашивают, почему же он, врач-педиатр, вдруг переключился на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, он отвечает с улыбкой мудреца: — Что ж тут удивительного! Теперь, в связи с возрастом, мне такие болезни стали ближе и понятнее. Петру Николаевичу под семьдесят. На вид он медлителен, грузен, но вдруг вспышка быстрых движений — и степенная осанистость точно взорвана. У него высокий покатый лоб мыслителя, сочный и бархатистый, без всякой надтреснутости, голос актера, эластичная гибкость рук музыканта, спокойно-пристальный, все понимающий, все вбирающий взгляд писателя — знатока души человеческой… Он широко, во все стороны, по-ломоносовски талантлив. И все же сердце его безраздельно отдано медицине. Но почему же?..* * *
Приехал из Москвы сын, тоже врач, привез внучат, и бабушка Зина, чтобы унять шалунов, начинает неторопливый рассказ о их любимом дедушке: — Когда-то он был такой же маленький, как и вы, только жил не здесь, в красивом городе, не в этих светлых комнатах, а в бедной чувашской деревушке Кудемары, в курной избе. На его глазах умерли от туберкулеза мать, сестра, брат. Недолго протянул и отец. Умирая, он сказал десятилетнему сыну: «Оставляю тебе пять червонцев да певучие гусли. Поезжай к старшему брату в Казань. И если поможет добрый бог Ырзем, ты поступишь в гимназию. Тебе надо учиться и стать врачом, чтоб спасти наш бедный народ от всяких болезней. Поклянись, что ты исполнишь мою последнюю волю». И сирота Петя дал слово стать врачом и спасать чувашей от вымирания.* * *
В кабинете его, над полкой книг, висит старенькая, сумрачная фотография. На ней Петр Николаевич запечатлен в роли Никифора из спектакля «В лесах» по роману П. И. Мельникова-Печерского. Удивительно цельная перевоплощенность молодости в суровое обличье престарелого старообрядца: мшистые брови, строгий вырез седой бороды на темном фоне кафтана. А сколько горделивой строптивости в прямой позе, в этой руке, судорожно прижатой к груди! Казань памятна Осипову не только гимназией и музыкальной школой. Занимаясь на медицинском факультете университета, он по вечерам работал статистом в оперном театре. Тогда у него возникла мечта сыграть какую-нибудь комическую роль. И как же счастливо и быстро она исполнилась. В Казани, в вихре революции, рождается чувашский передвижной театр. С упоением играет Осипов свою первую роль в пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» — в пьесе, которую он сам же и перевел на чувашский язык.* * *
— А вы знаете, — признается Петр Николаевич, — я еще гимназистом написал пьесу «Соперники». Пьеса была подражательная. Зато какой звучный псевдоним я себе избрал: Эльгей. Это было имя легендарного чуваша-язычника, защитника всех угнетенных и обездоленных. В этом имени я видел символ возрождения родного народа и его культуры! В то крылатое, вихревое время меня на все хватало. Я ставил спектакли, сотрудничал в красноармейской газете «Голос бедноты», писал пьесу за пьесой, исполнял роли Подколесина, Митрофанушки, мольеровского Журдена, Миллера из шиллеровской драмы «Коварство и любовь». Даже, представьте, участвовал в съемках одного из первых чувашских фильмов «Черный столб». Но это уже позднее…* * *
Нет, это не разбросанность дилетантской натуры, не стихийная увлеченность литературой и искусством, а естественная вспышка задавленных тяжелой жизнью талантов, которые расковала Великая Октябрьская революция! Тонкий и страстный профессионализм неизменно сопутствовал Осипову во всех его начинаниях. Многоцветье его талантов подобно полыханью красок радуги. Оно такое же переливчатое и гармоничное. В течение семи лет он прямо из клиники отправлялся то в театр, где работал главным режиссером, то в музыкальное училище — как преподаватель класса скрипки. Недаром с тех пор в Чувашии говорят: «Театр и доктор Осипов стали родными братьями».* * *
Доктор Осипов!.. Получив диплом, он вернулся в родной край. Перед ним стал вопрос: с чего начать?.. «Ну конечно же с санитарии быта, с гигиены жилищ и людей», — отвечал себе молодой врач. И он обследует тысячи людей и направляет свои силы на борьбу с причинами возникновения болезней, а сам живет в сыром помещении… В 1931 году П. Н. Осипов сделал первое переливание крови у чувашей, вскоре создал клиническую лабораторию при больнице, написал диссертацию о патогенезе и терапии легочных заболеваний. Одним из первых в Чувашии он был удостоен звания заслуженного врача Российской Федерации. Три года работал министром здравоохранения Чувашии… Да, он сдержал клятву, которую дал умирающему отцу. Тысячам людей он возвратил жизнь и здоровье. И люди отвечают ему признательной любовью.* * *
Как-то Петр Николаевич разговорился со старенькой санитаркой в республиканской больнице, и вот какую памятную историю она рассказала: — Написала мне внучка: «Приезжай, бабуся, в Калининград, соскучились мы по тебе». Вот я и подумала: а почему бы и не съездить в отпуск?.. Купила билет, села на самолет и, глянь, уже в Москве. На другой день — в Вильнюсе. Там говорят: придется подождать, погода нелетная. Ну, пошла я посмотреть город. Очень красивый город, не хуже наших Шубашкар[18]. Иду, иду, да с любопытства-то и зашла в ресторан. А там люстры хрустальные, мебель резная, шторы шелковые. Вдруг подходит директор ресторана и спрашивает: чего, мол, тебе, бабушка нужно? «Ничего, — отвечаю, — не нужно, просто посмотреть зашла». — «А откуда ты сама?» — «Из Шубашкар». — «Это где, в Сибири?» Тут-то я и рассердилась. Ученый человек, по одежде видно, что ученый, а не знает Шубашкар на Волге! «А Шоршелы, — говорю, — слыхал, откуда родом космонавт Андриан Николаев?» — «Как же, как же, слыхал!» — «Ну так я тоже в Шоршелах родилась!» Только сказала, тут все меня окружили, за стол сажают, несут мне печенье, кофе. «Да у меня денег нет», — говорю им. «Это ничего, — отвечают, — ешь бесплатно, раз ты сваха из Шоршел». Спустя полгода после этого рассказа старенькая санитарка смотрела себя в комедии П. Н. Осипова «Сваха из Шоршел».* * *
Он подарил мне на прощание только что изданную на русском языке историческую драму «Айдар». Впоследствии она по просьбе чебоксарцев была вновь поставлена на сцене Чувашского государственного музыкально-драматического театра. Спектакли шли с большим успехом. Как всякое подлинно национальное произведение, «Айдар» трудно поддавался переводу; даже опытные переводчики и те отступали перед задачей тонко передать своеобразный колорит народной жизни. Тогда Осипов решил сам заняться переводом собственной пьесы, и новая грань его радужного таланта засияла пленительно и свежо. Врач и композитор, актер и режиссер, скрипач, драматург, переводчик! Семь цветов радуги останутся гореть неугасимо на чувашском небе.1966
БОГАТЫРЬ ИЗ ДЕРЕВНИ СЕРГЕЕВО
I
Так-то все счастливо складывалось! Накануне отъезда на Волгу, в края ярославские, костромские, прочитал я в одной центральной газете очерк о колхозном председателе Василии Андриановиче Старостине, который делами заправлял в местах, любезных сердцу А. Н. Островского, и урожай зерновых на тамошних кислых суглинистых почвах поднял с полутора — трех центнеров с гектара до десяти — двенадцати, а года через четыре вознамеривался удвоить, если не утроить производство зерна — именно производство, так как ко всему еще председатель был ученым, кандидатом химических наук и весьма толково применял на полях фосфоритную муку, известковые удобрения, дабы полностью нейтрализовать кислотность костромских почв. Сообщал очерк и такие любопытные подробности о внешности председателя:«Высок ростом, строен, лет под пятьдесят, открытый лоб, русая, аккуратно подстриженная борода. В лице что-то врубелевское, не от его демонов, а от облика самого художника. Глаза небольшие, бирюзовые, художнически зоркие. Синий берет, элегантный светло-серый костюм, галстук-бабочка».А в конце своего очерка автор и вовсе ошеломлял читателя: колхозный-то председатель, оказывается, имел сердечную привязанность… к русскому народному стихосложению, изучал его развитие с древнейших времен до наших дней, больше того — перекладывал летописные повествования былинно-песенным ладобоем (терминология у Старостина своя) и даже выпустил в областном издательстве две книги — «Слово о Коловрате» и «Летучий корабль», а в журнале «Знамя» напечатал сказ на современную тему. Затем восторженный и, похоже, ошеломленный журналист цитировал необычные стихи необычного колхозного председателя:
II
Из очерка я уже приблизительно знал, как разыскать В. А. Старостина. Требовалось сойти с парохода в Кинешме, переправиться в Заволжье, а оттуда автобусом или попутной машиной добраться по ухабистой дороге до отдаленного районного центра Островское и там уже наверняка уточнить местонахождение председателя колхоза «Русь Советская». Но в автобусе я разговорился с пожилой колхозницей, узнал от нее, что тащиться мне в Островское не резон, а надобно сойти на полпути, в Ивашеве, затем лесами-перелесками, полями и заполицами выйти к деревеньке Сергеево, где и живет Василий Андрианович. Женщина оказалась местной, ивашевской и к тому же словоохотливой. — Беспокоен, дюже беспокоен наш Андрианыч, — рассказала она. — И все-то он носится по району, по области. То удобрения добывает, то машину какую привезет, то насчет семян старается. Опять же с народом хорошо, правильно себя поставил. Бывало-то, какие слова в правлении слышишь? Все больше эти… невыносимые. А у нашего-то председателя к народу слово мило, приветливо, дружелюбно. Не хочешь, да сделаешь, а то тебе же стыдно, непереносно будет. От Ивашева, людного села с сельсоветом, с правлением колхоза, я, по совету пожилой женщины, направился полевой тропкой, вдоль свежетесаных столбов, к деревне Сергеево. Уже завечерело, запрохладило. Взыгравший ветерок силился растолкать тесные стебли озимой пшеницы — и не мог: такая удалая, в рост человека, вымахнула она, хотя стояла только середина июня! Я шел, словно бы купаясь в изумрудно-зеленом разливе, и лишь на плешистых взгорках как бы выныривал, чтобы глотнуть свежего ветра и окинуть широким взглядом все это русское приволье с островками сосново-еловых лесов, с косяками овсяных полей, со строгими квадратами сеяных, каких-то неведомых сине-лиловых трав, с этой золотистой голубизной предзакатного неба, где еще белели ясно, по-дневному, не подожженные заревом реденькие, плоско вытянутые облачка, похожие на легкие мазки белилами… Наконец, перейдя овраг, я увидел пять изб, стоявших вразброс среди старых лохматых лип, берез и вязов, точно заблудились они. У крайней огорожи копошилась согбенная старушка в темном платке, в сборчатой, до земли, юбке — тщилась стянуть с сукастого прясла какую-то выстиранную и просушенную тряпицу. Я помог ей, спросил: — Что это за хутор, бабушка?.. Далеко ли до деревни Сергеево? — Да это и есть Сергеево, — прошамкала старушка и глянула на меня с тусклой печальной укоризной. — А где же тут живет председатель? — Али не видишь?.. Эвон дом-новина выпередился! Там, смекай, и обретается Андрианыч. А без него-то всего три избы стояло… Не житье — сиротство. — Почему же ваш председатель в глушь забрался? В Ивашеве, чай, веселее. — А есть у него замыслица: сызнова заселить нашу деревню, всех воротить, кто в убёг пустился от прежних невзгодин. И вот первый у нас отстроился Андрианыч и всем прочим знак подает. На мой вопрос, дома ли председатель, старушка ответила: — Дома, дома! Только что из Костромы-матушки воротился. Дюже сердитый. Да ты, ежели не по службе приехал, не робей. Простым гостям он завсегда рад-радешенек. Сознание, что я приехал «не по службе», а сам по себе, приободрило меня, поэтому я и на крыльцо поднялся, и в дверь постучал без всякой робости, полный лишь одного спокойного ожидания, что вот сейчас появится тот самый человек, которого столь восторженно описал столичный журналист. Дверь распахнулась — и я действительно увидел как будто того самого высокого и стройного, лет под пятьдесят, человека с открытым лицом, с русой аккуратной бородой, с небольшими и зоркими глазами. Но в то же время он был «тот» и «не тот». Стан его отличался полнотой, живот круглился, врезаясь в ремень высоко подтянутых брюк, так что признать Василия Андриановича стройным можно было с натяжкой, — скорее всего, к нему подходили другие определения: плотный, осанистый. Лоб, правда, был открытым и ясным, даже с какой-то особенно умной крутизной у висков, но эта просторная открытость создавалась благодаря сильным залысинам. Нуждалась в более точном определении и «аккуратная русая борода», — во-первых, потому, что она была жидковата и пробита изрядной проседью, а во-вторых, из-за своего расчеса на обе стороны, который должен был придавать нечто древнерусское лицу, однако ж не придавал: лицо, круглое и здоровое, явно не нуждалось в таком нарочито строгом обрамлении. Что же касается глаз, то они казались небольшими благодаря постоянному, напряженно-зоркому прищуру и вполне могли сойти за бирюзовые; но вот я назвался — и глаза Василия Андриановича приветливо вспыхнули, округлились и стали именно теми обыкновенными серо-голубоватыми глазами, какими одаривает человека наш сумрачный север. В общем, заезжий журналист несколько приукрасил Старостина, к тому же теперь на нем не было ни синего берета, ни элегантного костюма стального цвета и галстука-бабочки, а стоял он передо мной по-домашнему опрощенный: в черной рубашке с закатанными рукавами, в коротковатых брюках, в матерчатых шлепанцах на босу ногу. Но вместе с тем от его коренастой фигуры, от всего крестьянского облика веяло сдержанной мощью дуба, чем-то устойчиво-русским, скрытым до поры до времени, но в нужный час готовым вспыхнуть и озарить всех умом и силой. — Да что ж это мы стоим? — спохватился Василий Андрианович. — Проходите, дорогим гостем будете! Я миновал довольно-таки мрачноватую прихожую и очутился в огромной, во весь дом, комнате с голыми тесовыми стенами в вытопившейся кое-где смолке-живице, с раздольным столом посередине, на котором среди бумаг, похожих на покойно улегшийся, напластанный снег, резко чернела пишущая машинка, но почему-то ничего больше не заметил, не запомнил, хотя в комнате наверняка находился и диван, и какой-нибудь книжный шкаф. — Вы, наверно, проголодались в дороге, — проговорил Василий Андрианович. — Сейчас мы с вами парного молочка выпьем да побеседуем не второпях… Беседа у нас «состоялась». Она была настолько увлекательной и так в ней вдруг сказался весь глубоко русский, самобытный характер Старостина, что я постараюсь передать ее по возможности точно и без всяких умолчаний, казалось бы неизбежных при полной откровенности; постараюсь сохранить и необычный речестрой собеседника.III
— Я слышал, вы, Василий Андрианович, только из Костромы вернулись… Должно быть, с очередного совещания? — Угадали! Был в область вызван для накачиванья; был от дела, от колхоза отвлечен, оторван. Совещание — не дело, а безделица, заседание — не работа, а болтовня, коллективные накачки — вредная нервотрепка. А происходит она от недоверия к работникам. Накачками ленивого не исправишь, а ретивому только крылья подсечешь. Я — враг заседательщины, ненавижу прозаседавшихся. — Но ведь есть и полезные заседания! Нельзя недооценивать их воспитательной роли. — Все зависит от того, кто воспитывает и как воспитывает. Если воспитывает дурак, я умнее не стану; если накачивает и нагоняет страху страхогон, он угнетает мой дух и отобьет охоту к работе, но воли моей не переломит. — Вы очень взволнованы, Василий Андрианович. Видно, здорово насолили вам. — Недостатка в пересолке нет: солят и пересаливают, а от соли, от пересолов тех иной раз жизнь немила. Народная мудрая пословица говорит: «Глаза — мера, а душа — вера, а совесть — порука». У меня есть глаза, чтобы смерить свои дела и возможности; у меня есть душа, чтобы верить в свое дело, в свои силы, в народ, с которым я работаю; у меня есть совесть, а значит, и порука: я сделаю все, во что верю, я выдам все по выбранной мере. — А если глаза ваши ошиблись и вера ваша ложная? Должен же кто-то выправить ошибку, подсказать истину? — В том-то вся и беда, Юрий Фомич, что исправителей тех много, подсказателей тьма-тьмущая, выправителей и указчиков не сочтешь. Да беда, что все они вверх, в небеса, глядят, а земли не видят. А я на земле живу, в землю гляжу, землю возрождаю и по земле меру определяю. И вот моя земная мера резко расходится с небесной, той, на которую меня указчики тянут. У них, у подсказчиков, есть и душа, а в ней есть и вера, да не в народ, а в указанье свыше… А насчет совести… Я сильно сомневаюсь, что у них есть совесть: она у них подменена страхом — страхом опять же перед указаньем свыше. Они и на меня страх нагоняют, а нагоняями совесть во мне убивают. А без совести, с одним страхом в душе — что председателям делать? Заливать в глотки побольше водки! Вот у пьяного совесть и совсем потухнет, а страх обратится в наглость. — Значит вы, Василий Андрианович, считаете, что на совещаниях совесть не воспитывается. Ну а стыд? Это ведь тоже нравственное начало. — Верю, нравственное! Но только тогда, когда это нравственное начало, этот стыд порожден моей совестью. Только такой мой стыд — великая нравственная сила. Ведь «людской стыд — смех, а свой стыд — смерть!» — поучали наши отцы, деды и прадеды, а нам ту науку отецкую-прадедовскую не забывать. Не привитый, не втолкованный, а свой внутренний стыд, лишь свой стыд — смерть. И этот стыд заставлял древнерусского человека заменять любую, самую сильную клятву восклицанием: «Да будет мне стыдно!» Но если стыд порожден не внутренней совестью, а возбуждается накачиваньем-проработкой, тогда пристыженник укоры-покоры выслушивает, а про себя бессовестно твердит: «Стыд — не дым, глаза не выест». — Тогда ответьте, Василий Андрианович: что заставило вас, специалиста, вроде бы далекого от сельского хозяйства, променять спокойную научную и преподавательскую работу на суматошную председательскую жизнь? — На суматошную?.. Нет, не на суматошную, а на роковую: колхозная председательская деятельность — не суматоха, а битва с роком. Перед колхозным председателем часто бывают три пути, и все они бедственны. Председатель — как сказочный богатырь на росстани: направо поедешь — от пьянства погибнешь, налево — в тюрьму угодишь, а прямо — надорвешься и погибнешь от разрыва сердца или кровоизлияния в мозгу. В сказке ложные витязи гибнут, а настоящие богатыри побеждают рок и, как, например, Илья Муромец, одолевают погибель на любой из дорог. Так и колхозный председатель: он должен быть рокоборцем и победить погибель на любой из дорог. — Тем более основателен мой вопрос, Василий Андрианович: что заставило вас вступить на такой, как вы утверждаете, роковой путь? — Знаете, этот путь показался мне самым привлекательным в жизни! Захотелось испытать себя и узнать: способен ли ты блаженствовать роковым блаженством? — А разве есть такое? — Конечно! Оно, роковое блаженство, открыто русским поэтом Тютчевым:IV
Тогда, при первой встрече, я еще не знал, что обретаю надежного друга-советчика, а между тем так оно и оказалось. Вернувшись в Ленинград после хождений по Волге, я послал Василию Андриановичу свою книгу «Верхневолжье» — с надеждой на отклик. И не обманулся в своих ожиданиях. В конце августа того же 1964 года, то есть спустя два месяца после нашей встречи, он прислал мне письмо, точнее — бандероль с письмом, перепечатанным на машинке, имеющим тридцать две страницы довольно плотного текста, с дружески строгим и скрупулезно-тщательным разбором малейших моих промахов-изъянов. Правда, в начале письма Василий Андрианович посетовал на некоторую неестественность в наших взаимоотношениях: «Как писатель Вы старше меня: ведь я все еще «начинающий», а Вы вон сколько книг уже наиздали! Так мне ли, начинающему, оценивать многоопытного?» Но затем, как бы вдруг припомнив свою двадцатилетнюю преподавательскую деятельность в вузах, сделав мне признание, что «привычка учить-поучать, назидать-наставлять въелась в обычай», Василий Андрианович решительно заострял критическое копье.Лучшие Ваши творины, — писал он, — занимают по объему чуть меньше половины книги, по значимости да по весу составляют 99,9 процента ее. Не будь этой лучшей половины, я вынужден был бы усомниться в пользе Ваших приемов изучать жизнь с пешеходных «стопинок». Между прочим, и я тоже люблю ходить пешком или ездить четвертым классом на простецких пароходах. Я бы с радостью оделся бы поплоше и отправился бы вместе с Вами в какой-нибудь поход… Вот было бы приятное странствие! Но должен Вам сказать, что «уловить и задержать бег времени» невозможно ни с пешеходной тропинки, ни с пароходной палубы, ни с поезда, ни с самолета. При таких-то обстоятельствах никакому, даже самому «медленному пристальному взгляду» время неподвластно. Однако время подвластно тому, кто творит жизнь в жизни и во имя жизни. Такой творец может остановить время — и не только ради того, чтоб воскликнуть по-фаустовски: «Мгновенье, остановись: ты прекрасно!» — и вслед за воскликом умереть. Нет, не ради смерти творец способен совершить это чудо, а ради того, чтобы остановленное время воплотить в бессмертное творение. Наверное, потому-то я и взнуздал свою страсть ко всяческим странствиям, укротил ее и закрепил себя на долгие годы в колхозе. Здесь теперь творится главная жизнь, в гуще жизни и ради жизни. Здесь, а не на стопинках моя самая надежная, самая твердая, самая устойчивая постать, с которой всего вернее задержать «бег времени» и творить вечное.Далее начинался наиподробнейший разбор изъянов в отдельных моих рассказах, причем критическое копье очень глубоко ранило мое самолюбие. Подчас вскипала обида за мелочную придирчивость, за насмешливо-едкие нотки в суждениях, а иногда и за «рубку сплеча». Но в конце концов самолюбивая боль укрощалась при одной только мысли: «Да ведь я же благодарить должен, что многозанятый Старостин посвятил моей книге целый критический труд!» К тому же кроме разобранных рассказов В. А. Старостин делал весьма интересные, очень смелые, хотя и спорные во многом, отступления. Не могу не привести такой, например, отрывок из письма:
Русский народный словострой (грамматика) живет творением слов, в н е м слово слово родит, третье само бежит. Книжная наша грамматика требует з а п о м и н а н и я слов. И это пришло к нам из-за границы. Француз, китаец и др. мыслят запоминанием слов, русские — с л о в о т в о р ч е с т в о м. Потому-то так необъятен русский словарь. Необъятен он, и нет ему равных во всей вселенной. А мы эту необъятину в книгах сузили до самой тесной узины́ и корчимся в ней, изнываем от скудословья и волей-неволей затаскиваем, замурзываем неисчислимыми повторами наши слова и обороты. Русский народный речестрой (синтаксис) тоже отличен от книжного, литературного. Книжники свои предложения строят на основе чуть ли не обязательного причастного или деепричастного оборота. Наша проза от старого Пушкина до нынешнего Шолохова бедственно отяжелена причастиями и деепричастиями. А народ наш причастных оборотов не признает, ими н и к о г д а не пользуется и только очень осмотрительно прибегает иногда к деепричастиям, однако по-своему, по-народному. Вот так, как в былине говорят Алеше Поповичу, который неудачно попытался жениться на жене Добрыни: «Здравствуй женимшись, да не с кем спать!» Или вот пословица: «Бившись с коровой, да не молочко!» Это все какое-то редкостное, необычное, но очень русское употребление деепричастий. А вообще-то деепричастий в ходу у нашего народа очень мало.Вот еще одно любопытное высказывание-признание В. А. Старостина:
Владимир Даль очень хорошо, отлично понимал, что литературный книжный язык — не народный, сухой, бледный язык. Он на основе своего исполинского собирательного труда по народной речи попытался дать о б р а з ц ы будущей русской речи. Но его попытка неудачна. При всем своем великом труде, при всем своем неоценимом подвиге, Даль не смог оторваться от к н и ж н о й речи, от литературного обычая. Более того, он не сумел возвыситься ни над Пушкиным, ни над Гоголем — его слог тяжелее, обороты грубее, речь тяжеловеснее, хотя Пушкин и восхищался ею. Что же загубило Даля? Помесь народных слов, пословиц с громоздкими причастными и деепричастными построениями и церковнославянскими словами. Не схватил духа русского языка народного Владимир Даль, не дал образца истинной русской речи. И тем оказал медвежью услугу будущим попыткам овладеть народной речью. Кстати, меня избивали… Далем, говорили: «Вот Даль, смотри, не хуже тебя, а не вышло у него ничего. Куда же ты со свиным рылом в калашный ряд лезешь?В самом конце письма Василий Андрианович вопрошал меня:
Почему бы Вам полностью не перейти на народный язык в Вашей авторской речи? Или смелости не хватает? А ведь только тут Вы себя найдете, только тут Вы создадите великое. Иначе быть Вам заурядным!И тут же он, искренне заботясь о моей литературной судьбе, предлагал свою помощь в овладении народным стихом, хотя и замечал поучающе:
Но всем объемом народной речи Вы не овладеете, если не возьметесь за Даля, за его словарь и пословицы, если не возьметесь за Гильфердинга и Афанасьева, за Рыбникова и Соболевского. Люди эти сами народной речью не владели, но великое дело совершили по собиранию и сохранению народной речи. Сколько бы Вы ни ходили, куда бы Вы ни ездили, Вы не овладеете всем богатством русского народного слова, пока не обратитесь к этим собраниям…
V
Я стал довольно часто получать письма от В. А. Старостина, и было у меня такое ощущение, что наш разговор, начатый в деревеньке Сергеево, длится вперекор тысячеверстному расстоянию. «Как у Вас с нынешним урожаем?» — вопрошал я в письме.Засушливый июнь да июль сильно подорвал урожай. Однако наш колхоз и нынче, в засуху, без хлеба не остался. Так что даже и в засушливую пору наши старания и борьба за минеральные удобрения не пропали даром. Тут наша «Победа над камнем» обратилась в победу над засухой!«А как Ваши литературные дела? Есть ли сдвиги с книгой «богатырских былин» об Илье Муромце?»
Редакторша из издательства «Советская Россия» так измывается на моим «Ильей», так его выхолащивает, что, наверно, скоро останутся от него одни потроха. Уже шесть рецензий было. И вот опять я должен все переработать. А уже и рисунки сделаны Шемаровым, художником из Палеха, и все подготовлено к набору. Но редакторша никак не решится подписать рукопись к печати. Знай свое твердит: «Учтите наши замечания! Не сопротивляйтесь!»«Удалось ли Вам, Василий Андрианович, написать что-нибудь новенькое?»
Написал «Сказанье о Славе и славянах, или Ярилины внуки». Борис Шергин с восторгом прослушал сказ; он даже признался, что завидует моему стилю. Я таким шергинским признанием потихоньку горжусь, помаленьку радуюсь, а Шергина жалею, что мало он пишет по старости своей.«Очень я рад, Василий Андрианович, Вашим успехам на колхозной ниве и литературном поприще».
Не знаю, удалось ли мне, пусть хоть не как Краснояру, не в младенческом, а в перезрелом возрасте, по-вернуть к себе суровую богиню Судьбину доброй стороной, однако поворот этот в какой-то мере я совершил. Десять лет назад Детгиз отказался издавать моего «Коловрата», а теперь переиздает. Я за него уже и деньги получил. Мало того, мне от Детгиза поступил заказ на книгу о земле; первой главой в этой книге и будет мое сказание о Славе и славянах. Есть и еще заказ — дать цикл былин о Добрыне. От издательства «Советская Россия», кроме того, что там «Илья Муромец» пусть в урезанном виде, но выйдет, имею предложение участвовать в сборнике легенд и сказаний, который составляет Нечаев. Словом, предложений печататься мне сыплется больше, чем я успею сделать, поскольку г л а в н о е время трачу на колхоз.«Что-то вы долгонько молчали, Василий Андрианович. Уж не прихворнули ли, хотя болеть Вам, богатырю, вроде бы и не пристало?..»
Задержался ответить Вам: три недели не был дома — в Москве ходил по издательствам и газетным делам да в Омск ездил… сейчас сижу над статьей для газеты «Советская Россия». Если там не дадут заднего ходу, то появится моя большая статья о н а р о д н о й о с н о в е р у с с к о г о я з ы к а. А в Верхневолжском издательстве уже принята к печати статья «Русь моя родина! Русский язык» и еще статья, в которой я даю краткое изложение своей науки о народном стихе. В том же издательстве включена в план издания моя 23-листная книга «Русь богатырская».«Хотел бы я поделиться с Вами, Василий Андрианович, своей задумкой насчет новой книги о Волге. Вознамерился я написать «перекрестное» повествование от лица двух лиц — путешественника наших дней и некоего господина Н., совершающего свое плавание по Волге, предположим, в 1879 году…»
Вашу задумку дополнить свои работы о Волге XIX веком приветствую. Этого исторического разреза как раз и не хватало в Вашем «Верхневолжье». Однако я должен заметить, что XIX век так напичкан «господином Н.», что едва ли Ваш прибавит что-нибудь значительное в литературу. Об этом господине писали очевидцы, при этом великие писатели России и мира, — так сто́ит ли Вам соперничать с ними? Да и к чему Вам обязательно г о с п о д и н? Возьмите бурлака волжского, того, про которого пословица была: «Собака, не тронь бурлака: бурлак сам собака!» Он для Вас сподручнее будет. И пусть он займет в Вашей книге примерно половину объема и говорит от своего имени, своим бурлацким языком. Во второй половине книги пусть больше говорят простые русские люди, своим простым народным языком. Ну а если Вы еще не решаетесь слиться в своей авторской речи полностью с народной речью, то прибегайте к ней пореже, чтобы книга Ваша была без налета «книжности» либо с незначительным «книжным» вторжением. И помните: бурлак Ваш должен знать русские сказки, сказания, пословицы, песни и даже историю — через те же песни и сказания. Вот тогда не один XIX век появится у Вас, а все века.«Когда же, Василий Андрианович, Вы все-таки наведаетесь в Ленинград?»
В марте я приеду на химкомбинат за суперфосфатом и надеюсь с Вами встретиться.
VI
Еще до приезда В. А. Старостина в Ленинград мы договорились, что он вышлет мне свои сказания из подготовленной к печати «Руси богатырской», отрывки из повести «Победа над камнем», а я отнесу рукописи в журналы «Нева» и «Звезда» и покажу их сотрудникам редакции, своим знакомым. Спустя примерно полмесяца после присылки рукописей и Василий Андрианович приехал в Ленинград. Случилось это в середине марта 1965 года. Открыл я дверь — и увидел своего знакомца, дорогого гостя, в берете, с тающими снежинками в бороде, с галстуком-бабочкой, который просвечивал сквозь нее, и поразился всей его бесстрашной распахнутости перед мозглой ленинградской весной, румяному глянцу на плотных щеках, веселой озорноватой прищурке глаз, всему этому здоровому и гладкому, без единой, кажется, морщинки, лицу; поразился еще и потому, что уже знал, какова она, доля председательская, и как тяжела взваленная на плечи литературная ноша. Но, помнится, тогда же и мысль мелькнула: «Да ведь он же о богатырях пишет! Он сам, видать, подзанял у них богатырскую силушку, и все ему по плечу!» — Ну как, Василий Андрианович, — спрашиваю, — раздобыли суперфосфат для колхоза? А Старостин отвечает шуточкой-прибауточкой: — Мальчик-с-пальчик схватил коробицу, побежал по водицу. Он хоть мал-не-дорос, а воды принес, он мутовку сломил, он квашонку сдолбил, он дров наколол, он муки намолол, он печь натопил, он каши сварил! Вот ему кашка, вот ему бражка, вот ему пивцо, вот ему винцо! — И вдобавок суперфосфат! — засмеялся я. — Значит, мальчик-с-пальчик сладил дело. — И весьма умело! — подхватил Василий Андрианович. — Приехал на химкомбинат, представился как колхозный председатель, а сам тут же директору и его секретарше вручил свои книжки, всех ошеломил и очаровал, и дело завертелось, пошло на лад, так что и они, и я рад. Я предложил гостю раздеться, обсушиться, чайку попить, но он взбил свою мокрую бороду, расчесал ее надвое и молвил непререкаемо: — Делу время, потехе час. Начнем-ка свои хождения по издательским мукам. Никакие уговоры не помогли, и пришлось мне стать поводырем Старостина в этих хождениях… Начали мы с журнала «Звезда». Там Василия Андриановича приветливо-почтительно встретил заведующий отделом прозы А. Храшановский, человек вообще любезный, доброжелательный, но в суждениях о литературе предельно откровенный, даже резковатый подчас. Он положил перед собой «Сказанье о Славе и славянах, или Ярилины внуки», провел по рукописи сухой и плоской, как дощечка, ладонью, прочел медленно, старательно:— Было, не было это быванье? Да ин было — у зари Заряницы народилося два любимых чада, два сыночка, две малые кровиночки. Мати радостна, очи лучисты. И как мир расцветает под ясным заряницыным светлым взором, расцвести бы и малым дитенкам. Лучезарная Заряница ин в сынах своих возлелеет разум истинный, добрые души. А к тому и все мечты-устремленья. Ано есть в мире властная Судьбина. Неотвратна роковая Судьбина: все несет в себе, и власть, и силу, и все будущее в дланях своих держит.Храшановский умолк, пошевелил губами, как бы по инерции, затем, взяв со стола верстку, видимо, очередного номера, снова стал читать, но уже скороговоркой, с явным облегчением:
— Черепков вышел в коридор, остановился у окна. На улице в густом сумраке видны белые с оранжевой каймой пятна фонарей. На тротуарах прохожие гнулись навстречу ветру, прятали голову в воротник — зима в Норильске дышала ледяным мраком.Снова обрывистое молчание, шевеление губ — и вдруг резкий вопросительный взгляд на Старостина. — Все ясно! — усмехается тот. — Несоответствие стилей!.. Сказанье, так сказать, не в духе времени и вашего журнала! Спокойный, с прежним гладким здоровым румянцем на щеках, он берет рукопись и, простившись, легко несет свое большое тело к дверям… На улице, среди снежной кутерьмы, он говорит мне со сдержанной печалью: — В этом отвергнутом сказанье языковой стиль мой выражен полностью. Советские идеи о славе, о хлебе, о борьбе добра со злом я, правда, одел в языческую сказочную одежду, и потому они могут показаться отсутствующими!.. Приехали на Невский, заходим в редакцию «Невы», в кабинет заведующего отделом публицистики Арифа Сапарова, и тот заявляет Старостину с грубовато-армейской прямотой: — Много я был наслышан о вас, Василий Андрианович, о вашем председательстве, и много, признаться, ожидал от ваших очерков. Но не порадовали вы настоящей правдой жизни, да и переборщили стилизацией под древнерусский язык. Пишите просто, по-человечески! …Обратно на Петроградскую мы возвращались пешком. Волглой сыростью несло с Финского залива; снег сменился дождем… По дороге я, как мог, утешал Василия Андриановича, но он, по-видимому, не нуждался в соболезновании — вышагивал спокойна, основательно, приговаривал в ответ с умной улыбочкой хитреца-мудреца: — Да, радетель мой дорогой, не завеснилась моя весна в Ленинграде, не тронулся для меня ледоход на Неве. Но уступать никому ни помыслом не помыслю, ни желаньем не пожелаю!
VII
В 1967 году в издательстве «Советская Россия» наконец-то вышла книга В. А. Старостина «Илья Муромец. Богатырские былины». На ее выход я откликнулся в еженедельнике «Литературная Россия» рецензией:Книгу Василия Старостина держишь, как хрупкую изящную шкатулку, облитую лаковой чернью, мастеровито расписанную трепетно-тонкой, уверенной кистью художника из Палеха Михаила Шемарова. Но эта «шкатулка» наполнена до краев бесценной росписью сверкающих кипучих слов образной народной речи:Зная, как трудно утверждалось самобытное слово В. А. Старостина, я хотел обезопасить его книгу от возможных критических наскоков и поэтому в конце рецензии высказывал предположение:Кум в пляс идет — вся земля гудет,На аршин под каблук прогибается.Из-под ног от сапог — топоток-стукотокВырывается, рассыпается.Тут и бабка Таланиха не выдержала,На круг плясовой она повыскочила:«Пошла плясать по соломушке,Раздайся, народ, по сторонушке…Уж как топну я — проломись, доска!Проломись, доска, провались, тоска!»
Вероятно, какой-нибудь дотошный ревнитель незыблемой сохранности былин в их первородстве и отнесется к работе В. Старостина с предубеждением: — Позвольте! А есть ли вообще нужда в подобных литературных вариантах фольклорных произведений? Былины прекрасны сами по себе. И менять в них что-либо предосудительно. Подавайте-ка нам лучше подлинные народные былины, без всяких переработок! Оригинальная работа В. Старостина убеждающе спорит с таким застарело-примитивным пониманием народности произведений искусства. Сохраняя идейную сущность народных былин, автор оставил за собой право на отбор материала, на воссоздание средствами литературы всего того, что было утрачено в записях от живого исполнения сказителей. Под пером Василия Старостина — и это главное достоинство его книги — народные былины каргопольского, вытегрского, заонежского склада — приобрели общерусское звучание.Моя рецензия, а прежде всего, конечно, сама книга В. А. Старостина вызвали отклик у читателей. Один из них, молодой физик М. Смирнов, прислал мне письмо с просьбой «связаться» с автором «Ильи Муромца», а к письму приложил отрывок-зачин из своей былины о Василии Буслаеве — в надежде, что я перешлю его Старостину для критического разбора. Я так и сделал. Между ними завязалась переписка; мне же Василий Андрианович написал:
По русскому языку и стиху я прошел длительный и тернистый путь. Мой опыт я готов передать Смирнову, если он того захочет. Может быть, этот мой опыт поможет Смирнову овладеть языком и стихом русским народным не за три десятка лет, как было со мной, а за несколько лет. Я готов своим опытом поделиться с кем угодно, со всяким, кто этого пожелает.Самобытный человек живет в деревне Сергеево!
1973
МНОГОЦВЕТЬЕ
ФИОЛЕТОВОЕ ЧУДО
В ПУТИ
Из Москвы в Ташкент мы с женой выехали на андижанском поезде. Пассажиры, в основном узбеки в традиционных черных тюбетейках, шитых серебром, и узбечки в платьях из атласа, в пестрых шальварах, сейчас же принялись пить чай: у каждого имелись и свой чайник, и своя заварка. Заботу о нас, неискушенных северянах, взял сосед по купе Анвар Маматов, смуглый проворный юноша с тонким, как лезвие ножа, носом. Горячим и прохладным усладительным кок-чаем[19] он потчевал нас так же щедро, как и своими неистощимо красочными рассказами о быте и нравах узбеков. Анвар был приемным сыном прославленной Таджихан Шадыевой — директора многонационального совхоза в Ферганской долине. Она умерла, но осталась навечно в памяти людской. О ней созданы фильмы, поэмы… Признаюсь, я ехал в Ташкент с намерением повидать Зульфию, написать о ней, поэтому мой вопрос был естественным: — А Таджихан Шадыева могла знать вашего народного поэта Зульфию! — Конечно же знала! — воскликнул Анвар. — Зульфия приезжала к Шадыевой не раз. Они сидели на айване[20] и разговаривали, как вот я о вами… Их любит наш народ. Они как лепестки на одной цветущей ветке! Как крылья одной птицы! Они обе радуют людские сердца: одна — трудом, другая — песней. Я с восхищенным удивлением смотрел на Анвара: молодой, а как мудро он соединил в одно понятие и труд и поэзию.ОЖИДАНИЕ
Мягкая и даже, пожалуй, прохладная осень. На широкие листья платанов еще только легла легкая, как пыль, позолота. В обезлюдевших садах (многие жители на уборке хлопка) лопаются перезревшие гранаты. А я в душе молю: «Только бы, только бы приехала Зульфия!..» Мы живем под Ташкентом, в Доме творчества «Дурмен», в новом трехэтажном корпусе с огромной фреской над входом. На меди выпукло, мастеровито отчеканены барельефы основателей узбекской советской литературы: Хамзы, Айбека, Гафура Гуляма и Хамида Алимджана. За трехэтажным корпусом — буйство яблонь, груш, виноградных лоз, а сбоку бетонная дорожка — заветная: она ведет к даче Зульфии. Я часто брожу по ней в смутной надежде на нечаянную встречу. Но плотно зашторены окна в доме; перед крыльцом грустят привядшие, пониклые цветы, а забытые розы роняют, как слезы, белые и пунцовые лепестки. И моя надежда сменяется безверием; голова клонится под тяжестью невеселых мыслей: «Ну почему же такая немилость судьбы? Ведь мне всегда везло на знакомства с хорошими людьми». Как-то выдалось росистое, с прозрачным туманом утро. Перед завтраком я по обыкновению проходил мимо покинутой дачи Зульфии. И вдруг вздрогнул и замер, ошеломленный. Над безрадостным однообразием отпылавших роз стройно возносился стебель с бледно-фиолетовым бутоном в дрожащих капельках росы. Это была невиданная, сказочная роза! Когда-то взращенная хозяйкой, она благодарно расцвела за одну погожую ночь и теперь трепетно тянулась ввысь, призывно кивала фиолетовой живой головкой, зажигала радужно-переливчатые огоньки при первом же солнечном луче… Мне уже показалось: дивная роза красуется для хозяйки, она поджидает ее, она верит в ее скорый приезд. И мое безверие опять сменилось надеждой, только уже не смутной, а просветленной, как бы пронизанной юной свежестью и росистым сиянием этого живого фиолетового чуда.ХОЧЕТСЯ ПРЕКЛОНИТЬСЯ…
Затих долинный ветерок, перестали шуметь платаны и ясени вокруг трехэтажного корпуса. И в этом безмолвии природы, чуткой и словно бы сопереживающей, застыла в глубокой печали, в одиночестве стройная, статная женщина в бархатном малиновом халате с воротником из коричневой норки. Скорбная, она стоит у входа с медной фреской. Ее голова как бы откинута назад под тяжестью смолисто-черных волос, стянутых на затылке узлом; черные глаза ее устремлены на барельеф Хамида Алимджана и то ласкают светлым любящим взглядом его прекрасные черты, то вдруг сузятся от судорожной боли, затуманятся слезой… Эта скорбная женщина — Зульфия. Она только что приехала на дачу после долгого отсутствия. Без нее устанавливали над входом в трехэтажный корпус медную фреску, где изображен и выдающийся узбекский поэт Хамид Алимджан, ее муж, отец ее детей. Прошло почти сорок лет, как погиб он в автомобильной катастрофе, а сердце Зульфии все годы безотлучно с ним, навек родным, бессмертным, оно живет неизбывной памятью о нем. Я смотрю на Зульфию, и мне хочется преклониться перед ней за пожизненную верность любимому, единственному, за любовь, которая не умерла со смертью самого дорогого для нее человека.ИСТОРИЯ ЕЕ ЛЮБВИ
Читаю стихи Зульфии, критико-биографическую книгу о ней Адхама Акбарова, и все ярче высвечивается возвышенно-чистый образ этой простой узбекской женщины, все ближе он моей душе.…Ты родилась в маленьком домике на окраине Ташкента, среди путаницы кривых улочек и тупиков, из которых, казалось бы, не так-то просто выбраться на просторы большой жизни. Но ты упорно училась в школе и сама мечтала стать учительницей. В женском педагогическом техникуме тебя увлекала литература. Она открыла тебе новый мир» Ты очутилась, по собственному признанию, в водовороте страстных газелей Навои, кристально ясных строф Пушкина, мятежных строф Байрона, проникнутых горечью и болью лермонтовских строк, простых, искренних некрасовских образов. Ты была молода и прекрасна. Твои огромные глаза пылали черными солнцами. Твой голос был прозрачен и переливчато-звонок, как горная вода в арыке, когда ты читала свои стихи в литературном кружке, после занятий в техникуме. Здесь же ты впервые увидела Хамида Алимджана — стройного, могучего, с нежным голосом. Он выступал на литературном вечере вместе с Уйгуном, Айбеком и Яшеном. Но ты смотрела только на него одного. Он показался тебе прекрасным и мужественным. Тонкие и резкие черты его лица дышали вдохновением; глаза тоже пылали как черные солнца. И они смотрели на тебя одну! Смотрели с таким ласковым и простодушным изумлением, что ты отвела смущенный взгляд. Потом ты встретила Хамида Алимджана у кинотеатра. Это была нечаянная встреча, но как будто бы и судьбой предопределенная. Вы вдруг разговорились, словно давние знакомцы. Хамид, — помнишь? — похвалил за реалистичность, за образность твое стихотворение «Студентка», на днях напечатанное в газете. Похвала известного поэта взволновала тебя. В тот вечер ты долго не засыпала, даже косички не расплела… А вскоре пришла весна твоей любви, когда сердце расцвело подобно вишне в родном саду. Вы поженились. Но Хамид стал не только твоим мужем, а и наставником, вдохновителем. Ты прикоснулась к великой тайне творчества. Ты восхищалась, с каким упорством, упоением Хамид работал по утрам: ведь это было самое лучшее его время. Он мерно вышагивал по кабинету, словно бы отстукивая ритм стиха, потом на слух проверял написанное. И ты не могла не писать! Твои дрожащие, в чернильных пятнышках руки не раз, бывало, протягивали мужу мелко-мелко исписанные листки. Он прочитывал их, никогда не правил, только объяснял, что удалось, а что нет… Ты же внимала ему с жадностью прилежной ученицы: он был блестящий мастер стиха и талантливый теоретик литературы. Но какой же трудной оказалась эта учеба! Однажды ты, помнится, пожаловалась Хамиду, что никак не можешь закончить стихотворение. Он внимательно прочитал его, улыбнулся и сказал: «Знаешь, отчего это происходит? Ты еще не осознала до конца что хочешь выразить. Главную задачу не осознала. Вот и получается: в небольшом стихотворении ты пытаешься сказать сразу обо всем. В результате одна мысль ведет за собой другую, строфы набегают друг на друга. Всегда помни о замысле произведения и старайся выразить его наиболее точно и лаконично». О, какими трогательными были ваши дружба и работа! Хамид уступал тебе свой кабинет, а сам работал в столовой, прямо на ковре. Ты училась у него внутренней скромности, неприхотливости и… любви к русской литературе. Он раскрыл перед тобой все ее богатство. Он внушал тебе: «Русскую литературу надо читать в подлиннике, а не в переводе. Только тогда воспримешь все обаяние ее, всю щедрость красок и звучания». И тут же он протянул тебе томик Некрасова на русском языке… Ты стала читать — и певец «мести и печали» потряс тебя; восхищенное преклонение перед ним ты пронесла сквозь всю жизнь. Еще прежде у тебя вышла первая книжка стихов «Страницы жизни». Она была пронизана горделиво-наивным восторгом: «Я — свободная девушка! Мне весело и хорошо! В объятьях моей фабрики я пою счастливую песню труда!» Но Хамид Алимджан постоянно учил тебя высокой требовательности — вторая твоя книга вышла лишь спустя семь лет после первой. За это время родились сын и дочь. Счастье материнства породнилось со счастьем углубленного творчества. Ты расцветала вместе со своей солнечной республикой. Но началась война. Хамид Алимджан продолжал возглавлять писательскую организацию, ты стала работать редактором в издательстве… …Был душный августовский вечер 1943 года. У вас собрались гости, чтобы отметить четырехлетие сына Амана. Среди гостей — Якуб Колас, Корней Чуковский, Эди Огнецвет… Хамид, обращаясь к сыну, сказал: «Когда мне было четыре года, я остался без отца. Я был разлучен с ним… Сын мой! Сегодня тебе четыре года, и у тебя есть отец. Друзья, поднимем бокалы за это счастье!» Но лучше бы ему было не говорить таких слов! Менее чем через год у тебя не стало мужа, а у сына — отца. Поздним вечером Хамид возвращался из Дурмена в Ташкент на попутке. И тут произошла автомобильная катастрофа… Тяжкий удар судьбы! Тебя охватило оцепенение, почти равное смерти. Затем оно сменилось чувством одиночества и скорби. А за окном цвели розы, посаженные мужем. И в душе, как жилка на руке, запульсировала навязчивая строка: «Забыть ли дни любви, горенья и труда…» «Но — нет, нет! Теперь уже никогда рука не прикоснется к перу!» — поклялась ты себе. Невыносимая боль точила твое сердце. В отчаянии тебе хотелось уйти куда-нибудь далеко-далеко, но дорога снова и снова приводила к могиле мужа. «Как же мне победить горе и одиночество?» — вопрошала ты словно бы у самой судьбы, а ответа не было, и свет дневной мерк в глазах…
ДВА ПРИЗНАНИЯ
На обложке одного французского журнала мне привелось увидеть исхудалое лицо умирающего Жерара Филипа с улыбкой недоумения, даже неверия в близость финала жизненной драмы. А рядом сидела понурая, окаменевшая Ани Филип, жена… Вскоре, после смерти мужа, она напишет такие леденящие строки:«Где моя цель?.. Мне хорошо в зимней тиши, когда земля голая, без запахов. Я тоже стараюсь погрузиться в спячку… Нужно ли мне будущее, в котором нет тебя?.. Каждый раз, когда я встречаюсь с чужим счастьем, я еще сильнее чувствую свое крушение…»Иное произошло с Зульфией после гибели мужа: она не дала смерти торжествовать над жизнью. Она шла к людям. Ее горе слилось с горем женщин, получавших «похоронки» с фронта. Общая беда сближала Зульфию с людьми. Чувство безысходности мало-помалу развеивалось. А затем пришла весна — любимая пора. В саду задышали розы, посаженные им. Поэзия, добрая и мудрая спутница жизни, призвала Зульфию к себе. И горе стало как бы переплавляться в строки памяти и любви, торжествующей над смертью:
РУКА ДРУЖБЫ
При встрече в столовой с Зульфией мы здороваемся — и это все. Угнетает сознание: не дай бог, Зульфия осудит нас в душе за «северную» замкнутость! В то время как наша сдержанность всего-навсего порождена стеснительностью. Нам совестно докучать ей своим навязчивым знакомством. Мы уже знаем, что она на время «освободилась» от редактирования журнала для женщин «Саодат», от дел в Верховном Совете республики, от всяческих интервью и конечно же теперь хочет принадлежать самой себе. Однажды мы с женой, спасаясь от зноя, сидели под цветным пластмассовым навесом, около бассейна. Вдруг смотрим, идет к нам Зульфия в уже знакомом малиновом халате. Под мышкой у нее зажат какой-то журнал, обеими руками она держит огромный кулек, свернутый из газеты. — Вот угощайтесь, пожалуйста, — говорит она, подойдя. — Это яблоки из моего сада. Улыбчиво ее коричневатое лицо в мелких, сухих морщинках, а черные, молодые, невыцветшие глаза излучают заботливую доброту простосердечного человека, чуждого условностей, протягивающего первым доверчивую руку дружбы. Завязывается непринужденный и немного «разбросанный» разговор, как это обычно и случается при внезапном знакомстве. — Я очень люблю стихи вашей Ольги Берггольц, — признается Зульфия. — Иначе и быть не должно! — подхватываю я. — Ваши стихи тоже яркие, бурные. Они волнуют глубокой и подчас беспощадной, но мужественной искренностью. — Значит, вы читали их… Спасибо. — Увы, читал давние! В библиотеке оказалась всего одна ваша книга. — Тогда я подарю вам недавно вышедший сборник. — Рахмат, Зульфия-ханум, — благодарю я по-узбекски, но так, наверно, забавно-неловко, что от глаз ее отлетают смешливые стрелки морщин. — И вот что я почувствовал по давним переводам ваших стихов. Переводят вас разные поэты, а вы везде остаетесь сами собой. Видимо, слишком уж обаятелен и неповторим ваш поэтический почерк, чтобы его можно было передавать разностильно. Зульфия молчит; она сейчас, вероятно, не склонна говорить о своих стихах. К тому же ее стесняет журнал, зажатый под мышкой, и она выдергивает его, протягивает нам с тем же дружеским доверием, с каким недавно — руку. — Вот взгляните на нашу «Юность»! Только что стала выходить. Я перелистываю журнал-близнец: тот же шрифт, верстка, формат — и не могу не сказать об этом удручающем сходстве с московской «Юностью», о необходимости поиска своего лица. — Это ничего! — пылко возражает Зульфия. — Если бы не выход нашей «Юности», стихи, рассказы и повести молодых еще долго-долго лежали бы на их письменных столах. Я возвращаю журнал, но она, взволнованная, уже сама перелистывает его, затем — возглас восхищения и призыва: — Взгляните на портрет автора! Какой юный, красивый! И как интересно, ярко пишет. Хочу дочитать его повесть до конца. Не могу браться за свое. Незаметно разговор переходит на журнал «Саодат», который редактирует Зульфия вот уже более тридцати лет. Тираж этого женского журнала — 800 тысяч! Дружен редакционный коллектив. Печатается много поэтов. И снова разговор завязывается о ленинградских писателях. Зульфия хорошо знает Анатолия Чепурова, Георгия Холопова, Майю Борисову, Ризу Халида. Ей вспоминается поездка по Карельскому перешейку: — Мы ездили с Холоповым и другими товарищами на машине. В Сестрорецке нас захватил сильный ливень. Заскочили в ближний магазин. Там ко мне подошла женщина в плаще. «Вы Зульфия? — спрашивает. — Я перевела ваши стихи на французский язык для журнала „Советская литература“». И вдруг исчезла… Прямо чудеса! От старых яблонь и с открытого поля в молодых саженцах тянет сухим, горьковатым ветерком осеннего увядания. С дерева на дерево перелетают скворцы — иные, чем на севере, в белой оторочке крыльев, очень голосистые. Даже издали заметны жухлые листья на винограднике: они — как желтые заплаты на заношенной одежде природы. Поневоле вспоминается стихотворение Зульфии «Золотая осень», оживают в памяти строки: «Деревья, что стоят, как пышные павлины, свой разноцветный блеск роняя поутру». Или вот эти: «Пушинка улетит в янтарные просторы, повиснет невзначай на девичьей косе…» Неподалеку от нас проходит худенькая, небольшого росточка девушка. У нее слегка вздернутый, тупой носик и неожиданно светлые глаза под тяжелой шапкой прямых черных волос, точно бы подрубленных. — Это Кутлибека Рахимбаева, — знакомит Зульфия. — Очень способная поэтесса. — И наверно, ваша ученица? — предполагаю я. — Да, она тоже… Многие из моих учениц стали лауреатами премии комсомола нашей республики. И среди них — Халима Худайбердыева. Недавно она была еще школьницей и, помню, на моем литературном вечере в школе прочитала свои стихи. Я заинтересовалась. Началась переписка… Теперь Халима Худайбердыева — известный в республике поэт. — Да, много у вас учениц! — Вокруг старого дерева всегда поднимается молодая поросль… Недавно ко мне пришли две молодые узбекские поэтессы, совсем еще девочки. Читали свои стихи, волновались, краснели, спотыкались чуть ли не на каждой строчке. И я вдруг почувствовала, что волнуюсь вместе с ними, радуюсь каждой их удаче, переживаю за то, что еще не выходит, не получается. И — поверите? — была счастлива от этого волнения, будто это мои собственные стихи. Голос Зульфии, слегка надтреснутый, теперь звучал по-молодому трепетно. О, сколько в ней вдохновенного кипения чувств! Сколько любви к людям!ИСКРЫ
Из книги А. Акбарова о Зульфии я уже знаю: родилась она в семье потомственных литейщиков. У ее деда Муслима было семь сыновей. Все они, подрастая, изготовляли плуги, омачи[21] и другие сельскохозяйственные орудия. Большая литейная печь стояла тут же, в мастерской, возле дома. Два раза в месяц из нее выпускали огнедышащую сталь для заливки форм. Маленькая Зульфия, единственная дочь, любимица родителей и братьев, с восторженным любопытством наблюдала за россыпью каленых искр при разливе. Она не раз просила: «Папа, отлей мне куклу!» Но когда металлическая крошка впивалась в могучую отцовскую грудь, девочке, конечно, уже было не до куклы — ее ловкие, тонкие пальчики не хуже пинцета извлекали эти огненные дробины из кожи. Однажды, в разговоре с Адхамом Акбаровым, у Зульфии вырвалось такое признание: — Мне до сих пор хочется сравняться с отцом. Но слову поэта куда труднее высечь искру из человеческого сердца, чем умелым и мудрым рукам из куска металла.ВЕСЕННИЙ ДАР
…Зульфия лечилась в одной из московских больниц. Русская зима еще была в разгаре: ярились метели-заметухи, в больничном дворике едва успевали разгребать сугробы, а хмурые ели стряхивали и никак не могли стряхнуть с себя снежные наросты… Однообразие пасмурных дней навевало тоску по весне на родной земле; в плененной душе больного поэта рождались печальные строфы:ПОЭТ — ТОЖЕ САДОВНИК
Дворец дружбы народов. И так естественно, что в нем собрались на фестиваль советской многонациональной литературы поэты из Москвы и Ленинграда, изо всех наших республик. Звучат стихи на разных языках, сливаясь в многозвучный гимн братства. На трибуне — Зульфия. Бледна,взволнованна. Черные волосы точно взвеяны ветерком вдохновения. Читает стихотворение «Садовник». Четко, ударно каждое слово, звенящие рифмы, и чудится, будто голос поэта превратился… в певучий, неистощимый арык, будто несет он в душный зал, как в засушливый сад, спасительную свежесть горных заснеженных вершин… Все же я начинаю волноваться за Зульфию. Стихотворение большое, а читает она его на одном дыхании. В голосе поэта уже улавливается надтреснутость, режут слух отдельные хрипловатые нотки. И вот — обрывается поток вдохновения. — Воды!.. Дайте же стакан воды! — слышит весь многолюдный притихший зал сухое, нервное пришептывание Зульфии. Какая непосредственность, страстность даже в этом гортанном шепоте! Теперь уже все слушатели переживают за Зульфию; всем понятно, что это неукротимый жар сердца опалил поэта, потряс его. Стихи, конечно, были дочитаны. Зульфии бурно хлопали… Вскоре мне посчастливилось познакомиться с переводом стихотворения «Садовник» в журнале «Новый мир». Зульфия прославляла кропотливый и вдохновенный труд садовника тоже со страстной кропотливостью: она подробно и восхищенно описывала деяния творца красоты, а потом — на самой возвышенной, вселенской ноте — заключала и мудро, и тревожно:ЧИМГАН
В знойно-белесой дымке ранней узбекской осени истаивает уже прибранная, отдыхающая долина. А над ней, в мягкой, словно растопленной, голубизне неба, при полном безветрии, висит белое, холодноватое, отчужденное облако, — висит день за днем и никого не одаривает спасительной тенью… Но это не облако — это снежная накидка на вершине Чимганских гор, далеких, неведомых, которые разве при ветерке, когда всколышется знойная пелена, призрачно проступят древней крепостной стеной, как сама загадочная вечность. В одной из статей Шарафа Рашидова я читаю:В 1937 году, когда отмечалось 100-летие со дня смерти А. С. Пушкина, группа узбекских поэтов (среди которых были Хамид Алимджан, Зульфия, Айбек) поселилась на склоне Чимганской горы и приступила к переводу произведений великого поэта. По вечерам обсуждали переводы, читали собственные стихи, а с утра — снова за работу.Наверно, тогда и заструились со склона Чимгана, как звонкие, весенние ручьи, строфы известного стихотворения Зульфии «Пушкину»:
И УЛЫБКА, И ПЕЧАЛЬ
Мы вернулись с женой из Ташкента усталые, но возбужденные. Зульфия при встрече в саду спрашивает о наших впечатлениях. Я восклицаю запальчиво: — В полном единстве с национальной архитектурой рождается современный своеобычный город! Старые глиняные домишки, похоже, охотно, без всякого сожаления, уступают место высотным зданиям. И люди тоже довольны. Но безжалостной оказывается моя восторженная запальчивость. — Да, довольны, — кивает Зульфия с улыбкой и… с печалью в глазах, вдруг потемневших, суженных. — Недавно снесли и тот дом, где родилась я. Он стоял на улице Укчи, быть может, лет сто. Улыбкой она как бы отдает благодарную дань строительной нови, а печалью глаз выражает скорбную примиренность с неизбежным исчезновением достославной старины. И кто знает, не высекутся ли при столкновении этих противоположных чувств жаркие искры вдохновения и не возгорится ли от них поэтическое пламя в новых стихах?..НАРОДНОСТЬ
Мать, тихая, с печальными глазами мать, передала любимой дочери свою песенную душу, а сама так и осталась… птицей с подрезанными крыльями: почти всю жизнь провела, как миллионы других восточных женщин, за толстыми стенами глиняных дувалов, в тесном ичкари — женской половине дома. «Кто в ней погиб — поэт или ученый? — не раз спрашивала себя Зульфия. — Мать знала столько песен и легенд! Она так могла увлечь нас, детей, волшебной сказкой, что та даже при повторе каждый раз звучала по-новому. Слово моей матери творило чудеса. И любовь к этому творящему слову она заронила в меня с детства. Значит, теперь уже я должна увлечь своей песней людей». С каждым годом креп поэтический голос Зульфии. Она сумела через свои личные переживания прийти к пониманию народных скорбей и радостей. А все, что сама не могла пережить, прочувствовать, — все несла в себе ее героиня, прекрасная, умная, полная любви и силы, нежная и верная узбекская женщина.ФИОЛЕТОВОЕ ЧУДО
Октябрь начался жаркими днями золотой осени. Сегодня Зульфия пригласила нас в свой сад. Там поражают молоденькие яблони: растут они, с боков подрезанные, сплющенные, и разместилось их на малой площади в одном ряду целых пятнадцать штук. Но, конечно, всех чудеснее она — чуть распустившаяся фиолетовая роза. Жена моя восхищена диковинной этой прелестью; руки ее невольно тянутся к бутону, нежно оглаживают его снизу вверх, чтобы ненароком не зацепить, не сорвать какой-нибудь отслоившийся хрупкий лепесток в тонких беловатых прожилках. — Сейчас я срежу вам розу, — говорит Зульфия, и в голосе ее одна хозяйская доброта. — Ой, не надо, не надо, Зульфия-ханум! — умоляет жена. — Пусть чудотворная роза живет, дышит, как и остальные. — И неужели необыкновенная красота этого единственного бутона, — добавляю я в поддержку жены, — должна быть обязательной причиной его гибели? — Что вы, завтра распустится новая роза! — успокаивает Зульфия. — Смотрите, сколько бутонов — целый фиолетовый цветник! О, тогда мы еще не знали, что восхищение гостя дарами узбекской земли вызывает в гостеприимных хозяевах лишь беспредельную щедрость. На следующее утро фиолетовая роза стояла в вазе на нашем обеденном столе. А потом, уже в пути, возвращаясь в Ленинград, вспоминая это фиолетовое чудо, я просветленно подумал: «Разве не подобен ему редкостный поэтический талант Зульфии! Только цвесть ему, не отцветая».1982
РОДНАЯ КОЛЫБЕЛЬ
Неподалеку от Березова, всего в ста километрах от города, если плыть вверх по Северной Сосьве, — родина мансийского поэта и прозаика Ювана Шесталова, хотя, кажется, родился он не в Ванзетуре, а где-то в глухом лесу — урмане, на берегу безвестной речушки. Но дело не в этом, а в том, что он, певец семитысячного народа манси, так красочно и воодушевленно воспел жизнь своих предков-язычников, их обычаи и нравы, дошедшие до наших времен, что все эти сосьвинские луга и сосновые боры хочется называть родиной Ювана Шесталова. Утром в один из погожих деньков я сел на «Ракету» и помчался вверх по Северной Сосьве, в надежде высадиться в Ванзетуре, где проживал отец Ювана, бывший председатель колхоза, тоже опоэтизированный им; а чтобы не чувствовать себя слишком одиноким в дороге, я прихватил с собою своеобразный художественный путеводитель — книгу самого Ювана Шесталова «Югорская колыбель», нечаянный дар местной библиотеки. Признаться, очень уныла Северная Сосьва в своем нижнем течении! Множеством своих протоков она сливается с Обью и как бы усваивает ее характер. Повсюду широкие заплески в луга, тоненькая береговая линия, наплавные кусты и где-то далеко-далеко синеющая еловая чаща, зыбкая и обманчивая, как мираж, но все-таки намекающая на то, что река может быть и другой. Прошло, однако, часа полтора, прежде чем та еловая чаща и с ней другие отвесно подступили к Северной Сосьве и притемнили ее синюю, нежную воду. «Но где, однако, Ванзетур?» — всполошился я. Тем более что на угористых берегах с белыми просыпями песков стали мелькать дома, а над нами уже взвихривались мохнатые вершины сосен, почему-то напоминая головы сказочных мансийских великанов. — Когда же будет Ванзетур? — спросил я в отчаянии матроса. — У Ванзетура «Ракета» не пристает, — отвечал тот с зевками. — Вам бы на «Петре Шлееве» надо было плыть. А мы без остановки идем до самого Игрима. Вот тогда-то, как утопающий за соломинку, я в буквальном смысле этого слова ухватился за «Югорскую колыбель» — и она меня приютила, укачала своей мелодией, как плавной волной; она унесла меня в дали и глуби светлой талантливой жизни Ювана Шесталова.«Жизнь… Когда она коснулась меня? — лилась песня-исповедь. — Когда же этот вечно мелькающий мир в первый раз остановился и проклюнулся во мне тоненькой ниточкой сознания? Помню: я плакал. В берестяной люльке плакал, со связанными руками рыдал, на солнце ревел, на небо орал. Солнце качает меня и качает. Режет мне глаза и на жарких руках качает. «Не качай меня, солнце!» — может быть, кричал я. «Не пали меня, солнце! — может быть, кричал я. — Я и так уже мокрый». «Не слепи меня, солнце! — может быть, кричал я. — Я еще ничего не успел сделать». Разве мог я тогда знать, что берестяная моя люлька в другой большой люльке — на калданке-лодке. Ее качают люди. Ее качают волны. Ее качает жизнь».…А берега все выше — сосновые, светло прошитые березой, и все стремительнее выбегает навстречу река жизни, то гладкая и солнечная, то вдруг взволнованная, печальная, в лад песне:
«Кивк! Кивк! Точись мой нож! Кок, кок! Точись мой нож! Братья мои за зверем бегут. Звериный живот мне бы распороть! Печень медвежью мне бы съесть!»А вскоре из засиявшей солнцем молодой души вылилась такая песня:
Однажды Мирсуснэхум, посланец верховного божества на земле, увидел озеро. Вода в нем прозрачнее стеклышка. Видно даже, как плавает рыба. Нельмы, как серебристые луны, важно шевелят плавниками. Осетры, как хрустальные хребты, по дну песчаному идут, задумчивые такие. Видно, говорят о чем-то важном, может быть, о своем будущем по-рыбьи рассуждают. И лишь глупая мелочь пляшет, плескается на поверхности, заливается счастливым смехом. Смотрит Мирсуснэхум вверх. Видит — осина стоит. Ветвей на ней нет, ствол голый. Лишь на самой вершине один листик дрожит. Взял Мирсуснэхум в руки лук и стрелу: «Собью с осины лист. Попаду или нет?» Натянул тугой лук, и полетела стрела, попала в середину листа. «Оказывается, у меня хорошие руки! Я человек! Я самый сильный на свете!» И, наслаждаясь на берегу прекрасного озера своим могуществом, заснул. Однажды он услышал, как кто-то бранится: «Вот тоже человек! Вырастил такие сильные руки, вырастил такие сильные ноги и дает им полную волю. Зачем ты пробил кусочек моей постели?» Смотрит Мирсуснэхум вверх и видит: на листочке букашка сидит. И поучает его, сильного: «Для тебя этот листочек ничего не стоит, а для меня жизни стоит. Я на нем сплю, и думаю, и работаю. Зачем ты, такой большой, не думая ходишь по земле? Разве сильным рукам не нужен сильный ум?..»Чем ближе я подплывал к Игриму, поселку газовщиков, тем заметнее сужалась Северная Сосьва и плотнее обступали ее с нагорных берегов сухие сосновые боры. Зато мысли, рожденные после прочтения поэтично-мудрой книги мансийского писателя, требовали простора. Я думал, растревоженный: сколько еще встречается произведений, не согретых теплом малой родины. Похоже, что ни авторов, ни героев тех произведений никогда не убаюкивала родная колыбель и над нею не звучали песни отцов и прадедов. И снова и снова вспоминались проницательные слова И. С. Тургенева: «Вне национального нет искусства».
1974
МИТРОФАН ОПРЯ — ЛИТЕРАТОР, ПОДПОЛЬЩИК
I
Я приехал в Молдавию впервые… Солнечный изобильный край, отягощенный виноградными лозами, истаивающий не только в мареве Буджакской степи, но и в жарком золотистом полыхании подсолнечников и дынь, высеребренный Днестром и Реутом, пышно зеленеющий своими волнистыми кодрами, сливающий водопадный гул Дубоссарской гидроэлектростанции с удалыми дойнами народной песенной души, — этот благодатный и счастливый край нельзя было не полюбить с первого взгляда. Во время своего плавания на теплоходе вверх по Днестру, от Бендер до Григориополя, я был настроен на восприятие одних радужных картин. В моей душе под перезвон речных волн складывался гимн молдавской земле… При мне были карта Молдавии и книга туристских маршрутов по ней. Я почти безошибочно определял по пути селения: Телица, Спея, Шерпены, Ташлык… Село Ташлык особенно поразило меня своей живописностью. Вдруг, представьте, левый нагорный берег в сплошной зелени раздергивается, как театральный занавес, и в углублении распадка видны уже отдаленные взгорья со ступенчатыми крышами частых домов, с белеющей над ними церковью. Чем же примечательно это село?.. Я стал торопливо перелистывать книгу туристских маршрутов, пока не наткнулся на фразу:«В селе Ташлык родился один из основателей молдавской советской литературы Митрофан Опря, впоследствии замученный фашистскими захватчиками».Признаюсь, никогда прежде я не слышал о Митрофане Опре, и мне захотелось искупить свое незнание.
II
Я сошел в селе Ташлык. Жара. Безветрие. Небо не то вылиняло на солнце, не то истекло синевой прямо на землю — все стены домов были подкрашены синькой. При переходе через овраг повстречался мне рабочий здешнего совхоза «Прогресс». Звали его Иордановым. Он вывел меня на улицу имени Митрофана Опри, показал, где тот родился. Дом был каменный, обмазанный глиной и чистенько выбеленный, но не жилой, предназначенный к продаже. Неподалеку от бетонного крыльца торчал мощный пень от срубленной акации, с молодыми отпрысками-побегами. Я подумал, что в детстве Митрофан, наверно, любовался этим деревом, обнимал его ствол, как верного друга, или с обезьяньей ловкостью забирался на ажурную вершину, — и мне стало грустно от запустения во дворе, в саду, где рос мелкий дикий виноград, и обидно за родичей, которые, продавая дом, тем самым невольно стирают дорогую память о Митрофане Опре. — Хотя бы мемориальную доску повесили, — пожаловался я Иорданову, худенькому, кроткому человеку, и он тотчас же закивал: — Правда, правда! Не мешало бы… А то вот и экскурсий уже нет, и школьников в пионеры не принимают около дома, как раньше… — Но еще лучше было бы, — предложил я, — если бы ваш совхоз приобрел дом да музей устроил! — И это правда, правда, — кивал Иорданов. — Негоже забывать героя, подпольщика. Взволнованный, я стал расспрашивать о родственниках Опри в Ташлыке. Оказалось, здесь живет лишь племянница Лиза, остальные разъехались кто куда. Однако и эта весточка окрыляла. Я попросил Иорданова познакомить меня с Лизой. Лиза (по мужу — Зидрашка) работала заведующей поселкового ателье. Она очень обрадовалась моей заинтересованности судьбой Опри, но тут же призналась, что знает о дяде только понаслышке от родственников. Тогда я повел самые настойчивые расспросы: где они теперь проживают, как их быстрее разыскать? И вот что узналось: Александра Алексеевна, жена Опри, и сын его Юрий живут неподалеку, в Григориополе, дочь Лариса — в Бельцах, родной брат, Степан Опря, — в Дубоссарах, а жена двоюродного брата, Мария Григорьевна Томак, — в Кишиневе. Кроме того, Лиза сообщила о друге детства и молодости своего дяди — Анне Ивановне Печу, учительнице, проживающей тут же, в Ташлыке, и вызвалась проводить меня к ней… Так я нащупал драгоценные путеводные нити. Мне захотелось повидать всех родных и близких Митрофана Опри, чтобы и самому многое узнать о нем, и для других сберечь его образ от покушений безжалостного времени. Начались долгие поездки чуть ли не по всей Молдавии, упрямые поиски современников Митрофана Опри, беседы с ними, хотя немало было и огорчений, если не удавалось повидать нужного собеседника. И все же настойчивость моя побеждала. Я не раз замечал, что время, способное в прах перетирать камни, вдруг становится бессильным перед живучей и говорящей людской памятью.III
А. И. П е ч у. Родился Митрофан Филиппович Опря в 1912 году в селе Ташлык, здесь же учился в средней школе, стал комсомольцем. Боролся с кулаками. Однажды возвращался из клуба и услышал выстрелы, свист пуль. Стреляли по нему. Если бы не прыгнул за забор — конец… При падении повредил левый глаз, да так, что перестал им видеть. Пришлось носить темные очки. Литературу любил, обладал талантом лингвиста. За короткую жизнь успел изучить одиннадцать языков. В Тирасполе окончил педагогический институт. Работал директором Ташлыкской школы. Молодой, строгий, красивый. Волосы всегда зачесаны набок. И вдруг влюбился в ученицу Шурочку Дубиневич, мою подругу. Шустрая она была, Завлекательная. Когда поженились, ей было всего семнадцать лет, ему же — двадцать пять. Жить молодые переехали в Тирасполь, ютились в одной комнатенке. Митрофан Опря поступил в Институт усовершенствования учителей. Преподавал и одновременно сотрудничал в газете «Советская Молдавия». Писал учебники, стихи, повести. Вел литературный кружок при издательстве. На все его хватало! Я часто проведывала свою подругу, благо сама училась здесь же, в Тирасполе. Шурочка при встречах жаловалась мне на замкнутую жизнь: дескать, Митрофан не любит шумные застолья, всегда сосредоточен в себе, подолгу гуляет в одиночестве, особенно зимой, когда снег приятно поскрипывает под ногами… А впрочем, скоро и Шурочке стало не до компаний: родилась дочь Лариса, потом появился на свет сын Юрий… А. А. О п р я. Он был хороший муж и добрый семьянин. Не пил, не курил. Детишек очень любил и, когда я уходила в гости или в театр, заботливо нянчил их. А если ребятишки допоздна не могли утихомириться, он применял испытанный прием: дул им в лицо, пока не закроют глазки, не заснут. Сам же сразу садился за письменный стол и работал, работал всю ночь за ширмой, при свете торшера. Даже не слышал моего позднего возвращения. Во время образования Молдавской ССР муж как переводчик ездил с правительственной делегацией в Москву. Оттуда привез детям много игрушек и две шубки. То-то было радости! Я души не чаяла в своем Митроше, но и побаивалась его: а вдруг если и не словом, так взглядом укорит меня? Ведь молодая была, взбалмошная, с кровью неперебродившей. Но он до тонкости понимал мою душу. Лишь однажды покачал осуждающе головой. Это случилось, когда я тайком отвела в церковь детей для крещения, а он, непримиримый атеист, все узнал… М. Г. Т о м а к. В 1940 году, после освобождения Бессарабии, семья Митрофана Опри, его двоюродный брат, мой муж, — все мы переехали в Кишинев и поселились в одной квартире, на бывшей Михайловской улице. Митрофану Филипповичу предложили редакторскую работу в издательстве «Советская Молдавия». Но стал он не просто редактором, а и общественным деятелем, организатором литературных сил молодой советской республики. Мы его редко видели дома. Какое это было бурное и противоречивое время! Новая власть только утверждалась на освобожденной земле. В Кишиневе появилось много крестьян. В выворотках из сыромятной кожи, с бесаге — двумя сшитыми и перекинутыми через плечо торбами — они ходили по центральной, Александровской, улице, где им прежде не разрешалось появляться. И тут же проносились нарядные фаэтоны с богатеями, сверкали огни ресторанов. Почти в каждой подворотне спекулянты сбывали наворованное добро из-под полы. Предприимчивые торговцы прямо на улицах варили в котлах мамалыгу и втридорога продавали ее нахлынувшим голодным беднякам. На базаре можно было увидеть, как местный богатей бьет по лицу крестьянина, а тот — в ответ: «Не смей! Оставь старые привычки!» По вечерам мой муж, бухгалтер Наркомата заготовок, и Митрофан Филиппович обменивались впечатлениями об увиденном. Муж волновался, негодовал: «Наши органы должны пресекать безобразия!» Митрофан обычно отвечал спокойно: «Это временное явление! Надо видеть главное — возрождение нашей нации». Вскоре семья Опри переехала на другую квартиру. Случилось это, как сейчас помню, 8 ноября, при землетрясении. Подземный гул напоминал рокот бомбардировщиков. Может быть, поэтому и сказал Митрофан Филиппович, прощаясь: «Не дадут нам пожить спокойно. Быть войне».Л а р и с а Б а д и у. После войны я училась в Кишиневском педагогическом институте имени Крянгэ. Вместе со мной занимались Телеукэ, Виеру и Водэ — нынешние известные молдавские писатели… Но разговор сейчас не об этом. Однажды ко мне подошел Галицкий, преподаватель, психолог, и сказал: «Я долго приглядывался к вам. Вы очень похожи на Митрофана Опрю». Мне оставалось только признаться, что я его дочь. Тогда Галицкий воскликнул: «Я был другом вашей семьи! Мы часто встречались с Митрофаном Филипповичем и в Тирасполе, и в Кишиневе. Я любил его за открытый характер. Да и ходил он, помню, носками врозь, что опять-таки свидетельствовало о его природной открытости, душевности и всегдашней расположенности к людям». Далее Галицкий рассказал о первых днях войны, о бомбежках Кишинева. Он предложил моему отцу эвакуироваться на восток, тем более что к строевой службе тот был непригоден. На это отец ответил якобы шутливо: «Не переношу ни быстрой ходьбы, ни быстрой езды и, значит, все равно не сумею далеко уехать». Но тогда никто, даже психолог Галицкий, не знал, да и предположить не мог, что мой отец, коммунист, знаток многих языков, в том числе немецкого и румынского, получил задание остаться на оккупированной молдавской земле для поддержки постоянной связи с подпольщиками. А. И. П е ч у. Потянулись дни фашистской оккупации. В Кишиневе Митрофану Опре стало опасно жить: много немцев, постоянные облавы. Тогда он с семьей перебрался в родное село. Здесь стояли румыны. Они хотели, чтобы Опря преподавал в школе, учил ребятишек румынскому языку. А он отказывался, сетовал на плохое зрение. И я, молодая учительница, тоже, из солидарности, всячески увиливала от занятий. Жилось, конечно, трудно. Вместе с Митрофаном я ездила в Тирасполь продавать яйца. Однажды в Ташлык нагрянули немцы. Видать, кого-то разыскивали. Митрофан попросил у меня укрытия. Я привела его в свой дом и спрятала на чердаке. Он просидел там весь день, до сумерек. От нечего делать стал перебирать старые, запыленные учебники. Увлекся чтением «Органической химии». Тогда же надумал варить мыло из подсолнечного масла и соды. А мыло в ту пору было на вес золота! И глянь, скоро уже Шурочка бойко торговала на селе мылом. Знание языков помогало Опре сходиться накоротке с румынами. Относились они к нему если не дружелюбно, то лояльно: на работу не гнали, как других. Особенно сошелся Митрофан с одним румыном… вернее, греком, бывшим агрономом. Поселился тот по соседству. Советской власти сочувствовал. Знал сочинения Ленина. Любил спорить и философствовать. Вообще был болтлив не в меру. А Митрофану только это и требовалось — он выуживал много военных сведений. Я уже догадывалась, что Опря оставлен для подпольной работы. Не раз замечала, что приходят к нему какие-то незнакомые люди. Приходят якобы обменивать хлеб и разные вещицы на мыло. И еще замечала: как нагрянут немцы для облавы — Митрофана и след простыл… Жена, конечно, в тревоге. Ждет день, другой… А муж в каменистых щелях, по-нашему «рыпах», отсиживается. И никто о том не знает, кроме старшей его сестры Пелагеи Филипповны. Потому что лишь одной ей он доверял. Она и харчишки ему приносила в щели-каменюги, и одежонку потеплее, чтобы не простыл. Вскоре, однако, немцы вовсе перестали доверять румынам, все чаще устраивали облавы в Ташлыке и ближних селах. Жить стало опасно, невыносимо. И Митрофан вместе с женой и детишками перебрался в Григориополь. Е. В. З а х а р ч е н к о. От наших подпольщиков я знала, что Митрофан Опря будет жить в Григориополе. Мне поручили подыскать ему подходящую комнату где-нибудь на окраине. Но сам же Митрофан Филиппович воспротивился подобному решению. Он так рассудил: если новый человек поселится, предположим, рядом с жандармерией — это вызовет меньше подозрений и все там подумают, что за ним никаких грехов не водится, он ничего плохого не замышляет, коли у каждого на виду. Подпольщики в конце концов согласились с такими доводами: опасно, но смело! И я подыскала семье Опри комнату, довольно большую, в каменном доме на улице Байдукова, неподалеку от здания сигуранцы[25]. Вскоре подружилась и с самим Митрофаном Филипповичем, и с его женой. Часто приводила их детишек к себе домой, благо жила поблизости, и там они играли с моей маленькой дочуркой. В Григориополе приезжий вел себя непринужденно, жил без всякой утайки. Охотно вступал в беседы с румынами на их же языке. А то присядет на какую-нибудь скамью и читает им, словно ученикам, разные божественные книги — недаром звался педагогом! А однажды зашла я к Митрофану Филипповичу, так он чайком потчует румынского священника и спорит с ним на религиозные темы. Может, румыны из сигуранцы и догадывались кое о чем, да, видать, уважали Опрю за смелость. А он, чтобы подозрений было меньше, стал еще мыло варить, им промышлять. Ходил обычно с палочкой, согнувшись, и покашливал в платок, как больной-легочник. Сам же ко всему зорко приглядывался сквозь темные очки, заводил все новые знакомства среди румын. И вскоре подружился с самым нужным человеком — Валерием Копатеску, коммунистом. От него стал заполучать военные сведения и сообщать их подпольщикам через связного Ваню, проворного малого. Иногда, впрочем, к Опре являлся и кто-нибудь из подпольщиков. Пароль был всегда один: «Надо мыло». Но вместе с мылом Митрофан Филиппович передавал и написанные им листовки. Гордился, что они западают в людские замученные души, как светлые и бодрые стихи. Радовался, когда они пробуждали в народе крепкую веру в близкое освобождение. И вдруг все рухнуло… Началось все с того, что румыны узнали: Митрофан Опря — известный в прошлом писатель. Они стали уговаривать его сотрудничать в своих газетах, сулили ему виллу под Бухарестом. Опря обещал подумать, тянул время, а румыны наседали, пока наконец не смекнули: их же просто за нос водят! И стали выжидать удобного случая для расправы. Такой случай вскоре представился. Митрофан Филиппович, словно предчувствуя что-то недоброе, уложил свои рукописи в шифоньер и понес его во двор, стал закапывать. А зима тогда, в конце сорок третьего, выдалась морозная, ветреная — земля плохо поддавалась, как ни долби, ни ковыряй ее ломом. Опря, разгоряченный, и выстудил свое здоровье на холоде, на ветрище. Едва до кровати добрался. Весь в поту, и температура высокая. До смерти напугал свою жену. Она побежала врача разыскивать. А какие в Григориополе врачи! Если и есть, то притаились… Так что Шурочка поневоле кинулась в военный лазарет. Ведь что бы там ни говорили, а румыны вроде бы неплохо относились к ее мужу. Про то же, что их отношение теперь изменилось, она не знала: муж не очень-то делился с ней своими тревогами-заботами. То ли оберегал жену от лишних волнений, то ли не доверял ей по молодости лет… В лазарете Шурочку ожидало разочарование. Там оказался немецкий врач, только что приехавший из Кишинева. Он сам вызвался осмотреть больного. Вместе с врачом пришел и переводчик Шульц, который до войны жил в Григориополе и выдавал себя за убежденного советского человека, патриота. При виде немцев Митрофан Филиппович сильно побледнел, шепнул жене: — Что ты наделала, Шура?.. Это — конец. Я находилась тут же, у постели больного, и все слышала. Сердце мое сжалось, кровь отхлынула от лица. Начала поглаживать руку Опри, успокаивать. Он же опять шепчет, только уже мне: — Елена Васильевна, Шурочка еще молодая. Ей трудно придется… Будьте для моих детей второй матерью. Я пообещала позаботиться о Ларисе и Юрочке, а у самой слезы на глазах… Что было потом — лучше бы и не рассказывать! Будто сквозь туман видела, как немец-врач орудовал своим проклятым шприцем… И тогда же расслышала какой-то далекий-далекий голос Шульца: — Теперь вы поправитесь… Все будет хорошо… Но где же там «хорошо»! После укола у Митрофана Филипповича лицо исказилось. Он стал ногтями царапать обои и при этом привскакивал в постели, словно хотел на стенку кинуться. Я уже навзрыд плакала. Шульц меня вытолкнул в коридор, а вскоре — и Шурочку, будто одеревеневшую, с мертвым лицом. Поэтому мы больше не видели, что вытворял немец-палач над несчастным Митрофаном Филипповичем! Когда же смогли вернуться спустя час-другой в комнату, заметили в миске с водой плавающие кусочки легких… Сам Опря был уже в бреду, стонал, жаловался, что все его внутренности кровью заливает. Затем он немного притих и попросил подвести к нему детей. Лариса и Юрочка от страха жались друг к другу, плакали. Отец поцеловал их в последний раз… Умер Митрофан Филиппович на моих руках. Весть о его смерти облетела весь Григориополь и ближние села. Все возмущались изощренным убийством молдавского писателя. Городские жители и крестьяне рекой стекались на улицу Байдукова. А румыны — те держались в стороне. Их явно врасплох застало это народное шествие. Они даже заключенных выпустили из сигуранцы на похороны, чтобы смягчить общий гнев. Не чинили препятствий и фотографу, когда тот снимал момент прощания с Митрофаном у гроба… Один из тех давних снимков сохранился у Юрия Опри. Ю р и й О п р я. Вот взгляните на снимок: это я стою у гроба, рядом со мной сестренка, а позади мать… Мне тогда было лишь три года, но похороны помню. Отец лежит в открытом гробу. Падают снежинки. И я тогда все удивлялся: почему они тают на моем лице, а на отцовском — нет?.. Шифоньер с рукописями отца я потом не однажды разыскивал во дворе. Да ведь прошли десятилетия! Все могло сгнить, истлеть. И значит, уже навсегда утеряны произведения отца, которые он, по словам Елены Васильевны Захарченко, создавал и днями и ночами… Книг отца у меня не сохранилось, а фотографий — раз, два и обчелся. Приезжал из Кишинева Федор Пономарь, поэт, и все семейные реликвии забрал для литературного музея. Память о Митрофане Опре, конечно, чтят в нашей республике. Отмечалось его семидесятилетие. Были передачи по телевидению и радио. А вот книги отца переиздают редко. На могиле нет памятника… Теперь — о доме в Ташлыке. Продавать его или устроить там музей — об этом нам, родственникам, надо крепко подумать. Однако и Союз писателей Молдавии должен все сделать для того, чтобы память о Митрофане Опре, литераторе и подпольщике, жила долго-долго.Из молдавской энциклопедии.
Литературную деятельность М. Ф. Опря начал в 1932 году. Писал повести, делал переводы, обрабатывал сказки (сборник «Народные молдавские сказки», 1940 г.). Был учителем молодых писателей. Наиболее известны его повести «Галоша», «Константин Бэдрэгану», «Радость». В них отражена новая реальность советской жизни в Молдавии, рост социалистического сознания в людях.
1982
КАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ, КАКИЕ НЕПОВТОРИМЫЕ!
…Я живу в ялтинском Доме творчества. Я всегда вижу их вместе — Григоре Виеру, Ливиу Дамиана и Виктора Телеукэ, молдавских поэтов. Все трое начали печататься в пятидесятые годы, что дало критикам право называть их «пятидесятниками». И конечно, этот одновременный творческий «зачин» сближает поэтов. Но какие же они разные и внешне, и по внутреннему эмоциональному настрою! Сколько свежих красок жизни они положили на общее многоцветное полотно молдавской поэзии! Как широки взмахи их поэтических крыльев и дерзок, безграничен полет их глубоких, проникновенных мыслей!ГРИГОРЕ ВИЕРУ
Григоре Виеру сразу поразил меня мягкой застенчивой улыбкой, в которой, впрочем, таилось что-то грустное, если не скорбное. Запомнилось, как однажды он шел по парку, а сзади, в спину его, хлестал ветер с хмурого, без блеска, моря и заносил надо лбом черные волосы, развеивал их словно дым… Но вдруг порыв своенравного ветра ударил наотмашь по лицу, закинул волосы уже к затылку, и я будто впервые разглядел выпуклый ясный лоб, удлиненный и тонкий, твердым загибом нос, как бы вжатые под него узкие губы и крепкий, опять же удлиненный подбородок, в котором явно угадывался сгусток мужественной силы. Этот внезапный прочерк лица Григоре Виеру невольно заставил меня вспомнить резко отчеканенный на музейной монете профиль какого-то молдавского господаря. И невольно подумалось, что в поэзии тоже существуют свои господари.* * *
Разговорчивым Виеру не назовешь, и, наверно, именно поэтому он мягкой, умной улыбкой как бы искупает свое молчание. Зато стихи его обладают восхитительной способностью доверчиво и образно рассказывать о своем авторе. Вот, например, стихотворение «Анкета»:* * *
Мы сидим с Виеру под цветущей сливой. Поэт, скрутив жгутом телеграмму, — печально, раздумчиво: — Вызывают в Москву. Надо ехать с писательской делегацией в Болгарию. Но не могу… Весной меня язва донимает. Нужно подлечиться. — И вдобавок работа в разгаре, — замечаю я сочувственно. — Как тут покинешь Ялту! Он признается с застенчивой улыбкой: — Люблю Ялту. Благодаря ей дважды встречаю весну: здесь и на родине. Это — как два порыва! Вернее, одно длящееся вдохновение. Улыбка, милая, какая-то девичья в своей застенчивой нежности, еще не прерывается, но под ресницами уже отсветы глубоких и тайных душевных молний. И кажется мне: это вспышки вдохновения выжигают телесный недуг, не дают ему торжествовать над духом, который ведь тоже бывает уязвленным.* * *
Все реже вижусь с Виеру, все скупее его речь при случайных встречах: захлестнула его упоительная и накатистая, как черноморская волна, работа. Однажды в библиотеке Дома творчества я просматривал журнал «Детская литература», полностью посвященный молдавским поэтам и прозаикам, пишущим для детей. Оказалось, Григорий Павлович Виеру начал свой творческий путь как детский поэт. Вместе с литератором Спиридоном Вангели он создал букварь, по которому молдавские ребята учатся вот уже двенадцать лет. А для ребятишек помладше он сочинил стихотворный букварь под названием «Албинуца» («Пчелка»), где каждая буква подкреплена «улыбчивым» стишком — таким, например:* * *
Нет, я не буду больше тревожить Григоре Виеру своими расспросами. Благодаря журналу «Детская литература» его голос долетает до меня как бы издалека, наперекор времени, во всей первозданной чистоте и свежести. Вот одно из признаний поэта об истоках его поэзии в беседе с журналисткой Ниной Жосу:Еще ребенком в конце второй мировой войны я видел солнце, встававшее над скорбью и слезами миллионов матерей и детей. Солнце было похоже на отца, которого я ждал, но это был не отец. В детстве мне случалось оставаться ночью одному. У меня есть старое стихотворение для малышей — «Песня маленькой улитки»: «Погасло доброе солнце, я ложусь, рассказываю себе сказки. Но ни одна из них не хороша. Тяжко одному дома!» Так вот знайте, что маленькая улитка — это я сам, тоже маленький. Я оставался ночью один, потому что мать с сестрой ездили на Буковину в поисках куска хлеба, и не смыкал глаз. Я разговаривал с иссохшей тенью абрикоса под окном, такой же одинокой, съежившейся в золотистом сиянии луны. Видимо, тогда я начал сочинять — от страха и одиночества.
* * *
Мне приходилось часто разговаривать с Ливиу Дамианом и Виктором Телеукэ о молдавских поэтах, вообще о поэзии, и они всегда уважительно вспоминали своего товарища-«пятидесятника». Помню, на мой наивный, настойчивый вопрос: «Что такое поэзия?» — Дамиан ответил быстро, со счастливой готовностью: — У Григоре Виеру есть такое определение: «Поэзия — это секрет мозга, выболтанный устами сердца». Однажды вечером, при золотистом закате, мы гуляли с Телеукэ в парке и вели разговор о Виеру. Как вдруг мой собеседник, на вид грузноватый, медлительный, легко нагнулся и подхватил с бетонной дорожкибурый земляной комок. — А вы знаете, Виеру мог бы высечь из этого комка грязи золотые искры поэзии! — воскликнул он. — Виеру — волшебник в поэзии. Но пока его плохо переводят. Особенно поражают его стихи о матери — в них словно бы звучит вселенская скорбь сыновей. Эти стихи общечеловечны, они проникают в душу каждого. Я даже думаю, что в мировой поэзии нет столько стихов о матери, как у одного нашего Виеру.* * *
Из беседы Нины Жосу с Григоре Виеру:Жосу. Должно ли стихотворение быть красивым? Виеру. Стихотворение должно быть насыщенным. Если оно насыщено, оно и прекрасно. Что это значит? Расскажу один жизненный факт, связанный с поэзией. В прошлом году я лечился в санатории «Бакурия». Моей соседкой по столу была простая деревенская женщина. Я заметил, что каждый раз она садится только на краешек стула, словно занимает чужое место. Даже ложку ко рту она подносила с благоговейной робостью. У нее был прекрасный аппетит, но она непременно оставляла что-нибудь в тарелке, чтобы никто не мог сказать, что она ест слишком много. В хорошем стихотворении обязательно есть что-то от робости этой женщины. Настоящие стихи не лезут человеку в душу, а скромно усаживаются на краешке.
* * *
Под длинными ресницами Григоре Виеру словно бы застоялась печаль, и ее бессильна вспугнуть улыбка. Только что прочитал в журнале «Кодры» его стихотворение — скорбную песню осиротелого сына, разгадку постоянной печали поэта:* * *
Жосу. Чем отличается душевное состояние в момент, когда вы пишете стихи для детей, от мгновений, когда вы создаете другие стихи — для взрослых? Виеру. Писать для взрослых — это, в моем случае, все равно что распахивать в зной пересохшую землю. Детская поэзия — это чистый дождь, омывающий меня от будничного праха, очищающий и укрепляющий меня перед пахотой. Жосу. Что вам больше всего нравится в сегодняшнем человеке? Виеру. В первую очередь, его стремление к миру, его желание приблизиться к другим мирам, сначала земным, потом небесным. Жосу. Что вас неприятно поражает в нем? Виеру. Несоответствие между избыточной спешкой в общественной жизни и косной неподвижностью дома. Жосу. В последнее время вы опубликовали несколько циклов стихов для детей, сопровождаемых вашей же музыкой. Что побудило вас писать музыку? Виеру. Мне хочется прибавить песню к моему переживанию. Этот новый источник, к которому я припадаю, очищает мою душу. Мелодии приходят сами, почти без спросу, легко, как свет дня, вместе со стихами. В последнее время в моей неделе не семь дней, а семь песен. Жосу. Что значит для вас как для поэта — расти? К чему вы стремитесь в поэзии? Виеру. Расти — значит честно и с честью начать, а потом всю жизнь заботиться о том, чтобы не уронить себя, не унизить свое начало. Расти — значит быть талантливым, научиться владеть своим талантом. Расти — значит не позволить умереть в себе ребенку. Мы должны оставить этому ребенку красное яблоко сердца — оно принадлежит ему.
* * *
Прочитал цикл новых стихотворений Григоре Виеру в журнале «Кодры». Какая дерзость сравнений и пылкость метафор, соединенных со смелостью замысла! В стихотворении «Вол» поэт вроде бы очень рискованно сравнивает нашу планету… с волом-страстотерпцем, но вскоре уясняется глобальная поэтическая мысль: земной шар «изъязвлен, ободран, гол», он прошел сотни боен так же, как проходит все муки вол, — через нежность и боль. Отсюда — трогательно-горькое, едва ли не сквозь слезы, обращение к земному шару-страстотерпцу: «Кроткий вол мой, вечный вол!» Вообще в своих стихах поэт наполнен всечасной тревогой за судьбы мира:ЛИВИУ ДАМИАН
Он весь какой-то основательный, прочный, мой новый знакомец — Ливиу Степанович Дамиан. На его лице, суровом и угловатом, на сильных руках — серый какой-то загар, а вернее, землистый оттенок, словно в поры кожи забилась пыль с вздыбленных весенних пашен. Да он и впрямь от земли! Он — сын пахаря и сам пахарь на поэтической ниве. Характерны названия его поэм: «Хлеб», «Колос в сердце». В них Ливиу Дамиан напоминает сурово: идет испытание не только на голод, но и на сытость, когда многие стали хлебом разбрасываться… И накаленный гневом поэт как «горячие хлебы» выкладывает свои строки на страницы «из жаркой печи своего языка». Он в укор пресыщенным вспоминает давнюю пору:* * *
Вечер. Сырые тучи спустились на плечи гор. Морось, туман. Ливиу Дамиан, в берете, в кожанке, очень ладный, ждет вблизи телефонной будки у дверей Дома творчества звонка из Кишинева, и значит, есть возможность поделиться своими впечатлениями о прочитанной его книге «Говорящая лоза». — В ваших стихах, — восклицаю я, — чувствуется напряженная до предела тревога взыскующей совести, боязнь за человека и человечество, которое еще на пути к высокой гуманности, к самоуважению и, значит, к всеобщему миру! А в общем, вся ваша книга пронизана добротой. Да, да, активной добротой! При последних словах Дамиан улыбается и словно высвечивает улыбкой темное, мрачноватое лицо: — Вы нашли точные слова. А вот когда ощутимой стала эта активная доброта — я вам сейчас расскажу… Родился я в деревне. Когда началась война, мне было всего шесть лет. Всякого лиха тогда натерпелась наша семья. Мать ходила в поисках еды по деревням, чтобы прокормить меня и двух моих младших сестренок. Мы часто оставались одни в хате. Сестренки, вечно голодные, подолгу плакали. И тогда я решил поддержать их дух. Стал выпускать домашнюю стенгазету «Эхо». Писал в ней веселые стихи, рассказы под голодное урчанье в животе… Это и был порыв активной доброты, которую я, судя по вашим словам, до сих пор не утратил.* * *
Трудное это искусство — выразить самую суть какого-нибудь значительного явления жизни через емкую деталь, причем в стихах это сделать куда сложнее, чем в пространной прозе. Вспомним, сколько рассказов, повестей, романов написано о послевоенном запустении наших деревень, об уходе сельских мужиков на городские заработки, о горемычном одиночестве женщин и печали покинутых девчат! А Ливиу Дамиан смог передать всю боль такого запустения и разлада в одной-единственной строфе:* * *
Еще один разговор с Ливиу Дамианом у телефонной будки, при ожидании звонка из Кишинева, но теперь я уже не настроен на одни похвалы. Видимо, слишком памятно осела в сознании афористичная строфа поэта о том, что «восхваленье с кондачка в выражениях пространных — пустомельство ветряка, топот падалиц румяных». И вот я, недолюбливающий «белых стихов», сетую: не злоупотребляют ли ими молдавские поэты, в их числе и Дамиан? Не пустое ли это оригинальничанье — вдруг вводить рифму в середине строки? — Нет! — отчеканивает Ливиу. — Белый стих дает полную раскрепощенность поэту, а неожиданность внутренней рифмы позволяет сделать логический нажим на отдельные строки. Тогда у меня возникает невольное любопытство: а что, собственно, способствовало «обживанию» белого стиха в молдавской поэзии? — Лучше было бы сказать, кто способствовал, — поправляет Дамиан. — Ну конечно же латиноамериканские поэты, и в первую очередь Пабло Неруда. Я очень люблю его поэзию и выражаю свою любовь к нему… переводами. У меня уже три варианта переводов его сонетов, но, видимо, придется сделать и четвертый: переводить Неруду вообще нелегко. В орбиту нашего разговора сама собой входит новая тема, и я стараюсь как бы подхлестнуть ее своим подзадоривающим вопросом: — А ведь, пожалуй, и вас, Ливиу Степанович, нелегко переводить? Ведь в ваших стихах главное — сюжет мысли, причем разветвленной мысли…* * *
Продолжаю читать Ливиу Дамиана — и белые стихи обретают «постоянную прописку» в моем сознании.* * *
Меня поразила поэма Ливиу Дамиана «Прежде всего». Он нашел неожиданно счастливый подход к ленинской теме; его стих льется свободно, естественно, как человеческое дыхание. Поэтому и обращение к вождю на «ты» кажется органичным в ткани стиха:* * *
…И опять я читаю стихи Ливиу Дамиана.* * *
Творчество Ливиу Дамиана — слишком сложное явление в современной молдавской поэзии, чтобы его уяснить сразу. Я лично думаю, что «мыслительные» стихи Дамиана созданы… как бы на опережение читательского восприятия: пусть-ка он, читатель, дорастает до полного их понимания, и тогда он возвысится над самим собой, кругозор его расширится, а собственная мысль станет богаче. Не мне, однако, давать исчерпывающую оценку творчества Ливиу Дамиана, да и не все его стихи и поэмы из четырнадцати сборников знакомы мне. Лучше следует прислушаться к такому, например, суждению одного из молдавских критиков:Дамиан весь соткан из противоречий. Но еще Бодлер сказал: «Священнейшее право человека противоречить себе». Хотя к поэтике Дамиана скорее всего применим афоризм Нильса Бора: «Противоположности не противоречивы, а дополнительны». В стихах Дамиана — сгущенная речь, четкий ее тембр. Мысль поэта, как травяное снадобье, настаивается на сложности, стремясь все назвать, все «излечить». Но его язык стремится к простоте, скидывая с себя трудности. А мысль по-прежнему наслаивает на себя эти трудности. И оттого единство его поэзии не искусственное, а внутреннее, глубинное, живое.Оригинально выразился об особенностях поэзии Ливиу Дамиана собрат по перу Виктор Телеукэ: — Как провода после многих сложных извивов наконец выходят на прямое соединение, так и мыслям поэта сопутствует эта извилистая сложность перед выходом их на ясную, ударную позицию. Короче говоря, для моего товарища характерна… сюжетность мысли. Ну а каковы раздумья самого Ливиу Дамиана о своем творчестве, о поэзии вообще?
ВИКТОР ТЕЛЕУКЭ
Поэт Виктор Телеукэ — еще и главный редактор молдавской литературной газеты. Держится несколько особняком, чуть настороженно из усвоенной редакторской привычки самозащищаться от слишком назойливых авторов. Но взгляд его усталых глаз под набрякшими веками все-таки добрый, и все лицо по-доброму мягкое, доверчивое. Но как войти в мир души Виктора Телеукэ? Я беру в библиотеке его сборник «Портреты во времени». Мне уже хочется воссоздать портрет автора по отдельным строчкам его стихотворений. Какого он рода? Ну конечно же крестьянского.* * *
…После отъезда Виктора Телеукэ я записал отдельные высказывания этого интереснейшего молдавского поэта, самого, пожалуй, «философичного» из всех, особенно склонного к гиперболизму, к возвышению земного до «вселенского».Как по-разному звонят колокола, так и в стихотворении должно быть многозвучие или даже разнозвучие, при единстве мысли и чувства.
Да, вы правы: в моих стихах есть сбивы ритмические. Но размер нарушается сознательно — для перехода одной тональности в другую, для большей запоминаемости произведения. Много читаю поэтов братских республик. Интересна эстонская поэзия и всей Прибалтики. Есть в ней грустное что-то, северное.
Начал изучать геометрию Евклида, труды Лобачевского. Попутно пришел к выводу, что в поэзии множество параллелей может сходиться в одной точке — человеческой душе, тогда как в геометрии такое якобы маловероятно.
Родился я в деревне, которой больше шестисот лет. В свое время она была передана господарем боярину. С ней связано много тяжких впечатлений детства. Помню, как немцы расстреливали моего отца, но пуля скользнула по щеке, попала в плечо и вышла сквозь лопатку… О родной деревне написал поэму. А всего у меня написано четыре поэмы. На русский они пока что не переведены: не найти сомысливателя-переводчика, который мог бы проникнуть в стихию твоих образов, дум. Да и труден был бы перевод из-за внутренней рифмы, из-за ритмических сбивов…
Вспышки звезд и вспышка вдохновения — разве нет между ними связи!
Мне довелось побывать в Анголе — и вдруг, находясь один в номере гостиницы, я стал писать о космонавте Волкове. Мне вспомнился памятник герою в Москве. Поразили тогда его космические глаза, устремленные в небо, а за спиной его — переломленная орбита… И Волков словно бы вышел из сумрака вечности и вошел в сумрак земной, ко мне, — и мы стали говорить…
Через фильтры своего сознания я как бы процеживаю мысль, хотя многое в моих стихах остается нарочно непроцеженным: пусть думает, домысливает читатель.
1982
О ЧЕМ ПОВЕДАЛ ХАКАС
Зима 1958 года. Ялтинский Дом творчества… Как сейчас вижу тихого, бледного, грустного Петра Дорошко с неразлучным веселым Иваном Неходой, немногоречивого Тихона Семушкина и щедрого на шутку Виктора Бокова, скромного и вежливого пермяка Льва Давыдычева и всегда порывистого казаха Саттара Сейтхазина со знойной, будто марево, дымкой в раскосых степных глазах… В середине января приехал крепыш с большой круглой головой, плотно вжатой в квадратные плечи, со сдержанными, медлительными движениями, за которыми, однако, угадывалась какая-то напружиненная, умная сила. Ко всему он был скуласт, узкоглаз и бронзовато-смугл по-восточному. Держался с первого же дня особняком. — Кто это? — спросил я у поэта-киевлянина Петра Усачева, человека всезнающего, по-хорошему любопытного и приметливого. — Николай Доможаков, — без промешки ответил тот. — Поэт из Хакасии. Впрочем, говорят, он и прозу пишет. Шли дни, а писатель-хакас не выказывал ни малейшего намерения сблизиться даже с соседями по столу в столовой. Молча поест, вытрет губы салфеткой и уйдет с наклоненной вперед округлой, коротко стриженной лунообразной головой, со слегка отведенными от боков руками, чем-то напоминая борца, хотя, конечно, приходилось ему сражаться лишь с непокорным словом. Однажды я попытался заговорить с литератором из далекой Хакасии — он что-то буркнул в ответ и скользнул по моему лицу косящим взглядом из щелки припухлых век. Так осенний солнечный луч, вырвавшись из ненастных туч, равнодушно скользит по равнине… Сделал попытку накоротке сойтись с Доможаковым и Усачев. Но, несмотря на благоприобретенную поллитровку, знакомство тоже не состоялось: нелюдимый хакас захлопнул свою дверь перед самым носом незваного гостя. — Брезгует! — вырвалось с досады у моего приятеля. — Вот тебе и дружба народов. Похоже, он просто недолюбливает нас. Наверно, в его жилах течет кровь богатых предков — князей. Я рассмеялся: — Отдаю дань твоему поэтическому воображению, но все может оказаться гораздо проще: человек вырвался, предположим, из каких-то семейных передряг и с жадностью накинулся на работу, пишет запойно. — И все-таки я познакомлюсь с Доможаковым. Все о нем узнаю, — помолчав, упрямо заявил Усачев. — Боюсь, тебе это не удастся, — выразил я сомнение. — Нет, удастся! Я страсть какой любопытный до людей. — Да люди-то разные бывают! — Нет, я познакомлюсь, — твердил упрямец. — Готов даже поспорить с тобой. — Каковы же условия спора? — Проигравший в споре… едет изучать характер хакасов на их родину. Я улыбнулся, приняв такие условия за шутку; тем не менее мы азартно сцепили руки, а проходивший мимо по коридору Иван Нехода разнял их… Как вдруг на следующий день спорщики узнают: утром Николай Доможаков получил телеграмму из Абакана и срочно выезжает. — Ты проиграл! — крикнул я, торжествующий, Усачеву, бледному и подавленному. — Тебе, согласно уговору, придется все-таки поехать в Хакасию! Следом за ее уроженцем. Усачев ничего не ответил, лишь рукой махнул с какой-то комичной обреченностью — и исчез… Пропадал где-то до самого вечера… А вечером он внезапно заявил с победоносным видом: — Все же ты напрасно радовался. Наше знакомство состоялось. — Чепуха! Доможаков уехал, и как же ты теперь докажешь это? — Дождись утра — доказательства будут! Я был заинтригован настолько, что вечером мне не работалось за письменным столом, ибо жизнь куда интереснее даже предельно заостренных, изощренных сюжетов с самыми неожиданными концовками-развязками. Утром, после завтрака, я уселся с Усачевым в плетеные кресла под кипарисами. — Так ты жаждешь доказательств моего знакомства с Доможаковым? — спросил он с усмешкой. — Тогда слушай… И, помолчав ровно столько, чтобы насладиться моим сконфуженным видом, товарищ заговорил спокойно, веско: — Николай Георгиевич Доможаков родился в Уйбатской степи, в улусе над рекой Изых, близ базальтового утеса. Родился в дымной юрте бедняка. Дым с младенческих лет выедал ему глаза — зрение портилось. Тем не менее мать, как подрос Николка, отдала его в услужение местным баям. Чтобы не умереть с голода, паренек пас коней в степи в любое время года. Он слышал, как в их зубах снег, пропахший чебрецом, хрустит пополам с мерзлой травой. Его больные глаза слезились на ветру и были красные, как брови глухаря… Разутый, раздетый, он был худ и дрожал, словно веточка. — Убедительные подробности, — пробормотал я. — Но когда же Доможаков успел обо всем этом рассказать тебе? — Слушай дальше… Николка слеп, солнце уходило из его глаз. В беде сдружился с русским пареньком Ваней Василенковым. Однажды они пошли собирать коренья саранок для еды. Взобрались на холм, похожий на круп коня. У холма под названием Красный Яр речка Уйбат коромыслом выгнулась. Много здесь росло саранок. Друзья набрали их вдоволь и песни запели, как жаворонки. Вдруг надвинулась страшная туча. Разразилась гроза с градом. Николка сразу закашлял. Тогда Ваня закутал его в свой шабур — плащ с капюшоном. Отогрел друга шабуром и… сердцем своим. С тех пор навек побратались — хакас и русский. — О чем же еще поведал тебе Доможаков? — спросил я, уже больше, пожалуй, заинтересованный, чем сомневающийся в знакомстве приятеля с хакасским поэтом. — Еще он поведал легенду о Лиственничной горе. Бай послал батрачку в тайгу за ягодой. Она положила сына-первенца у горы в мрачных лиственницах, сказала ей: «Оберегай его от злого ветра! Отведи любую беду! Я скоро вернусь». Но долго, очень долго не возвращалась несчастная женщина. Туес был огромный, его следовало доверху наполнить ягодой, иначе прогневается бай. Как вдруг по лесу пронесся тревожный шум: «Проснулся твой сыночек! Распахнул пеленки!» Мать встревожилась — кинулась обратно. Да сбилась с дороги, потеряла туес. Мечется взад-вперед, а лес повсюду стеной стоит. Закричала тогда: «Помнишь ли, гора, мольбу мою?» Молчит Лиственничная гора… Всю ночь ждала мать отклика. Наконец занялось утро. Мимо бежит легендарная река Пого, вся в розовой пене. На берегу орел моет окровавленный клюв. И только лишь взглянула батрачка на хищную птицу — все сразу поняла, вмиг поседела. А слез выплакала столько, сколько звезд на небе. Одна ненависть осталась в душе: «Будь ты проклят, бай, что послал меня в тайгу!» Рассказ Петра Усачева поразил меня яркой поэтичностью — я уже завидовал удачливому товарищу: ведь надо же, успел каким-то немыслимым образом сойтись накоротке с Доможаковым, разбередил его суровую душу, вызвал на откровения! Вскоре, однако, выяснилось, что завидовать-то, собственно, было нечему. Зайдя во время прогулки по набережной в книжный магазин, я увидел на прилавке стихотворный сборник Николая Доможакова «Поет река Абакан», тут же купил его, стал читать… И каково было мое удивление, когда то, о чем рассказывал Усачев, оказалось всего-навсего изложением многих стихов хакасского поэта, очень событийных, сюжетных. — Обманщик! — вскричал я, как только узрел в парке близ Дома творчества лукавого своего приятеля, и потряс в воздухе книжкой: — Вот какое твое знакомство! — А что, разве это не знакомство с Доможаковым… при помощи его же стихотворений? — с невинным видом отвечал Усачев. — Недаром же поэт Александр Прокофьев сказал: «Вся моя биография разошлась по стихам». Так что спор я выиграл. А ты… ты собирайся сейчас же в Хакасию, раз проспорил. Шутка шуткой, но в этой дальней сибирской стороне мне пришлось побывать, — правда, спустя много лет. Ветер странствий увлек меня туда. Я побывал и в городе Абакане, но Николая Георгиевича Доможакова уже не было в живых. Я встретился… лишь с героями его романа о становлении Советской власти в Хакасии. В те дни почти во всех кинотеатрах города шел двухсерийный фильм «Гибель черного орла», поставленный по произведению Доможакова, — остросюжетный, драматичный по социальному накалу фильм.1979
ГЛАВНЫЙ СУВЕНИР
I
Золотисто-сухой, пылающий июльский зной над Абаканской степью, но не прожечь ему преображенную землю хакасов: зелеными коврами цветет она между каналами-оросителями, лоснится под солнцем гривами лесных полос, нарядно переливается то коричневато-бежевыми, то красновато-лиловыми тонами распаханных, отдыхающих паров на отдаленных холмах, а дождевальные установки, раскинув ажурные крылья, мерно покачивая ими, точно благословляют степь, нашептывают, навевают струистым шелестом прохладные грезы о еще более прекрасном будущем… После поездки по Абаканской степи, где стоячие ребристые камни древних могильников давно уже захлестнуты буйной, рослой пшеницей, я прибыл в тенистый Абакан — столицу Хакасии. Здесь мне следовало отметить командировку в местной писательской организации. Встретил меня в небольшом кабинете с двумя оконцами сам ответственный секретарь ее — Михаил Еремеевич Кильчичаков, человек лет шестидесяти, с грузно отвисшей, неподвижной левой рукой в черной перчатке, с узковатыми и словно бы ссохшимися плечами, которые лишь подчеркивали массивность его головы в жесткой гриве черных, в прострельной седине, волос. В первую же минуту меня поразила необычайная живость Михаила Еремеевича. Своей правой рукой он с лихвой возмещал неподвижность левой: то поглаживал седые усики, то перебирал какие-то листики на письменном столе, то надевал и вновь снимал темные очки, удивляя густейшей, дегтярной чернотой своих глаз, очень крупных, без всякого азиатского раскоса. Раздался телефонный звонок. Кильчичаков сейчас же схватил трубку, а я за это время успел разглядеть на его светлой рубашке нашитую эмблему с надписью: «Творческая конференция писателей Азии», рассмотрел на столе новый номер журнала «Дружба народов», антологию узбекской поэзии, справочник «Писатели Восточной Сибири» и, кроме того, умудрился прочесть в лежащей тут же развернутой областной газете стихотворение самого Кильчичакова «Встреча с Гоби», вернее — начало его:II
Прожил я в Абакане несколько дней. Однажды шел по проспекту Ленина и встретил Михаила Еремеевича. Нес он авоську с овощами. Вечернее солнце в упор освещало его желтое лицо в мелких морщинах, однако бессильно было заставить дегтярно-черные глаза хотя бы слегка сощуриться. Я поздоровался с Кильчичаковым. Он тотчас же признал меня, воскликнул: — Зайдемте ко мне! Дом мой неподалеку! Дом был высотный и напоминал ребристыми выступами стен скалу, а между стен как бы заклинивались балконы — этакие ласточкины гнезда. Скоро я уже ходил по кабинету писателя и удивлялся, восхищался… На стенах топырились рога сайгаков и маралов («Не читали мою книгу „Почему марал сбрасывает рога“?»). Устрашающе красовалась огненно-красная маска с тремя глазами («Это изображение подземного царя Эрликхана — дар монголов»). А на тахте точно альпийский луг раскинулся — такое сочное, переливчатое многоцветье насыщало просторное покрывало («Подарок казахских собратьев»). Вообще от кабинета веяло музейностью. Каждый экспонат-сувенир свидетельствовал о неустанных поездках Кильчичакова по стране. Из Тувы он привез изящную статуэтку овцы, вырезанную из местного камня; из Минусинска — картину «Енисей» художника Д. Черепанова, написанную в сумеречных тонах, полную лиризма; из Киева — портреты Шевченко и Леси Украинки, выполненные резьбой по дереву. Но если кабинет при осмотре все больше напоминал музей, то и сам хозяин все заметнее становился похожим на экскурсовода. — Вот обратите внимание на старенькую фотографию! — воскликнул он, и я увидел на стене ветхий, в белых трещинках, снимок в рамке, под спасительным стеклом — там запечатлелся на фоне бревенчатой юрты худенький человек в кепке, с затененным лицом, которое и застенчивой улыбкой и усиленным прижмуром глаз выражало робость перед пристальным оком фотоаппарата. — Кто это? — спросил я, заинтересованный, в предчувствии «семейных» откровений. — Это мой отец Перемал, он же Еремей… А ведь прежде у меня не было ни одной его фотокарточки! — Откуда же взялась эта? — В начале тридцатых годов в Хакасии побывала ленинградская этнографическая экспедиция. Она заглянула и в Маныгасов улус, где я родился и жил с родителями. Этнографы сделали много снимков. На одном из них, как видите, снят мой отец. А прислал снимок из Ленинграда знакомый этнограф Каралькин, Петр Иванович, алтаец по рождению, но знаток и хакасского языка. Спасибо ему за приятный подарок! — Значит, вы еще и с Ленинградом имеете связь? — И с Ленинградом, и с Москвой… Там я учился в Литературном институте вместе с Солоухиным, Бондаревым, Гамзатовым, Сергеем Орловым. — Учились, конечно, после войны. А до этого? — До этого ходил в школу в своем улусе, боронил землю, косил сено, пас овец и лошадей. А кроме того, стихи сочинял. Для себя. И пробовал писать пьесы. Был актером Абаканского драматического театра. Разговаривая, Михаил Еремеевич незаметно подвел меня к полке с увесистыми кувшинами из чугунного литья. — Взгляните, какая изящная отделка! — снова воскликнул он зазывно, как истый экскурсовод. — А ведь способ производства был кустарный, самый примитивный. Здесь же, среди узористых кувшинов, оказался медный чайник в древних вмятинах и царапинках, однако пытавшийся улыбчиво просиять в луче вечернего солнца округлым бочком. — Это, знаете, уже семейная реликвия, — оповестил приглохшим голосом Михаил Еремеевич. — Чайник из приданого матери… Прожила она сто одиннадцать лет… Любила слушать народных певцов и сказителей. На состязаниях дарила победителям рукавицы, которые вязала мастерски. А я… я завидовал певцам с малых лет. Мои детские ручонки больше тянулись к струнам чатхана, чем к куску хлеба. Неудивительно, что восьми лет отроду я уже исполнял героические сказания. И с тех пор не расстаюсь с чатханом. Продолжаю участвовать в слетах народных певцов. Я еще прежде приметил: неподалеку от письменного стола, в углу, стоял продолговатый черный ящичек с длинной рукоятью при двух-трех струнах. Чутье мне подсказало, что это и есть древний музыкальный инструмент хакасов. Я отважился попросить Кильчичакова исполнить какую-нибудь национальную мелодию, но тут же, впрочем, спохватился: — Не надо, не надо! Вам же нелегко это сделать… — Ничего, привык, — улыбнулся Михаил Еремеевич и погладил поощряюще правой рукой левую, палкообразную, в черной перчатке. — После ранения рука стала сохнуть, а все же я еще хозяин над ней. — Значит, вам и повоевать пришлось? — Воевал подо Ржевом и Великими Луками, под Ельней и Смоленском… Михаил Еремеевич уселся на стул, придвинул к себе поближе табуретку, а меня попросил взять чатхан и один его конец (деку) опустить на эту подсобную табуретку, другой же конец (гриф) положить ему на коленки, уже с готовностью расставленные. Затем, зажав в пальцах правой руки тонкую баранью косточку, он стал ею прищипывать струны с целью настройки инструмента, в то время как левая рука собственной тяжестью вдавливала неловкие от перчатки пальцы в струны и явно с усилиями передвигалась по грифу. Когда чатхан был настроен, я услышал тонкую и прозрачную мелодию, то весело журчащую, подобно ручейку среди камешков, то плавно растекавшуюся, будто бы по гладкому дну, и уже грустную и наивную в своей древней безыскусной грусти… Внезапный удар грома за окном в радужном витраже прервал мелодию. — А чатхан — тоже подарок? — спросил я, как только замерло погромыхивание. — Да, подарок… Подарок самой жизни! — засмеялся Кильчичаков. — И все, что вы видите здесь, — это тоже дары жизни. Я счастлив своему общению с людьми братских республик. Все сувениры — вещественная память о друзьях. Когда я пишу книги, меня зримо охватывает атмосфера всей большой нашей Родины, и я уже не замыкаюсь в одни национальные рамки. — Ну а маска из Монголии? — При взгляде на нее я вспоминаю поездки по дружеской стране. Но главный сувенир — это конечно же впечатления об аратах и вообще о людях Монголии, которые я храню в душе. Я поправил с улыбкой невинной похвалы: — Нет, вы, Михаил Еремеевич, не только храните в душе впечатления-сувениры, но и делаете их достоянием многих. — Да, с помощью переводчика Владимира Семенова я это делаю. — Не могли бы прочесть ваши стихи в его переводах? — Сейчас я возьму областную газету, где напечатаны мои стихи из монгольского цикла, и прочту… Гром надсаживался, ухал по-орудийному, а Кильчичаков своим четким, хорошопоставленным артистическим голосом читал громко, торжествующе, памятно:1979

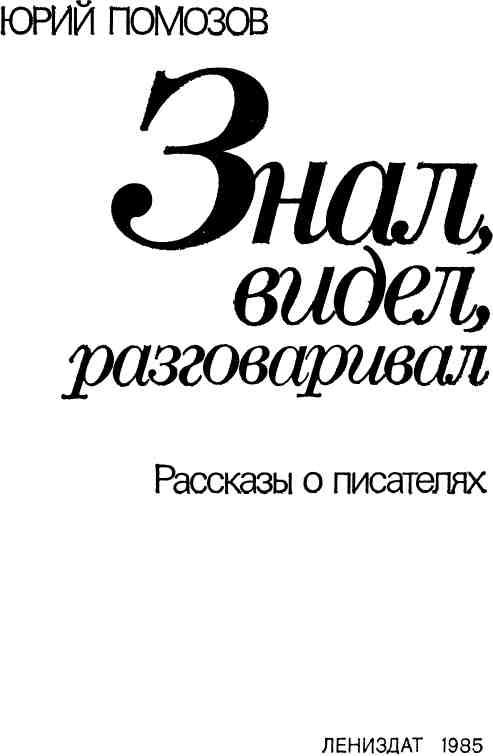
Последние комментарии
2 часов 38 минут назад
2 часов 43 минут назад
2 часов 47 минут назад
2 часов 48 минут назад
2 часов 53 минут назад
3 часов 10 минут назад