Армянские мотивы [Коллектив авторов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Армянские мотивы (Составитель Елена Шуваева-Петросян)
© Авторы, 2021 © Художники, 2021 © Елена Шуваева-Петросян, 2021 © РЦНК в Ереване, 2021* * *
Сборник рассказов, мемуаров и статей по итогам международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019 и проекта «Единый крест: Россия и Армения»-2020Сборник дружбы
Дорогой читатель! Перед тобой сборник избранных произведений участников двух проектов – Пятого международного литературного конкурса «Армянские мотивы» и проекта «Единый крест: Россия и Армения», реализованных Российским центром науки и культуры в Ереване в 2019 и в 2020 гг. Конкурс «Армянские мотивы» проводится с целью привлечения интереса к культуре, истории и традициям Армении, выявления и продвижения талантливых авторов, пишущих на армянскую тематику на русском языке. Тематика проекта – это Армения, истории и легенды, связанные со страной, путешествия, взаимосвязь культур и литератур, образ Армении в мировой литературе и в личном авторском восприятии. На Пятый международный конкурс «Армянские мотивы» поступило 70 заявок из России, Армении, Казахстана, Абхазии, Белоруссии, Грузии, Украины, Литвы, Израиля, США и Канады. Авторы из разных стран, как профессиональные писатели, так и те, для кого писательство является увлечением, с большой любовью пишут на русском языке об Армении, в которой побывали в разное время. Основные задачи творческого проекта «Единый крест: Россия и Армения» заключаются в популяризация страниц истории, посвящённых многовековой дружбе между Россией и Арменией, а также патриотическое воспитание молодого поколения в духе уважения к истории и культуре народов. Во всех работах необходимо было показать единство двух братских государств – России и Армении, которые прошли долгий исторический путь плечом к плечу, отразить свой взгляд на их прошлое, настоящее и будущее, рассказать о духовном и культурном диалоге. Оба проекта призваны вдохновлять дружественные народы в сложное, с политической точки зрения, время. Также стоит отметить, что в оформлении сборника приняли участие 18 художников из Армении, России, Белоруссии, Украины, Израиля и других стран, которые в своих полотнах постарались рассказать об Армении, ее традициях, культуре, истории и выразить любовь. Андрей Битов в книге «Уроки Армении» пишет: «Я влюбляюсь в слова: в армянские благодаря русским и в русские благодаря армянским…» Наверно, вот так кратко и ёмко можно охарактеризовать сборник «Армянские мотивы», под обложкой которого собраны произведения о дружбе и любви авторов разных национальностей, из разных стран.Летний пейзаж с хачкаром
(рассказ)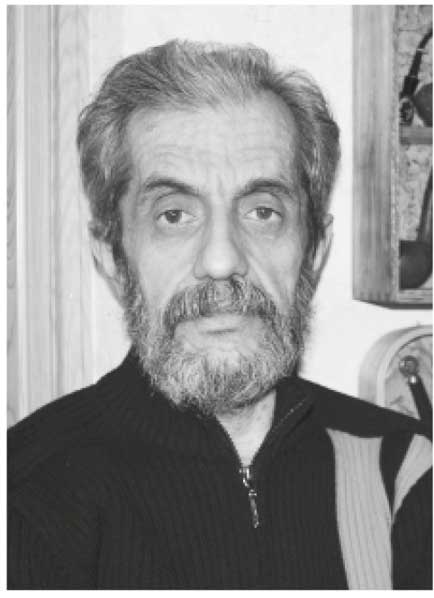 Александр Жданов. Россия, Калиниградская область, г. Советск
Александр Жданов. Россия, Калиниградская область, г. Советск
Поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в Баку. По окончании средней школы работал, служил в Армии. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподавал в школе, работал в газете, где прошёл все этапы: корреспондент, заведующий отделом, ответственный секретарь, главный редактор. Публиковался в журналах, в том числе «Нева», «Запад России», «Балтика», «Берега», «Литературная Армения», в интернет-журнале «Твоя глава», в альманахах «Российский колокол», «Литера К», «Эхо». Автор трёх сборников стихов, трёх книг прозы, альбома живописи и графики и трёх учебных пособий по истории изобразительного искусства. Призёр Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» – 2018, «Русский Гофман» – 2019 и международного конкурса «Созвездие духовности – 2018». Победитель международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).
1
…И ведь красавицей Нину назвать нельзя, а вот не шла из ума. А особенно её глаза – разные: правый глаз был серо-зелёным с карими крапинками, а левый почти фиолетовым. И это почему-то заставляло мужские сердца биться сильнее. А ещё веки у Нины были немного припухшие, и глаза всегда поблёскивали, словно они полны слёз, словно хозяйка их либо вот-вот заплачет, либо уже отплакала. И вся она удивительно была похожа на скрипку: прямая, стройная, с небольшой головой, гордо посаженной на длинную шею. Поэтому, когда Михаил узнал, что Нина скрипачка, нисколько не удивился. Нина добровольно взяла на себя роль экскурсовода. Тогда собралась группа молодых художников и музыкантов из России, приехавших на молодёжный фестиваль. Гостям предложили обычный туристический маршрут – Гарни, Эребуни, Эчмиадзин. Свозили их и в более отдалённые места. Михаила поразила старая, полуразрушенная часовня с тремя ступеньками. К ней вела узкая тропинка, ограниченная с обеих сторон развалинами когда-то мощных стен. И вокруг только скалы, отливающие фиолетовым цветом, небо и небогатая, но яркая растительность. Зелёный, голубой и фиолетовый – всего три цвета, но как богато играли они! Художник Рубен Арутчьян
Художник Рубен Арутчьян
Только после этого, только после того, как новые её знакомые немного прикоснулись к Армении, Нина посчитала возможным отвести гостей к главному мемориалу – Цицернакаберду. И тут Михаил удивил многих. Увидев склонённые над вечным огнём двенадцать пилонов, он спросил: – А можно, я не пойду туда? И тут же поправился: – Вместе со всеми не пойду. Можно мне одному? Видя недоумение во взгляде Нины, он стал сбивчиво рассказывать. Он уже был здесь, приезжал с родителями подростком, лет пятнадцати. К мемориалу они подошли уже вечером. Темнело. Они стояли у вечного огня под нависающими плитами, мальчик поднял голову. На фоне тёмного неба плиты просматривались уже плохо, но подсвеченные снизу отблесками вечного огня, они, казалось, медленно опускаются на него. И тогда подросток понял всё – он представил себя на дне рва, в который сбрасывают тела убитых и раненых. Он почувствовал себя тем раненым, но ещё живым ребёнком, которого, возможно, тогда, в 1915 году, сбросили в ров и живьём закопали. Он испытал потрясение.
 Художник Рубен Арутчьян
Художник Рубен Арутчьян
Всю эту историю он сейчас рассказал быстро, торопясь, опасаясь, что не поймут. Но его поняли. Нина несколько раз кивнула и сказала очень тихо: – Да-да, конечно, можно. Пойдёте один. И он пошёл, и стоял в молчании перед огнём, и вся группа терпеливо ждала его. А в отношениях с Ниной после этого что-то изменилось. Они незаметно и легко перешли на «ты», словно породнились, и, вспоминая его поведение на мемориале, Нина ещё сказала: – Ты так почувствовал армянскую трагедию, словно сам связан кровно. – Возможно, и связан, – ответил он. – У меня мама армянка, хотя живём мы в России. Нина понимающе кивнула. Вечером, прощаясь со всеми у дверей гостиницы, она задержала свою руку в руке Михаила и сказала: – Завтра у всех свободный день, нет никаких мероприятий. Мы с нашими студентами едем в одно место. Если хочешь, заедем за тобой, заодно познакомишься с моими однокурсниками. Только вставать придётся рано. Михаил согласно кивнул.
2
Наверное, Нина успела рассказать друзьям о Михаиле, о его вчерашнем поступке. Во всяком случае, когда рано утром он, плохо выспавшийся, вползал в ПАЗик, его встретили не настороженными, а, скорее, заинтересованными взглядами. Перезнакомились быстро, и Михаил сел на свободное место. Он хотел было усесться рядом с Ниной, которую знал лучше других, но уловил её предупреждающий взгляд и понял, скорее даже почувствовал: не стоит этого делать, не в местных традициях сесть рядом с девушкой, с которой познакомился только вчера и у которой, возможно, есть жених. Поэтому он разместился рядом с Эдиком, чернобородым парнем в свитере. Первым делом Эдик поинтересовался: – Мишик-джан, почему ты только в рубашке? Куртка-свитер – что-нибудь есть? Куда мы едем, холодно будет. – Есть-есть. Куртка, – похлопал по сумке Миша. – Нина предупредила. А куда мы едем? – Там увидишь. Одно скажу – к дедушке Месропу едем. Михаил откинулся на спинку неудобного автобусного сидения. Он планировал подремать в дороге, но за окном мелькали такие удивительные виды, что он достал из сумки небольшой альбомчик, карандаш, примостился, пытаясь на ходу делать наброски. – Э, зачем не сказал, что ты художник?! Садись сюда, здесь лучше видно, – Эдик пересадил его к окну, а сам занял его место. И это было кстати. Миша увидел то, чего не мог видеть у себя дома: в небольшой речушке разлеглись буйволы. Из воды торчали лишь их головы и спины. Птицы по-свойски садились на них, буйволы никак не реагировали на эту бесцеремонность, очевидно, считая это ниже своего достоинства, и только изредка величаво поворачивали головы, обозревая округу. ПАЗик немилосердно трясло: не то что рисовать, усидеть было трудно, но Миша ухитрялся в перерывах между встрясками делать зарисовки. Эдик время от времени заинтересованно заглядывал в альбом. Автобус тем временем стал подниматься по горному серпантину, и вскоре Михаил ощутил смену климатических зон и понял, насколько прав был Эдик – в салоне становилось свежее. Миша извлёк из сумки куртку и напялил её. Автобус остановился у сложенного из камня дома. Михаил отметил, что поведение его новых друзей изменилось. Только что в пути они шутили, рассказывали анекдоты, смеялись, а тут тихо вышли и встали на почтительном от дома расстоянии. Хозяин вышел не сразу. Он медленно приближался, опираясь на массивную, вырезанную из какого-то твёрдого дерева, палку. – А-а, приехали, детки? – сказал он, добродушно улыбаясь. – И ты, сорванец, здесь, – обратился он уже к Эдику. Все подходили к старику, здоровались, целовали в щёку. – Нина, детка, иди сюда. Давно тебя не видел, – хозяин был рад каждому. Когда Нина подошла к нему, он тихо спросил, кивая на Мишу: – Это кто? – Наш новый друг. Художник. Дедушка Месроп, он хочет вас нарисовать. – Э! Я кто? Министр? Или знаменитость? Зачем меня рисовать?! – сказал он, сохраняя равнодушие, но чувствовалось, что ему это приятно. Обрывки фраз долетали до Михаила. Хозяин разговаривал с гостями по-армянски. Вообще-то Михаил считал, что он знает армянский. И мать, и бабушка часто разговаривали с ним, но то был другой язык. Сейчас же он почти не ничего понимал. Нина пришла на выручку: – Не переживай, я буду твоим переводчиком. Кстати, я сказала, что ты нарисуешь дедушку. Сумеешь? – Конечно. Постепенно ему стала понятна сущность всей этой поездки. В группе были студенты консерватории, в основном композиторского и музыковедческого отделений. И поездка была своего рода фольклорной экспедицией. Дедушка Месроп был виртуозом игры на дудуке и мастером, который эти дудуки делает. Будущие композиторы и музыковеды надеялись записать его игру на магнитофон, поговорить с ним. Но брать инструмент в руки хозяин не спешил. Для начала он подозвал двух парней. – Эдик и ты, Вагик, приблизьтесь. Знаете, что надо делать? – сказал он, протягивая им удочки. Те понимающе кивнули и побежали к горной речке. – Девочки, – поманил он пальцем девушек, – помогайте моей Ануш. Стол накрыть надо. Вскоре он раздал поручения всем, кроме Михаила. – А ты ещё первый раз, ещё ничего здесь не знаешь. Пока походи, посмотри, – всё это он сказал по-русски. Миша пошёл вглубь двора, надеясь найти какой-нибудь интересный мотив. Сзади подошла Нина: – У нас есть минут двадцать. Пойдём, кое-что покажу. Некоторое время они молча поднимались по каменистой тропинке, пока не вышли на небольшое плато, даже холмик, напоминающий перевёрнутую миску с плоским дном. С непривычки Миша тяжело дышал, но сверху открылся такой изумительный вид, что он уже собрался делать зарисовки, но Нина остановила его: – Нет-нет, я не это хотела показать. Вот смотри. Она подошла к вертикально стоящему прямоугольному камню, сплошь украшенному изысканной резьбой, но в тончайшей этой вязи легко угадывалось изображение креста. Нина встала рядом с ним. – Мой любимый, – очень тихо сказала она, осторожно прикасаясь к камню. – Мой любимый хачкар. Хачкары – это наша традиция, наша память, наша боль. В Армении многое – боль. Если хочешь понять Армению, ты должен понять хачкары. Нина отошла, давая возможность Михаилу увидеть и почувствовать. Ей очень хотелось, чтобы он понял, что именно можно и нужно почувствовать. А Михаила пока больше занимало другое: голубое небо, как и прежде, уходящие вдаль фиолетовые скалы и Нина. Он снова подумал, что Нина очень похожа на скрипку. – Ну, ладно, – вдруг сказала она, – нам пора, мы слишком надолго уединились Неудобно.* * *
Во двор дедушки Месропа они с Ниной подоспели вовремя: подготовка к застолью была в полном разгаре. Парни жарили шашлык и форель, пойманную Эдиком и Ваганом, девушки раскладывали на столе помидоры, зелень, хлеб-матнакаш, абрикосы. Сам Месроп сидел в стороне и наблюдал за происходящим, как режиссёр на съёмочной площадке. Миша пристроился неподалёку и делал быстрые зарисовки. На одной он изобразил дедушку Месропа за столом. Из-за плеча заглянул Эдик. – Рисуешь? А это что, – ткнул он пальцем в набросок. – Гранаты. Хочу на столе гранаты нарисовать. Колоритный старик – колоритные плоды. Эдик слегка замялся: – Колорит – да. Гранаты красивые. Но они больше не для нас, а для наших соседей. Армянский плод – тиран, абрикос. У нас даже дудук делают из абрикосовых черенков. Ты слышал дудук? – Нет, – честно признался Михаил. – Завидую тебе. Ты сейчас впервые услышишь, ты откроешь для себя чудо. А потом было застолье. Немного не таким представлял его себе Михаил по фильмам и книгам. Здесь веселье перемежалось грустью и тоской, а тосты о предках – редкими песнями. Но и песни большей частью были грустными. А потом хозяин дома извлёк из кожаного футляра дудук, бережно протёр его бархатным лоскутком, осторожно продул и заиграл. И только теперь, слушая эту мелодию, которая вливалась в него не через слух, а сверху, Михаил, как ему показалось, догадался, что имела в виду Нина у хачкара. И другие слова её вспомнил: «Мы можем казаться обидчивыми, высокомерными, спесивыми, но, поверь, это всё внешнее. Слишком часто нам приходилось скрывать свои мысли и чувства». В гостинице он успел сделать две работы тушью. Обе протянул Нине при расставании, когда участники фестиваля разъезжались. Нина посмотрела на одну, вытянула руку вперёд, ещё раз посмотрела. – Это дедушка Месроп? Как хорошо ты его нарисовал. Я передам. Ему будет приятно. Она взяла в руки второй лист. Посмотрела на рисунок, затем на Мишу, потом снова на рисунок. – Это ты, – Миша почувствовал, что во рту у него пересохло. – Догадалась. То ли я, то ли скрипка. Оригинально. Но, Миша, так не пойдёт. Я прошу тебя не влюбляться. – А что, заметно? – Немного. Вот и прошу не влюбляться. К тому же у меня есть парень, даже жених. Он тоже должен был ехать с нами, но простудился – купался в Севане. А портрет мне нравится. Я заберу его, можно? – Он твой.3
Арам позвонил внезапно: – Приезжай. Ашот мне барана проспорил. Шашлык сделаем, посидим, поговорим… Давай, приезжай. Приглашение ломало все планы Михаила Аркадьевича, и он попытался отшутиться: – Баран? Зачем тебе баран? У тебя самого целая отара. Для тебя такой выигрыш не повод… Но Арам перебил: – Тут дело принципа. Проспорил – пусть привозит. А ты что – приехать не хочешь? – Михаил уловил в голосе друга зарождающуюся обиду. – Не так часто видимся. – Нет-нет, о чём ты говоришь? Конечно, приеду, – поспешил заверить его Михаил. В конце концов, не такие уж срочные у него дела, а виделись они с Арамом и его друзьями, действительно нечасто, хотя жили в каких-нибудь двадцати километрах друг от друга. Однако прийти с пустыми руками было нельзя. Михаил Аркадьевич давно знал: каким бы широким и гостеприимным ни было любое закавказское застолье, заявляться без чего-нибудь к столу считалось неприличным. В другой ситуации он, наверное, долго размышлял бы, что именно взять, с чем не стыдно будет прийти. Лучше всего принести бутылку спиртного. Можно, конечно, взять к армянскому столу вина и ли коньяк, но несколько лет назад, когда Михаил познакомился с Арамом и его друзьями, его просветил Ашот, тот самый, что проспорил барана. – Ты когда-нибудь обращал внимание, как ведут себя наши армяне в ресторане? – спросил он тогда. – Будут долго обсуждать меню, громко читать названия блюд, причём, с особенной значимостью прочтут какое-нибудь экзотическое название. А потом дружно сойдутся на привычном: закажут шашлык, много зелени и водку. Поэтому, бросив на заднее сидение своего автомобиля бутылку водки, Михаил спокойно поехал к Араму. Он ехал хорошо знакомой дорогой, обозревал окрестности и вспоминал, как здесь, на одном из этих холмов, он с Арамом и познакомился. Лет десять назад это было. Михаил писал этюд и вдруг услышал за спиной голос. Человек говорил по телефону. До Михаила долетали даже не слова, а тембр голоса, интонация, но он всё понял и, когда человек, подойдя, поздоровался, Михаил неожиданного для самого себя ответил: – Барев.[1] Он совсем не удивился, встретив в российской провинции армянина. После внезапного и вынужденного переселения народов, начавшегося в девяностые годы, то здесь, то там в России появлялись национальные диаспоры. Не удивился, похоже, и незнакомец. – Знаешь язык? Откуда сам? – спросил он по-армянски. Михаилу пришлось отвечать по-русски, мол, сам-то он из России, только вот мама была армянкой, потому и язык знает, но немного. Незнакомец протянул руку: – Арам Аркадьевич. Но можно просто Арам. Ведь мы, похоже, ровесники. – Правда? – улыбаясь, протянул руку и Михаил. – Я тоже Аркадьевич. Но можно Миша. – Договорились. А, знаешь, давай пошли со мной. С друзьями познакомлю. Дорисуешь потом. И, не дав Михаилу опомниться, стал помогать ему собрать этюдник, краски… В этот же день произошло то, что, наверное, и сблизило их окончательно. Арам пригласил нового знакомого в дом. Со вкусом обставленная комната, на стенах гравюры. Внезапно Михаил остановился перед графическим портретом тушью – то ли девушка, то ли скрипка. Такого быть не могло: портрет, нарисованный им в молодости, вдруг встретил его. – Что ты так смотришь? – услышал он голос Арама. – Нина… Арам заметно помрачнел: – Откуда ты её знаешь? – Познакомились на молодёжном фестивале. С ней и со студентами консерватории. Мы еще к одному замечательному старику заезжали. – Месропу? – Месропу. – Значит, ты тот самый художник? А Нина моя жена. Я тоже должен был поехать с вами, но простудился. – А как Нина? Где она? Арам не ответил и перевёл разговор на другую тему. Гораздо позже всё объяснил Михаилу Ашот, но при этом предупредил: – Только ты не показывай ему вид, что знаешь, и не говори, что это я тебе сказал. Из рассказа Ашота следовало, что Нина погибла. Тогда боевые стычки не прекращались. Никто не знал, почему Нина оказалась в приграничном районе, кажется, к родственникам приехала. Она гуляла, и вдруг… Взрыв услышали в деревне все. Прибежали на место. Но что тут можно было сделать? Скорее всего, это была мина, причём, неизвестно, своя или чужая. Арам тогда был в Ереване, когда приехал, гроб был уже закрыт – открывать не стали. Похоронив Нину, Арам перебрался в Россию. Здесь занялся тем, что до него никто не делал: он стал разводить овец.* * *
У двора Арама Михаил приостановил автомобиль и посигналил. Всё было почти готово: стол накрыт, от мангала идёт ароматный дым. Ашот открыл ворота, Михаил въехал, поставил машину под навес. – А-а-а! Здравствуй, брат, – Ашот широко улыбался. – Здравствуй, Ашот-джан. Вот держи, – Михаил протянул ему бутылку. – Это что? Водка? Э, зачем?! Смотри: в холодильнике полно! – воскликнул он, но бутылку забрал и отнёс в тот самый полный холодильник. Все словно ждали именно Михаила, и быстро расселись за столом. Последним подошёл Арам, принёс ещё один стул, поставил рядом со своим. На этот стул никто не сел. Все понимали: это стул Нины. Обычная неловкость начала любого застолья быстро прошла, и всё потекло так, как и должно было быть. Поднимали тосты, выпивали, аппетитно закусывали, говорили, смеялись. А Михаил, по обыкновению наблюдал. Армянская речь – хороший индикатор образованности, интеллигентности и культуры. Она может звучать грубо, отрывисто, гортанно; говорящий может искажать слова настолько, что звучат они пошло. И такую речь не раз слышал Михаил в детстве. Но, чем образованнее, утончённее человек, тем речь его мягче, плавней, тембр голоса становится бархатным, а гортанность превращается в округлость. Так именно разговаривал Арам. При этом он умеренно жестикулировал. И эти жесты тоже были изящны. Михаил смотрел на его длинные тонкие пальцы – пальцы музыканта, художника, во всяком случае, человека, не занимающегося тяжёлым физическим трудом. Михаил помнил, как он был поражён, узнав, что Арам разводит овец, и сказал о своём изумлении Араму. – А кому нужен сегодня музыковед?! – с горечью ответил тот. – Кому сегодня нужны все мои изыскания в области музыки для духовых народных инструментов?! За такие исследования сегодня не только платить не будут, их читать никто не будет. Вот если бы я вывел на сцену голых девок и каждой дал бы в руки дудук, тут заинтересовались бы. Ты же сам всё понимаешь. Потом Арам улыбнулся и сказал: – Но ты сильно не переживай. Сам я руками ничего не делаю. Я просто сумел организовать дело. Сейчас у нас хорошая ферма. Мы регулярно продаём шерсть и мясо. И я тебе скажу: люди здесь замечательные. Нас хорошо приняли, нам никто не мешает, никто не попытался устроить пожар на ферме, люди работают у нас. Нас понимают. И мы с тобой друг друга понимаем. Не можем не понимать. И тут Арам привёл неожиданный довод: – Мы оба Аркадьевичи. Наших отцов звали одним именем, значит, мы должны хорошо понимать друг друга. Это было десять лет назад. А сейчас Михаил смотрел на Ашота, на его друзей, видел, как многое изменилось за эти годы. Ашот, как всегда, плохо брит, а щетина на лице стала совсем седой, а морщины на лбу и щеках ещё глубже. У Арама в растительности – аристократическая разномастность. Совершенно седая – в голубизну – голова, а усы и борода пёстрые, почти чёрные, с небольшими вкраплениями седины. Изменились и двор, и дом. Дом стал добротнее, во дворе больше построек всё каменное, качественное, не сиюминутное. Там дальше, в стороне от двора сама ферма, дела идут неплохо. Неизменным осталось одно – вечная тоска во взгляде Арама. Размышления Михаила прервал автомобильный сигнал. Племянник Ашота специально приехал за подвыпившими гостями Арама. Вскоре все уехали, а Михаил остался. Выпил он немного, но решил не рисковать и не садиться за руль, тем более, что Арам сам предложил ему остаться до утра. Они сидели за опустевшим неприбранным столом, Арам сосредоточенно курил, а потом заговорил, будто продолжил прерванный разговор: – Есть по-армянски слово такое. Хорошее слово. Для армянина, наверное, самое главное – хишатак, память. Мы многое должны помнить. Иначе нас не будет. Вот смотри: во всей Армении населения в несколько раз меньше, чем в одной Москве, а в самой стране армян меньше, чем по всему миру. Пока у нас есть память, мы связаны друг с другом. Поэтому мы так много говорим о предках, о столетнем нашем горе, поэтому мы можем ставить перед столом стулья, на которые никто не сядет. Всё это хишатак. Михаил невольно взглянул на пустой стул – стул Нины, Арам перехватил взгляд: – Хочешь спросить, почему я перебрался сюда, почему не остался, не мстил за Нину? – Не хочу. Христианин не должен мстить. – При чём тут христианство? Хотя я человек верующий. Я не видел её мёртвой. Я даже не видел, что было в гробу. Гроб был закрыт, заколочен – у нас так не принято, но я пошёл на это. А раз нарушил один адат, почему бы не нарушить другой. Ты пойми, мстить можно за убитого, а Нина живая для меня. Арам докурил сигарету. Притушил её в пепельнице и шумно поднялся: – Пойдём – покажу. За домом на небольшом возвышении Михаил Аркадьевич увидел вертикально стоящий серый камень, украшенный резным узором. Он сразу узнал этот камень. – Это же хачкар Нины! – воскликнул он. – Как ты его перевёз? – Это Ашот. Он сделал по фотографии точную копию. Знаешь, какой он хороший каменщик?! Это сейчас он вынужден просто строить, а на самом деле он каменщик-реставратор. Но кому это сейчас надо?! Хорошо, что хоть иногда бывает у него настоящая работа. Когда в областном центре диаспора ставила церковь, его пригласили, или вот этот хачкар. А как ему тяжело было работать. Камни здесь не такие, как у нас. Здесь очень твёрдые, почти гранит, но Ашот справился. Арам обошёл камень погладил его рукой. – Подожди немного. Я сейчас, – вдруг сказал он и быстрым шагом пошёл к дому. Очень быстро он вернулся с продолговатым футляром. Он извлек из него скрипку и стал осторожно настраивать. – Не знал, что ты играешь, – удивился Михаил. – Ты никогда не говорил. – Повода не было. Конечно, играю. Это я в консерватории учился на теоретическом отделении, а музучилище я по классу скрипки окончил. Но это особенная скрипка – скрипка Нины. Всё, что у меня от неё осталось, портрет, который ты нарисовал, этот хачкар и скрипка. И хишатак. Арам заиграл. Это было переложение нескольких народных мелодий, сродни тем, что тридцать лет назад играл студентам дедушка Месроп. Михаил Аркадьевич слушал игру друга и уже точно знал, что он сделает, когда приедет домой. Дома он достанет из чуланчика, где стоят готовые работы, небольшой старый-старый холст, который он никогда не показывал на выставках, но с которым никогда бы не расстался. Он поставит этот действительно небольшой холст на стул и будет долго смотреть на пейзаж. Он снова увидит звонкое голубое небо, уходящие вдаль фиолетовые скалы, увидит небольшую возвышенность, похожую на перевёрнутую миску, увидит хачкар, а рядом с хачкаром – фигурку девушки. Девушка удивительно похожа на скрипку.Спасатель
 Мариам Оганян. Армения, г. Ереван
Мариам Оганян. Армения, г. Ереван
Режиссёр, писатель. Родилась в Ереване. В 1987 году закончила Ереванский государственный университет факультет «Прикладной математики», затем аспирантуру по специальности «Социология». Параллельно учёбе в университете закончила Факультет общественных профессий по кинорежиссуре. С 2000 года снимает документальные фильмы в качестве автора сценария и режиссёра. В данный момент работает преподавателем в ЕрГТИ, является основателем и директором международного женского кинофестиваля «КИН». Составитель книги «Современная армянская женская литература» на русском языке. Победитель международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).
1
Был полдень. Волны Севана, мерно плескаясь, бились о берег. Вдруг на безмятежной водной глади появилась воронка, которая с огромной скоростью и гулом начала заглатывать воду. Это открылись шлюзы гидроэлектростанции. Потоки сине-зелёной воды, превращаясь в мертвенно-серый, с оглушающим грохотом устремились в канал, где обрушивались на огромные турбины и заставляли их вращаться, хотя казалось, что не вода вращает турбины, а турбины разбивают воду на мелкие капли, превращая её в пыль. У самых турбин была протянута сетка, на которой оседали водоросли и мусор, выброшенный туристами в озеро: пластиковые бутылки, консервные банки, целлофановые мешки… В мешанине всего этого показалось нечто белое, похожее на человеческую руку, затем плечо и лицо… – это был труп молодого человека. Художник Вера Аверьянова
Художник Вера Аверьянова
Акоп был невысокий крепко сложенный загорелый мужчина. Для своих пятидесяти лет он был ещё достаточно силён и привлекателен. Всю жизнь он провёл рядом с Севаном, вначале мальчишкой каждый день бегал сюда с друзьями купаться, позже, после армии, немного проработав в разных учреждениях, вернулся к озеру, и так как он хорошо плавал, нанялся спасателем. Хотя он дослужился до начальника спасательного пункта, зарплата оставалась мизерной, её едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. А когда совсем становилось невмоготу, он выплывал на середину озера и ловил рыбу. Местные полицейские его хорошо знали и на его ловлю закрывали глаза, так как он был незаменимым человеком в случае необходимости найти и вынести труп. Дело это было сложное, не каждый желал связываться с утопленниками, тем более что после этого ещё долго снились ночные кошмары. Но Акоп не смущался и брался за любую работу, лишь бы платили. Его рабочий день начинался в офисе, здесь он подписывал бумаги, просматривал почту, после чего шёл проверять технику, работников. В дверь кабинета постучались. Вошёл полицейский Дереник с немолодыми мужчиной и женщиной. За долгие годы совместной работы Акоп научился безошибочно определять, по какому делу тот пришёл. По посеревшим от горя и беспокойства лицам его спутников, одетых во всё чёрное, и по фотографии, которую женщина держала в руках и нервно теребила вместе с помятым и повлажневшим платочком, можно было догадаться, что речь идёт о несчастном случае. Женщина положила фотографию на стол и стала сбивчиво рассказывать. Они поехали на Севан купаться… Дереник тихо вышел и затворил за собой дверь.
2
Молодой человек в солдатской форме, с сумкой, переброшенной через плечо, весело насвистывая себе что-то под нос, шёл по улице. Палящее солнце, пыль, ничто не смущало его – он был счастлив. Армия была позади, а впереди открывалась полная сладостных предвкушений жизнь. «Теперь я заживу по-человечески – думал он, – буду просыпаться и ложиться, когда захочу, кушать и одеваться, во что захочу, я свободен, боже мой, какое счастье! Я свободен!» Легко поднявшись по лестницам, он постучал в дверь, открыла мать. На какой-то миг она онемела: затем, придя в себя, обняла его и заплакала. – Армен, сыночек! Что же ты не предупредил?! Мы подготовились бы, встретили. – Я хотел сделать сюрприз, – сказал он. – Ты не голоден? Я сейчас обед разогрею. Хочешь, приготовлю что-нибудь вкусненькое. Может быть, переодеться хочешь? А хочешь, я тебе кофе приготовлю? – Да успокойся же ты, иди посиди, расскажи, как вы тут живёте? Но мать никак не могла успокоиться, она суетливо бегала по квартире, от навалившегося счастья у неё закружилась голова. – Дай-ка я фруктов помою, – наконец определилась она. Армен оглядел комнату. После долгого отсутствия всё виделось иным. В доме появились новые вещи – телевизор, видеомагнитофон, не говоря уже о всяких безделушках: вазочках, подсвечниках. Мать вошла с фруктами. – А у нас новый телевизор! Вот здорово! – по-детски обрадовался Армен и сел на диван. – Да, – сказала мать, – в последнее время у папы много работы… Ты знаешь, очень много несчастных случаев… Говорят, это дело рук человеческих, наверно, маньяк какой-нибудь… Ой, обед, – вскрикнула мать и выбежала на кухню. Армен подошёл к окну. Из окна открывался вид во двор, где были протянуты верёвки, на которых, раскачиваясь на ветру, висело бельё. Внизу девочки играли в классики, мальчики гоняли футбольный мяч, на скамеечке у подъезда сидели и переговаривались молодые мамы и бабушки с непоседливыми ребятишками, которые то и дело пытались убежать или попробовать всё на вкус. Армен улыбнулся – ничего не изменилось, всё по-прежнему. Мать зашла в комнату, заметив его улыбку, она сказала: – Небось, соскучился по двору, друзьям? – спросила, а сама подумала, что пора уже сына женить, и тогда она тоже будет нянчить внука. – Не знаю, в армии больше всего скучал по дому и по Севану. А отец скоро вернётся? – Раньше девяти он не приходит. – Ты знаешь, я не хочу кушать, пойду искупаюсь, заодно папе сделаю сюрприз… Как мой мотоцикл? Работает? – Да, отец его постоянно заводит и бензин исправно заливает. Ждёт тебя мотоцикл. – Вот здорово! А где моя одежда, я уже всё подзабыл. – Сейчас, я принесу. Мать принесла из комнаты голубые джинсы, жёлтую майку, махровое полотенце и красные плавки. – Посмотри, как тебе, не малы? Армен примерил майку. – Да нет вроде, – ответил он, разглядывая себя в зеркале. Он надел штаны, закинул в спортивную сумку полотенце и красные плавки, взял ключи. – Мам! – прокричал он в кухню, – я пошёл! – Подожди, – сказала мать, поспешно вытирая руки и подходя к нему, – дай-ка, я тебя ещё раз обниму. Она прижалась к сыну. – Ты так вырос, так возмужал… Он был такой большой, такой тёплый, и, несмотря на возмужавшие черты лица и небритую щетину, в глубине его глаз ещё сохранялось что-то детское от того маленького мальчика, каким он был когда-то. В процессе взросления всегда есть нечто фантастическое. Для неё оставалось загадкой, как маленький нежный мальчик, который плачет, когда мама выходит из дома, прячется за мамину юбку, когда видит чужого дядю, превращается в мужчину с низким голосом, колючим лицом и сильными руками. Мальчик, который в какой-то момент замыкается в себе и уходит от неё в мир взрослых. Какие мысли теперь роятся в его голове? Знает ли она? Нет… Собственно говоря, и в детстве она не очень-то разбиралась в его мыслях, это только кажется, что если ребёнок растёт у тебя на глазах, то это значит, что ты его знаешь… Художник Арина Макарян
Художник Арина Макарян
3
Солнце припекало. Армен мчался по просёлочной дороге на своём потрёпанном мотоцикле сквозь прохладный ветер высокогорья. Вдали появилась тонкая полоска Севана, который, переливаясь и маня, в эту жару был особенно желанным. Он ехал мимо обмелевших берегов, зелёных елей и выжженной травы к берегу. Вдали виднелись палатки туристов, предпочитающих дикий отдых, а затем показался пляж с жёлтым песком и большим скоплением отдыхающих. Армен притормозил: привязал мотоцикл к дереву, разделся и направился к воде. Отовсюду раздавались голоса отдыхающих – разговоры, смех, детский плач, где-то рядом загорелые молодые парни и девушки играли в волейбол – слышны были глухие удары по мячу и возгласы играющих. Из-за постоянного ветра звуки перемешивались, и порой можно было очень явственно услышать звук издалека и не расслышать слова говорящего рядом. И от этой удивительной музыки прибрежного отдыха его сердце переполнялось окрыляющей радостью. У самого берега молодая мама отчитывала посиневшего от холода малыша, который капризничал и никак не хотел вылезать из воды. Пройдя прибрежную полоску воды, где отдыхающие толпились, как в час пик, он нырнул в холодную воду. Температура воды в Севане даже в самую жаркую погоду едва достигает 20 градусов по Цельсию. Вынырнув, он увидел лицо изумлённого подростка. – Дядя, вы за буйки не заплывайте, – сказал он. – Почему? – удивился Армен. – Говорят, там чудовище прячется и топит непослушных. – Кто это тебе сказал? – усмехнулся Армен. – Мама… – Тогда всё ясно, – рассмеялся Армен, – ну, пока, до встречи. Армен заплыл далеко за буйки, туда, куда уже не доносились голоса с берега, а слышны были только крики чаек и мерный всплеск воды. Повернувшись на спину, он лежал в сладостной дрёме, когда вдруг совсем рядом услышал звук, словно кто-то большой и тяжёлый шлёпнулся об воду. Он оглянулся вокруг и увидел лодку спасателя: «Да ведь это же лодка отца», – подумал он и поплыл по направлению к ней.4
Акоп, уставший, в дурном расположении духа, позвонил в дверь. Открыла Анаит. Её лицо светилось от радости. – Проходи, обед уже готов. Из кухни доносились умопомрачительные запахи летней долмы. – У нас что, гости? – спросил Акоп, заглядывая в столовую, где был накрыт праздничный стол. – Нет, но скоро будут, – прокричала она из кухни. – Я голоден, так что ждать не собираюсь, неси обед. – Сейчас. Анаит внесла блюдо с долмой и, положив на стол, села рядом с мужем, ожидая, что он вот-вот скажет что-то очень важное. Акоп ел сосредоточенно, насупив брови. – Что за странный народ, – наконец сказал он, – плавать не умеют, а заплывают чёрт знает куда… Хотя иногда хорошие пловцы тоже попадаются… Анаит была несколько разочарована услышанным. – Акоп, ты на пляже никого не встретил? – осторожно спросила она. – Кого я должен был встретить? – произнёс явно рассерженный муж. – Армен вернулся из армии, он за тобой пошёл… Я подумала, что вы меня разыгрывает. Ты что не видел его? – Нет… – А где же он тогда?! Он пошёл поплавать, потом зайти за тобой. – Что же ты мне раньше не сказала? – Я думала, ты знаешь… – Если бы я знал, сидел бы вот так спокойно?! – Но куда он мог подеваться? – Откуда мне знать, может, по бабам пошёл, – рассерженно ответил Акоп. – Нет, он пошёл поплавать, а затем должен был зайти за тобой… – Может, он встретил кого-то из друзей и отправился с ними отмечать? – Нет, он пошёл поплавать, а затем зайти за тобой, – продолжала настаивать Анаит. – Может, он подрался с кем-нибудь? – Нет, он пошёл поплавать, а затем зайти за тобой, – чем настойчивее повторяла она эту фразу, тем сильнее становилось ощущение того, что случилось нечто страшное, непоправимое, рядом с которым «подрался», «напился», «пошёл по девочкам» были детской шалостью. – А какого цвета были у него плавки? – неожиданно спросил отец. – Не знаю, – замешкалась она, пытаясь вспомнить, – красного… да, красного цвета, его любимые. А почему ты спрашиваешь? – тревожно вглядываясь в лицо мужа, спросила Анаит. – Просто так, – перед его глазами появились ноги плывущего молодого человека в красных плавках. Он схватил его за ноги, но тот отчаянно сопротивлялся, и если бы не его профессионализм, то вряд ли бы он смог с ним совладать. Убедившись, что молодой человек более не сопротивляется, Акоп вынырнул. Его силы были на исходе… – Я не могу так сидеть, надо что-то делать, надо его искать, а то я сойду с ума от ожидания, – сказала Анаит. – Но где? – У озера, он пошёл туда… он пошёл к тебе.5
Ночью озеро было страшным. Лунные блики отражались в беспокойно бьющихся о берег волнах. Было холодно. Мать с фонариком в руках, ёжась от холодного ветра, бессмысленно бродила по берегу. Вдруг она наткнулась на полотенце. – Это его полотенце! Армен, сыночек! – она завыла безумным, нечеловеческим голосом. Подбежал муж. – Прекрати, замолчи, это не его. – Нет, я знаю, это его, я же сама ему положила! – её безумный крик разносился по берегу, бился о скалы, уходил вглубь озера и возвращался голосами детей и взрослых, женщин и мужчин, мальчиков и девочек, всех, когда-то потерявшихся, утонувших, не вернувшихся домой: «Мама, мамочка…» – Ты сведёшь нас всех с ума, давай дождёмся утра, ведь тела нет, может, он ещё найдётся… – Может, – сказала Анаит, – но пока его не найдут, я отсюда никуда не уйду. – Утром, на рассвете, я выйду на поиски, слышишь? А теперь замолчи хотя бы на минутку. Ты ведь не хочешь, чтобы я тоже утонул? – спросил Акоп. Она посмотрела на него: «Оказывается, для него уже ясно, что он утонул», – подумала она. – Нет, – сказала она, – не хочу. – Я сейчас разведу огонь, и мы дождёмся рассвета, хорошо? – он говорил с ней заботливо, ласково, как с маленькой девочкой, и это ещё раз доказывало, что случилось непоправимое. Акоп развёл огонь, дав Анаит хлебнуть водки из фляги, бережно укутал её в спальный мешок и уложил рядом. Она безропотно подчинилась и затихла, от чего стало ещё страшней. Безучастно, не мигая, она смотрела на язычки пламени, которые трещали, искрились и плясали на ветру, дующем с озера. «Я не хочу, чтобы приходило завтра, – думала она, – Боже милостивый, сделай так, чтобы завтра наступило вчера». Невольная слезинка скатилась по щеке. Женщина ещё крепче прижала к себе полотенце и закрыла глаза. Начало светать. Над горной грядой прорезалась тонкая полоска света. Озеро казалось хмурым и недовольным, как человек, которому не дали выспаться. У самой поверхности воды стоял туман. Костёр потух. Анаит лежала в прежней позе, и только ветер колыхал её покрывшиеся пеплом волосы. Акоп сел в лодку и погрёб к центру озера, прямо к облакам. В какой-то момент он ощутил, что больше не видит берега и что сам окутан туманом, как белой ватой, заглатывающей даже звуки. Он остановился. Зеркальная гладь озера была неподвижна. Вода была настолько прозрачна, что можно было увидеть дно. В такие минуты, говорят, особенно хорошо видны драгоценности, которые начинают блестеть со дна озера, ведь вода так любит их. Но, заглянув вглубь озера, Акоп не увидел ничего, кроме облаков, и от ощущения высоты у него закружилась голова, ему показалось, что он плывёт по небу. Он выпустил весло, которое вместо того, чтобы плюхнуться в воду и начать тонуть, медленно поплыло через облака. Акоп замер в оцепенении, его сердце горестно сжалось: «Что же я скажу богу?».Чобан-Газар. Легенда Зангезура
 Сусанна Давидян. Канада, г. Монреаль
Сусанна Давидян. Канада, г. Монреаль
Член Союза писателей Северной Америки. Работает в канадских русскоязычных газетах и журналах. Её рассказы публиковались в двухтомной Антологии русскоязычных писателей Северной Америки. Сусанна является победителем литературных конкурсов «ЛитЭлит», «Книжная полка», «Армения Туристическая», вошла в «короткий список» международного открытого евразийского литературного фестиваля и книжного форума OEBF-2017 и Евразийский Литсборник «Нить»-2018 год. Призёр Международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019.
Имя Чобан-Газара было известно всему Зангезуру. Да разве только в этом чудесном живописном горном крае знали его? Через все сёла и деревеньки Армении слава о нём, как о народном целителе, передавалась из уст в уста. К нему обращались, когда была нужна срочная помощь, когда человеческая жизнь висела на волоске, когда от отчаяния опускались руки. Едва у подножия гор начинали таять многометровые грязно-серые ледники, а в расщелинах каменистых гор Зангезура из-под снега появлялись первые цветы, едва от прогретой солнцем чёрной, сочной и богатой природными минералами земли начинал подниматься тёплый пар, как Чобан-Газар, высокий, костистый, с хурджином[2] через плечо, поднимался ранним утром в горы, завернув в чистую тряпку лаваш, немного зелени, кусок бараньего сыра, отдающего терпким, специфическим запахом, и сухофрукты. Воды в горах было вдоволь. Родники с чистой и прозрачной студёной водой были повсюду, но только человеку, рождённому здесь, среди вековых лесов, нетоптаных троп и каменных круч, было известно, где и как пройти, по каким дорогам и в какое время. Может, поэтому настырные турки так и не смогли завоевать этот девственно чистый край, в котором небо опрокинулось в глубину озёр, а чёрнаяземля рождала немыслимо богатые урожаи, словно платила труженикам стократную дань за их трудолюбие, пролитый пот и веру в свою землю и своё предначертание – жить на замшелых камнях, разбросанных повсюду. Из этих камней они научились строить добротные дома для жизни, куполообразные церкви для души и веры и ажурные резные хачкары[3] для вечного успокоения. В доме Чобан-Газара на полках соструганного вручную деревянного шкафа в глиняной посуде и карасах[4] на полу он хранил свои травяные сборы – пастушью сумку и кору ивы, которой сбивали высокую температуру, листья крапивы и высохшие соцветия ромашки, помогающие при бессоннице, а ещё мать-и-мачеху, подорожник, пустырник и много других снадобий, о предназначении которых было известно только ему. На подоконниках подсыхали листья, в глиняных мисках лежали перевязанные корешки, в стеклянных тёмно-зелёных толстых бутылях с закрытым горлышком хранились настойки. Сколько раз домочадцы говорили ему: «Не ходи один в горы, мало ли что может случиться. Где потом тебя искать?» «А что случится? – искренне удивляясь, как ребёнок, возражал он. – С кем я плохого обошёлся, чтобы меня обидели? Волки, и те меня не трогают, понимают, что не со злым сердцем я по горам хожу. Да и татары все меня знают, а те, кто не видел, так слышал. Я их всех лечу – и детей и стариков. Зачем меня обижать? От меня только польза всем. Кто не помнил, как однажды русский губернатор послал к нему на арбе одного из своих солдат: его ноги распухли и почернели и были похожи на ствол старого, сгнившего дерева. Тамошние доктора хотели ампутировать конечности, но кто-то предложил отвезти солдатика в Горис. Чобан-Газар вытащил нож, предупредив сопровождавшего, что если гной будет горький на вкус, то он не сможет ничем помочь. Быстрым движением провёл ножом по ране и, попробовав его, бросил извозчику: – Расседлай быстрее коня. Лечить будем! Азариц, дорогой, – обратился к своему помощнику, – хаш[5] вари, снадобья вытаскивай! Лечить, кормить надо солдата нашего.
 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
Однажды ему привезли женщину, которая уже третий день мучилась в родовых муках. Газар ножом разрезал ребёнку темечко, зацепил его двумя пальцами и тихо-тихо вытащил малыша, а затем зашил шёлковой ниткой новорождённому головку. Больных, привозимых к нему, обычно устраивали на ночлег в задней части дома. Азариц перевязывал им раны, давал настойки, а главное, кормил вкусно и сытно. Для этого костоправ Газар не жалел своих многочисленных баранов. Все помнили и то, как Чобан-Газар спас родного брата пристава Гориса. Татары напали на него в горах, ограбили, избили до полусмерти и напоследок исполосовали голову острыми кинжалами, бросив на съедение кабанам и медведям. Когда умирающего нашли и привезли в больницу, то врачи только руками развели, мол, помочь невозможно, а родственники уже и не думали «Нарек»[6] ему в изголовье класть – всем было ясно, что не жилец он на этом свете. Запричитали женщины, стали бить себя по коленям, рвать волосы, понимая, что жить ему осталось считанные дни. Так, наверное, и случилось бы, если бы не спустился с гор Чобан-Газар. Посмотрел внимательно глазное яблоко, пощупал пульс, а затем велел снять волосы с головы больного и послал за коровьей лепешкой, но предупредил, что нужна ему только такая, на которой есть плесень старая. Все армяне, у кого ноги-руки целы были, побежали по дорогам в поисках коровьей лепёшки. Ни одной на дороге не оставили. Спорили, пока несли, у кого из них самая старая, перекладывали с рук на руки, боясь, однако, трогать плесень – святое лекарство, о котором говорил Чобан-Газар. На неё вся надежда и была. Столько коровьего «добра» ему нанесли в больницу, что на горных дорогах чисто стало. Газар эту самую плесень и положил на рану своего больного. – Вот и всё пока, – сказал он. – Не трогайте его, пусть лежит. А там уж, что Господь Бог пожелает. Всё, что в моих силах было, я сделал. Через пару дней больной открыл глаза и увидев возле себя Газара. Тихим дрожащим голосом сказал: – Ты здесь, Газар? Тогда я могу быть спокоен. Значит выживу… После этого собрались горожане и вместе с врачами местной городской больницы написали письмо русскому царю Николаю Второму, чтобы тот своим высочайшим императорским указом наградил Чобан-Газара и представил к царской награде.
 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
Не каждый может людям столько добра делать, но, видно, род Ханзадьянов особенный, раз Господь наградил Газара способностью продлевать жизнь человека, да только не успел он получить награду – грянула революция, как продажная девка, приползла и в эти края, а вскоре ушёл из жизни и сам лекарь. Вылечил холеру, что косила людей в одном татарском селе, а они в благодарность принесли ему казан плова, бросив туда немного отравы. На похоронах лекаря многие со слезами на глазах вспоминали исцелённых им людей, но особенной была история о том, как он спас единственного сына Салим-бея, который жил неподалеку от Гориса. В зелёной ложбинке гор под чистым синим небом уютно разместилось небольшое татарское село. Дым поднимался от крыш, блеяли овцы в загонах, хорошо ли, плохо ли, жизнь в каждом доме шла своим чередом. У Салим-бея был полный достаток в семье, купеческие дела шли успешно, здоровьем его бог не обидел, жена детей рожала через год, как и положено. Всё было хорошо, только долго не было у него наследника, и когда жена родила, наконец, крепкого и здорового мальчика, радости в доме было немерено. Сколько овец тогда зарезал счастливый отец, никто не считал. Всё село собралось поздравить Салим-бея с такой радостью – каждый нёс в руках подарок для него, жены и маленького ребёнка, которого назвали Али. Несколько дней гуляли, пили, ели. После всех торжеств в дом пришёл ещё один гость – Чобан-Газар. Он в горах траву собирал и только когда спустился вниз, родные рассказали ему, какая радость случилась в доме Салим-бея. Друзьями они были с давних пор. Газар приходил к Салим-бею и приносил женщинам цветные платки, мужчинам – крепкий табак, а на телеге привозил своих знаменитых чёрных баранов с волнистой шерстью. А уж если Салим-бей к нему в гости пожаловал, то невестки и дочери Газара бегом собирали на стол, чтобы достойно встретить. Гость в этом доме был от бога. – Ты хоть и хороший врачеватель, мой дорогой Газар, только лучше, если твоя помощь мне никогда не понадобится, – говорил Салим. – Пусть мои травы и настойки пойдут на лечение твоих врагов, – соглашался Газар, кивая головой. Шли годы. Салим-бей жил в достатке. Ароматом роз веяло в саду, наклонялись до земли от созревших груш и яблок тяжёлые ветки деревьев, главное, сын рос на загляденье крепким и смышлёным. Отец с детства приучал его к лошадям, верблюдам, часто возил с собой, чтобы сын научился разбираться в людях, ведь жизни учатся, путешествуя и общаясь с народом. Когда мальчику исполнилось девять лет, отец подарил ему молоденького верблюжонка – неуклюжего и тонконогого, с большими глазами. Салим-бей по-особенному почитал это животное. На верблюде, согласно Корану, ездил сам Мухаммед. Али из рук кормил и поил своего верблюжонка, гулял с ним по горам, они вместе пили студёную воду из родника, вместе бегали по тропинкам, а когда ребёнок уставал, то забирался на спину своего друга, которому дал кличку Шахур. Верблюд всегда прибегал на голос Али, стоило ему только позвать. Все смеялись, когда подрастающий Шахур, у которого на горбу всегда лежала красивая бархатная попона с колокольчиками, шёл за мальчиком, словно несмышлёный ребёнок за своей матерью. Только однажды дромадер не послушался своего молодого хозяина – он жевал сочную траву и не откликнулся на зов. Али, разозлившись, привязал Шахура к дереву и избил палкой. Не посмотрел он в круглые полуприкрытые мохнатыми ресницами глаза своего провинившегося друга, иначе увидел бы там не боль или раскаяние, а только злость дикого животного. Белки глаз верблюжонка налились кровью и готовы были лопнуть. Три дня не подходил мальчик к верблюду. Три дня не давал ему пить и есть. Никто не смел ослушаться приказа, несмотря на то, что Али был самым младшим в семье, но единовластие родилось раньше тела, раньше души. Даже мать родная обращалась к нему, как к взрослому мужчине. Ещё три долгих дня прошло, прежде чем в глазах верблюда растворился, наконец, гнев и остыла вскипевшая ненависть. Отвязывая от дерева, мальчик ещё раз пнул верблюда, чтобы показать свою силу и власть над ним. Рядом стояли отец, дяди и, смеясь, наблюдали, как он усмиряет непокорное животное. Глаза у верблюда были опущены в землю, казалось, дух его был сломлен, но вскоре толстые губы уже жевали сочную траву и пили студёную воду. Со временем эта история усмирения духа непокорности забылась всеми. Снова мальчик и животное были вместе, снова верблюд прибегал, как и раньше, на знакомый голос, несмотря на то, что вымахал и превратился в большое сильное животное, но на Востоке хорошо известен злобной нрав и цепкая память дромадеров. Однажды Али поехал на верблюде в соседнее село, где жила его замужняя старшая сестра. Он хорошо знал эти места, не раз ездил с отцом, да и кого ему было бояться – с ним был его Шахур. В полдень пошёл сильный дождь, и они, чтобы переждать непогоду, свернули с тропинки. После дождя решили идти дальше, но скользкая дорога была ими выбрана неправильно… они заблудились. Долго петляли и только к вечеру подошли к тутовым садам возле Гориса. Лето было в самом разгаре. Воздух после дождя был чистым, аромат цветов щекотал ноздри. Али срывал крупные чёрные ягоды тута и запихивал в рот, чтобы хоть немного унять голод. Сладкий фиолетовый сок капал на одежду. Когда мальчик наелся, то потянул верблюда, который поодаль жевал сочную траву. Надо было торопиться, чтобы найти дорогу и до темноты добраться до дома. Не сразу понял Али, почему верблюд стал фыркать и трясти головой, заартачился, не подчиняясь хозяину, а покорность в глазах как-то быстро сменилась лютой ненавистью, покраснели белки, как в тот день, когда мальчик избил своего друга за непослушание. Вспомнил Шахур, сохранил в извилинах своего мозга преподанный ему когда-то жестокий урок. Наклонил он голову, чтобы дотянуться до мальчика шершавыми толстыми губами, оскалились в злобной ухмылке жёлтые зубы, чтобы укусить, отомстить за боль и унижение. Это Али уже забыл о том, как избил однажды верблюда, но ничего не забыл Шахур, все эти годы он держал в уголках памяти свои злые мысли и ждал своего часа, долго ждал. Али бросил поводья и, едва сообразив, куда бы спрятаться, рванул за большой камень, за которым, на его счастье, оказалась большая дыра. Она вела в узкую пещеру, каких в этих краях было множество. Только-только Али перевёл дух и собрался ползком пролезть вглубь пещеры, как увидел два жёлтых огонька, вперившихся него, не мигая. Ядовитых змей в горах Кавказа водилось несметное множество. Али, на своё несчастье, оказался между двух огней, и такой страх сковал его, что камень бы лопнул от напряжения. Кричать? Но кто услышит голос из этого подземелья? Верблюд тем временем подошёл к дыре и попытался просунуть свою морду, чтобы ухватить за одежду обидчика, вытащить из укрытия, укусить и растоптать сильными ногами. Шахур в одночасье превратился в злейшего врага, жаждущего мести. Его длинный тёмный язык уже подкрадывался к ноге мальчика. В небольшое пространство между камнем и стеной пещеры втиснулась злобная морда, обнажив сильные, похожие на ржавчину, крупные зубы. Вот уже шершавый язык верблюда коснулся ноги мальчика. В страхе сжался Али, стал шептать все молитвы, которым его учил мулла, путая слова и проглатывая их от липкого страха. Шурша, между камнями рядом с ним проползла змея. Солнце в пещеру почти не проникало, постоянная влажность сделала её местом обитания всяких тварей и гадов, которые не переносили дневного света. Али скосил глаза, сжался от испуга, не зная, откуда ему ждать опасности в первую очередь, но тут внезапно змея сделала резкий выпад головой и на доли секунды коснулась языка верблюда. Мальчик от увиденного потерял сознание. Когда пришёл в себя, было уже темно. Боясь сдвинуться с места, он просидел на одном месте до утра. Когда первые любопытные лучи солнца ударились о камень, закрывающий вход в пещеру, Али оглянулся. Змеи нигде не было видно, только извилистые полосы на земле напоминали о ней. Он прислушался, но кроме пения птиц да стрекотания кузнечиков, ничего не было слышно. Мальчик медленно и осторожно прополз через ту самую расщелину, в которой вчера ему удалось спастись от злобного верблюда, и вылез из пещеры. Мёртвый верблюд лежал на дороге. От его вздутого живота шёл неприятный тошнотворный запах. Али, сам того не осознавая, в порыве ярости и злости, стукнул ногой изо всех сил прямо по животу верблюда. Крепкая кожа верблюда лопнула от удара, а нога мальчика провалилась в вонючие внутренности, разрывая набухшие гнилые ткани. Зловонная жёлто-зелёная слизь брызнула во все стороны, мальчик внезапно почувствовал резкую боль, словно наступил голой пяткой на острую палку. Крик вылетел из его рта, долетел до небес и вернулся обратно на землю, чтобы не дать умереть от отчаяния его беспокойному отцу, который весь день с родственниками искал своего единственного сына по горам и окрестностям. На крик мальчика прибежал садовник, который подрезал деревья в садах. Увидев ребёнка, он посадил его на свою лошадь и привёз в дом Чобан-Газара. Мальчик был без сознания. Три дня и три ночи не отходил от него Чобан-Газар. Сначала помыл ногу, которая стала чернее ночи, почистил рану, а потом, с божьей помощью и со всеми своими волшебными настойками и травами, теми самыми, которые должны были пойти на лечение врагов почтенного Салим-бея, вылечил ребёнка. Не поверил купец глазам своим, а потом и ушам, когда сын рассказал всё, как было. Но зато потом и радости было столько, что море по сравнению с ней мелким показалось. Попросил знатный азербайджанец прощения за свою пустую надменность и глупую надежду, что все беды и болезни стороной обойдут его сына и не понадобится им помощь Газара. – Что не сболтнёт глупый язык человека, дорогой Чобан-Газар? Пусть твои враги растают, как первый снег на дороге под копытами лошадей, а те цветы и травы, которыми ты людей лечишь, пусть принесут ещё больше облегчения твоим больным потому, как твоей святой рукой приготовлены, – говорил он, подминая под себя услужливо подложенные женой мягкие парчовые подушки, которые она предложила и гостю. – А у меня нет врагов, дорогой Салим-бей, – просто ответил ему Газар. – Никого в жизни своей я не обидел, сам знаешь. Я людям несу надежду, продлеваю жизнь, когда господь Бог мне это позволяет. Все мы в руках нашего Создателя. А бог, он един для всех, не так ли? Хотел уклониться от ответа Салим-бей, видимо, посчитав, что аллах никак не может быть богом единым для мусульман и христиан, но помня, как он спас его сына, согласился. – Верно говоришь, брат, – ответил он. Не стал спорить с армянином, а вслух добавил: – Все, что из твоего рта вылетает, драгоценными камнями падает на землю. Было бы кому их собирать. Он отсыпал щедрой рукой золото из мешка, но Чобан-Газар отвёл его руку. – Найдётся тот, кому собирать, дорогой сосед, а золота твоего мне не надо. Сыну оставь, отложи ему на свадьбу. Я не за деньги добрые дела делаю. А платой мне будет твоё искреннее отношение. Что простому армянину нужно? Доброе слово и честный взгляд соседа. Остальное он своими руками сделает. Сам знаешь, – добавил Чобан-Газар и перекрестился под пристальным взглядом правоверного. – От денег ещё никто не отказывался, – удивился Салим-бей. – Может, мало даю, сосед дорогой? Ты скажи, знаешь ведь хорошо, мне для сына ничего не жалко. Ты его спас, добро в мой дом принёс. Словно второй раз мне аллах сына подарил. – Знаю, дорогой, сын в семье – надежда и оплот дома, главная стена, на которую крыша опирается. У меня тоже два сына растут, ещё как понимаю тебя, но денег не возьму. Не обижайся. Кто знает, может, придёт время, когда и я тебя об услуге попрошу, вот тогда и ты протянешь мне свою руку, если не забудешь, дорогой бек. – Как ты можешь такое подумать? – искренне возмутился хозяин. – Мы – правоверные и обманывать для нас – самый большой грех. – Истинную правду говоришь, мой друг. Каждый получит от Господа по мере того добра, которое он делает в жизни. Проклят, кто слепого сбивает с пути. – Знаешь, дорогой Чобан-Газар, я часто думал – жаль, что ты не магометанин. Твоё сердце полно доброты и искренности, поступки твои правильные. Аллах рад был бы иметь такого сына, как ты. Аллах – друг тех, кто уверовал в него, он всех выводит из мрака к свету. А благоволения аллаха – это великая удача! Почему бы тебе, дорогой мой друг, не подумать об этом? – сощурив глаза, проговорил Салим-бей. – Мы бы ещё большими друзьями стали, вечера в умных беседах проводили. Каким бы ты уважением пользовался у нас?! Чобан-Газар уклонился от ответа. Понимал, что любой ответ, кроме согласия, был бы нежелательным для бея, который в уме держал заготовленную для соседа своего фразу: «Тех, кто не уверовал в аллаха, он силой приведёт к наказанию мечом и огнём. Аллах велел воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме аллаха, и Магомед – пророк его…» Не понимал армянин, что бей добра ему желает, что переход в другую веру мог бы быть счастьем для всей его многочисленной семьи. Аллах подарит им благие жилища в райских садах вечности. Христиане купили себе заблуждение за прямой путь, а наказание за прощение. Не понимают, что лишь аллах силён над ними, лишь он сведущ о всякой твари, о всякой вещи. Но не изменил Чобан-Газар ни религии своей, ни принципам. Его доброта, как и раньше, у всех на устах была, ветром переносилась от горы к горе. Он любил повторять: «За моё добро пусть бог моим детям и внукам счастья даст да жизнь их продлит, чтобы род не прекратился, а только множился». Когда умер Чобан-Газар, то на его похороны из девятнадцати сёл Зангезура шли и шли люди, чтобы попрощаться да посетовать на то большое горе, которое не только родным Чобан-Газара выпало, но и всем жителям края, потеряв такого лекаря. Вечер был насыщен ароматами первых весенних цветов. Порывы лёгкого ветра наклоняли до земли ветви деревьев, усыпанных светло-розовыми огоньками цветов. Уже давно зашло солнце, и ночной полумрак города растворяли редкие электрические фонари да лампы в окнах домов, из которых доносились негромкие разговоры, прерываемые только песнями пастухов. На тёмно-синем небе появлялись звёзды, вспыхивая далёким мерцающим светом. Пастухи привели с пастбищ стадо баранов и устроились на покой в саду. Убаюканные ночной прохладой и тишиной, дав желанный покой своим уставшим за день ногам, пастухи играли на свирели. Тёмные и заскорузлые пальцы медленно перебегали по отшлифованной глади инструмента, и музыка, казалось, заполняла всё пространство вокруг, навевая воспоминания о белоснежной макушке вечного Арарата, который горько плакал в одиночестве на чужбине, скучая по своему народу, не слыша привычного родного языка, грустных песен пастухов, собирающих свои стада, журчания хрустальных родников, пения и щебетания птиц, не чувствуя сладкого запаха цветов. Какая тяжелая участь выпала им всем, их родине, их земле и даже тем камням, которых было в изобилии повсюду. С закрытыми глазами пастухи покачивались в такт музыки, которая проникала в душу людей, задевая каждую струнку. Казалось, даже темнота растворяется, искажая в вечернем сумраке привычные с детства очертания гор. Изредка печальную мелодию заглушало блеяние молодого барашка или мычание коровы. Утром следующего дня, едва только первые блики солнца растворят ночную мглу и отбросят голубой туман с прохладных каменистых гор, как в привычном распорядке все поспешат к своим делам, торопясь завершить начатую работу. День начинается с утра, год – с весны.
Три путешествия
 Ксения Бродацкая. Россия, г. Санкт-Петербург
Ксения Бродацкая. Россия, г. Санкт-Петербург
Заведующая библиотекой. Родилась в 1974 году в городе Чистополе Татарской АССР. По окончании средней общеобразовательной школы работала в Центральной библиотеке города Печоры Республики Коми. В 1992 году поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры и искусств им. Н. Крупской на библиотечно-информационный факультет, который окончила в 1997 году. С 2001 года изучает научно-культурное наследие семьи Рерихов, принимает участие в конференциях. В 2004–2008 гг. была индивидуальным предпринимателем, занималась книгоиздательской деятельностью. С 2011 года работает заведующей библиотекой-филиалом № 10 Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Калининского района» (сокращенно СПб ГБУК «ЦБС Калининского района»). Имеет множественные Благодарственные письма от Администрации Калининского района Санкт-Петербурга и ЦБС Калининского района, а также Дипломы победителя в конкурсах профессионального мастерства. Призёр Международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (2019).
1. Признание в любви к МОЕЙ Армении
После путешествия по Армении эта страна незримо присутствует в моей жизни – каждое мгновение она во мне, вокруг меня, в моих мыслях, в моём сознании и в моём сердце. Ни с одной другой страной не сложилось у меня такой любви, какая есть теперь между мной и Арменией. И я знаю – у нас это взаимно! Она тоже любит меня. Я это чувствую и принимаю, как приняла её дары в своё сердце – она наполнила его своим теплом и ощущением необыкновенного счастья, не испытанного мною ранее. Это очень щедрое место на Земле!Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью.Друг другу двери сердца отворить!Армения, звенящая огнем и кровью,Армения, тебя хочу я полюбить…Сергей Городецкий
 Художник Карен Агамян
Художник Карен Агамян
Говорят, что армяне любят хвастаться. Нет. Это не хвастовство! Это гордость за свою страну, за Родину-Мать, за землю с многотысячелетней историей, богатейшей культурой, крепкими семейными традициями и истинными ценностями. Именно ей суждено было стать первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Именно ей суждено было построить первые христианские святыни – удивительные по красоте монастыри и храмы, привлекающие своей аскетичностью, простотой убранства и в то же время богатством архитектурной изобретательной мысли. А сколько Армения подарила миру великих сынов, прославивших её в веках своими талантами?! Говорят (опять же) – «увидеть Париж и умереть». Я видела Париж… Он прошёл коротким эпизодом через мою юность, но никогда не присутствовал в моей жизни. Ни разу не вызвал чувства тоски по нему. Как и любой другой город или страна. Разве что Петербург… А Армения меня не отпускает! Так же, как когда-то не отпустил Петербург! Я остро чувствую, как она прорастает сквозь меня, и чем больше времени оставляет за собой моё путешествие по ней, тем сильнее я тоскую. Тем острее мои чувства по отношению к ней. Тем больше я испытываю состояние безысходности, потому что не знаю теперь, как жить вдали от неё. И как сделать так, чтобы видеть и бывать в ней чаще. Я плакала в Армении. Но это были слёзы счастья, когда сердце трепещет от восторга, и этот трепет насквозь пронизывает тебя, окутывает неземной радостью, и кажется, что душа очистилась, а опыт лет минувших был лишь подготовкой к осмыслению этого трепета и восторга. Память сердца освободилась и позволила увидеть, что хранится в его глубинах… Теперь я знаю – чтобы полюбить, понять и почувствовать Армению, надо созреть. Как созревают зёрна граната. Мне надо было дорасти, чтобы захотеть впитать в себя историю и культуру другой страны, полюбить её всем сердцем, да так, чтобы любовь к ней умножалась в бесконечности. Я выросла, и теперь я люблю Армению. И, Боже мой, как же мне нравится открывать в себе это чувство!
15.09.2016
2. Цавдтанем, моя Армения!
…И с караваном из далёких стран,Что были лишь приютом – не приманкой,Мне суждено вернуться в ЕреванВ одной из жизней будущих – армянкой…Арина Меркулова
Моё второе путешествие по Армении осталось позади. Началось его длительное осмысление, в котором, я уверена, мое понимание этой страны станет ещё глубже, а любовь к ней – ещё сильней и преданней. Я полюбила Армению заочно: ещё ни разу не ступив ногой на её землю, моё сердце уже принадлежало ей, а душа стремилась туда, где всё дышит древностью, где каждый камень слагает ступень истории. Мне хотелось погрузиться в её культуру, надышаться её воздухом, расспросить эти камни о том, что они помнят. В моём первом путешествии по Армении, сидя на ступенях у руин древнего храма Звартноц, я размышляла над тем, как много может рассказать дыхание камней, как много они знают, а мы, люди, никак не научимся их слышать и понимать. И как же хочется научиться этому именно там – в Армении!Как армянин, я Арарат люблю,Как армянин, с ним вместе я скорблю…Расул Гамзатов
 Художник Карен Агамян
Художник Карен Агамян
И, вот, второй раз из иллюминатора самолета я пытаюсь разглядеть Арарат. Он не показывает мне свои вершины, прячет их в облаках, интригует, зовёт поближе… А я мечтаю закричать ему "как армянин, я Арарат люблю…", да так, чтобы мой голос достиг заветных вершин и звучал долгим эхом в его снегах. Сколько раз мне ещё придётся приехать сюда, чтобы увидеть его во всей красе, чтобы почувствовать, как он отвечает на мою любовь? Сколько раз Арарат приснится мне во сне, прежде чем наяву я смогу обнять его глазами?.. Армянский язык. Я знаю только несколько слов, но как радуется всё моё естество, когда я узнаю знакомые слова в услышанной речи или в песне! Каким родным кажется мне язык моей Армении! Я в Ошакане. Стою рядом с усыпальницей Великого Месропа Маштоца, создателя армянского алфавита и основателя армянской письменности. Сердце наполняется торжественностью и невыразимым трепетом – как будто я касаюсь древних мистерий. Вспоминаю, что каждая из 36 букв армянского алфавита была соотнесена Месропом Маштоцем с определённым словом, слагающимся в молитву. И если выучишь молитву, запомнишь алфавит, выучишь алфавит – запомнишь молитву. Разве это не чудо?! А какое чудо создаёт армянский народ, устанавливая целую галерею памятников, посвящённых буквам алфавита! Только вдуматься – памятники буквам! Как нужно любить свой язык, историю и культуру, чтобы воспевать в архитектуре буквы! Одна такая аллея находится в Ошакане – рядом с часовней, где похоронен Святой Месроп Маштоц, а другая – прямо у автомобильной трассы, на склоне горы Арагац. Меня переполняет счастье, когда я самостоятельно нахожу «свою» буковку, с которой в армянском языке начинается моё имя, фотографируюсь рядом с ней, глажу пальцами каменное изваяние из розового туфа, светящееся в лучах солнца. И снова я печалюсь от того, что не знаю армянский язык. Я хочу научиться хотя бы понимать его. Ведь сколько раз в Армении люди заговаривали со мной на армянском языке, удивляясь при этом, что я их не понимаю. Везде принимали за армянку, а, значит, за «свою». И это согревало моё сердце, делая меня ещё роднее и ближе к армянскому народу. И пусть я не смогу выучить этот сложный красивый язык, но ничто не помешает мне сегодня об этом мечтать. Смотрю из вагончика канатной дороги на монастырский комплекс Татев – величественный архитектурный ансамбль. В прошлое путешествие здесь осталось моё сердце – чем ближе монастырь, тем сильнее радость и волнение. Я знаю: когда зайду в храм, слёзы невольно потекут ручьём, и долгим будет моё благоговение. Вспомнилось, как в сентябрьскую поездку наша экскурсионная группа получила благословение от отца Микаела. Никогда я не видела у священника таких глаз – добрых и всепрощающих. И, вот, я молюсь, чтобы вновь увидеть его, чтобы ещё раз испытать то незабываемое ощущение. И молитва моя услышана. Он вновь благословляет меня, с мягкой ласковой улыбкой шепчет слова молитвы. Вокруг тишина, но я слышу каким-то внутренним ухом тихую музыку… Отец Микаел видит мои слёзы, и его ласковый взгляд ещё сильнее действует на меня. Слёзы наполняют глаза, стекают по щекам, и тут наступает лёгкость, а вслед за ней – невыразимая словами радость, тихая и умиротворённая. Я ничего не просила в своей молитве, она была безлична – ничего для себя. В таком месте, как Татев, лишь одно желание слагается в молитву – хочешь, чтобы был мир на армянской земле, чтобы мир был во всём мире… Я знаю, я сюда ещё вернусь, потому что здесь снова остается моё сердце. Я вернусь, чтобы умножить свою молитву! Я думаю о том, как мне хорошо в Армении. И пытаюсь вспомнить ещё хотя бы одно место на земле, где я испытывала такое же умиротворение, где было также уютно моему сердцу, куда бы так стремилась моя душа, но не могу. Возможно, таким местом могла бы стать Индия, но она пока остаётся лишь в мечтах. А Армения – реальность, притягивающая к себе, словно мощный магнит, влюбляющая в себя всё сильнее, зовущая прикоснуться к святыням, обволакивающая своей энергетикой, побуждающая созерцать и размышлять над своей древностью. Вспомнила, как когда-то меня восхитило Красное море, его чарующая красота, но теперь этот кусочек природы во всём своём многообразии кажется мне… однообразным… В его постижении я не чувствую спирального движения, в вихре которого раскрывалась бы я сама, где память сердца нашептывала бы свои тайны, уводящие в глубь веков и наполняющие смыслом существование. Шесть дней – как же это мало! Мало, чтобы испытать максимум удовольствия от общения с этой дивной страной. В Армению надо ехать надолго. Чтобы успеть напитаться её культурой, чтобы насытиться вдоволь её гостеприимством, надышаться её чистым воздухом, насладиться радостью от общения с удивительной природой. И, вот, я начала планировать следующую поездку. Я забросила свой магнит в будущее. И живу теперь новым путешествием. В следующий раз это будет… Арцах! Цавдтанем, моя Армения…
15.05.2017
3. МОЙ Арцах
Арцах… Впервые я смакую это слово, как совсем недавно смаковала каждое мгновение, проведённое там, стараясь сохранить в памяти каждую встречу и знакомство, ставших очень дорогих сердцу людей, их искренне улыбающиеся лица, какие-то невероятные совпадения и «неслучайные» случайности. Карабах (историческое название – Арцах) я открыла для себя сравнительно недавно. Сначала было знакомство с Арменией, очарование этой страной, её древностью, непреходящей самобытностью. Погружение в историю и культуру Армении – страны, которую по праву называют музеем под открытым небом, – духовные открытия, сделанные во время путешествия по ней, буквально взорвали моё сознание и вызвали непреодолимое желание познакомиться, а в дальнейшем и углубиться в постижение удивительного мира Нагорного Карабаха. Он стал моей мечтой, а в какой-то момент – и навязчивой идеей. Всё, что связано с Арменией и армянским народом, изначально вызывало во мне необъяснимый трепет. Что это: память сердца? Духовное единение? Родство душ? Тайна притяжения темпераментов? Я до сих пор ищу ответы на эти вопросы, которые побуждают не к праздному размышлению, а к глубокому синтетическому анализу всех моих устремлений, открытий и познаний. Со своими армянскими друзьями я всегда «шучу», говоря, что в одной из жизней наверняка была армянкой. Но шутка ли это? Для тех, «кто живёт один раз», это, конечно же, шутка, вызывающая скептическую улыбку. Но для меня, – человека, убеждённого, что эволюция человеческого духа происходит сменами циклов (или сменами жизней), когда каждое последующее воплощение есть ступенька на пути к духовному совершенствованию, – это действительность, дающая возможность заглянуть одновременно в прошлое и будущее, причём не только моё, но и целого народа. Поэтому я поехала в Карабах не столько знакомиться, сколько «вспоминать». И с самого первого шага по арцахской земле в череде событий я уловила смысл этого притяжения, наслаждаясь приобщением к таинствам покорившего меня горного края. И теперь, спустя некоторое время после путешествия в Карабах, я смакую чудесное послевкусие, ощущаемое каждой клеточкой тела и каждым атомом души. Я смакую чувства, родившиеся там, воспоминания, заставляющие сердце сжиматься, а душу плакать… от тоски, от сопереживания и восхищения…Армения!.. Сыновней крови взвесьОсела на камнях, струится в розах.Терпение не иссякает здесь,А воздух разреженный, как при грозах.И никогда не вызволить тоскуИз глаз твоих, как си бемоль из звука…Понятно это и по голоскуВоистину бессмертного дудука.Арина Меркулова
 Художник Константин Мурадов
Художник Константин Мурадов
Нагорный Карабах. Арцах… Маленькая точка на географической карте… В ней концентрация силы воли, мужества, достоинства и чести. Именно так я характеризую народ, населяющий маленькую горную страну. Главная ценность Карабаха – это люди! С самого начала своего путешествия я твердила это, как заповедную мантру. И сейчас, вспоминая общение с местными жителями, сердцу становится тепло и уютно. Мысленно я постоянно возвращаюсь в этот гостеприимный край, к радушному, доброжелательному и очень щедрому народу, на долю которого выпало немало бед и испытаний. Я погружаюсь в его боль – я сама этого хочу. Я хочу прикоснуться к душам тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Арцаха, к боли тех, кто потерял своих близких в этой чудовищной войне, о которой мы – люди, живущие сегодня далеко от этих земель, – так мало знаем. А ведь нет в Арцахе такой семьи, которую не коснулась бы беда, которая не потеряла бы в Карабахской войне кого-нибудь из близких. Мне вспоминается тёплый домашний приём у братьев – скульптора Григория и художника Рудика Петросянов – в знаменитом доме их отца, архитектора-каменщика Симона Петросяна. Хозяева показывают мне бережно сохраненные статьи советского времени о своём отце – человеке, умевшем разговаривать с камнями, и я читаю о том, как в его руках суровые камни становились мягкими и податливыми, словно глина. Сегодня каждый житель Степанакерта знает, где находится «родник Симона» – в выложенной каменными плитами стене дома, созданной его руками. Мы сидим в аккуратном дворике за столом с угощениями и беседуем. От рассказа Григория слёзы застывают в глазах и перехватывает дыхание, а в воображении встаёт картинка из прошлого: – Вот здесь когда-то росла яблоня. Во время Карабахской войны во двор попала бомба. Погибло пятеро человек, среди них – моя шестилетняя дочь. Яблони тоже с тех пор нет… Тут же перед глазами встаёт еще одно событие времён Карабахской войны, описанное друзьями накануне, – подвиг известного в Карабахе врача-акушера Зои Павловны Торосян. В тот день она, уставшая, вернулась со смены. А на вражеской территории – в захваченном азербайджанцами городе Шуши, в 11 км от Степанакерта – мучилась в родах женщина, по всей видимости, жена какого-то боевого командира. В телефонном звонке из Шуши от Зои Павловны потребовали принять роды, причём с ультиматумом – должны выжить и мать и ребёнок, иначе… Она могла отказаться, не поехать, лечь спать после тяжёлой смены. Но Зоя Павловна была истинным врачом, истинной женщиной. И она спасла и мать и ребёнка! Ей предлагали деньги и всё, что она захочет. Но ничего не взяла у врагов эта женщина. Спасла две жизни и ушла, лишь попросив… не обстреливать город этой ночью, дать выспаться, ведь во время войны жители Степанакерта днём и ночью подвергались сильнейшим обстрелам. Это была жена известного писателя-прозаика, публициста, переводчика Максима Ервандовича Ованесяна, одного из участников Карабахского движения, подписавших в 1960-х годах письмо в Политбюро ЦК КПСС о воссоединении НКАО с Арменией… Арцах – удивительный край! Именно удивительный, потому что удивляться мне там пришлось много раз. Ну, как можно не удивиться живому дереву, которому более двух тысяч лет? Его называют «чудом Арцаха». Высота ровесника христианства – Схторашенского платана – около 54 м, а в его стволе у основания могут поместиться до 100 человек! Вообще природа Карабаха – это что-то неземное, космическое. Едешь по извилистым карабахским дорогам, и дух захватывает от необыкновенной красоты уходящих в небо скал, горных ущелий и холмов с тёмно-зелёными лесами. Я могла бы бесконечно любоваться достопримечательностями Арцаха, удивляться и очаровываться всем увиденным. И никогда не забуду, как прикоснулась сердцем к древним Святыням, увидела, как растёт гранат, вдохнула чистый горный воздух, насладилась самым вкусным в мире карабахским блюдом «женгяловхац», ощутив при этом вкус настоящего армянского гостеприимства. Мне будет всего этого не хватать, но именно поэтому у меня всегда есть повод вернуться. Обратный путь до Еревана специально был спланирован так, чтобы посетить монастырский комплекс Дадиванк. Это удивительное по своей живописной красоте место не отпускает меня до сих пор. Там произошла знаковая для меня встреча. Я долго фотографировала сам монастырь, настенные фрески и росписи, древние хачкары, окружающую природу. Снимала всё, что видела, для того, чтобы сохранить побольше фотографий, а потом прочитать обо всём, что увидела здесь. Вдруг, уже уходя с территории монастыря, я вижу знакомые улыбающиеся лица – это мои коллеги из Библиотеки имени Мурацана, которую я имела честь посетить в Степанакерте и где была восхищена тёплым, радушным приёмом библиотекарей. Я предложила коллегам сделать памятный кадр на фоне Дадиванка… Мимо проходил священник, это был отец Ованес, он охотно фотографировался с посетителями. И тут меня пронзает непреодолимое желание сделать и для себя такой памятный снимок. Отец Ованес не отказал в любезности сфотографироваться со мной, после чего мы с ним разговорились. – Вы из России? – Да, из Петербурга. – Вы заходили в храм? Видели росписи на стенах? – Да, видела. И сфотографировала. – Там Николай Чудотворец. Знаете? – Нет, не знаю. – Как?! Вы не знаете Николая Чудотворца? – Николая Чудотворца знаю, конечно! Не успела догадаться, что на фреске изображён именно он. Но зато всё сфотографировала. Приеду домой, буду разбирать фотографии, рассматривать, искать информацию обо всём, что увидела. К сожалению, некому здесь рассказать… – Пойдёмте, – коротко сказал отец Ованес. И все мы – я и мои коллеги – двинулись вслед за строгим, но гостеприимным священником. Пока шли в храм, он немного рассказал об истории монастыря, о том, что Дадиванк назван так в честь Святого Дади, который проповедовал христианство в Армении и был одним из учеников апостола Фаддея. Согласно преданию, монастырь построен над могилой Святого Дади. И вот мы дружно заходим в храм: – Когда-то я впервые вошёл сюда солдатом… В советское время, когда были упразднены церкви, здесь поселился курд со своей большой семьей. Первое, что он сделал, – это отбил две консольные лестницы, ведущие в ризницы, чтобы его малолетние дети не поднимались по ним и не упали. А чтобы согреться, вот здесь, в самом центре, он каждый вечер разводил костер, из-за чего со временем стены храма покрылись копотью. Спрятанными под слоем копоти оказались и фрески. Но нет худа без добра. Благодаря этому, во время войны азербайджанцы не разрушили их. Когда в 2015 году меня назначили настоятелем этого монастыря, я стал думать, как восстановить эти фрески. Для того чтобы очистить стены от копоти и сажи, нужны были хорошие специалисты, и мы пригласили реставраторов из Италии, которые оценили свою работу в 20 тысяч долларов. Благодаря государству и армянским меценатам, нам удалось собрать эту сумму и восстановить роспись, созданную более 700 лет назад… Видите, вон тот чёрный квадратик? – отец Ованес показал вверх на одну из стен храма. – Его специально оставили, чтобы посетители могли себе представить, в каком состоянии были эти стены до реставрации. После своего содержательного рассказа отец Ованес благословил всех нас, и я, благословлённая и счастливая, поднялась к машине, чтобы уже через полчаса быть на территории Армении, направляясь в сторону Еревана… Всё это время, как я вернулась из Арцаха, мои мысли полны событиями и встречами с удивительными людьми. Одно из самых ярких событий – это встреча с Цовинар Минасовной Багдасарян, необыкновенно красивой женщиной, тонкой и нежной поэтессой, интересным собеседником, председателем общественной организации «Женщины Арцаха». Она покорила моё сердце, оставив очень светлый след в моей душе и её памяти. Есть такие люди, которые даже после единственной встречи навсегда поселяются в твоём сердце. И удивительная Цовинар Минасовна – одна из таких людей, которых будешь помнить… А ещё я всегда буду помнить гостеприимство моих дорогих друзей, которые были со мной на протяжении всего моего пребывания в Арцахе, – низкий поклон заслуженному журналисту Республики Арцах, политическому аналитику «Радио Арцаха» Микаелу Гаджияну и главному редактору «Радио Арцаха» Нвард Алексанян. Арцах, прекрасный мой Арцах! Я песнь свою тебе пою! Для меня ты такой, как в произведениях карабахского писателя Левона Адяна, – чистый, светлый, притягательный, настоящий, очень нравственный, пробуждающий в душе самые светлые, самые добрые чувства, преображающий и вдохновляющий на лучшие начинания. Ещё будучи там, я поймала себя на мысли, что хочу вновь перечитать все книги писателя, чтобы усвоить, закрепить, зацементировать прекрасным литературным словом своё восприятие этого удивительного края, ставшего для меня необыкновенно родным. Я вернусь сюда, я это знаю. За новым импульсом, за мечтой, за радостью!
Урок из прошлого
Посвящаю 130-летию героической обороны крепости Баязет и её защитникам
 Арам Хачатрян. Россия, г. Москва
Арам Хачатрян. Россия, г. Москва
Военный журналист, главный редактор портала «Россия-Армения. Инфо». Подполковник запаса ВС РФ. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова (1985–1989), Военный университетМинистерства обороны РФ (Гуманитарная Академия ВС РФ, 1996–1999), Московскую государственную юридическую академию (2002–2008). Член Координационного совета Российско-Армянских организаций (КС РАО). Член Союза журналистов Москвы. Член Союза журналистов России. За службу в Вооружённых силах СССР и РФ награждён медалями и почётными грамотами. Победитель Международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019.
В детстве моя любимая бабушка Мария часто говорила мне, что выжить им в ссылке в Сибири в страшные годы политических репрессий в нашей стране помог Господь Бог. Помогли духи наших горных монастырей. Когда в середине 80-х годов я поступил в военно-политическое училище, а потом вступал в партию, бабушка дала мне наказ. Говорила, можешь быть членом КПСС, а свою веру в Христа никогда не предавай… И рассказала мне такую невероятную историю. В начале в тридцатых годов XX века в нашей стране получило широкое распространение движение безбожников. Тогда молодые ребята по указке комсомольских руководителей создавали клубы, проводили массовые акции, доказывали пагубность христианской веры. Издевались над священнослужителями. В культуре и литературе развивали идеологию этого движения, утверждая, что религия – опиум для народа. Во многих населённых пунктах большевики, комсомольцы и сторонники безбожников уничтожали и оскверняли церкви и храмы. За участие в тех или иных мероприятиях активистам движения безбожников обещали принятие в ряды комсомола. А в те далёкие годы быть комсомольцем значило иметь право на определённые льготы, на обучение. По комсомольской путёвке можно было найти приличную работу.
 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
…Итак, в одно весеннее утро из райкома комсомола приезжает в горное село секретарь райкома комсомола товарищ Абел, который считался одним из активистов движения безбожников не только в данном районе, но и в республике. По его указанию активистам района выделили автомобиль. Им предстояло доехать по горным дорогам до старинного христианского монастыря. Была поставлена задача разгромить монастырь, а наиболее ценную церковную утварь забрать собой. В республиканском комитете комсомола этому секретарю райкома обещали в случае успешного проведения нескольких таких операций взять на работу в республиканский комитет комсомола, а затем направить на комсомольскую учёбу в Москву. В двух местах секретарь райкома комсомола товарищ Абел очень удачно провёл операции по разграблению и уничтожению церквей… и уже представлял себя слушателем университета красной профессуры в Москве. Близился июнь месяц, в Москве начинался приём документов, надо было спешить. О том, что эта поездка была не первой и с ней была связана одна загадочная история, секретарь райкома комсомола товарищ Абел предпочёл не рассказывать своим сторонникам-активистам. А дело было так. По поручению этого секретаря ещё месяц назад два сотрудника НКВД специально ездили в горы… Они должны были конфисковать ценное имущество монастыря для нужд Советской Армении, причём в отношении настоятеля, в случае его сопротивления, разрешалось применить строгие меры, вплоть до расстрела на месте. После этой поездки один сотрудник НКВД пропал без вести, а другого нашли мёртвым. Когда секретарь райкома комсомола товарищ Абел повторно обратился в НКВД с просьбой о выделении сотрудников, то руководство отказало ему в связи с отсутствием свободных людей, мотивировав, что все сотрудники по указанию партии ведут борьбу с кулаками и врагами коллективизации. Порекомендовали проводить операцию собственными силами комсомола и активистов. Для осуществления этой неблагородной работы руководство райкома комсомола нашло среди местной молодёжи четверых активных ребят. Всем им было обещано, что после разгрома горного монастыря села Цовагюх они будут приняты в комсомол. Им были даны обещания, что помогут с трудоустройством и направлением на учёбу в Ереван. По приезду в горное селение Цовагюх секретарь райкома комсомола решил выступить перед местным населением и рассказать о пагубности веры и о религии как о пережитке прошлого. Товарищ Абел, понимая, что не все местные жители принимают его слова и идеи, решил весь день посвятить просветительской политико-информационной работе и поэтому сам не поехал с активистами в горный монастырь.
* * *
Брат моей бабушки Жора (Георгий) был среди четырёх добровольцев, которые согласились поехать и разрушить горный монастырь. Он был водителем и вёл машину. Ехали они спокойно, и ничто не предвещало, что эта поездка может стать для них последней и трагической. Проехав опасные горные серпантины, через некоторое время они уже были почти на месте. До монастыря надо было ещё триста метров подняться пешком. Автомобиль оставили, и всё вместе начали подъём. Наконец они оказались наверху. Вокруг было пустынно, дверь монастыря – сиротливо открыта…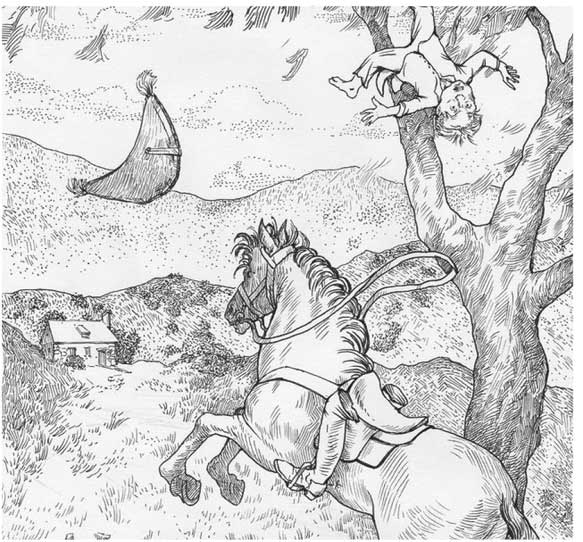 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
Зайдя внутрь монастыря, активисты увидели на полу рваную рясу настоятеля храма. Вокруг одежды священника и на полу расплывались большие темные пятна, похожие на кровь. Видно было, что здесь недавно разыгралась большая трагедия. На их окрики никто не отвечал. Старший команды решил, что отсутствие настоятеля монастыря не является препятствием для конфискации церковного имущества, и по его команде будущие комсомольцы начали собирать в мешки наиболее ценные христианские предметы культа. Затем по указанию старшего активисты принялись уничтожать иконы, которым было несколько сот лет. Потом один из активистов предложил устроить на улице огонь и сжечь все старые книги и иконы. Водитель машины Жора стал уговаривать их не делать этого, объясняя, что это позор и величайший грех. Но активисты не слушали Жору и продолжали своё чёрное дело, уничтожая таким образом часть истории этих гор. Ведь этот монастырь в горах люди строили несколько веков назад, поднимая камни и строительные материалы на своих плечах. Здесь, в стенах монастыря, любой путник мог найти пищу и отдых. А среди церковных ценностей было несколько икон 14–15 веков, которые писали великие иконописцы из знаменитых школ иконописи Константинополиса – столицы Византии. По этим священным иконам можно было составить историю духа христианства и горного края. А большой золотой крест был подарен монастырю одним известным учёным епископом в начале 19 века. Перед поездкой молодых активистов в горный монастырь секретарь райкома товарищ Абел предпочёл не рассказывать об истории исчезновении двух сотрудников НКВД и самого настоятеля. Эта история было покрыта туманом. Возможно, месяц назад сотрудники НКВД избивали, а может, и убили 65-летнего настоятеля монастыря. Никто ничего не знал.
* * *
Многие слышали про этого священника. Он попал в храм сиротой. Точнее, его нашли… Это было в 1878 году, в год окончания Русско-турецкой войны. Русский офицер-кавалерист нашёл его в крепости Баязет на Кавказском фронте. Семью мальчика турки вырезали, и он, как одинокий и голодный котёнок, бродил в осаждённой крепости Баязет и питался объедками. В крепости не хватало еды, турки почти каждый день атаковали позиции защитников. Несмотря на полную блокаду крепости, её защитники героически отбивали наступление турок. В крепости оставалось мало еды. Защитники крепости зарезали и съели почти всех лошадей. Заканчивались запасы питьевой воды. В лазарете раненые умоляли о глотке воды. На очередное требование турецкого паши о сдаче крепости русские воины ответили отказом. Защитники крепости верили, что помощь придёт, они верили в чудо. Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
При очередном обходе боевых позиций осаждённой крепости русский офицер-кавалерист увидел мальчика. Тот, грязный, голодный, хотел убежать. Кавалерист подошёл, но малыш испуганно посмотрел и вдруг сильно заплакал. В глазах ребёнка отражались все те муки, которые довелось ему пережить. Офицер ушёл, но не выдержал и через полчаса вернулся. До прихода основных русских войск и снятия осады крепости Баязет офицер делился с мальчиком едой и пищей. Мальчика звали Петросом. Он потом, шутя, рассказывал своим сослуживцам, что мальчик стал для него талисманом. После заключения перемирия с турками и окончания войны русские части возвращались в столицу Кавказа в Тифлис. Мальчика русский офицер забрал с собой. Офицер был из Санкт-Петербурга и происходил из знатной дворянской семьи. Мальчику он дал имя Пётр. При прохождении русского войска по старой военно-грузинской дороге в сторону России Петрос простыл и сильно заболел. До Тифлиса оставалось еще 250 вёрст или 8 суток марша. На горном привале полковой врач, осмотрев по просьбе офицера мальчика, заявил, что у него воспаление лёгких и, возможно, его не удастся спасти. Вскоре на горном привале поднялся сильный морозный ветер, а потом пошёл обильный снегопад. Лошади падали. Командир войскового марша принял решение о ночёвке у местных жителей. Офицер за полгода очень привык к мальчику. Он рассказывал Петросу про большие российские города, про Петербург, про Мировой океан, про Гомера, о добре, об отваге, зле и чести. Для мальчика он тогда стал единственным близким и родным человеком на всём белом свете. Через день, когда погода успокоилась, командование войскового марша приняло решение о продолжении похода. На сборы дали полчаса. Утром у Петроса была высокая температура, и врачи из полкового походного лазарета посоветовали офицеру оставить мальчика здесь. Военный врач объяснил, что больной организм маленького мальчика не выдержит долгую дорогу, и он не выживет. Офицер с трудом согласился оставить мальчика. Стоя перед его койкой, он долго прощался. Он будто чувствовал, что, возможно, никогда больше не увидит его. Офицер ещё раз обнял маленького Петроса. Потом достал свою старую Библию, золотой православный крестик и положил рядом с ним. Затем он нашёл местного пожилого христианского священника и попросил приютить мальчика. На прощание больной мальчик крепко обнял его. Офицер резко встал и вышел из дома, он не хотел, чтобы кто-то увидел его слёзы. Мальчик вылечился. Петрос ждал, что русский офицер приедет за ним. Местный священник забрал его в горный монастырь. В монастыре он стал учиться, изучал историю, географию и другие естественные науки. По географической карте он знал, где находится столица Российской империи – Петербург. Петрос очень мечтал когда-нибудь поехать в этот сказочный город на берегу Невы. Подаренные русским офицером Библию и крест он хранил как зеницу ока. Петрос служил Богу и прихожанам верно и в 25 лет стал настоятелем монастыря, сделавшись для прихожан одним из близких людей. Он был не только священником, но и учителем и врачом, мог вылечить многие заболевания. Изучая в библиотеке монастыря старые рукописи, Петрос смог перевести со старого арамейского языка способы приготовления многих лекарств. Все подвальные помещения монастыря были пропитаны волшебными запахами горных трав и цветов. Во дворе монастыря у него были пчелиные ульи. Церковный мёд был самым отменным в округе. Нектар для мёда собирали большие горные пчёлы, которых он сумел приручить. До установления советской власти в Армении Петрос крестил и знал многих в округе. В последние восемь лет вёл замкнутый образ жизни и из монастыря никуда не уезжал. Этот монастырь был его домом, его миром… Говорили, что после празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году, фактически двадцать лет назад, в монастыре побывали члены императорской семьи. И, возможно, это тоже была одна из основных причин уничтожения монастыря. Тогда, два десятка лет назад, сюда приехали несколько высокопоставленных чиновников и один 35-летний важный господин, заместитель министра в царском правительстве. Господин приехал специально, он был сыном того русского офицера, который спас мальчика в осаждённом Баязете. Замминистра со свитой побыл один день в горном монастыре. С интересом изучал в монастыре всё и говорил, что это место похоже на рай. Вокруг монастыря долго рассматривал старые каменные памятники – армянские хачкары. А когда увидел и услышал церковный хор, прослезился: звонкие голоса детей создавали величайшую гармонию, их отзвуки долго разносились по монастырю, и казалось, что это ангелы наверху поют… как соловьи. Господин рассказывал, что его отец умер двадцать лет назад, и он дал ему слово найти мальчика. От покойного отца он передал подарок: в красивой шкатулке из слоновой кости. Крышку украшал православный крест из голубого бриллианта, а ниже было написано «Моему любимому Петру». Потом они все вместе сфотографировались. На нужды монастыря господин пожертвовал 500 царских рублей, обещал помощь мастерской церкви для развития иконописи. Также попросил сопровождающих его чиновников помочь привести в порядок дорогу в монастырь. Уже через неделю приехали рабочие и за два месяца соорудили новую и удобную горную дорогу. Уезжая, пригласил настоятеля монастыря приехать через год в гости в Санкт-Петербург. В начале 1914 года через почтовую службу вице-наставника Императора на Кавказе священнику передали большую коробку. В коробке были открытка-поздравление с Рождеством Христовым, совместные фотографии годичной давности. Там находилось также приглашение в конце августа 1914 года посетить Санкт-Петербург. Кроме того, в коробке были обещанные пожертвования – 1200 царских золотых рублей, для развития иконописного класса. А самым главным подарком была новая форма священника. Она было сшита в Императорском ателье Санкт-Петербурга из дорогого материала. И священник почти до конца жизни по праздникам надевал эту рясу.
* * *
Но через полгода началась Первая мировая война. Потом в Петербурге в 1917 году свершились две революции, после чего в страну пришла большая «красная беда». «Красный» террор, как дьявол, налево и направо уничтожал тысячи невинных людей. Священник часто думал о семье того офицера, о его сыне – добром господине, и молился за них… После установления советской власти в 20-х годах церковный класс упразднили. Петрос не мог забыть, как пришёл секретарь сельского парткома и кричал, что церковь от государства отделена. Последних двух послушников насильно вернули домой. Комсомольцы ходили по домам и пугали родителей, и они забрали их. С начала 20-х годов представители советской власти приходили три раза. В 1921 году забрали церковный скот и все инструменты из мастерской, в 1926 году отняли земельный участок, который фактически кормил много поколений священников и их послушников. На этом земельном участке они сажали картофель, капусту и всегда собирали превосходный урожай. Новый секретарь сельского парткома объяснил, что, работая на церковном поле, церковь занимается эксплуатацией человека человеком, а это запрещено учением марксизма-ленинизма и программой партии большевиков. В 1930 году конфисковали две последние лошади и все повозки. После 1925 года Петрос жил здесь фактически один и посвятил себя изучению истории. Привёл в порядок гигантский архив, систематизировал все старые рукописи, библиотеку и иконы. Нашёл два старых письма из Венеции, которые датировались 11 веком и были написаны в адрес Папы Римского. Особенную ценность архива монастыря составляли старые карты. Его учителя в своё время говорили, что когда-то по этим дорогам проходил Великий итальянский путешественник Марко Поло. Он думал, может, и этот путешественник останавливался в монастыре. Изучая стены монастыря, настоятель выяснил, что его перестраивали раза три, меняя форму и увеличивая площадь. По легенде он помнил, что христианские мудрецы приняли решение строить здесь монастырь, когда вылечили наследника одного князя. Место для церкви искали долго, примерно три года. И нашли его в горах – пастухи часто видели, что по ночам место светится. Он и церковь были одно целое, вместе они составляли единую гармонию. Настоятель попал сюда маленьким мальчиком и почти 55 лет жил здесь. Монастырь стал для него родным домом. Иногда к нему заходил сын его бывшего ученика, который рассказывал, что безбожные атеисты начали борьбу против церквей. Он понимал, что в ответе за всю тысячелетнюю историю этого божьего дома. Настоятель ещё раз встал перед иконами и стал молиться! Он предчувствовал трагедию и знал, что за ним тоже придут…* * *
Сотрудники НКВД по указанию секретаря райкома товарища Абела, для реквизиции и ареста настоятеля церкви, с утра на лошадях направились по горным дорогам в монастырь. Один из сотрудников был небольшого роста, второй повыше. Им было примерно по тридцать лет, и они работали в органах НКВД около десяти лет. Во время революции их пути временно разошлись. Первый некоторое время служил у дашнаков, второй – у красных. Пять лет назад они оба влюбились в одну прекрасную девушку, в местную красавицу Марию, но судьба так сложилась, что девушка выбрала «маленького», и сейчас у них уже было двое детей. Второй по этому случаю долго страдал и горевал, но потом его страдание перешло в ненависть. С годами это чувство усугубилось. Он так и не женился. Они стали снова вместе работать примерно год назад. «Большой» часто задевал «маленького» и иногда называл его «контрой», имея в виду его службу в армянской армии во время Первой Республики, а потом извинялся. Когда до монастыря оставалось совсем немного, лошадь «маленького» сотрудника НКВД вдруг зафыркала и не захотела двигаться дальше, а «большой», увидев это, несколько раз сильно ударил её нагайкой. Наконец, они поднялись наверх. Их встретило прекрасное весеннее майское утро. Солнечные лучи освещали горы и монастырь. Птицы пели. Пчелы собирали нектар. В чистом голубом небе летали горные орлы. Это был настоящий горный рай. А главными хранителями этого рая были тысячелетний монастырь и его настоятель. С приходом сотрудников НКВД этому раю пришел конец. Они зашли в монастырь утром, в то время, когда священник только что закончил утреннюю молитву.* * *
Они поздоровались и для формальности представили цель их визита, которая заключалась в реквизиции все ценных предметов. Вдвоём, как представители власти, составили опись и стали забирать церковную утварь, утверждая, что всё пойдёт на нужды трудового народа. Настоятель послушно показал и принёс им всё. Там было более сорока золотых крестов. Были ещё старые предметы культа из серебра, а также 600 золотых царских рублей. После завершения итогового отчёта о драгоценностях один из сотрудников НКВД спросил у настоятеля, не осталось ли ещё чего? Священник честно ответил, что осталась только шкатулка с крестом и голубым бриллиантом, заявив, что это для него самый святой и ценный подарок и никому он шкатулку не отдаст. «Большой» пообещал, что если настоятель покажет ему, то он не заберёт личный подарок. Но… он обманул. Сотрудники НКВД в жизни своей не видели такой красивой вещи. Они поняли, что ей нет цены. И вдруг «большой» сотрудник НКВД стал грубо отнимать у настоятеля шкатулку. Но тот не отдавал. Потом они вдвоём начали применять силу, но не могли у него забрать шкатулку. После этого стали его бить. Священник молча сносил побои. Это молчание ещё сильнее задело сотрудников. Один из них схватил священника за бороду и начал головой бить его о старый комод. Потом достал свой маузер и сделал предупредительный выстрел вверх. Всё было напрасно. Побои возобновились и стали ещё более жестокими. Из носа и ушей настоятеля пошла кровь… «Маленький» сотрудник сделал «большому» замечание. Он напомнил, что этот священник в своё время и его крестил и вылечил младшую сестру. Но палач опять обозвал своего напарника «контрой» и продолжал избивать настоятеля. Настоятелю было очень больно, но он старался этого не показывать и молился. «Большой», вцепившись в одежду жертвы, порвал её. Под разорванной рясой они увидели золотой крест, который больному мальчику ещё в далёком 1878 году подарил русский офицер. Сотрудник НКВД сорвал крест с шеи священника. Но священник тут же, не дав сотруднику НКВД опомниться, выхватил его назад. В этот момент «большой», желая заново отобрать крест, сильно толкнул священника, и тот упал на пол. На него снова стал сыпаться град ударов, и в ходе этой драки вдруг из маузера «большого» в результате неосторожного движения произошёл выстрел в сторону «маленького» сотрудника. Пуля попала тому прямо в сердце. До «большого» дошло, что он убил своего напарника. Однако он нисколько не расстроился. Сразу оценив обстановку, принял решение убить и священника, забрать драгоценную добычу, похоронить напарника в лесу и пуститься в бега. Сотрудник НКВД направил свой маузер в сторону священника, собираясь нажать на курок. Настоятель сделал попытку встать на ноги и попросил у палача пять минут на молитву, но тот не разрешил. «Большой» забрал второй маузер у мёртвого товарища и, направив два пистолета в сторону лежащего священника, сделал четыре выстрела, убив его. Подонок вытащил труп мёртвого напарника из монастыря. Сначала решил погрузить тело на лошадь, а потом вернуться за сокровищами. Смертельно раненый священник ещё был в сознании, и его жизнь заново с большой скоростью прошла перед глазами. Он увидел свою мать, вспомнил, как она пела ему песни в детстве. Перед глазами встали братья… турецкий янычар, вонзивший ятаган в спину отца… турки, которые резали его семью. Увидел русского офицера, спасшего его в осаждённой крепости Баязет… своих учителей… своих учеников… свой родной очаг – монастырь… старые иконы. Вспомнил свою мечту – поездку в Петербург… Монастырь не ожидал такой жестокости, столь чудовищного преступления – убийства служителя в храме Божьем. В куполе монастыря в это время стало трескаться стекло, некоторые иконы стали падать. Вдруг умирающему священнику показалось, что он услышал голос Христа и к нему медленно спускается вместе с ангелами сам Господь Бог. Он узнал одного ангела, это был его спаситель – русский офицер-кавалерист… Ангел-спаситель обнял его, и они осторожно подняли его, и все вместе улетели сквозь купол церкви… Когда они поднимались, Петрос заметил, что на стенах монастыря выступают большие капли крови… Ему показалось, что расстреляли не его, а монастырь… Потом ангелы дали ему крылья, и, ещё раз нежно обняв его, любимый спаситель сказал, что он тоже стал ангелом. Они улетели в горы. Настоятель увидел, как вокруг гор скапливаются чёрные тучи. Господь Бог говорил о наступлении эры сатаны и страшной кары… Поднимаясь вверх, Петрос продолжал молиться за всех. Через туннель они попали внутрь горы, где проходила граница между Раем и Адом. И он увидел реку, на одном берегу был Рай, а на противоположном – Ад. Увидел, как люди на лодках отчаянно пытались приплыть в Рай. Но ворота в Рай были закрыты. Видно было, что тысячи лодок со своими пассажирами вместо того, чтобы попасть в Рай, проплывали всего лишь от одного берега к другому и обратно. И так, на границе двух миров, угрюмо сидя в своих лодках, они продолжали своё бесконечное путешествие. На берегу, где был Ад, за большими толстыми стеклянными стенами, словно в кипящем котле, варились грешники. Сверху ходили страшные чудовища и бросали грешников в горячую грязную воду. Грешники орали, просили помощи. Но люди в лодках будто ничего не замечали. Они жадно думали только о себе и о том, как попасть в Рай. Страшные крики продолжались. Настоятель узнал голоса двоих: первый был голос турецкого янычара, убившего его семью, а второй – секретаря сельского парткома. Священник попросил Господа Бога помочь им… Господь Бог повернулся к нему и заявил, что это не Ад, а Справедливый и Страшный Суд. Потом Господь, посмотрев на людей, бесконечно плававших от одного берега к другому ради попадания в Рай, заявил, что у этих людей нет души…* * *
Когда сотрудник НКВД вернулся через двадцать минут в монастырь, то не нашёл священника. Он удивился, что в церкви уже было темно. Услышал странный голос из подвала. Испугался. Быстро подошёл к месту, где лежало сокровище, схватил шкатулку и золотые царские монеты и выбежал из церкви. Сотрудник НКВД в течение часа спускался с двумя лошадьми с горы, дошёл до горного привала. Внизу было глубокое озеро. Решил похоронить мёртвого товарища возле одного дерева, но потом передумал. Он подумал, что лошадь приведёт людей к месту захоронения. Также вспомнил свои старые обиды, когда тот увёл у него девушку. Он подошёл к лошади, везущей мертвеца. Животное захрипело, кажется, почувствовав смертельную опасность. Лошадь стала с силой бить копытами по земле. Палач обнял и начал гладить по голове животное, проверил, надёжно ли привязан груз – мёртвое тело напарника. Потом вдруг произвёл несколько предательских и коварных выстрелов в сердце и голову лошади. Эхо в горах ещё долго повторяло сильное предсмертное, душераздирающее ржание лошади. Однако смертельно раненое животное никак не хотело падать вниз в озеро. От злости «большой» выпустил в лошадь все девять патронов и сильно толкнул. Животное упало в горное озеро. И ещё долго над поверхностью воды была видна гордая голова лошади… А эхо душераздирающего крика лошади в горах стало проклятием человеческой подлости.* * *
Потом водитель Жора спросил у активистов, где священник. Один активист, смеясь, ответил ему, что он, возможно, уже у своих прапрадедушек… И Жора понял, что священника пытали и, наверняка, убили… Для него это был сильным ударом. Старший команды активистов, ломая топором в монастыре изображение Христово, высокомерно заявил, что, когда они доедут до райкома, то расскажут секретарю райкома комсомола товарищу Абелю, что Жора «контра», не помогал им и не достоин стать комсомольцем. А также о том, что Жора сильно сочувствует духовенству. Уезжая из монастыря, безбожники решили сжечь последнюю Святую книгу. Книга состояла из более пятидесяти страниц и была изготовлена примерно в 18–19 веках. Сделана она была из телячьей кожи. Каждая её страница представляла часть из Библии. На этих страницах было изложено святое христианское вероучение. Там была также описана история этого края. Каждая страница книги имела своё название и отражала труды нескольких школ иконописцев. И каждый настоятель храма добавлял несколько страниц… Книга весила больше одного пуда. Книгу долго не могли сжечь, она не горела, так как была из кожи. Водитель Жора предложил прекратить это. Он заявил, что нельзя уничтожать историю своего народа. Но старший и двое активистов набрали сухих веток, слили из машины несколько литров бензина, заново зажгли огонь и бросили туда Священную книгу. Обратно ехали молча… Старший из активистов очень жалел, что не смогли забрать с собой всё и некоторые ценности оставили там. Все хотели получить комсомольский билет. Старший ещё раз пригрозил Жоре, напомнив, что он «контра» и что он обязательно про это расскажет секретарю райкома комсомола, и тогда ему не видать комсомольского билета. Ветер в горах быстро распространял дым. В огне были уничтожены многие старинные иконы, была уничтожена уникальная часть истории и христианского достояния этого края и гор. Монастырь многое видел на своём веку. Его неоднократно захватывали чужеземные захватчики. Они приходили, забирали ценности и уходили. Но не разрушали. Они боялись божьей кары… Горный воздух наполнялся дымом. Весеннее майское солнце исчезло. С ним умолкло и пение птиц. Слышны были только крики ворон. Никто не мог понять, откуда вдруг появился этот огромный дым, похожий на туман. В это время активисты находились на расстоянии более трёх километров от монастыря. Горная дорога исчезла в пелене дыма. Как будто тысячелетние горы обиделись. Для них это было позором. И духи гор просили о помощи, об отмщении. Боль монастыря стала болью всех гор, и таинственное эхо этой боли в горах тоже просило о наказании. Эхо просило горы и всех животных объединиться… И горы не выдержали… Пошёл дождь. Это был необычный дождь. Это был плач гор и природы. Природа не верила, что человеческая ненависть и варварство могут иметь такие последствия. И духи гор жалели, что не могли спасти своё дитя. И казалось, будто духи гор подняли души всех священников, всех мыслителей, которые когда-то жили и работали в монастыре. В небе словно слышались их голоса. Они спрашивали: за что? почему?.. На небе стали сгущаться тучи. Разразился невиданный гром. Природа сходила с ума… Природа рыдала… Вокруг ничего не было видно, никто не понимал, откуда это и что означает… Вдруг на горном склоне автомобиль с безбожниками стал набирать немыслимую скорость. Водитель Жора был уже не в состоянии справляться с управлением, всех пассажиров охватил ужас. Они стали кричать, и оставалась только надежда на Бога. Но Бог уже покинул их. Через мгновение автомобиль с пассажирами улетел в горное ущелье. И вдруг Жора почувствовал, как будто какая-то сила его, полусонного, легко подняла в воздух и бережно положила возле реки. Когда он открыл глаза, то увидел солнечное весеннее небо. Пели птицы, а рядом шумела горная река. Потом Жора расскажет, что руль машины не подчинялся ему, и вопреки всем законам физики автомобилем… управляла какая-то другая внешняя сила. Жора – брат бабушки, был единственным, кто спасся. А тела остальных активистов-безбожников нашли только через неделю. Они были разбросаны очень далеко в труднодоступном ущелье. У многих не было глаз и лиц, их съели волки и вороны. После этого случая в горах, где располагался монастырь, постоянно стояли чёрные тучи. Люди поняли, что наступают чёрные времена… Но они не знали, когда они придут…* * *
А лошадь погибшего «маленького» сотрудника НКВД, несмотря на тяжелейшее ранение, спасла труп своего хозяина, не дала ему пропасть в бездонной пучине неизвестности. Она сумела выйти из озера через несколько километров. Словно понимала, что это её последний и важный долг перед хозяином… Рассказывают, когда люди на противоположном берегу озера нашли их, лошадь ещё была жива. С точки зрения человеческой морали она совершила величайший подвиг: истекая кровью, умное животное сумело выполнить свою последнюю миссию… Люди, и стар, и млад, плакали возле лошади. Они хотели помочь животному, гладили его, обнимали, целовали глаза, но лошадь через некоторое время умерла… Они похоронили славное животное по-человечески! И ещё долго стояли у могилы лошади и плакали. Говорят, второй сотрудник НКВД долго ещё прятался в горах. Постепенно сошёл с ума и повесился… Через двадцать лет, в середине 50-х годов, туристы нашли в горных лесах труп, одетый в военную форму. Сочли за неизвестного дезертира. В 40-е годы здесь стояла резервная армия, и примерно десять человек числилось в дезертирах. Странным и загадочным было то, что внизу, куда упал автомобиль так и не нашли церковных ценностей. И моя бабушка была уверена, что духи гор и природа забрали их и спрятали до лучших времён… Мне, маленькому мальчику, бабушка рассказывала, что и Священную книгу из телячьей кожи безбожники не могли уничтожить. И что эта книга улетела и тоже когда-нибудь вернётся… И священник тоже вернётся… Они все вернутся тогда, когда в мире и горах будет много доброты, и возвращение книги в горы будет означать освобождение людей от алчности, от подлости и предательства… Будет означать возвращение доброты!!! И люди должны поставить памятник лошади, в этом поступке умного животного была сконцентрирована вселенская доброта, которой не хватает нам. После этого случая, через три года, начались страшные преступления в нашей стране, массовые репрессии и расстрелы невинных людей, а через пять лет началась самая кровавая война в истории человечества. В годы Великой Отечественной войны три брата бабушки, в том числе Жора, ушли на фронт, и все вернулись живыми и здоровыми. Это был редчайший случай в их районе. Несмотря на то, что у каждого была своя особая история. Один выжил под Сталинградом, другой сумел сбежать из немецкого плена, третий дошёл до Берлина. У каждого из них была своя героическая судьба, но я думаю, что на судьбу каждого оказал своё влияние вышеописанный случай. Духи гор берегли их. Возможно, это было их благодарностью.* * *
Я несколько раз посещал новую церковь, которую построили в селе Цовагюх. Но мне всегда хочется поехать именно туда, где был старый монастырь. К сожалению, я не знаю, где находится этот разрушенный храм. Я тогда не спросил у бабушки… И уже очень долгое время по ночам в своих мыслях и мечтах я представляю этот старинный горный монастырь. И моя душа рвётся туда. Говорят, тот, кто ищет дорогу в храм, всегда находит её… Верю, что и я обязательно найду дорогу туда. И этот мой поход станет исполнением обещания бабушке и осуществлением моей сокровенной мечты. В своих мечтах я поднимаюсь по горной дороге, слушая утреннее радостное пение лесных птиц, любуясь ласкаемыми солнечными лучами макушками гор. И кажется, что все благословляют меня. И в горном тысячелетнем краю, окружённом каменными памятниками, вековыми лесами, духами гор и великих священных мастеров, я буду молиться в монастыре под чистым небом за всех… За настоятеля… За возвращение Священной книги… За доброту… За Вас…Расцветают деревья. Зима
Эта песня – горчайший дымок,Эта песня – творенья венец.Вспомню – к горлу подступит комок…А.С.
 Артавазд Сарецян. Абхазия, г. Сухум
Артавазд Сарецян. Абхазия, г. Сухум
Родился 22 апреля 1957 года в селе Лечкопе Сухумского района Абхазской АССР. Выпускник историко-правового факультета Абхазского государственного университета. Ответственный секретарь газеты «Республика Абхазия». Член Союзов писателей и журналистов Абхазии. Автор нескольких книг на армянском языке. Первое стихотворение опубликовано в ереванской газете «Пионер-канч». Награжден орденом «Честь и Слава» Республики Абхазия, медалями Министерства диаспоры Армении «Уильям Сароян» и «Посол родного языка».
Эту песню часто напевал мой отец: почти каждый день, когда поздно вечером возвращался домой, уставший от изнурительной работы сперва в кроватном цехе строительного комбината, а затем и на ткацкой фабрике, где начал работать по предложению директора – нашей первой соседки тёти Зины. Прежде чем зайти в нашу небольшую комнату, он садился на скамейку в тени яблони, широко раскинувшейся во дворе перед домом. У отца был замечательный голос – чистый, богатый, звонкий, как кристальный источник, бьющий в дедовском саду. Удивительно, но отцовский голос никогда не уставал, никогда не тускнел… Это было моим открытием, я даже сказал бы – изобретением, которое до сих пор никто не смог опровергнуть, да никто и не пытался это сделать: ведь все знают, что родительский голос никогда не теряет своего первоначального очарования, он даётся один раз и навсегда. Это известно всем, но каждый его открывает для себя сам и по-своему.
 Художник Ольга Шарупская
Художник Ольга Шарупская
Я, конечно, не знал автора песни. Я даже не думал об этом, потому что не подозревал, что песни могут иметь автора. Только одно я знал очень хорошо: это песня моего отца, это только его песня. Потому что так никто не смог бы её спеть. И это я знал точно, ведь для пущей убеждённости я несколько раз проводил свои эксперименты: представлял, как эту песню поёт кто-то другой, обладающий таким же хорошим и богатым голосом (скажем, та же тётя Лена, двоюродная сестра отца, которая пела на встрече с маршалом бронетанковых войск СССР Бабаджаняном в нашей школе: она очень хорошо пела все песни, особенно «Поднимайте бокалы за здравие армян»), и всегда приходил к невозможности этого. Нет, эту песню мог петь только мой отец, потому что она была создана только для него. Колдовство песни и голос отца дополняли друг друга и становились гармонично целым, единым. В песне меня смущало только то, что я пока никак не мог понять: как же зимой расцветают деревья? Разве возможно такое? Но я тут же успокаивал себя, не оставляя даже тени сомнения: точно расцветают! А как же! Иначе об этом не пел бы отец. «Наверное, я не видел, как расцветают деревья зимой. Кто знает, может быть, далеко-далеко, там, в той деревне, где навсегда осталась наша очажная колыбель, которую когда-то смастерил мой прадедушка Ованес, даже глубокой зимой расцветают деревья…» – по-взрослому рассуждал я.
 Художник Ольга Шарупская
Художник Ольга Шарупская
И только через много лет я должен был понять, что деревья расцветают в любом месте, в любое время года, даже зимой в городе, если в душе человека царствует весна и восходит солнце! Иногда мы с отцом садились на пороге дома, рядышком, прильнув друг к другу, – как те две красивые белоснежные горы в рамке, висящей в нашей комнатке на стене. Папа говорил, что эти горы – наша родина, которую много веков назад вынужденно покинули наши предки, спасая свои семьи от истребления. «Они бежали?» – интересовался я. «Нет, они спасали женщин и детей, – отвечал отец и продолжал, – всё это видели эти святые горы, Сис и Масис, они – отец и сын, прижавшиеся друг к другу». «Как я и ты?» – спрашивал я. «Да, как я и ты», – в ответ вздыхал отец и, как подтверждение, сильнее прижимал меня к себе. Папа пел, я слушал. И никто не смел прерывать это самозабвенное пение. Даже мама: каким бы срочным и неотложным ни было дело, она обязательно дожидалась окончания песни, потому что точно знала, что отец не просто пел, а общался со своими предками. Это были святые минуты сопричастия родственных душ, дарованных Всевышним только избранным. Я не слушал песню. Нет, так не слушают песню. Так впитывают её каждое слово, её каждый звук, каждый перелив, поглощают жадно, без остатка – так снег поглощает солнечные лучи и медленно-медленно тает-тает, без остатка проникая во все складки земли, исполненной жгучей, уже невыносимой тоски. Песня лихорадочной горячностью разливалась во всей моей сущности, одухотворяющей востребованностью проникая в самые глубокие и потайные уголки души, и нежно окукливалась – как дерево, покрытое весёлыми почками и гулом пчелиного роя. И мне казалось, что в моей душе рождается пока безымянное чудо-дерево – единственное в мире, какого никогда ещё не было и никогда уже не будет. Но почему же казалось, если я действительно чувствовал волнительное шевеление его корней, которые сладкой щекочущей истомой углублялись в моих венах и доходили до самых-самых сердечных глубин?! Я чувствовал, как крыльями разрастались его ветки во мне, казалось, что оно волшебной птицей вот-вот медленно и нежно вспорхнёт на волнах отцовской песни, – как сладчайший дым, клубящийся над нашим небольшим домом, уютно приютившимся под яблоней, увитой виноградными лозами. И это чудо-дерево пустило свои глубокие корни в моей душе, пышно разрослось и вскоре стало красивым Древом песни с такими здоровыми, такими сочными и сладкими плодами, с щедро переливающимися на солнце красками! Но я пока ничего не знал об этом. Я и не подозревал, что в жизни бывают злые и грубые руки, которые не только камнями будут безжалостно сбивать спелые плоды с этого чуда-дерева, но и беспощадно разламывать и разрубать ветки. Я пока не знал, что в жизни бывают чёрные души ненавистников, которые будут вырывать дерево с корнями, в животворящей тени которого сами же не раз переводили дыхание, спасаясь от ливня или палящего солнца. Я не знал. Я пока ничего об этом не знал. Я просто был счастлив, что на свете есть мой отец, есть его песня, есть моя мама, которая никогда не прерывала отца, когда он пел свою песню и есть далёкие святые горы Сис и Масис, прижавшиеся друг к другу. «Расцветают деревья. Зима…» …Прошло много лет. И в один из таких зимних дней ушёл из жизни мой отец, долгие годы прикованный к постели какой-то непонятной болезнью: ушёл легко, светло, тихо. Так же легко и светло, как и прожил свою не совсем длинную жизнь. Он умер на второй день после смерти своего старшего брата Вардана, скончавшегося в сухумской больнице во время операции. Так и сказал хирург, мой друг: «Твой дядя умирает. Сделаем операцию, попробуем спасти, надеясь на чудо». Но чуда не произошло… Отец не знал о его смерти. Ему об этом никто не говорил в ожидании моего возвращения из деревни, куда накануне я повёз тело дяди. Но отец каким-то невероятным образом, наверное, сердцем почувствовал уход родственной души и сказал моей матери: – Я должен пойти к Вардану, он уже ждёт меня, он зовёт меня… Я готов… Я должен увидеть своего брата. Скоро я увижу его… Потом он позвал к себе внуков – семилетнюю Сусанну и пятилетнего Айка, попросил, чтобы они спели песни, почитали стихи… И вот так, он, поклонник армянского слова и песни, ушёл в вечность, в их же сопровождении. А на улице была глубокая зима, и вокруг безумно буйно цвели деревья… Сегодня никто не сомневается, что душа моего отца пребывает в Раю. Потому что божественны армянское слово и песня. «Расцветают деревья. Зима…» P.S. Мой отец, Аик Затикович Сарецян, как и его старшие братья Григор, Вардан, Ваган и Ваграм (служил в знаменитой 89-й армянской Таманской дивизии), внёс свою посильную лепту в победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом свидетельствуют сухие лаконичные записи в его военном билете, гласящие, что он был призван на военную службу Гульрипшским районным военным комиссариатом и направлен в 28-ю школу отличных стрелков снайперской подготовки, где обучался с 17 августа 1944 года по январь 1945 года. Затем он продолжил службу в 140-й отдельной пулемётно-артиллерийской бригаде. После окончания войны, по май 1948 года, когда был уволен на основании Постановления Совета Министров СССР от 13 января 1948 года, служил в 15-м отдельном мотострелковом батальоне.
Армянские каникулы
 Каринэ Гаспарян. Россия, г. Миасс
Каринэ Гаспарян. Россия, г. Миасс
Каринэ Гаспарян родилась в 1965 году в Махачкале. С 1986 года проживает в Миассе. Окончила Миасское медицинское училище (1989), работала по специальности. Руководит литературным объединением «Ильменит». Выпускница Литературных курсов 2015 года. Пишет стихи и прозу, первые публикации в 1976 году. Некоторое время жила в Москве и Санкт-Петербурге, занималась там в литобъединениях. Публикуется в южноуральских газетах, в литературных сборниках и альманахах. Автор книги стихов «Товарищ Фет» (Челябинск, 2013). Лауреат XX и XXI Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества (2012,2013), областного литературного конкурса «Прекрасен наш союз…» (Челябинск, 2012). Победитель Областного фестиваля поэзии «Уральская лира» (Коркино, 2013, 2019)». Награждена дипломом и медалью Международной гильдии писателей за высокое художественное мастерство (Германия, 2014), а также дипломом VI Международной Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» (2017). Призёр Международного литературного конкурса «Армянские мотивы»-2019. Член Союза писателей России.
 Художник Ирина Тараева
Художник Ирина Тараева
Сестра часто вспоминала о моём отце, и всегда в превосходной степени. Ей было десять лет, когда он появился в её жизни. Он сажал мою сестру на плечи, как только заходил в дом. Она держалась за его волосы, чтобы не упасть. Наверное, ему было больно, но он никогда не жаловался. А волосы были жёсткие, тёмные и вьющиеся. «Не такие, как у нас», – шептала сестра. У них – у бабушки, мамы, сестры – волосы были светлые, как у принцесс. А я в это время лежала в кроватке, только что рождённая. И вся моя судьба, как и цвет волос, была неведома, по крайней мере, мне. Папа никогда не приходил без гостинца, без маленькой какой-нибудь радости. По всем этим косвенным признакам получалось, что он был счастлив и любил нашу маму. Я вглядывалась в дымку ушедших лет, мне тоже хотелось что-нибудь вспомнить. Но родители расстались, когда мне было четыре года. И образ отца складывался, а вернее сказать, не складывался из разрозненных воспоминаний мамы, бабушки и сестры. Мама, раскуривая очередную сигарету, разглядывала армянский полосатый палас. Она вспоминала, как отец привёз её из Москвы в Нагорный Карабах сразу после свадьбы. Дед Каро был самым уважаемым человеком в деревне: он был учителем. Он не осуждал открыто действий сына, только вздыхал чаще и долго вглядывался в очертания гор в дымке тумана по утрам, перед тем, как идти в школу. Свекровь была более открыта в выражении чувств, но как это выражалось, мама не рассказывала. Молодой семье подарили настоящий армянский палас и поселили в пустующей части дома. Через три месяца мама сбежала домой, с паласом и мной, уютно разместившейся в её животе. Почему она не прижилась в патриархальном армянском доме, мне стало понятно позже, гораздо позже, когда я сама приехала в этот дом. Мама упоминала ещё несколько вещей, связанных с армянским периодом её жизни. Сминая окурок в пепельнице, она говорила, оценивающе глядя на мою тонкую талию и ключицы, торчащие в вырезе платья, как две лодочки: «Ты всё равно будешь такой же, как сёстры Карлена». Я уже наизусть знала их имена: Канира, Лаура, Наира. А имя четвёртой я всё силюсь вспомнить, но мне мешает эта прозрачная, но непроходимая дымка лет.
 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
Мужчины в Армении маленькие, худые и грустные. Арарат, их общая колыбель и святыня, недосягаем для них. Он на территории Турции, и нога их никогда не ступит на вожделенный камень у подножия. Никогда, одолев крутой склон, не сядут они, группой или в одиночестве, на дорогой сердцу камень. И не омоют слезой память свою по убитым, но не забытым жертвам Геноцида. «Вот поэтому они и грустные… все, от мала до велика», – говорила мама. Женщины же, напротив, чем толще, тем лучше. Значит, мужчина хорошо кормит мать своих детей. Для моих четырёх тётей прорубали специальные проходы, так как в обычные двери они не входили. Участь повторить их судьбу меня не волновала в шестнадцать лет ни на грамм. Правда, для первого класса мне сшили специальный сарафан, потому что ни одна юбка на мне не сходилась. И если бы по рядам не пронёсся шепоток, что это толстое чучелко из семьи друзей директора школы, я бы уже тогда поверила моей маме. Но в то первое сентября директор приветливо махнул мне с трибуны, и никто не посмел смяться надо мной. А в шестнадцать я стала тонка, но всё так же не дальновидна. Ещё мама часто с досадой упоминала книгу Абовяна «Раны Армении». Оказывается, папа назвал меня по имени главной героини этой книги. Привыкая угадывать другие смыслы, я поняла, что папа, во всём уступавший маме, в силу огромной любви, здесь не уступил. Дочка должна была зваться Каринэ, и никак иначе. Бабушка звала моего отца армяшкой и брезгливо рассматривала меня первые пятнадцать лет. Если бы я сжималась под её взглядом, я должна была бы исчезнуть, раствориться, растаять, унося все черты своего отца. И тёмные вьющиеся волосы, и вечную ноющую грусть в груди, и горбинку на носу. Но не пришло ещё время мне раствориться золотой пылью среди миров и светил. Тем более, он появился на нашем пороге в день моего шестнадцатилетия. И всё в нём было родное и знакомое. Да, роста он был небольшого. Но какая-то мудрость в глазах заставляла и уважать и доверять ему. Волосы были уже не так удобны для поездки на плечах, но без единого намёка на седину. И приехал он с одной целью – увезти меня в Армению. В день отъезда папа сжал крепко, но бережно мою ладонь, и мы пошли в ювелирный магазин. Моё присутствие вообще-то не требовалось. Папа поставил меня в тёмный прохладный угол, за резной колонной. Сам он долго, как мне казалось, целую вечность, стоял у пузатой стеклянной витрины. Потом шутил с продавщицами, что-то долго рассматривал, не спеша расплачивался. А потом на моей левой руке заблестели золотые часы. Стрелки исправно отмеряли мою новую счастливую жизнь. Наш поезд уходил вечером. Голова кружилась от предвкушения дороги, новых встреч, новых городов и папиной любви. Моя нижняя полка в плацкартном вагоне была услужливо застелена. От изобилия впечатлений я готова была уснуть на ходу. А папа сидел, подперев большую, красивую голову двумя руками. И всё смотрел и смотрел на меня. Во взгляде его появлялось что-то хищное, как только мимо нашего купе проходил молодой человек. И он, сквозь полузабытье сна, казался мне грозным ястребом, закрывающем размашистыми крыльями своего птенца от всех особей мужского пола.
 Художник Вера Аверьянова
Художник Вера Аверьянова
В вагоне было жарко, и я, конечно, спала, не укрываясь. А папа всю ночь морщил лоб, шептал «ахчик» и укрывал мои ноги. Вдруг кто-нибудь, в полумраке спящего вагона, увидел бы ноги своевольной армянской девчонки… Этого папа допустить не мог! Утром он задремал, а я пошла умываться. Часы я сняла в первый раз с тех пор, как отец надел их мне в магазине. Я положила их на полочку в туалете и, ополоснув лицо, выскользнула наружу. В своём купе я хватилась пропажи минут через десять. «Папа», – прошептала я, побледнев и испугавшись за него больше, чем за себя. Полочка в туалете была пуста и уже запачкана чьим-то зубным порошком. Вглядываясь куда-то вдаль, папа скорбно произнёс: «Ахчик, ахчик». Дома его ждали тяжелобольная жена и пять дочерей. Их всех он содержал на свою зарплату. И надо же было мне, старшей его дочери, уродиться такой растяпой. Эта вина, первая за это лето, упала в коробочку моих грехов, на самое дно. Коробочка эта наполнялась очень быстро. Но всю её, полную до краёв, простил мне мой отец. Знаю, что простил, хотя мы никогда не говорили об этом. Утром мы приехали в Баку, где жили четыре моих тёти – Канира, Лаура, Наира и четвёртая, имя которой открой мне, Господи. Папа вёз меня, как драгоценность, как свою величайшую гордость. И приём был нам везде оказан королевский. Меня изумляло, как все до мельчайших деталей повторялось в каждом доме, при каждой встрече. Они, конечно, не сговаривались, просто сила традиций, веками установленных в армянской семье, соблюдалась по мере сил, по мере сохранения на уровне крови, или, как сейчас говорят, на уровне генной памяти. Мы заходили в дом, и бесконечный хоровод лиц окружал меня, крутил, вертел, рассматривал. Все цокали языками, восклицали что-то на армянском языке. Мелькало слово «ахчик». Я садилась за стол, который был уже накрыт, и придумывала синонимы к непонятному слову. Проказница, виновница, стрекоза, чертовка, лентяйка, не наша – вот их неполный список. Улыбались армянские родственники редко. Часто смотрели вдаль, как и папа, хмурили брови. Жалея себя, я пыталась найти другое объяснение этому слову. Старшая, красивая, худая, умная, отличница, в конце концов. Я ведь и в самом деле была круглой отличницей. Застолье начиналось всегда с чая. Крепкий душистый чай, янтарный мёд, солёный сыр с капельками рассола, фрукты и лаваш. Лаваш был тонкой и белой лепёшкой из муки. Такой тонкой и белой, что у меня чесались руки, так мне хотелось на нём что-нибудь написать. Но он был предназначен не для этого. Его неспешно отрывали, отправляли в рот и говорили, говорили, говорили. Женщины, девочки, девушки подносили кушанья. За столом мы сидели два-три часа. И армянская речь всё лилась и лилась, завораживая меня незнакомой, но хорошо слышной внимательному уху музыкой. На столе, сменяя друг друга, появлялась севанская форель, хаш, матнакаш, лобио. То, что форель севанская, подчёркивалось с особенной гордостью. Севан был для всех армян святыней, не меньшей, чем Арарат, Эчмиадзин. Это всё рассказывал мне папа, гуляя со мной по уютным бакинским улицам. Я думала, не слишком ли много святынь у нас, у армян. И ещё я ловила себя на мысли, что армяне печалятся и грустят за себя, но ещё и за весь мир, на всякий случай. Как будто хотят отстрадать за все другие народы. Смеющегося армянского мужчину я встретила один раз в жизни. Но о нём придёт черёд рассказать позже. Бакинские армяне составляли свой клан, и все были связаны родственными отношениями, географией и вселенской печалью в глазах. У каждого из детей Каро и Гоарик была в жизни своя роль. Канира – старшая сестра, хранительница традиций, остов семьи, надёжность. Лаура – танцовщица, певунья, собирательница сказок и преданий. Наира – отменная кулинарка, хозяйка, тихая обитель добра и покоя. Облик четвёртой стёрся из памяти вместе с именем. Но именно в её доме мы начали готовиться к основной цели своего путешествия – поездке в Нагорный Карабах, к папиной маме. Было куплено много красивых платков, браслетов, серёг, кругов сыра… И десять килограммов морских камушков! «Так надо», – сказал папа. Я не видела потом на бабушке ни одного украшения – она их не носила. Было трудно представить её плечи, украшенные ярким платком. Да и морских камушков на столе я не видела ни разу. Я потом узнала, куда они подевались, эти яркие городские камушки, да ещё и сладкие. Приехали мы под вечер. Деревня расположилась между гор, как большая кошка, распластав лапы, раскинувшись всеми своими дворами. Горы были какие-то особенные. Это были не пики, уходящие под облака, не обрывы, не кряжи, не скалы. Это были, сколько хватало глаз, пологие склоны и подъёмы, почти сливающиеся с небом, с реками, с домами. Они все были устремлены не ввысь, а вдаль, за горизонт. Бабушкин дом был первым на въезде в деревню. Бабушка Гоарик была высокой крупной женщиной с волевым, хотя и уставшим лицом. Взгляд её был глубоким и острым не по годам. Видно было, что её подводит только внешняя оболочка – изработанное тело. Нахмуренный лоб и вечное «ахчик, ахчик» – меня уже не удивляло. Проснулась я, помнится, рано. Но ни папы, ни бабушки не было дома. На столе стояла кастрюля с куриным супом. А рядом, прикрытые белой ситцевой тряпочкой, горкой высились лепёшки, тёплые, как солнце над нами. Я поела и побежала за ворота. Если бы я представляла рай, он был бы таким, каким я увидела в это утро окрестности. Присутствие людей никак не испортило окружающую природу. Горные ручейки, высокое небо и дома, зелёно-коричневые, как и горы, составляли одно целое, неразделимое и неподдельно-прекрасное. Жителей совсем не было видно. День был в зените, обычный трудный и долгий день. Камушки сыпались из-под ног, иногда падали прямо передо мной. Чем дальше я шла, тем чаще они попадали мне, то в плечо, то в шею, то в спину. А потом я увидела то там, то сям озорные чёрные глаза, косы, руки и убегающие ноги. Дождь из камушков сыпал всё чаще, всё больнее. Для местных детей я была чужаком, яркой нездешней птичкой. Домой я летела со всех ног. Влетела во двор и сразу попала в объятия молодого человека, поразительно похожего на папу. Он смеялся, вытирая мне слёзы. Смеялся, грозя кулаком окрестным горам, смеялся, оглядывая меня с головы до ног. Это был младший из детей Гоарик, мой дядя Кармен. Стоило мне один раз пройтись с ним по главной улице, и люди начали приветливо здороваться со мной. И камушков в меня больше не сыпалось, ни одного на мою голову. Мы гуляли с Карменом и говорили, говорили, говорили. В первый день я спросила: «Что такое «ахчик», это что-то обидное?» А он, смеясь, закружил меня по огороду и сказал: «Это – девочка! Это ты – наша дорогая девочка, это ты». Ещё он сказал, что невежливо молчать в ответ на приветствие. И я, наученная Карменом, степенно раскланивалась и отвечала: «Барев дзес, барев дзес». Он очень много рассказывал мне об истории армянского народа, об истории нашей семьи. Кармен был мне и старшим братом, и другом, и учителем. Мы облазили все окрестные горы, заучивая наизусть стихи Егише Чаренца, Сиаманто, Паруйра Севака, Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна. Оказалось, что дед Каро был первым учителем в Карабахе. Был он очень добрым и светлым человеком. И, как исключение из правил, очень высоким. Этот факт был мне в утешение: значит, не я одна – исключение из правил в этой большой семье. Живя то у моря, то в Москве, то в Ленинграде, то на Урале, я часто ощущала себя перекати-полем, сорной травой без роду и племени. На вопросы «кто твои родители?» и «где ты родилась?» я открывала рот и… тут же закрывала. Коротко ответить я не могла, а долгие рассказы – кому они интересны?
Я умер в Нахичевани
 Амаяк Тер-Абраамянц. Россия, г. Москва
Амаяк Тер-Абраамянц. Россия, г. Москва
Член Союза писателей Москвы. Публиковался в периодике России, Эстонии, Армении, Украины, в альманахах «Русский стиль» (Германия), «Пражские мосты» (Чехия), «9 муз» (Греция). Автор семи книг прозы (рассказы, романы). Лауреат литературных конкурсов «Дюк Решилье»-2016 (Одесса, Франкфурт-на-Майне) – «Алмазный Дюк», лауреат Международного конкурса «Гомер»-2017 (Греция) и др.
1
Всё произошло неожиданно: грохот копыт, крики и облако пыли до неба, в котором мелькали лошадиные морды, папахи всадников, чужие друг другу ноги, руки, лица, тени, то знакомые, то незнакомые лица с наполненными бессмысленным ужасом глазами… И никого из своих… Десятилетний Левон стоял один на сельской улочке. А ведь всего минуту назад они сидели дома на приготовленных для бегства мешках, уже готовые покинуть дом… И пожилой, покорно опустивший плечи отец, и крестящаяся мать с гордым профилем, и два брата, и сестра… И не было только Луйса, жеребца, которого ему подарил отец полгода назад и на котором он проскакал едва ли не все окрестности, забыв о церковно-приходской школе и карающих розгах Тер-Татевоса: то будет в туманном, как сон потом, а в это мгновение – вот это журчанье ручья, тихий хруп пасущегося Луйса, белесое небо с орлом, нарезающим круги над невидимой жертвой… Обнять бы в последний раз надёжную тёплую шею… Левон тихо сполз с мешка, проскользнул в полуоткрытую дверь, шмыгнул через двор и оказался в сарае, где в прохладе жевал свой корм Луйс и возбуждающе пахло свежим лошадиным потом. Надо торопиться: Левон обнял жеребца за шею, почувствовав, как глаза стали влажными: «Прощай, друг, прощай, ахпер!» Жеребец слегка повернул к мальчику голову, с нежным карим глазом, обрамлённым белесыми ресницами, и тихо заржал. Мальчик поцеловал его в тёплую ноздрю и, разжав руки, бросился вон. Какого же было его изумление, когда в доме он не обнаружил ни одной души! – ни отца, ни братьев, ни матери, ни сестры – будто ветром сдуло: даже мешки, аккуратно прошитые материнской рукой, оставались нетронутыми… Никого! Он бросился на улицу и увидел огромное облако пыли: бегство было стремительным и хаотичным. Уже не раз после ухода русских войск Левон слышал из разговоров взрослых о неизбежном вторжении в Нахичеваньский уезд регулярных турецких войск, которым были готовы помогать в резне окружавшие армянский анклав из 14 деревень соседние азербайджанские сёла. Но несмотря на то, что урожай скорее всего достанется врагу, обычные крестьянские полевые работы не прекращались. Может, потому, что работа сама по себе хоть как-то отвлекала людей от мрачных мыслей. Художник Рубен Бабаян
Художник Рубен Бабаян
Взрослое население вечерами под чинарой перед тысячелетней церковью озабоченно, но бесплодно обсуждало сложившееся тяжёлое положение. Все ложились спать и вставали с сознанием неизбежности нападения и поголовной резни. И то и дело приходилось слышать: «Эх, если бы Андраник!.. Генерал Андраник! Кач Андраник!..» С самой колыбели Левон слышал это почти сказочное имя героя, который в неравной борьбе с турками не потерпел ни одного поражения.
 Художник Рубен Оганесян
Художник Рубен Оганесян
Но легендарный Андраник со своей добровольческой конницей находился довольно далеко, в Каракилисе, и едва ли сумеет и успеет пробиться на помощь, и местному населению приходилось возлагать надежды лишь на свои собственные весьма слабые неорганизованные силы. Все ждали сообщений, когда и в каком направлении идти, но пребывали в неведении. Неожиданно утром, едва забрезжил рассвет и появились солнечные лучи, стало известно, что Андраник со своими войсками преодолел все преграды и с тяжёлыми боями пробился в Нахичеваньский уезд и прорвал вражеское кольцо для спасения армян.
2
Пыль на дороге от пройденной конницы и ног бегущих оседала, и Левон обнаружил, что на другой стороне улицы стоит старый учитель Симон в старой городской шляпе и сморит на него светлыми прозрачными глазами. Симон был худ, сутул, в городском потёртом костюме, седые слегка курчавые волосы достигали плеч. – Бежать тебе надо, Левон! – сказал Симон и не двинулся с места. – А вы?.. – размазал слёзы по щекам мальчик. – Мне нельзя, – ответил учитель, – у меня здесь есть ещё дела… Он вообще слыл в деревне странным после приезда из Нахичевани, где закончил Реальное русское училище. У Симона во дворе в полнолуние ночами мальчишки, собравшись, нередко рассматривали ночное светило. Желтоватая пятнистая Луна казалась совсем близкой, над самой крышей, стоит руку протянуть. – Варпет, она на лаваш похожа! – Варпет, а что там за самое большое пятно? – Это, дети, армянское море, – усмехался Симон, закуривая трубку. – Больше Севана? – Да. – И больше Вана?!. – А вода в нём пресная? – Нет, дети, солёная – от всех армянских слёз… А посреди остров с храмом, где хранит святой Маштоц буквы нашего алфавита… А охраняют остров наши великие полководцы – Вардан Мамиконян, Ашот Железный, Тигран Великий и богатырь Гайк… Мальчишки не раз слышал эту историю от Симона, но она им не надоедала. – А турки там есть? – Нет, дети, это счастливые места, где всегда мир и покой, где селяне трудятся, не боясь за свой урожай, поэты сочиняют стихи, художники рисуют море и горы, а музыканты извлекают из дудука новые звуки. И стоят по берегам этого моря двенадцать армянских столиц, как новенькие. А ну, посчитаем? – и он начинал загибать пальцы, – Эребуни-Эривань, Тигранокерт… – Двин, Арташат!!! – нетерпеливо подсказывали мальчишки. – Армавир, Ани… – загибал пальцы Симон, и соревнование продолжалось… – Багаран! – Ервандашат! – Ширакаван! – Карс! – Вагаршапат! – Ван, Ани!! – Уже говорили, говорили!.. Симон стоял на улице и не двигался. Внезапно послышался топот копыт и показался всадник на гнедом жеребце. – Спасайтесь, – крикнул он, – турки в деревню входят!.. – Малый, хватай лошадь за хвост! Левон вцепился, что было сил, за хвост жеребца и началась бешеная скачка…3
А Симон повернулся и пошёл между домов к деревенскому кладбищу. Уже пылали первые дома в деревне, когда Симон присел у двух хачкаров – отец и мать здесь покоились. Вспомнилась поговорка вдруг: работать в Баку, жить в Тифлисе, умирать в Армении… и усмехнулся: так и его жизненный цикл прошёл. После Нахичевани устроился бухгалтером на фирму Нобеля в Баку, чтобы денег скопить. Баку – город восточный, грязный, многонациональный. Нефтяные вышки, потные тела, запах керосина… Суровый город, выбрасывающий слабых… Когда четыре года прошло и денег показалось достаточно, поехал в Тифлис жениться. Песни, цветы, рестораны! Всё здесь радовалось жизни и умело радоваться! И он влюбился в этот город, в природу, влюбился в Карину и был близок к счастью, когда молодой грузинский князь увёз её на фаэтоне в неизвестном направлении, и по всему видно не без её согласия и не без родительского, судя по спокойной их реакции, явно предпочевших богатого князя полунищему бухгалтеру. Так Симон вернулся в родную Нахичевань на радость присмотревшим для него невесту родителям. Устроиться на работу с его знанием русского языка в Нахичевани не представляло труда. Кроме того он давал желающим уроки русского языка в церковно-приходской школе и материально не нуждался. Хуже обстояло с женитьбой: было немало приличных невест, но от всех он отказывался: скорее всего, был однолюб. А, может быть, из-за какого-то внутреннего упрямства перед судьбой, подсовывающей ему слишком банальные варианты. Так или иначе, отстаивая свою человеческую самость, проводил он в мир иной сначала отца, потом мать, сестра и брат обзавелись своими семьями и отдалились. Да, Баку хорош, чтобы работать… А две другие, такие близкие и такие разные страны… Грузия, цветущая едва ли не всеми дарами земными, с её радостными песнями, открытостью характеров – будто для радости жизни создана. И Армения с её каменистой суровой землёй, требующая от крестьянина напряжения всех сил, пустыня, замкнутость армянского характера и даже некая тяжеловесность? И почему всё же умирать лучше в Армении? Только ли потому что в Армении лучше умеют хоронить покойников, как с усмешкой однажды сказал отец? Нет, в Армении нет ни одного одинакового хачкара и нет нигде такой обнажённой молитвы, как у Нарекаци и печального звука дудука… Армения создала культуру, приближенную не к земным прелестям, как в Грузии, а к самой грани человеческого существования… Симон ещё и ещё проводил рукой по цветам, ветвям и птицам на хачкарах родителей. Ничто не повторяется… Он слышал конский топот за спиной, кто-то его грубо спрашивал, угрожал, но он не встал и не оглянулся, да и зачем? «Да, мы ближе к Богу!» – подумал он, и свистнула сталь…4
Прошло несколько десятков лет. Левон чудом спасся один из всей семьи, изгнанной из родных мест с запретом новой властью всем армянам возращения, и погибшей от голода и тифа. Он даже плохо понимал, как это произошло: десятки раз оказывался на краю гибели. Он хотел реже вспоминать годы нищенства, сиротства и бегства на крыше вагона в Россию. Здесь у него появилась откуда-то неуёмная жажда учиться. А теперь он известный на весь город хирург, прошедший войну до Берлина, у него была двухкомнатная квартира в пятиэтажке, русская жена и десятилетний сын отличник и пионер. О своём детстве он ничего никому не рассказывал; да и к чему было сыну знать о тех ужасах, которые больше не повторятся? Да и к чему было рассказывать о прошлом, ворошить межнациональную распрю, что грозило обвинением в национализме, едва ли намного мягким, чем самое страшное «измена родине», в то время, когда великая партия, с трудом перемешивая страну, формировала новую нацию – советских людей, которым прошлое лишь мешало и было объявлено, что подлинная история начиналась с исторического нуля – семнадцатого года!.. Да и сын никогда не спрашивал отца о прошлом: его поглощали приключенческие книги, учёба, уроки музыки на недавно купленном пианино «Беларусь», предстоящее вступление в комсомол… Лишь иногда ночами раздавался страшный утробный вой и стоны. Отца будили… – Что, что тебе снилось? – спрашивал сын. – Ничего! – упорно твердил Левон. – Ничего… И из сознания быстро испарялись столбы пыли, оскаленные лошадиные морды, обессмысленные ужасом глаза и ощущение неминуемой гибели. – Ничего, ничего… – повторял отец и снова засыпал. Светило солнце, операция прошла успешно, и Левон Павлович бодро шагал по аллее вдоль проспекта Революции. На углу его пятиэтажки недавно открылся магазин «Галантерея и парфюмерия» – галстуки, запонки, булавки, иголки, одеколоны «Шипр», «Красная Москва», дешёвые духи… В общем хозяйственная мелочь. Левон зашёл и стал рассматривать витринку перед прилавком. И среди настольных бюстов Ленину, Карлу Марксу, фарфоровых балерин, слоников, матрёшек и копилок в виде кошек и собак Левон вдруг увидел гипсового изящного жеребёнка. Таких изделий наша промышленность ещё не выпускала, и это была пробная серия… Скоро коробочка с жеребёнком оказались в кармане Левона. Дома он вытащил жеребёнка и поставил на пианино. – Это что? – удивился сын. – Красивый! – ответил отец. Сын лишь однажды видел живую лошадь – унылую старую клячу, иногда таскавшую телегу тряпичника, который одаривал мальчишек за старую изношенную одежду, сковородки и всякое барахло с серебристыми оловянными кольтами с пистонами. Кроме того совсем не сочеталось: лошадиные копытца на лаковой поверхности пианино. – Лучше убери, – посоветовал сын. – Или отдай мне в игрушки. – Нет, пусть стоит, – отец стал переодеваться в домашнее. – А это зачем? – спросила вернувшаяся из продуктового магазина жена. – Может, на книжный шкаф лучше переставить? – Луйс будет здесь, – ответил Левон.Оазис счастья
(отрывок из романа «Девочка с гитарой» – тетралогия «Ляля») Ивет Александер. США, г. Нью-Йорк
Ивет Александер. США, г. Нью-Йорк
Дирижёр, писатель, общественный деятель, дизайнер. Родилась в Баку. Окончила Азербайджанский государственный педагогический университет и Бакинское музыкальное училище. Преподавала в школе. Выступала на сцене. Являлась поэтом-песенником, чьи произведения исполнялись эстрадными коллективами на концертах, по радио, телевидению и в таких передачах и конкурсах, как «Новогодний огонёк» и «Юрмала». В 1993 году вместе с семьёй эмигрировала в США (г. Нью-Йорк). Окончила TOURO College (школа педагогики и психологии) в Нью-Йорке. Имеет звания Bachelor of Arts (Бакалавр Искусств) и Master of Science (Магистр естественных наук). Вместе с супругом создала своё музыкальное шоу «Albert’s Show Orchestra» (1993–2007), с которым гастролировала по США. Преподаёт вокал, хор и фортепиано. Ведёт уроки английского и русского языков. Активно участвует в жизни армянской общины. Публиковалась в журналах «Литературная Армения», «Жам», «Зарубежные задворки» (Za-Za), газете «Armenian Weekly», в электронных изданиях.
Летние каникулы обычно пробегали в нашей карабахской деревне, и второй такой не было на всей земле. С возрастом я стала понимать, что время, проведённое там, и само это место были волшебными. Это был оазис счастья, где все старики были молодыми, молодые были юными, юные были детьми, а дети – младенцами. А кто-то ещё и не был рождён. Возвращаясь туда ещё и ещё, я возвращалась в детство, хотя бывала там в разном возрасте. Это волшебство было физически ощутимым. Ещё в детстве, подъезжая к деревне по ухабистым, пыльным дорогам, я сильно волновалась, в хорошем смысле этого слова. Меня охватывал такой восторженный трепет, что я начинала громко смеяться, чтобы скрыть желание тихо заплакать от нарастающего кома в горле, доводившего меня до слёз. Я любила бывать здесь и, приезжая каждое лето, получала заряд положительной энергии на круглый год. Этот восторг в перемешку со слезами просто душил меня, так сильно мне хотелось находиться в своём любимом Хндзристане. Какая-то сумасшедшая тяга, схожая разве что с магнитной аномалией, держала меня привязанной к этому невероятно красивому месту – земле моих предков.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Подъезжая к тому небольшому мосту, где начиналась одна из ближайших к деревне территорий, звучавшая как «Руснер» (когда-то очень давно здесь проживала русская община), я ощущала, как мои губы непроизвольно растягивались в улыбке. Зная мою маленькую «привычку», папа обычно оборачивался к нам с сестрой и мамой, ехавшим на заднем сиденье везущего нас автомобиля (или нанятого автобуса для нескольких родственников сразу), и говорил на армянском: – Аха… Сейчас Вета начнёт хохотать… И я хохотала. Папа отлично знал, что это был не просто смех, а безудержный восторг, вырывающийся наружу сквозь хохот, прикрывающий мои слёзы. Возможно, это было предчувствие тоски по этим родным местам, которая будет сопровождать меня потом во взрослой жизни. С каждым приездом мы с друзьями, часть из которых была мне и роднёй, становились взрослее, а любовь к исторической родине только крепла от этого. И несмотря на то, что местные жители нас, городских, называли «дачниками», мы всё равно являлись одной единой «детской общиной» села, приезжая из разных городов СССР. Мы знали, чьим дворам-фамилиям мы принадлежим и вели себя соответственно этому. Люди деревни с самого нашего детства относились к нам уважительно, а взрослые нашей семьи учили уважать тех, кто уважает нас. Только гораздо позже мы с сестрой поняли, что это уважение заслужили не сами мы, а наши предки – отец, дед, прадед и далее по лестнице, уходящей в глубь веков. Это они строили в меликстве Хачен, а тем более в своём родном Хндзристане, мосты и церкви, школы и больницы и животноводческие фермы и конюшни. Они возводили крепости ещё в те времена, когда родная земля и её народ нуждались в укрытии от варварских нашествий. Они строили дома, окружённые садами, которые сохранились и до наших дней. Мы с сестрой в восприятии сельчан так и оставались маленькими наследными принцессами несуществующего уже давным-давно меликства наших достойных пращуров. И как родные ни старались скрывать от нас, своих детей, историю нашего рода (возможно, боясь новых репрессий и гонений, из-за которых когда-то уже погибла часть членов семьи), нам её рассказывали односельчане. Даже наши ровесники, те из детей, кто не был нам самим знаком, знали о нас больше, чем мы сами. Каждый из них при общении не преминул сообщить нам какую-нибудь «новость» о нашем роде. – Дедо, оказывается, «кармудж» наш? (на диалекте нашего села так звучал «камурдж»). Мы по этому каменному мосту всегда ходим, но ты никогда не говорил, что он наш, – спросила я за ужином. – Что значит «наш»? Кто сказал такую глупость? – Дети. Наши деревенские, с кем мы играем, – я не понимала его недовольства. – Дети ничего не соображают. Не надо их слушать. Мост ничей. Он принадлежит деревне. – А тогда кто его построил? – мой хитрый вопрос должен был иметь правдивый ответ. – Откуда мне знать? Кармудж уже триста лет там стоит. – Хватит разговаривать. Дай дедушке поесть и сама ешь, – вступилась моя бабуля Азизгюль, видно, предчувствуя неладное. – А деревенские дети всё знают, они сказали, что его построил твой… пра-пра-пра-прадедушка, – не унималась я, глядя на деда Джавада. – Пусть не болтают. Дедушка явно не был настроен на разговор. Он надломил свежий хлеб и будто специально, откусив большой кусок, стал медленно его пережевывать, задумчиво уставившись в тарелку куриного супа. – А церковь, которую снесли? Которая стояла на месте «Сельсовета»… – начала было я, но дадушка недовольно хлопнул по столу. Негромко, но сердито. – Снесли, значит надо было! – сказал он и, встав из-за стола, вышел на балкон. Я не могла понять, что произошло. – Папа! Ладно тебе! Она ж ребёнок, что ты в самом деле… – сказал мой отец по-армянски, зовя дедушку обратно за стол. Бабушка вышла следом. – Джавад, ребёнок не понимает, просто спросила, зачем так нервничать? Успокойся. Дед молчал. Я не слышала его голоса. Он вообще был немногословен. – А что я такого сказала? – спросила я своего папу, сидевшего напротив меня. – Дедушка просто не любит, когда говорят о-о… Обо всём, что касается нашего прошлого. – Почему? – Ты ещё маленькая и много не понимаешь. Но лучше не надо с дедушкой говорить о прошлом. – Мне уже тринадцать, я не маленькая. – Всё равно. Он не любит об этом вспоминать. – Почему-у? – меня распирало от любопытства. Папа тяжело выдохнул, будто раздумывая, говорить или нет. Потом всё же сказал: – Когда тебя ещё не было на свете, и меня тоже, у дедушки погибли два его старших брата. – Как погибли? Они утонули в реке? – это было первое, что пришло мне в голову. Раньше горная река была бурной. – Они были убиты, – вдруг, не щадя нашего с сестрой детского воображения, ответил папа, видно желая утолить моё любопытство раз и навсегда. Однако, наоборот, вопросов прибавилось. – Убиты? За что? Почему? – Потому, что «кулаки»… – без особых эмоций произнёс он. – Кто? – я растерялась. – Мы были кулаками? (понятие «я» в моём восприятии семьи легко трансформировалось в понятие «мы» и наоборот).
Я не могла поверить. Я знала по книжкам и фильмам, что «кулаки» – это враги советской власти, но мне всё равно было жаль дедушкиных братьев, которых даже папа не видел. И мне не хотелось верить в то, что они были врагами нашей страны. – Да, были кулаками. А до этого – меликами. Но чтобы вы знали, девочки, ваш дедушка со своими братьями и их отец со своими братьями всегда работали. Они трудились наравне со своими батраками. – Батраками? – ещё одно слово из книжной истории всплыло за ужином. – Да, наравне с батраками. Это не рабы и не крепостные, это нанятая рабочая сила, – пояснил папа. Конечно, мы знали о тяжёлом труде батраков. Выходит, дедушка и мужчины их дома тоже тяжело трудились на своих землях. – У нас были батраки? – мы с сестрой переглянулись. Эта новость была невероятно интересной и в то же время какой-то ошарашивающей, запретной, несоветской. Папа кивнул и продолжил: – У семьи вашего деда было всё: земли, конюшни, фермы… Но всё отняли с приходом советской власти. А братьев убили. Теперь ясно? И не надо больше об этом говорить, – сказал папа в заключение. Мы с Идой хлопали глазами. Я от понимания того, что произошло, а сестра от недопонимания. – А дети… ещё говорят, что Хабах тоже был наш… Это был дедушкин сад, твой сад? – Да. Дедушкин. – Мы там всегда играем, там красиво. В этом саду вы с мамой на дереве сфотографировались, когда я ещё не родилась. Я люблю эту фотографию в нашем альбоме. Папа молча кивал, пытаясь продолжить трапезу. Но я не могла остановиться. – А ты знаешь, что сад вырубят? Говорят, что там будут строить дома. – Пусть строят. Это хорошо, когда дома строят, – ответил папа общими фразами, протягивая руку к куску жареного мяса, будто нарочно не вникая в то, о чём я говорила. – А… А прадедушкины родники? – Вода должна быть общей. Он их и открывал для всех. – А… – Ещё свиноферма, где дедушка сейчас работает, – вдруг вставила младшая сестра. – И свиноферма тоже. Она принадлежала дедушкиной семье.
Казалось, он умышленно не говорил «нам», чтобы не задумываться над этим. – Выходит, нас ограбили? – сказала я, прижав пальцы к губам, будто не давая вырваться непозволительным словам. Мы ведь были пионерами и любили нашу родину. – Вот, видишь? Когда ты не знала об этом, тебе было всё равно. А теперь тебе неприятно, хотя ты всего этого никогда и не имела. Надеюсь, сейчас ты понимаешь, как неприятно дедушке? – Дети говорят… – Не надо их слушать. Это ни к чему. – Но они не со зла, они рады нашей дружбе. Они не упрекают вовсе, а наоборот, любят рассказывать много интересного. Правда, иногда я не всё понимаю, например, когда кому-то из новых ребят они говорят про меня… «на меликянц ана я». Это что? – Это? – папа хмыкнул. – Это означает – «она из меликов». – Но они не ругают нас, они все с нами дружат. Некоторые даже говорят, что мы с ними родня. Я стала перечислять имена друзей, кто считал себя таковыми, но обязательно при этом упоминала из какого они рода или имена их отцов и дедов, чтобы папа понял, о чьих детях я говорю. – Да, среди них есть и родня. Я рад, что вы дружите, – папа даже повеселел. – Значит, дети не такие уж и глупые, они многое знают? – радостно сообщила я. – Нет, не такие уж и глупые, – усмехнулся папа. – Это важно дружить с честными и добрыми детьми. Тогда вы вырастете хорошими людьми. Ты доедай, хватит разговаривать. – Они ещё говорят, что вся наша деревня… Осмелев, я хотела рассказать, что ещё я узнала от своих подросших и сильно поумневших друзей, но папа продолжил сам: – Да, они говорят правду. Мелики руководили своими территориями. Наш Мелик Мирзахан вместе со своими взрослыми сыновьями когда-то очень давно правил княжеством Хачен. Туда входило несколько городов и сёл. А жил он со своей семьёй здесь, в Хндзристане, – папа показал рукой назад, куда уходили дворы двоюродных братьев дедушки Джавада и их предков. – Я хочу побольше узнать об этом, это ведь история нашей семьи и нашей земли. – А я хочу быть историком, – добавила Ида, чтобы подтвердить необходимость этих знаний. – Здесь нечего больше узнавать, всё это осталось в далёком прошлом. А то, что нужно знать, вы уже знаете. И чем меньше вы обе об этом будете говорить, даже с друзьями, тем лучше. А с посторонними тем более. – Они будут завидовать? – Чему завидовать? У нас нет ничего особенного. – Завистники всегда находятся, – вернувшись с балкона на веранду, сказала бабушка. – Это такой сорт людей, они завидуют всем, кто чего-то в жизни добивается, а сами ничего для этого не делают. Им хочется даром получать все блага, без труда. И вообще, хватит об этом, ешь давай. Вон, Ида молодец, хорошо ест. А ты… худенькая совсем. – А дедуля на меня сердится? – спросила я бабушку. – Нет, он просто хочет постоять на балконе, – ответила она, ласково коснувшись моей головы. – Ешьте, ешьте, он сейчас вернётся. – Я наелась. Спасибо. Я встала из-за стола и вышла на балкон. Я обняла дедушку и сказала: – Дедо, я извиняюсь, я больше не буду. Я тебя очень люблю. Он обнял меня и поцеловал в макушку. Никогда больше мы с ним не говорили об этом.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Я выбежала в сад. Мне было всё равно, что я была «из кулаков» или «из меликов». Меня это не пугало и не радовало. Я просто чувствовала себя хорошо. И всётут. И тогда, в детстве, и во взрослой жизни мне было приятно осознавать, что я – внучка всеми уважаемого Мирзояна Джавада Айрапетовича из рода Баба-Аханц, одного из потомков Мелика Мирзахана, принадлежавшего к большой древней династии Джалаланц. Дедушка был тружеником, из тех, на кого равняются и кем гордятся.
А дети деревни всё равно рассказывали нам легенды о нашем роде и хотели с нами дружить, что нам тоже нравилось. Наш род для них был частью живой истории нашего общего родного края, и эту историю они берегли, передавая из уст в уста, из поколения в поколение. …Летом я росла и взрослела в доме моих предков, туда же в будущем не раз привозила и свою семью. Но это будет гораздо позже, гораздо, гораздо. А пока я школьница, и нету мне устали. Я среди родных и друзей, а что может быть лучше деревенских летних каникул у бабушки с дедушкой? Ни-че-го! Фрагменты детства и юности часто возникают в моей голове обрывками картинок, но, сплетаясь воедино, создают красивый ковровый узор памяти.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Каждый день я приносила домой свежую воду, бегая с друзьями на родник, но я не отказывалась и от других бабушкиных поручений. Я могла полить огород, запуская в равномерные, длинные грядки воду из узенького речного канала-«арха», окружающего огороды и сады деревни. А могла и накопать картошки, нарвать овощей к столу или достать из-под курочки свежих яиц. Всё это было каждодневным, обычным делом и доставляло мне огромное удовольствие. Но самым интересным для меня было уходить с семьёй и друзьями в леса и горы, порой с ночёвкой под открытым небом у костра. Там тебе и дикие ягоды, собирай – не хочу, там тебе и свежий воздух, и пикник с шашлыком. Там разнообразные игры с детьми и взрослыми, там и речка, окружённая обилием родников, бьющих прямо из-под земли или падающих с гор маленькими водопадами. Наша деревня расположена на огромной скалистой горе вулканического происхождения, а потому всё передвижение по ней идёт либо в гору, либо с горы. Наш дом находится в центральной части села, на том самом перекрёстке двух главных деревенских дорог, где расположены важные здания – довольно высокий двухэтажный дом с длинным голубым балконом, в котором находятся местное почтовое отделение и междугородняя телефонная станция с телеграфом; и другой двухэтажный дом напротив, через дорогу, где на первом этаже расположена сельская аптека. Дети туда забегают по делу и без дела, а главное, они в аптеке покупают гематоген и едят его вместо шоколада. По обе другие стороны Центра деревни, который в народе именуется «щенамач», занимают частные дома, впрочем, так же, как и за аптекой и почтой. Мы всегда жили в центре и узнавали все последние новости первыми, ну или почти первыми, после почтальонши и телефониста – самых осведомлённых в деревне людей. Порой нам звонили домой по номеру 3–5-3 из другого конца деревни, чтобы узнать, привезли ли в центр продавать арбузы. А порой просили прочитать название фильма на афише, которая была наклеена на железный стенд рядом с почтой. Порой афишу писали мы с братом, нам позволял это делать завклубом и киномеханик дядя Завен.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Домов в Хндристане много, но почти все люди знают друг друга по-соседски или даже являются родственниками. Интересно и расположение домов – по дворам династий. Почти все родственные семьи живут рядом. Так были построены дома ещё несколько веков назад. Братья строили дома на одной улице или селились в одном общем дворе, как у нас. Сами дома в деревне выстроены так, что с одной стороны они стоят своим первым этажом на земле, а с другой стороны, где гора спускается ниже, тот первый этаж выглядит уже вторым, а под ним ещё этаж и двор. Первый этаж со двора – это нижний дом, или «нерки тон», как здесь принято его называть. Чаще всего этот нижний этаж не жилой, он гораздо прохладнее, чем верхний, сделанный по современным деревенским стандартам. В стенных стеллажах нерки тона наша бабушка хранит консерванты собственного приготовления, а также свежие продукты – молоко, овощи, фрукты, даже запас свежеиспеченного хлеба, тесто для которого готовится как раз здесь, в нижнем доме, на огромном старомодном дастархане красного дерева. Мы с сестрой и кузинами любим наблюдать и помогать бабушке в приготовлении хлеба. Мы лепим из теста несколько колобков средних размеров, которые потом отлёживаются на больших деревянных подносах, аккуратно покрытые длинными белыми полотняными полотенцами, похожими на рушники с яркими узорами по краям. Положив на плечо, эти длинные подносы с тестом уносят к печи. А печёт бабушка хлеб в беседке за домом, в глубокой круглой яме, отделанной изнутри плоским булыжником. В нашем селе эти печи, похожие на небольшие колодцы, называют «турун» (что в Армении – «тонир»), а испечённый там хлеб – «турнав хац». Чаще всего они пекут вместе, собрав у туруна несколько женщин нашего «таха» – родственных дворов. Это довольно сложный процесс, его не передать словами, в нём надо участвовать. Запах свежего деревенского хлеба, приготовленного на дровах или древесном угле, и сам его вкус делают его особенным и неповторимым у каждой мастерицы. Дома такой хлеб испечь невозможно, хотя можно какой-нибудь другой. Конечно, жаль, что старинный камин, выступающий вперед полукруглым козырьком из серого камня, который был врезан в правую стену нашего нерки тона несколько веков назад, теперь бездействует. В нём больше не готовят еду и им не отапливают помещение, как это было ещё в детстве папы. Сегодня камин представляет собой лишь музейный экспонат нашего таинственного дома. Тайны есть и на чердаке дома, где хранятся лекарственные травы и приготовленные бабушкой для нас сухофрукты и пастила – о, это отдельная история. Но самое важное бабушка хранит в ящике старого шифоньера – дедушкины медали с Великой Отечественной войны и, святая святых, – ободок с армянского национального головного убора её матери и нашей прабабушки Саням, отделанный серебряными николаевскими монетами и длинными чеканными бусами. Не могу не рассказать о том, как нам всем нравится, когда бабушка готовит деревенское масло. Совсем как в древности, раскачивая вперёд и назад свисающий на верёвках с потолка (будто колыбель ребёнка) длинный бочонок «хнеце», наполненный домашним мацони, мы добываем масло. Для нас, детей, это особое развлечение – не только взбивать домашнее сливочное масло, но и пить прохладительный напиток «тан» или пахту, которая сливается через открытую дырочку в бочонке-хнеце после получения продукта. Другое любимое дело – снимать пенку с ежевичного варенья, которое готовится во дворе в огромном эмалированном тазу, стоящем на чугунном кольце с растопыренными ножками прямо над костром. А перед этим надо ещё сходить за ежевикой в горные долины, которые виднеются из нашего балкона и кажутся живой зелёной картинкой с солнцем в ярком голубом поднебесье. Ежевику мы приносили домой переполненными бидонами, закрывая собранный урожай листьями с кустарника лесного ореха «ктохен», чтобы сорванная ягода не краснела от яркого солнца. Мы прокалывали эту импровизированную зелёную «крышку» бидона стебельками сорванных нами целебных полевых растений, чтобы та не слетала по пути и держалась до самого дома. Набрав в железную кружку последний сбор ягод, мы, как правило, угощали им односельчан, встречавшихся нам на обратном пути. Мы не могли пройти мимо, не сказав им «добрый день, угощайтесь». И они благодарили нас, не забыв спросить по-армянски, чьих мы будем, если вдруг они нас не узнавали сразу. Мы с сестрой или кузинами обязательно отвечали тоже по-армянски, рефлекторно, даже не задумываясь над тем, что говорим: «Баба-Аханц Джавада внучки», и тут же слышали в ответ восторженные эпитеты в адрес нашего дедушки, того самого, к которому за советом приходили все, включая новых председателей села, и который был главным гостем на любом торжестве односельчан. Тогда они гадали, чьи именно мы дети – Джавада сыновей или же дочерей? И мы весело представлялись им, объясняя, «чьих мы есть». … Помню, маленькой девочкой, прогуливаясь с папой по каменистым деревенским улицам, я слышала приветствия со всех сторон и видела, как люди чуть преклоняли головы, здороваясь с ним. Я не понимала, почему они так делают. – Папа, ты говорил, что обычно тех, кого меньше, здороваются первыми, подходя к большой группе людей или проходя мимо. Или те, кто младше. А мы не успели с тобой подойти к ним, как эти люди уже издалека стали выкрикивать приветствия. А некоторые даже преклоняют головы. Почему? Я навсегда запомнила эту нашу беседу с ним, она меня определённо озарила новыми познаниями о своей старинной семье и о правилах поведения на будущее. Удивление моё было связано и с тем, что некоторые из людей, приветствующих нас первыми, были старше папы. Это было на всём протяжении нашей с ним прогулки по деревне, начиная снизу, от старинного кладбища – «герезманотс» и до нового кладбища на горе, в конце деревни. Стояли ли эти люди группой у нашей знаменитой шелкомотальной фабрики или у старой мельницы, у больницы или у деревенского клуба, возле школы, детского садика или «купратива» (кооператива, а точнее – магазина), а, может быть, у ворот чьего-то дома, в момент нашего с папой появления там, – все старались громко поздороваться с нами. И хотя папа и сам здоровался в ответ и посылал им поклоны, они это делали первыми, будто стараясь опередить его. Это от уважения, в деревне принято с уважением относиться друг к другу. – Но там были старики. Они тоже тебе кланялись первыми, здороваясь. – Они кланялись не только мне, они кланялись всему моему роду. Нашему роду. – Но ведь здесь сейчас только мы с тобой, больше никого нет из нашего рода. – Это не имеет значения. Эти старики знали моего дедушку, они знают моего отца и меня. Их отцы знали моего прадеда. Люди передают друг другу свою память. Уважение тоже передаётся, а чтобы оно продлилось дальше, его надо не потерять. – Значит, ты не потерял? – я уставилась на папу. Папа усмехнулся: – Нет, не потерял. Я стараюсь помогать селу всем, чем могу. Помогаю отдельным людям. – Кому? – Тем, кто просит о помощи. Мы с мамой всегда стараемся помочь. Мама лечит детей и здесь и в Степанакерте, если нужно. К ней приезжают из других мест тоже. Ты же знаешь, она не отказывает заболевшим, хотя и находится в отпуску, на отдыхе. – А я? А маленькая Ида? – И вы не должны потерять уважения к себе. Когда вы подрастёте, вы тоже сможете помогать тем, кто нуждается. Сможете участвовать в помощи деревне. – Я тоже не потеряю. Я обещаю, – радостно ответила я.
Теперь я знала, что своим поклоном односельчане посылают нам свою признательность. Если люди друг друга уважают, они здороваются с небольшим поклоном. – Значит, ты этих людей тоже уважаешь? – Да. В деревне есть много достойных уважения людей. – Ты тоже кланяешься? – Да, конечно. А ты сама попробуй сказать «барев дзес» без поклона, у тебя даже и не получится. Я повернулась к отдаляющейся толпе идущих с работы односельчан и громко поздоровалась: – Барев дзес! – моя голова склонилась сама уже на первом слоге. Я восторженно посмотрела на папу, он был прав, голова опустилась. – Барев, матах, барев, – послышались голоса мне в ответ. – Барев, Шуран ахчик. – Барев дзес! – я поспешила первой поприветствовать приближавшихся к нам мужчину, несущего косу на плече, и женщину с корзиной овощей. – Барев, матах, барев, ахчик джан, – ответили они оба, улыбаясь мне и приветливо кланяясь папе. Вдруг, поравнявшись со мной, женщина достала из корзины три початка кукурузы, плотно обернутых в зелёные листья, с торчавшими из них рыжеватыми волосинками, и весело произнесла: – Шуран ахчик, возьми. Отдашь их Азгюль бабо, пусть сварит их для тебя. Я подняла голову к папе. Он улыбался и благодарил односельчан, что означало – можно брать. – Шноракалюцун, – еле выговорив длинное слово благодарности, ответила я, забирая себе три кукурузы. Конечно, бабушка сварит их нам. Хотя у нас есть и своя кукуруза, но это тоже хороша, это подарок. – Почему они зовут меня «Шуран ахчик»? – Не все знают, как тебя зовут, но все знают, что ты – моя дочь, – объяснил папа. – Это всё равно, как если бы они тебя называли по отчеству – Александровна. Просто эти люди знают меня с рождения, когда я был ещё Шурой, а не Александром. Им так привычнее. Мне понравилось, что меня называют «Шуран ахчик», без имени. Я загордилась. Это означало, что все знают, чья я дочь и чья я внучка. «А раз односельчане уважают моего прадедушку, дедушку и папу, значит теперь уважают и меня», – думалось мне. Я была счастлива. Я была ужасно горда тем, что мою семью уважают. И мне хотелось уважать их всех, здороваться и непременно опускать голову, говоря «барев дзес». … Но теперь я постарше и мне покоряются природные высоты. Погода стояла солнечная и от нечего делать, я покоряла тутовое дерево в нашем дворовом саду. – Ляля, спускайся вниз. Почему ты всё время так высоко взбираешься? Там же ветки совсем тоненькие, хватит уже, спустись! – А внизу я уже всё оборвала, там нечего есть. – Как нечего? Вот же, смотри, – мама показывала рукой на низкие ветки тутовника, прогибающиеся под тяжестью плодов над деревянным садовым столом с лавками. – Это для Иды, она достанет, если поднимется на скамью. – А тебе надо соревноваться с птицами. Иначе ты не можешь, – недовольно сказала мама. – Могу. Просто когда ребята трясут тутовое дерево, они обычно стоят посередине, где дерево расходится, а на самый верх не лезут. Раз до этих веток их дубинка не достаёт, значит эти ветки мои. Ну и птичек, конечно. Довольно улыбаясь, я продолжала уплетать тутину за тутиной, закидывая некоторые из них в маленькую корзиночку на ветке. – С тобой бесполезно говорить. – Правильно. Лучше вот, лови! Посмотри какой огромный! Подставь ладони, – крикнула я маме, бросая вниз большой, с мизинец, белый сочный плод шелковицы. Поймав в лодочку ладоней тутину, мама уставилась на неё во все глаза: – Действительно, огромная ягода, – удивлённо сказала она и, развернувшись к дому, крикнула младшей сестре, сидевшей на балконе нашего дома: – Боби джан, иди к нам! Посмотри, какой огромный у меня белый тут! Но недождавшись ответа сестры, мама сама направилась к дому. – Ты где? – позвала она её, стоя под нашим квадратным балконом между комнатами и верандой. – Я не могу, – ответила Ида, выглянув с балкона. – Я помогаю бабуле чистить овощи. Она будет готовить лоби с тыквой и помидорами. И ещё нам надо раскатать тесто и нарезать кучу зелени, мы с Галей будем делать «женгялов хац»[7], – важно заявила сестра, страстная любительница кулинарии, пожалуй, с рождения. Мама поднялась на второй этаж. – Держи, – сказала она, протягивая сестре огромную тутину.
Ясное дело, она сама её не стала бы есть, берегла такое чудо природы для Боби. – Ляля мне это бросила с самой макушки дерева, – сказала она, и вымыв руки, присоединилась к стряпне. – Опять она на небо залезла, – услышала я с верхушки тутовника бабушкино армянское ворчание. – Коза э-э, настоящая коза! Я ведь сказала, сегодня трясти будем, зачем было лезть? Пусть лучше соберёт своих ребят, чтобы «ктав»[8] держали под деревом. И здесь потрясём и в Кярихохском саду тоже. Вон он, мой свеженький «ктав» на «чапаре»[9] растянут, смотри – любуйся, пусть сердце радуется… Пожалуй, подсох уже. Наш частокол длиннее «ктава», я его весь растянула на нём, ни одной морщинки нет. А как же? Держать будет приятно, когда свежий «ктав». Разве я неправильно говорю? Поэтому я с рассветом встала и липкий «ктав» на речке хороше-э-э-нечко постирала. Теперь он опять как белая свадебная скатерть. Чистый-блистый! А кто мне мог помешать? Никто! До восхода встала и пошла. Ещё наш петух не успел прокукарекать, а я уже направилась в Кярихох, открыла ворота, вошла во двор – тишина. Зашла в сад, прошла к хлеву, открыла двери, выпустила животных во двор. Пусть соль полижут, как всегда. Сено пресное, кому будет вкусно, если жевать пресное сено? Неправильно я говорю? – Никому не будет, – вставила Ида. – Мне нравится, когда корова этот солёный камень лижет. На нём уже ямка видна. И телёнок тоже, и ослик лижет. – Всем нравится соль. – Мама, ты ещё им перец добавь, совсем понравится, – сказала Галя, папина младшая сестра, и все засмеялись. Она была намного моложе папы и мы её никогда не называли тётей, хотя она была уже учительницей. – Вета, матах, ты слышишь? Не забудь про своих ребят, скажи им, пусть зайдут «ктав» подержать. Пусть наш Карен потрясёт дерево, – крикнула мне бабуля. – Хорошо, бабуль. Позову всех, – ответила я с кроны дерева, продолжая наслаждаться тутовыми ягодами, откладывая самые лучшие в висящую на ветке корзиночку, чтобы отнести домой для всех.
За оградой послышался шум сбегающей с верхней части деревни не одной пары быстрых ног. Я пригляделась – мои. – Ты идёшь? – крикнула мне Валька, подойдя к забору. – Вы на родник? – Куда ещё, – она подняла свою тару. – Ладно, сейчас. – Догоняй! – крикнула она, помчавшись вслед за остальными.
Я спустилась с дерева и зашла в наш нижний дом, где находилась посуда для чистой воды. Я стояла в раздумье – брать свой большой бидон или деревянный «кож»[10], к которому я давно присматривалась. Он не такой уж и большой, похож на маленькую бочку с зауженным горлышком, с опоясывающими её металлическими кольцами и длинной ручкой, как у кувшина. Рядом стоял и Галин «кож» – высокий, медный, но с этим я бы не справилась, пожалуй. Он и пустой был довольно-таки тяжёлым. Схватив деревянный «кож», я вышла из нижнего дома и, крикнув своим: «Я на родник»! – поспешила к роднику по каменистой тропе. Мои друзья уже наполняли свои бидоны и ведра, когда я появилась у воды. Пробежав по старому деревянному мостику, я присоединились к ним. Дождавшись своего черёда, я сполоснула платочек, служивший кляпом для «кожа», а затем и сам «кож», и подставила его набираться под свободную струю. Пока все решали, чем нам всем заняться сегодня, я скинула «вьетнамки», и вошла в ручеёк, образованный падающей родниковой струёй. Студёная вода тут же поглотила мои стопы, но при дневной жаре это доставляло удовольствие. «Нерки ахпюр», то есть нижний родник, каменный фронт которого имел выбитую надпись на армянском языке, был нашим любимым родником, он был в черте деревни, в ущелье. Много родников было и в лесах, некоторые из которых были открыты моими прадедами и прапрадедами. Сельчане знали их расположения лучше меня. Возле них часто проводились пикники. Одним из популярных и сегодня остаётся «Даллякянц ахпюр», то есть родник цирюльника, открытый моим прадедом Петросом, отцом бабушки Азизгюль. А другой – «Аби-Апан ахпюр» – был открыт Айрапетом, отцом деда Джавада, которого все называли Аби, уважительно добавляя «апа». Этот родник находится далеко в лесу, там, куда по легенде на своих плечах перенёс его вместе с горой мой прадед, от тяжести оставляя на камнях глубокие следы своих ног. Деревенские так и назвали эти вмятины в скале «Аби-Апан хетеры», то есть «следы Аби-апы». Это был тот случай, когда своим добрым героям народ присваивал образы сказочных великанов. А может, он, действительно, был так велик, кто его знает? Папа и дедушка тоже были довольно большими, не зря же папа отслужил четыре года в морфлоте, а дедушка был на фронте в Великую Отечественную. – Ты взяла «кож»? – вдруг обратив внимание на мой кувшин, сказала Люда. – В нём почти два ведра воды. В гору будет тяжело нести. – Честно говоря, я не видел, чтобы дачницы брали «кож», – с некоторым недоверием произнёс Вова, который уже набрал два бидона. – Ну, значит, я буду первой. Я не думаю, что деревенские девчонки сильнее нас, – убедительно ответила я, затыкая горлышко «кожа» тряпичным кляпом. – Ну, нашей спортсменке всё по плечу, – весело сказала Люда, набирая свой бидон. – Что, не дотащу что ли? – рассмеялась я. Валя оценивающе примерилась к моему деревянному кувшину. – Не-а, – сказала она. – Надо было взять мягкое полотенце для плеча, так деревенские делают, – сказала Ритка. – Точно. Иначе он отдавит твои городские косточки, – вставила Люда. Девчонки явно подтрунивали надо мной за смелость казаться деревенской. – Они шутят, конечно, – вдруг улыбнулся мне Сергей. – Я уверен, что ты справишься. А не справишься – помогу. Девочки переглянулись, сдерживая смех. – Вот ещё. Донесу сама, можешь не волноваться, – дернула я плечом, надевая «шлёпки» на мокрые ноги. Но мне определённо нравилось, когда он говорил что-нибудь именно мне. Правда, я жутко краснела от этого. – Ой, ребята, чуть не забыла, бабушка просила помочь подержать «ктав». Карен будет трясти тутовник в саду Карихоха. Приходите туда, будем ждать. – Оставим воду дома и придём, – ответила за всех Люда. – Тогда помчали? – предложил Сергей. – Помчали, – ответила я, поняв, что он придёт помогать. И куда девался вес наполненного водой «кожа»? С размаху водрузив его на правое плечо, я неслась в гору, к себе домой, будто на меня не давили почти два ведра родниковой воды. … Не так давно, незадолго до своей кончины, моя младшая сестра, та самая маленькая Ида Мелик-Мирзахан, историк и музыкант, на свои средства провела трубопровод от прадедушкиных лесных родников до деревни. Теперь эти родники дошли до центра Хндзристана и других его мест. «Вода должна быть общей», – как говорил наш папа. Сегодня кристально чистой, студёной водой может утолить жажду любой житель нашего родного села, а также его гости. Идин родник стоит и на «новом» кладбище. Возвращаясь в село, можно умыться и попить живой воды. На здоровье!
Звёздное небо над головой
Юре
 Владимир Душский. Россия, г. Москва
Владимир Душский. Россия, г. Москва
Родился в 1941 году и всю жизнь прожил в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ. Кандидат физико-математических наук. Трижды, принимая участие в научных конференциях, посещал Армению. Около 50 лет преподавал математику в московских вузах. Параллельно сочинял. Являюсь автором трёх книг, изданных в России; несколько рассказов опубликованы в США и Германии. В настоящее время на пенсии.
Предоставленная самой себе, ложка лениво собирала со дна остатки вконец остывшей каши, а из головы всё не шло вчерашнее письмо. Мать, конечно, бодрилась – «ты не волнуйся, у нас всё в порядке…» – но, как только речь заходила о деле, всё оказывалось совсем наоборот. С продуктами всё хуже, вот только «заказы» порой достаются. В пионерлагере, где Ленка, их накормили какой-то дрянью, так три дня в туалете народу, как на митинге, было. Митинги, понятно, своим чередом, только сыт ими не будешь. Да и у Бориса с кооперативом ничего толком не светит. Странно, пишет, он ведь такой серьёзный человек! Напротив, странно было бы, если б у них там дело пошло. Ведь вся его жизнь – в НИИ, где годами исследовалось, что было бы, если бы вообще ни хрена бы не было. При том, что отчим неплохой человек и поговорить с ним порой интересно – только это не продаётся! Вернусь – придётся за дело браться всерьёз – не стройотряд какой-нибудь, а постоянно, с нормальной зарплатой. Пора «брать на себя»… – Да ты слушаешь, что тебе говорят?! Как нога, спрашиваю! Нога болела. И, пожалуй, сильней, чем вчера. – Да ничего, вроде… – Только вот морда лица твоего… – При чем здесь морда, если речь о ноге?! Пройдёт. Не сегодня, так завтра. – Говорят, хорошо б подорожник… – Надо было с самого начала, как только… – А у нас в походе, если кто захнычет, так командор к нему подходит, руку ему на плечо, значит, и говорит – проникновенно так, душевно: «Послушай, тебя, может, пристрелить, чтоб не мучился?» Помогало! – Так Макс же не хнычет, наоборот! – Боится, что пристрелят!.. Миски тем временем опустели, да и кружки тоже. – Значит так, товарищи стройотрядовцы. Насытились? Остроумие своё показали? Тогда за работу. А ты, Макс, с Араиком в поликлинику в город. Ему всё равно туда надо. – Послушай, Игорь, а может?.. – Никаких «может». Это приказ. А их – что? Правильно. Что делать, оба мы хороши: я отпустил медичку, ты запустил болячку. Теперь придётся расхлебывать. А пока отдыхай. Араик кликнет. Игорь отправился было догонять свой отряд, но тут же обернулся: – А в утешение – секретная информация. Вечером хозяева что-то особенное затевают, праздник у них какой-то. Так что брюхо в городе особенно не набивай. И помни: военная тайна… Разбудил его (он даже задремать умудрился) чудовищный грохот. Араик что-то подкручивал в уже заведённом мотоцикле, а тому – похоже, он был постарше своего хозяина – это было не по нраву, и он ревел, скрежетал и чуть не подскакивал от негодования. – Слушай, ты как ехать хочешь? На заднем пыли больше, а в коляске ногу сгибать. Выбирай! Максим выбрал «сзади». – Что, сильно болит? – участливо спросил старик. – Ничего, за час доедем. Если без происшествий, – на всякий случай добавил он. Доехали они даже быстрее, но что это была за поездка! В общем, когда Максим сполз со своего сиденья, то нога вроде уже и не болела – просто болело всё тело. Старик же, казалось, пребывал в полном порядке и даже протягивал руку: «Слушай, тебе помочь?» Быстро нашлась и поликлиника. К хирургу, странное дело, никого не было. Правда, со времени землетрясения прошло уже как раз полгода.
 Художник Артур Манукян
Художник Артур Манукян
Хирургом оказалась совсем почти девчушка по фамилии Зубкова. «Ей бы в стоматологию!» – мысленно сострил Макс, но тут же его внимание переключилось на фигурку докторши, которую она с замечательной ловкостью – ох, уж эти девки! – и маскировала, и одновременно подчеркивала своим белоснежным халатиком. Фигурка была классная. По-видимому, догадываясь о произведенном впечатлении, доктор Зубкова с подчёркнутой строгостью велела сестре вымыть пациенту больную ногу. Макс промычал было, что мыл утром, но докторша, саркастически взглянув на него, бросила: «А лучше обе!» – и вышла куда-то. Осмотр был предельно кратким: «Здесь больно?» – «Не очень» – «А здесь?» – «Терпимо…» и по его результатам было постановлено, что вскрывать абсцесс преждевременно, и потому лечение ограничилось повязкой с изрядным количеством довольно вонючей начинки. – Если завтра не станет лучше, приедете снова. «Держи карман!» – подумал Макс и, вежливо поблагодарив, вышел. И тут же почувствовал, что охотно продолжил бы общение с доктором Зубковой, но только не во врачебном кабинете. А впрочем, можно и во врачебном. Он даже позволил бы ей продолжить заниматься его ногой – желательно, на условиях взаимности… «Эк размечтался, дурак!» – осадил он себя и, возвращаясь к земному, с удивлением обнаружил, что с ногой, вроде, стало полегче. Просто чудеса какие-то!.. – Слушай, тебе сейчас работать нехорошо, да? Давай поедем немного длиннее, зато я тебе место одно покажу. Ты в Армении в первый раз? Максим кивнул. – Когда ещё приедешь! А что запомнишь сейчас? Одни развалины? А Армения – очень красивая страна, вот какой её помнить надо. Поедем? Всеми мышцами и костями, каждой клеточкой своей Максим помнил ещё мучения проделанной дороги, но, взглянув на Араика, он с удивлением увидел на лице старика что-то вроде просьбы и, безмолвно вздохнув, зашагал к мотоциклу. – Ты не пожалеешь, – пообещал старик и совершенно неожиданно добавил: «Спасибо». Минут через двадцать показалось какое-то село. Араик что-то крикнул через плечо – наверное, его название. Здесь тоже было немало разрушений, но строителей заметно не было – для них, видимо, не нашлось стройотряда. Вскоре Араик заглушил мотор. Они оказались на окраине села. Если не считать трёх-четырёх домов, это был пустырь, покрытый разнокалиберным гравием, из-под которого местами проглядывал тёмно-серый скальный монолит. Кое-где пробивалась и незатейливая растительность, даже деревца небольшие встречались, но зелень казалась посторонней для этого сурового пейзажа. Они обошли какой-то довольно большой сарай (как все здесь, каменный), и перед ними открылась панорама, ради которой, видимо, Араик и затеял эту поездку. Метрах в двухстах перед ними земля уходила вниз – вероятно, там был обрыв, – а дальше расстилалась широкая каменистая равнина. А у самого обрыва стоял монастырь. – Вот и приехали, – подтвердил Араик. Судя по всему, монастырь был пуст. Не было никого и вокруг. И одинокий, безмолвный, монастырь выглядел как-то особенно… Непонятно, почему, у Максима возникла потребность подобрать единственно верное слово – но слово не находилось. Торжественный, величественный, гордый – всё не то! Наверное, здесь нужен поэт – может быть, Лермонтов, «Мцыри»?! Но ведь и у того – просто «был монастырь». Неужто и Лермонтов не смог?.. Забавно! «Мы с Лермонтовым не сумели»…
 Художник Артур Манукян
Художник Артур Манукян
– Этот монастырь я и хотел тебе показать. Называется он Аричаванк. Он очень старый. Я простой крестьянин, и я не скажу, когда он построен. Может, триста лет назад, а может, и тысячу. Скажу только, что как Армения древняя страна, так и вера у моего народа древняя. С четвёртого века. Это сколько же, полторы тысячи лет уже? – Даже тысяча шестьсот. – Вот видишь!.. Старик замолчал, то ли давая своему спутнику прочувствовать грандиозность этих сроков, то ли сам в очередной раз поражённый их величием. – Ну что, подойдём ближе? – А нога ничего? – Знаете, после всего, что выпало ей сегодня… Араик, видимо, заподозрив скрытый упрёк, искоса взглянул на парня, но эта проверка, похоже, развеяла его сомнения. – И ведь как строили! Сколько лет – стоит! Землетрясение это страшное – устоял! Говорят, раньше больше был, не все сохранилось. Но сохранилось же! В глазах старика блеснула гордость, будто он сам все это строил. – Построен он из туфа. В Армении его много. Мягких, тёплых тонов камень – и в работе мягкий, податливый. Потому из него любят строить. Вот ты сейчас увидишь… Они подошли к самой стене одной из церквей. Старик указал на довольно больших размеров каменный прямоугольник, что стоял, прислонённый к стене. Вся поверхность камня была покрыта прихотливым узором, центр которого занимал продолговатый крест. – Это хачкар. Их у нас много, а больше, говорят, нигде нет. Сам я дальше Еревана не был, но уважаемые люди говорят. И знаешь, – лицо старика озарила немного лукавая улыбка. – Знаешь, я тебя сейчас чуть-чуть по-армянски научу. «Хач» по-нашему – это крест, «кар» – камень. А вместе – хачкар. – Сложное слово, как паровоз или пароход, – улыбнулся в ответ и Максим. – Правильно! Хороший ученик, молодец! – Так ведь учиться – пока моё основное занятие! Теперь улыбались оба. Определённо, им нравилось разговаривать друг с другом. – А сколько резьбы на стенах?! Не хачкар, конечно, но ведь, скажи, красиво? Максим кивнул было, но тут же понял, что этого мало, и решительно подтвердил: «Да, да, очень красиво!» – И знаешь, я иногда вот что думаю. Вот красота. Откуда она? Почему мы с тобой, разные люди, чувствуем, что вот это красиво, а это нет? Почему мы хотим, чтобы было красиво? Это же не хлеб и не масло, не вино даже! А вот нужно оно человеку, и мы стараемся сделать красиво, чтобы осталось на века, чтобы правнуки наши увидели эту красоту и порадовались – и мы знаем, уверены, что они порадуются! Понимаешь, если есть бог – всё понятно: он подарил нам красоту, он научил людей ей радоваться, он сделал так, что жизнь их стала от этого лучше. Но если бога нет – тогда откуда всё это? Что вам, скажи, в институтах ваших про это объясняют? Максим улыбнулся: по лицу старика было ясно, что ответ ему известен заранее. – А ты спроси, спроси! Учителя ваши – умные люди, а умный человек, он знаешь, как? Он или всех дураками считает, или такими же умными, как он сам. И тем, и тем объяснять не надо. А спросишь, узнаешь – может и мне когда, приедешь, расскажешь… Они довольно долго бродили, очарованные безмолвной одухотворённостью старинных храмов, и уже, вроде, поворачивали обратно, как вдруг Араик чуть не хлопнул себя по затылку: – Ай, совсем забыл! Здесь ещё чудо есть! Он протянул руку: «Смотри!» Максим не понимал. – У тебя глаза есть?.. Видишь там маленький домик? – Вижу. И что в нём такого? Разве это, простите, не туалет? – Прости тебя господь! Какой туалет?! Это часовня – и не простая. Это отсюда всё просто так выглядит, как будто рядом: раз, два – и уже там. А теперь давай отойдём немного… Они сделали буквально шагов двадцать, и их глазам открылось нечто и впрямь удивительное. Оказалось, что крохотная часовня держалась на огромной каменной глыбе, как бы прислонённой к краю обрыва. Но и этого было мало! Глыба, служившая основанием часовни, свободно, без всяких креплений лежала поверх другой, несколько большей, и, стоило Максиму охватить взглядом всю эту удивительную конструкцию, как у него вырвалось: – Боже, что за дичь! Туда ж без специальной подготовки не попадешь! И потом – землетрясение! Как оно устояло? Дома на ровном месте складывались, как карточные, а здесь!.. Араик усмехнулся: – Спрашивать легко, отвечать трудно. Что тебе сказать? Не знаю. Не знаю, зачем, и как устояло, не знаю. Вы учёные, вы объясняйте. Бог, может, хранил? Знаю только, что чудо притягивает новое чудо. Говорят, когда сильный ветер, она качается. Почему нет? Так и зовут… Он запнулся. – Слушай, как по-русски сказать? «Качели качаются» – а какие они, качели эти? – Качающиеся, что ли? – Вот-вот! Кача… ющи… Ай, трудный у вас язык! – Ну да, армянский много легче! Один «Мкртч» чего стоит! Они вновь рассмеялись. «Ну что, поехали, что ли?..» Обратная дорога была нескорой. В городке, до которого тоже пришлось сделать приличный крюк, базар уже выдохся (вообще-то, об этом можно было догадаться и раньше), и потому пришлось объезжать один за другим окраинные дворы, где произрастала нужная Араику зелень, ещё не успевшая попасть на рынок. Старик неспешно выбирал, торговался. Где-то они разжидились бутылкой мацуна, в другом доме получили по блинчику лаваша с какой-то дьявольски наперчённой начинкой, и сохранённый благоразумием Араика мацун оказался истинным спасением. В конце концов потные, грязные и измотанные, с коляской, полной баклажанов и всевозможной зелени, они наконец добрались до родных палаток и затормозили прямо у выросшего в их отсутствие дощатого стола. Вокруг него хлопотали какие-то женщины. Они же занялись и коляской, так что наконец можно было умыться и хоть сколько-то отдохнуть. Вскоре вернулись и ребята, и пошло: – К чему там тебя приговорили? – Видите ж, он на обеих – значит, без ампутации пока! – «Спартак», Макс, слышь, снова выиграл – не иначе, ради тебя! – Да еле вытянул, едва не… – Всё лучше, чем… – Если ты про «Арарат», то шёпотом: четыре банки в воротах! – Может, им Витьку нашего ссудить: мы ж теперь тоже как бы армяне! – Нет, если б с материалом всё время так было, мы бы отсюда на собственных «Жигулях»!.. – Ой, жрать хочу!..
 Художник Артур Манукян
Художник Артур Манукян
По счастью, к столу позвали тут же. Убранство его поражало. С одной стороны, трудно было понять, как в пору бедственной послеспитакской разрухи хозяева умудрились выставить такое фантастическое угощение, с другой – посуда, в которой помещались эти бесчисленные яства, и «приборы» для участников. Посуда-то как раз полностью соответствовала моменту, и в её разнокалиберности – кружки, миски эмалированные и алюминиевые, различных мастей стаканы вперемешку с неведомо как уцелевшими старинными бокалами, даже – полный бред! – двуцветный графин прошлого, а, может, и позапрошлого века. По-видимому, его выставили для красоты, поскольку в течение всего вечера никто к нему, кажется, и не притронулся. Расселись быстро, безо всякого порядка, только одному, по-видимому, особенно уважаемому, старику хозяева почтительно предложили место во главе стола. Он же, как только утих начальный шум, произнёс первый тост: – Друзья! Я обращаюсь ко всем вам: и к тем, с кем мы всю жизнь трудимся на этой благословенной земле, и к вам, наши молодые друзья, приехавшие сюда из Москвы, чтобы в трудный для Армении час помочь нам спасти и восстановить то, что уцелело после страшного бедствия. У русского народа есть пословица (Максим ещё раз обратил внимание, как хорошо, практически без акцента, старик говорил по-русски): «Друзья познаются в беде». То же самое говорит и армянский народ, – он произнёс какую-то фразу по-армянски, и земляки его согласно закивали. – Так, я уверен, думают все, кто знает, что такое дружба. Вы не словом, а делом доказали, что вы наши настоящие друзья. Я хочу выпить за вас, мои молодые друзья, за вашу прекрасную молодость, за вашу будущую жизнь, за ваши успехи и счастье! Призыв его встретил единодушную поддержку, все тотчас поднялись и опрокинули – благо, в стаканы и кружки налито было не доверху. И тут же набросились на еду. Разнообразие закусок поражало. Доминировало овощное, особенно баклажаны в самых различных вариантах. Были консервы – как достали?! восемьдесят девятый на дворе!.. – сыр, лаваш, бог знает, что ещё. Максим старался попробовать всё. «Будет ещё горячее…» – заботливо предупредил его Араик, с которым они опять оказались вместе. С ответным, так сказать, словом выступил Игорь. Он никогда не был особенным оратором, но получилось довольно складно, к тому же никто и не думал к нему придираться. Поначалу тосты чередовались – хозяева, гости, – но, как всегда и всюду в застолье, порядок их вскоре растворился в быстро нараставшем желании полюбить весь мир, всех на свете и, особенно, тех, кто здесь, за столом. В голове у Максима уже немного шумело – весь день почти не ел, – но он точно запомнил, что ему очень понравилась толма, и Араик, кажется, заметив это, обеспечил его ещё одной порцией. Потом Лёха заплетающимся, как водится, языком провозгласил своё непременное «За-присутствующих-здесь-дам!» и, только они сели, подошел Игорь: – Давай чуть продышимся. А то вдобавок к поликлинике ещё и вытрезвитель – для одного дня многовато. Сам он был, как стеклышко. Было довольно прохладно. Звёзды сияли, хоть читать садись. – Ну, что там медицина?.. Максим рассказал – и про визит, и что стало явно легче. При упоминании о докторе Зубковой – видимо, интонация была очень красноречивой – Игорь усмехнулся: «Что, зелен виноград?..» Максим в ответ – кстати о винограде – забормотал что-то про толму, вышло глупо, и оба расхохотались. Дул свежий ветерок. Звёзды сияли как безумные. Ему было удивительно хорошо. И – то ли несмотря на алкоголь, то ли благодаря ему – сами собой явились слова: он испытывал чувство необычайной наполненности жизни. Тогда, у монастыря не смог, а здесь и сейчас – сразу. Именно так: чувство удивительной наполненности жизни. Игорь, казалось, испытывал то же.
Гандзасар
 Виктория Габриэлян. США, г. Вашингтон
Виктория Габриэлян. США, г. Вашингтон
Родилась в 1964 году в посёлке Ялта Донецкой области. Окончила Биологический факультет Ереванского государственного университета в 1986 году, а затем аспирантуру в 1989 году. Работала на кафедре биохимии в ЕГУ, затем в средней школе в Донецке. Автор книг «Американская Беседка», «Тридцать три счастливых платья» и «Я поступила в университет». Рассказы печатались в различных периодических изданиях и сборниках.
Ранним утром небо в Гандзасаре похоже на бабушкино старое дырявое сито: сквозь густой туман, сползающий с горы, пробиваются весёлые солнечные лучи. На краях обрывов клочья тумана принимают причудливые формы, за каждым поворотом – то белый конь, то великан, растопыривший руки, то гигантские грибы. А иногда туман киселём расплывается по дороге, фары машин не справляются, и надо быть очень осторожным, чтобы не свалиться на крутых петлях серпантина в пропасть. Сурен – водитель с многолетним стажем – знал и красоту этих мест, и коварство. Ехали мы медленно. – Видите сетку, натянутую между ущельями? Это чтобы вражеские вертолёты не могли летать над нашей землёй. Мы возвращались из Степанакерта в Ереван. Выехали затемно. Программа путешествия в Нагорный Карабах у нас была обширная, мы торопились успеть посмотреть ещё пару прекрасных мест: монастыри Гандзасар и Татев. В тесном «Ниссане» еле поместились пять человек. Джефф, с младых лет привыкший к кондиционеру в машине, отсутствию постоянно курящих людей вокруг и не знакомый прежде с армянской пылью, жестоко страдал. Обидеть таких – вай! – хороших людей он очень боялся, поэтому наклонялся ко мне и шипел в ухо на английском: – А почему не закрыть все окна в машине и не включить кондиционер? – А как Сурен-джан будет курить и здороваться с каждым встречным на дороге? – отвечала я. – А нельзя курить на остановках? – продолжал нудить Джефф. – Если Сурен будет останавливаться каждый раз, когда ему захочется покурить, то мы и через неделю в Ереван не вернёмся. Он же одну сигарету от другой прикуривает, – шипела я в ответ. Мне было очень жаль Джеффа. Его «Джип Чероки», размером в маленький танк, остался дома, в деревне Херндон, штат Вирджиния, и он страшно по нему скучал. Экскурсию в Карабах нам организовала подруга мамы тётя Лаура (бывшая замминистра здравоохранения, бывшая главврач поликлиники, где много лет работала мама). Она тоже была с нами в машине: восседала на пассажирском сиденье рядом с водителем, обмахиваясь веером, руководила движением. По всему пути, и в Степанакерт, и обратно ею были посланы депеши: «Вика-джан, дочка Светы-джан, с американским мужем желают посмотреть местные достопримечательности. Надо достойно встретить и накормить». Друзья тёти Лауры, видимо, читали только последнее слово. Поэтому, где бы мы ни останавливались, везде был накрыт стол. Да какой! Мы с удовольствием отдавали дань вкусной армянской еде и гостеприимству, поэтому наше короткое путешествие грозило не закончиться никогда. На заднем сиденье, между мной и Джеффом, примостилась Зара – моя одноклассница и подруга с раннего детства. Зара тоже страдала. Вся дорожная пыль летела именно на неё, забивала нос и рот. Зара всё время тёрла глаза и чихала. Когда совсем рассвело, мы наконец-то смогли рассмотреть красоту окружающих нас гор. Тётя Лаура повернулась к нам и сообщила: – Эти места называют Армянской Швейцарией. Ай бала-джан, ты что, спишь? Переведи мужу! Ещё через полчаса, проехав село Ванк, Сурен остановил машину, и тётя Лаура скомандовала: – Выходите! – Куда мы приехали? – спросилДжефф. – Ооо! Это очень красивое место и важная церковь. Обязательно надо посмотреть. Джефф обреченно вздохнул. Вот уже третий день мы возили Джеффа по Армении и Нагорному Карабаху и на каждой остановке, будь то Арташат, Севан, Гехард, Эчмиадзин или Гандзасар, произносили одни и те же слова: – Ооо! Это очень важная в истории армянского народа церковь, её обязательно надо посмотреть! – Бедный Джефф, – пожалела американца Зара, – это для нас все эти церкви важны, они часть нашего быта и характера. Они нам кажутся величественными и красивыми. А для него? Мрачные строения из серого базальта с голыми стенами и скромным алтарём. Узкие окна без стёкол, замшелые, истёртые хачкары и свечи в песке. Это же не католические соборы и православные храмы с иконами, фресками, росписью, цветами и бархатом. – Всё так! – согласилась я. – Но только в старых-старых армянских церквах я чувствую себя ближе к Богу. Интимнее как-то, откровеннее. Ничто не отвлекает, не мешает обращаться к Нему, – я подняла глаза к небу. – И небо армянское особенное, и воздух, и вода. Перед нами на совершенно плоской вершине, как будто паря над окружающими горами, высился безусловный шедевр армянского зодчества – Гандзасар. – Ах! – не удержалась я. – Какая красота! К нам уже бежали местные экскурсоводы. – Подходите, дорогие гости! Сейчас всё расскажем. Недорого! – А по-английски? – ради интереса спросила я. – И по-английски, конечно. Вон Вазген Акопович – кандидат филологических наук, он всего Шекспира в подлиннике наизусть читает. Мамой клянусь! К нам подошёл худой, скромно одетый, с горбатым носом и гордой осанкой немолодой человек и представился: – Шекспировед профессор Хачикян! Мы с Зарой прыснули. Джефф удивлённо на нас посмотрел. – Ничего-ничего! Не обращай внимания. Ты просто фильм «Мимино» не смотрел. Профессор Хачикян заговорил на прекрасном английском. Не только я, Джефф был приятно удивлён: наконец-то он слышал правильную английскую речь, по которой очень соскучился, а не мой корявый перевод. – «Гандзасар» в переводе с армянского означает «Сокровище гор», – рассказывал профессор, направляясь к монастырю. – Древнее предание гласит, что в усыпальнице храма захоронена отрубленная царём Иродом голова Иоанна Крестителя (по-армянски – Ованеса Мкртича), каким-то образом попавшая в конце концов к князю Хаченского княжества Асану Джалалу. В труде Мовсеса Каланкатваци «История страны Агванк, или Восточного края Армении» об этом говорится: «И поместил он её там, и над ней построил удивительную и восхитительную церковь католике во Славу Бога Христа и Крестителя Его Святого Иоанна. А в день освящения церкви назвал её именем Святого Иоанна…» У Дфеффа глаза полезли на лоб. Он откровенно наслаждался элегантным британским акцентом профессора. Забыв про усталость, выхлопные газы старого «Ниссана» и непрерывное курение Сурена-джан, мы семенили за нашим гидом. – А давно он тут стоит? – спросил Джефф. – Восемь веков! – профессор махнул рукой в сторону церкви с остроконечным куполом и простым крестом на вершине. – А что написано на стенах? – Джефф подошёл поближе. – Это по-армянски? Как вы буквы отличаете одну от другой? Они же абсолютно похожи! – Ты ещё грузинский алфавит не видел, дарлинг. Профессор улыбнулся мне: – А автор один – Месроп Маштоц. На стенах записана история Гандзасара, а на барельефах изображены сцены из Библии: Адам и Ева в раю, распятие Христа. А ещё говорится про меликов – армянских князей. Именно в Гандзасаре испокон веков собирались они для объединения против врагов и принятия решений. Профессор направился к краю площадки. – Подойдите сюда, если высоты не боитесь, – поманил он нас. Я подошла поближе. – Мамочка! Это невероятно! Со смотровой площадки открывался великолепный вид на горы Карабахского хребта. Можно было разглядеть быструю реку Хачен в долине, небольшие стада овец казались кусочками ваты на зелёном бархате полян. – Становитесь вот здесь. Это самая удачная точка для фотографий, будет видно всё великолепие и монастыря, и гор, – сказал нам профессор. – Давайте фотоаппарат. Я уже на лучших видах собаку съел. Сурен осторожно вёз нас по крутой дороге вниз к деревне Ванк. Слева тянулся длинный забор, сделанный из плотно подогнанных друг к другу белых прямоугольных номеров с машин. Чёрные цифры и русские буквы – наследие ещё советских времён. – Какой забор интересный! Никогда такого не видел! – удивился Джефф. – Переведи ему, – сказал Сурен. – Это военные трофеи. Номера сняты с машин азербайджанцев. – Ооо! А что случилось с владельцами? – спросил Джефф. Сурен посмотрел на Джеффа в зеркало дальнего вида. – Война была, Джефф-джан. – Зачем пугаешь нашего гостя? – тётя Лаура стукнула водителя веером по голове. – Лучше остановись в деревне. Там кафе есть симпатичное, новое, на американские деньги, кстати, построенное. Кофе выпьем, а то меня совсем укачало. И перестань курить хоть на минуту! Мы расселись за столиками на террасе кафе. Принесли круто заваренный обжигающий кофе с пенкой в маленьких белых чашках. – А позавтракать здесь где-нибудь можно? – спросил Джефф и оглянулся по сторонам. В кафе никого не было, кроме троих мужчин, явно местных, за соседним столиком, перед ними тоже стояли кофейные чашки, лежали пачки сигарет. Я перевела вопрос Джеффа тёте Лауре. – Боюсь, что нет. Здесь я никого не знаю. От соседнего столика вдруг отделился один из мужчин и подошёл к нам. – Барэв дзэс! – поздоровался со всеми за руку и представился: – Овик Закарян. Местный врач. Доктор. Ай эм доктор. Джефф кивнул головой: понял. – Откуда вы узнали, что он американец? – спросила тётя Лаура. – Кто ж их не узнает. Куда направляетесь? – В Ереван. Я, кстати, тоже доктор. Через секунду местный врач и мамина подруга нашли миллион общих знакомых. – Хорошо, что вы местный, – обрадовалась я. – Тогда, возможно, вы подскажете, где тут можно позавтракать? Овик удивлённо посмотрел на тётю Лауру. Покачал головой: ай-ай-ай! Такие хорошие люди, американца привезли, а на рынок не заехали. Ничего нам не говоря, достал из кармана телефон, набрал номер. – Ай кник! Глупая ты женщина! Американский гость у нас, говорю тебе. Как лаваш не спекли? Аствац, зачем я на тебе женился? Лаваш не спекли! Горе им! Но ничего, Лаура-джан, пока доедем, спекут, – сказал он нам. И, повернувшись к Джеффу, добавил: – Май сан драйв ю ту май хаус. Через пять минут старший сын Овика приехал за нами на машине. Пока катили к ним домой, тесть Овика, худой и чёрный от загара, с белой, как снег, бородой разводил костёр, средний сын нанизывал замаринованное мясо на шампуры. («Уважающий себя армянин всегда имеет готовое замаринованное мясо на шашлык! Слышишь, всегда! – хвалился Овик Джеффу. – А вдруг непредвиденные гости, как ты?») Жена Овика, худенькая, тихая, совсем ещё молодая женщина с глазами оленёнка чистила форель. Тёща пекла лаваш в тандыре, сидя на половичке, растеленном прямо перед ямой, где полыхал огонь. Надо иметь быструю реакцию и сноровку, чтобы прилепить к раскаленным стенкам тандыра раскатанное в лепёшку тесто специальной подушкой и не обжечься при этом. Дочка Овика нарезала овощи на салат в эмалированный тазик: помидоры, огурцы, сладкий перц, лук, зелень. А младшего сына, десятилетнего мальчика, послали в магазин за минеральной водой и водкой. Сначала мы остановились у дома соседей справа. – Сидите, сидите. Это не мой дом. Посигналь! – скомандовал Овик сыну. Машина сыграла тему из «Крестного отца». Из калитки высунулась соседка. – Скажи мужу, гости из Америки у нас, пусть захватит вино, и побольше. Затем остановились у соседей слева. «Крестный отец» вызвал хозяина посмотреть, что это Овику не сидится дома. – Сыр из погреба доставай. Тот, что ты на прошлой неделе сделал. Гость, видишь, из Америки. А тот сыр, что ты вчера сделал, оставь себе. Нам отрава не нужна. Наконец-то подъехали к железным воротам дома Овика. – Заходите, дорогие гости! – к нам вышла вся семья. Здоровались, знакомились, обнимались. Прямо за домом текла неширокая и неглубокая горная речка. Вода в ней была такой прозрачной, что каждый камешек был виден, каждая рыбёшка. Мы с Зарой скинули обувь, подняли юбки и с наслаждением вступили в ледяную воду. Ууух! Хорошо в августе охладиться в горной речке! – Осторожно, там водовороты, – крикнул нам старший сын. На берегу реки прямо в землю был врыт длинный железный стол. Вокруг стола – деревянные скамейки, тоже врытые в землю. Весь стол был уставлен едой. На мангале рядом дымился шашлык, в котле на дровах варилась форель. Запахи поднимались прямо в небо, будоража ангелов и архангелов. – Неужели мы всё это съедим? – ужаснулся Джефф. – Даже не сомневайся, дарлинг, – прошептала я в ответ. – Мы тут, похоже, застряли часов на пять. Терпеть голод больше не было никакой мочи, все быстро расселись вокруг стола. Соседи справа, слева и напротив тоже сели за стол. Как самый старший, встал тесть Овика – сказать первый тост. – Жил-был царь. Любил он, переодевшись дервишем, наведываться в гости к подданным, чтобы своими глазами увидеть, как живёт его народ. Однажды зашёл он в лавку к бедному сапожнику Азамату, а там – пир горой. Музыканты, веселье. Когда все разошлись, спросил дервиш Азамата, откуда у него деньги. «Я весь день трудился, на ползаработка купил еду, а другую половину отдал музыкантам» – «А если завтра царь решит, что не нужны ему сапожники, и запретит шить и чинить обувь, где ты возьмёшь деньги, чтобы веселиться?» – «Если такое случится, я возьму кувшин и пойду продавать холодную воду или наймусь к мельнику. Если хочешь веселиться, то всегда найдёшь, как это сделать».
 Художник Аркадий Севумян
Художник Аркадий Севумян
Царь вернулся к себе и издал указ: запретить сапожное ремесло. Слуги царя ворвались в лачугу Азамата и забрали молоток, шило и другие инструменты. Азамат пошёл продавать воду, но слуги царя разбили его кувшин, тогда он нанялся к мельнику. Вечером переодетый дервишем царь наведался к бывшему сапожнику. Тот по-прежнему веселился с музыкантами, разделив с ними нехитрый заработок. Когда все разошлись, дервиш спросил Азамата: «А если завтра тебе дадут службу при дворе, и слуги царя придут за тобой и заберут тебя во дворец, ты опять будешь веселиться?» – «Да продлит великий Бог дни нашего царя, – сказал Азамат, – я опять буду пировать». На следующий день слуги царя притащили Азамата во дворец. Одели в новые одежды, повесили саблю ему на бок и поставили охранять дверь в покои царя. Весь день простоял бедняк у двери, царь с него глаз не спускал. Еле дождавшись вечера, царь опять принял облик дервиша и побежал к лачугу к Азамату. А тот опять пирует с музыкантами. «Откуда деньги?» – поразился царь. «По дороге домой я продал саблю, а в ножны положил деревяшку. Зачем мне сабля, если я просто стою у двери и ничего не делаю? – «А если завтра царь прикажет тебе отрубить голову преступнику, что ты будешь делать?» – «Горе мне! – закричал Азамат. – Все твои слова, как у пророка, сбываются. Пусть отсохнет твой язык, я не смогу отнять жизнь ни у одного человека, даже если тот оступился!» На следующий день царь позвал Азамата и приказал ему отрубить голову человеку, который стоял перед царём на коленях. Азамат задрожал всем телом, заплакал… Царь встал со своего трона: «Руби! Или твоя голова слетит!» Азамат подошёл к преступнику и поднял руки к небу: «Боже, ты ведаешь, кто прав, а кто виноват! Если этот человек виноват, дай мне силу одним ударом отрубить ему голову, а если он прав – пусть моя сабля станет деревянной!» Сказал и выхватил саблю… Деревяшка! Придворные так и замерли на месте. Тут царь громко засмеялся и рассказал обо всём придворным. Долго смеялись придворные и осыпали похвалами Азамата, любящего веселье. Засмеялся даже тот несчастный, что стоял на коленях и, вытянув шею, ожидал удара сабли. Царь даровал преступнику жизнь, а Азамату подарил новые инструменты, чтобы тот мог вернуться к своему ремеслу, жил весело и других бы учил весело жить на свете. – Amazing! – прошептал мне на ухо Джефф, прослушав армянскую легенду в моём переводе. – Так выпьем же за то, – тесть Овика наконец-то дошёл до тоста, мужчины встали со стаканами с вином и приготовились, – чтобы всё оружие на земле превратилось в деревянное и им играли только дети. Это воюющему нужна война, а пирующему нужен пир! – Ануш, тесть-джан! – крикнул Овик и выпил до дна. Все остальные мужчины тоже выпили до дна, сели, закусили пахучим шашлыком, завернутым в лаваш с пряной зеленью. Джефф тоже выпил до дна, тоже закусил, но не сел, а попросил меня: – Переведи, пожалуйста, honey! Я всегда знала, что Джефф большой пацифист. Он никогда не держал в руках оружия, он по своей природе – созидатель, не разрушитель. Он не агрессор и не защитник, скорее, наблюдатель. Я понимала, что Джеффу нелегко далось это путешествие, где всё напоминало о недавней войне, о неоконченной войне, потому что до сих пор с обеих сторон – армянской и азербайджанской – продолжают гибнуть люди. – Я поражён силой духа вашего народа, – начал Джефф. – Мне трудно представить, что каждый из вас пережил. Ваша сила в том, что вы, невзирая на все трагедии, продолжаете веселиться и находите повод для веселья, вот хотя бы нашу случайную встречу. Спасибо вам, вы открыли мне глаза, что народ, который воюет за свою землю, на самом деле мирный народ и желает только процветания своей стране и счастья своим детям. Такой речи от американца не ожидал никто, даже я. На секунду за столом установилась мёртвая тишина, было слышно журчание реки и разговоры соек. Овик первым пришёл в себя: – Апрес, Джефф-джан! Сенк ю. Ю ар де бест. Цават танем, – и через стол перегнулся, чтобы поцеловать Джеффа. Остальные мужчины тоже протянули свои стаканы, чокались и обнимались с Джеффом. – Ануш, Джефф-джан. Мерси! Джефф смахивал слёзы, всё-таки он очень сентиментальный. Мы много спорили с ним: была ли необходимость сбрасывать атомные бомбы на Японию в сорок пятом. Я пыталась убедить Джеффа, что не было такой необходимости, что война подходила к концу, что это была банальная месть за Перл Харбор и что ядерная бомбардировка – это преступление против человечества. А Джефф неизменно на все мои доводы отвечал: «Если я не буду доверять правительству страны, в которой живу, и верить в правильность их решений, то, пойми, разрушится весь мир моих ценностей, морали и понятий. А зачем мне это нужно?» Я не находила больше аргументов. В моей стране ценности менялись слишком быстро, а патриотические чувства были выкорчеваны из души в начале девяностых. И мне было очень приятно, что у карабахцев с понятиями о Родине и долге перед ней всё было в порядке. – У вас большая семья, – обратилась я к жене Овика. – Четверо детей и все с вами, как здорово… – Было пятеро, – сказал Овик. Жена прижала платок к глазам. – Простите меня, я не знала, – мне стало неловко. Чтобы разрядить обстановку, Зара спросила: – Этот Вазген Акопович Хачикян, он что, действительно настоящий профессор? – Самый настоящий! Не сомневайтесь! – все закивали головами. Сосед справа сказал: – Он у нас с начала войны. А был профессором Бакинского университета, заведующим кафедрой английского языка и литературы. Из ахпаров[11]. Когда-то в Лондоне жил. Студентом ещё. До последнего дня думал, что его и семью не тронут во время бакинских погромов. У него двое детей было, учились в университете, и жена – красавица, певица. Никто не выжил. Только он. Кто-то прятал его, а потом к нам переправили. Он так захотел, не поехал к родственникам в Ереван отсиживаться. Воевать захотел. Иногда сердце ожесточается и требует мести, Джефф-джан. – А когда пол-Гандзасара разрушили прямыми ракетными обстрелами… – добавил сосед слева. – Что вы говорите! Это правда? – воскликнули мы с Зарой. – К сожалению, да, – продолжил сосед. – Профессор оставил войну и несколько лет занимался восстановлением монастыря и семинарии. Всему научился: и строить, и реставрировать. И жить там остался. Вместе с монахами и слушателями семинарии. Он им, как отец родной. – За Вазгена! За Вазгена! Да продлятся его дни! – мужчины подняли стаканы с вином. – А кем ты работаешь? – спросил меня Овик. – Я – учительница. – Вах, мама-джан, ты учительница? Тичер? – спросил он подтверждения у Джеффа. – Yes, she is a teacher. – Вери гуд! Я позвоню директору нашей школы. – Что вы! Не надо! – Надо! Знаешь, как она обрадуется? Она тебе школу покажет. Такой школы даже в Ереване нет! Да что там в Ереване, даже в Америке нет! – Овик-джан, что ты говоришь, – тёща покачала головой. – Я знаю, что говорю. Мне сам министр образования Армении говорил. Он схватил телефон и стал куда-то звонить и опять кричать. – What’s going on? – недоумевал Джефф. – He is calling the principal of the local school. – Why?**[12] Я пожала плечами. Через пятнадцать минут, не успели мы насладиться нежной форелью и выпить ещё пару тостов, как к воротам подъехала машина. Директор школы – она же учительница физики и шахмат – женщина средних лет в изящных брючках и белой блузке, воротник которой был заколот красивой брошью, подошла к столу, держа в руках ещё теплую гату. – Только из печки достала. Угощайтесь, – и протянула хозяйке дома. – Женя Ованесовна, – представилась она. – А это мой сын Хачатур – учитель биологии и физкультуры. – Приятно познакомиться, коллега! – я пожала руку симпатичному юноше. – Вы тоже физкультуру преподаёте? – Спасибо за комплимент моей фигуре, – я рассмеялась, – но нет, биологию. После крепкого чёрного кофе с гатой – «перегородки», как назвал напиток Овик («Почему “перегородка”»? – удивилась я. «Потому что кофе осаждает еду в желудке, прессует её, после «перегородки» можно опять начинать пир, как с чистого листа», – подмигнул мне Овик), мы поехали смотреть новую школу. Старую разбомбили до основания. Директор своими ключами открывала и показывала спортзал, кабинет биологии, где пособия сделаны были руками учеников, учительскую, библиотеку, шахматный клуб. Все блестело чистотой. В просторном холле, напротив входа, висел стенд с фотографиями учеников, погибших в войне за Карабах. Под стендом – живые цветы, невзирая на летние каникулы. Овик подошёл к стенду и показал на фотографию красивой девушки, единственной среди юношей. – Это моя дочь. Студенткой была мединститута в Ереване. А потом вдруг всё бросила… Влюбилась… Мы долго прощались с Овиком, его семьёй, соседями, Женей Ованесовной и Хачатуром. Со слезами и заверениями в вечной дружбе… Джефф шёпотом по-английски спрашивал: «Мы должны им заплатить?» Я ужасалась: «Ты что?! Ты их обидишь». Остаток пути в Ереван уже не показался таким долгим и некомфортным. Почти всю дорогу мы промолчали. А когда вернулись в США, Джефф угощал армянским коньяком свою американскую семью, рассказывал о карабахцах. Родственники пили и не верили: – И ты никогда их раньше не встречал? – Нет! Мало того, и Виктория не встречала!
Арарат
 Наринэ Эйрамджянц. Россия, г. Москва
Наринэ Эйрамджянц. Россия, г. Москва
Родилась в Ереване в 1975 году в семье известного политического деятеля, дипломата Левона Эйрамджянца. Журналист, основатель Армянского Лектория в Москве, исследователь истории армянского искусства.
Ереванское детство проходит под шапкой Арарата. Он висит над городом белым облаком и его видно отовсюду. Зимой и весной, в туман, туристы часто путают «старшую» вершину, Масис[13], с облаком, удивляясь, как оно не меняет форму несколько дней. Летом обе вершины выделяются чётким контуром. Арарат меняет свой лик каждый час – в зависимости от того, как падают на него солнечные лучи. Приход весны ереванцы отмечают по его снегам, точнее, по мере того, как у белоснежной горы темнеет и темнеет подножье, затем появится контрастная линия, отделяющая ледники обеих вершин от согретых солнцем низовий, и, наконец, совсем растает шапка Малого Арарата, и останется только вечный лёд Масиса. Арарат предсказывает погоду, возвещает смену сезонов, благословляет дождём и дарит солнце. Ереванцы и Арарат неотделимы друг от друга. Молчаливая Гора взирает на жизнь каждого их нас с самого рождения и до самой смерти. Даже разлука с родиной не прерывает эту связь. Покинув Араратскую долину, все мы продолжаем нести священную гору в своём сердце, держим её перед внутренним взором. Даже те из нас, кто покидает Армению с радостью, даже те, кто желает порвать со своим прошлым и не вспоминать Ереван – все, все вспоминают нависшую над городом гору. Инициация начинается для любого маленького ереванца в тот день, когда он узнаёт, что вечный спутник любимого города, Арарат, не находится внутри государственных границ Республика Армения. Кто-то осознаёт это в десять лет, кто-то в пятнадцать. Это очень странное чувство. Вершина, чей образ отпечатан в сердце, родной Арарат, который наблюдает за тобой всю твою жизнь – не с тобой. До него не дотронуться, не прикоснуться. Всегда так близко и вечно недосягаем. Впрочем, в наши дни всё гораздо проще. А при СССР стоял железный занавес, и надежды дойти до Арарата не было. Вот он, рядом… всего лишь за пограничной полосой, обвитой колючей проволокой. Выехать за пределы СССР нельзя. Гора будет с тобой всю жизнь. И ты ни разу не дотронешься до неё.
 Художник Рубен Арутчьян
Художник Рубен Арутчьян
Ничто так не символизирует тоску армян, как Арарат. Он – ориентир, он центр Армянского мира. Вот он, перед глазами, как Армянский мир. Но он также недосягаем, также недоступен. Он где-то есть, но он не во власти армян. Армяне смотрят на Арарат, как на далёкого предка, обратившегося в исполина. И точно как живые с почившими – говорят с ним, а его ответа не слышат. И точно, как предок в старинном сказании, он всегда рядом, он всё видит. И мы о нём ничего не знаем, как живущие не знают о мыслях ушедших. Зачем туркам Арарат? Они его даже не видят, не любуются им. Как пленный царь в чужой стране. Держать его в заточении почётно по факту, но не обременительно ли? Ереванцы любят иронизировать по поводу самого востребованного на городском Вернисаже сюжета. Армяне Спюрка[14] скупают и скупают большие и маленькие картины с Араратом. Как же так, спрашивают их ереванцы, вы же когда-то считали себя адептами высокого вкуса, вздыхали, критикуя полуголых девушек с полотен Вернисажа, да и те же многочисленные арараты, так что же теперь случилось? А случилась разлука. В доме каждой семьи Спюрка висит Арарат. Неважно, какого качества. Неважно, насколько прорисованы детали и есть ли на рисунке два тополя. Арарат вешают на стену не ради высокого искусства. Он – символ. Если угодно, икона. Кстати, о тополях. Это самый распространённый образ легендарный горы – пейзаж с двумя тополями, над которыми нависают Сис[15] и Масис. Первоисточником этого пейзажа является фотография, снятая в середине двадцатого века. Сочетание двух деревьев на фоне двуглавой горы как-то особенно полюбилось, и теперь уже стало привычным и узнаваемым. Ещё один «классический» образ Арарата – с крепостью монастыря Хор Вирап. Монастырь находится очень близко к горе, и она будто нависает над ним, невероятно большая. Удивительное место. Необычная для Армении ровная долина, на которой высятся несколько холмов. На одном из них находится монастырь Хор Вирап, в котором, согласно легенде, томился тринадцать лет Григорий Просветитель, возвеличивший в стране христианство до уровня государственной религии. До него Христа исповедовали отдельные маленькие общины, ведущие своё начало ещё со времён визита апостолов Фаддея и Варфоломея в Армению. Арарат взирал на эти события безмолвно. Он ещё и не такое видел на своём долгом веку. Первым художником, писавшим Арарат, был Геворг Башинджагян. Осенью и летом, на рассвете и на закате и в жаркий полдень… Башинджагян создал большое количество пейзажей с Араратом. С той поры все армянские художники пишут Арарат хоть раз в жизни. Конечно, Башинджагян не первый живописец, изображавший Арарат. Есть он и у Айвазовского, и у многих других живописцев. Но Башинджагян болел Араратом, он писал его постоянно. И та классическая картинка, которая висит в каждом доме Спюрка – это именно его Арарат фронтальный, висящий в воздухе над благодатной долиной.
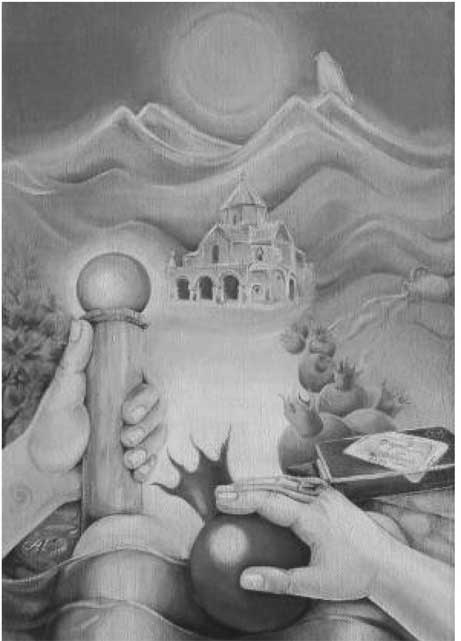 Художник Ольга Шарупская
Художник Ольга Шарупская
Но удивительнее всех аллегория Арарата, прописанная Григором Ханджяном на фреске «Аварайрская битва». Его изображают два воина, один повыше, другой пониже ростом. Стоят эти двое непоколебимо, неподвижно, в отличие от воинов вокруг, стремительно рвущихся в битву. На голове одного из них – головной убор армянина, жившего в Османской империи. Это особенно бросается в глаза, поскольку «Аварайрская битва» относится к событиям пятого века, когда империи не было и в помине. Планировка Еревана всегда подразумевала вид на Арарат. Город будто открывается любимой горе. Её видно отовсюду. Удивительный эффект можно наблюдать в районах Еревана, расположенных на холмах: в Зейтуне и Массивах. Отсюда Арарат кажется ещё больше, чем из центра. Чем выше точка, с которой вы смотрите на вершину, тем мощнее Арарат. В Эчмиадзине есть одно удивительное место – храм святой Гаяне. Если встать прямо перед вратами, ведущими во дворик храма, то с одной стороны будет Арарат, а с другой – четырёхглавый Арагац. Кажется, нигде больше нет такого удивительного эффекта. Путешественники, кстати, иногда путали эти две вершины и принимали Арагац за Арарат. Например, Александр Сергеевич Пушкин в своём «Путешествии в Арзрум» описывает как он увидел «двуглавую вершину». В Армении не так много ракурсов, с которых видны одновременно все четыре головы Арагаца. Вот и Александр Сергеевич обознался. С вершины Арагаца на Арарат смотреть страшно. Он выше Арагаца на целый километр, и, стоя на головокружительной высоте Арагаца, мы любуемся на ещё более высокий Арарат. А для иностранцев Арарат – это гора Ноя. Те, кто ни разу не слышал названия «Армения», «Турция», но исправно ходил в воскресную школу и знаком со Священным Писанием, знают, где Арарат. Где это, Армения? Это там, где Арарат. О, Арарат, конечно, гора Ноя. Любопытно, что народная память причудливо обогатила библейский миф. В некоторых областях рассказывали в старину, что у старика Ноя было четверо детей, а не три сына. Четвёртой была Астхик, древняя богиня вод. Чего только не смикширует народ, который открыт ко всему новому, но не хочет при этом забывать старое. Вот и Астхик стала дочерью Ноя и снова вышла к народу из воды, как она делала это до принятия христианства. Очень трогательно и страшно пишет об Арарате Дживан Аристакесян в своих мемуарах. Чудом спасшийся от резни, выживший, благодаря соседям-курдам, выросший в детском доме для сирот Геноцида, наконец, возвращается в Армению. Он полон ожиданий, он наконец обрёл дом. Автобус везёт его вместе с другими репатриантами из северного Ленинакана в Араратскую долину. С особым чувством смотрит Дживан на Арарат и произносит священной горе слова приветствия. Но его резко обрывает инструктор-коммунист. Он объясняет Аристакесяну, что гора всего лишь виднеется, но находится в пределах государственных границ дружеского Советскому Союзу государства – Турции, и очень советует юноше забыть об Арарате. Это было первое, очень сильное разочарование Аристакесяна. Оно просто потрясло полного надежд молодого человека. Затем было убийство руководителя Армянской ССР Агаси Ханджяна, затем много чего ещё. И, тем не менее, за свою долгую жизнь, он так и не покинул Армению – слишком дорого ему досталось возвращение под сень Арарата. Какого было таким, как Дживан, тем, кто видел как лилась реками кровь их родных и близких, тем, кто каждый день смотрел в сторону Арарата и понимал, что никогда, никогда ему не вернуться в деревню, где родился, к могилам родителей? Многие годы Арарат был и остаётся символом надежды на то, что когда-нибудь восторжествует справедливость, будет признан Геноцид и можно будет подойти к родной горе и прикоснуться к её камням. Те, кто видел резню своими глазами, не услышали раскаяния Турции. Не слышим его и мы, их правнуки. Правда, на Арарате многие уже побывали в альпинистских походах за последние двадцать лет. А при СССР об этом и мечтать было нельзя. О, сколько раз в наши дни армянский флаг развевался над священными снегами! Подлинным певцом Арарата был поэт Ованнес Шираз. Он посвятил любимой вершине множество стихотворений. В одном из них Шираз описывает сон, в котором он встречается с умершим отцом. Отец смотрит на Арагац, хвалит сына, затем смотрит на Арарат, начинает укорять его и, в тоске, растворяется. Арарат Шираза то старик с древней трубкой, то божество, на которое поэт непрестанно смотрит, то прекрасное неземное видение. Арарат Шираза – такой близкий и такой недосягаемый. Шираз жил Араратом, болел им, нёс его как лучину света, как собственное слово всю жизнь. Имя Арарата носила легендарная футбольная команда, ставшая чемпионом СССР в 1973 году. «Арарат» – название коньяка. Арарат – мужское имя. И всё это так естественно, так нормально. Никакие границы не могут вычеркнуть его из наших сердец. Арарат – центр Армянского мира, где бы ни находился армянин, куда бы его ни занесла его «армянская судьба», ставшая аллегорией испытаний и скитаний. Не будет видно Арарата из окна – повесят на стену картинку. Не будет картинки – споют песню. Не будет песни – будут смотреть о нём сны, носить в своём воображении. Как точно поёт об этом Арто Тунчбояджян! Он поёт о человеке, который видит Арарат на всём, куда падает его взгляд. Любые парные предметы, один из которых больше другого – Арарат. Именно эти чувства испытывает каждый из нас вдали от горы рано или поздно. Живёшь, живёшь в Спюрке несколько нет, пока не ловишь себя на том, что глаза жадно всматриваются в утренний туман, будто надеясь, что из него вот-вот выплывет любимая вершина.
Миниатюры об Армении
 Юлия Гогчян. Украина, г. Днепр
Юлия Гогчян. Украина, г. Днепр
Родилась в городе Днепр, Украина. В 2013 году с красным дипломом закончила магистратуру факультета журналистики ДНУ им. Олеся Гончара. Произведения Юлии печатались в областной газете «Днепр вечерний», где она на протяжении 2004–2008 гг. работала внештатным корреспондентом. В 2013 году с повестью «Совершив наше "МЫ"» Юлия стала финалистом Всеукраинской литературной премии имени О. Кравченко (Девиль). В том же году создала областную газету «Армянский дом», работала её редактором и журналистом. В 2015 году Юлия стала победителем Всеукраинского конкурса «Литературная надежда Днепра». В 2017 году получила III место в Международном литературном конкурсе «Армянские мотивы». Публиковалась в коллективных сборниках, среди которых международный проект 24-х авторов со всего мира «Тени бытия. Современная армянская проза» и др. В 2018 произведения Юлии были опубликованы в абхазской газете «Литературный Амшен». В том же году рассказ автора «Тигран» вошел в лонг-лист Международного литературного конкурса «ЭтноПеро».
В двух измерениях
Через мою повседневную реальность, казалось бы, такую прочно сшитую, прочно сработанную, словно кирпичная кладка, ничем не отодвигаемую, просвечивает реальность другая. Просвечивает, словно яркая, ослепительная картинка, положенная под тонкую кальку. Просвечивает так ярко, что я не знаю, какая из двух реальнее. Эта другая, неочевидная, дышит, искрится, словно река на солнце. Глядит отовсюду и поёт откуда-то из глубины души. Я живу в двух измерениях. И в том другом, что кажется ближе, хотя физически оно дальше – луч солнца в скалистых вечных стенах невероятного Гегарда. Сладкая синь Севана в моей ладони. Там Арарат, у которого замираешь поражённый не в силах вымолвить ни слова. Можешь только ощущать слёзы на щеках и понимать, что вернулся домой. И пока я перехожу широкий проспект украинского города, внутри меня белеют снега Арарата, плывёт сквозь время и пространство золотисто-охровое чудо в красных горах – Нораванк. Я выхожу из автобуса и одновременно со знакомой улицей вижу другую – Ереванскую, светло-зелёную, тёплую от солнца. Мои ноги идут по равнине, но им хочется нести меня вверх, глаза привычно ищут горы. Трасса, машины, высотные дома – это только плёнка, под которой смеющийся Гарни, каждый его камешек. Отныне и навсегда я живу в двух измерениях.Армения
Ты – тепло. Ты осталась в груди волной тепла. От тебя ни уехать, ни уйти. Жёлтая листва на деревьях в моём городе напоминает мне твои жёлтые горы, твои солнцем залитые улицы. Нет, они не залиты солнцем, они сами – солнце. Художник Давид Гогчян
Художник Давид Гогчян
Ревную тебя к другим писателям, потому что хочу полнее всех передавать твою сущность. Ибо чувствую эту душу, эти говорящие камни и деревья, живые воздух и воду, объёмную реальность, настоящие краски. Это я – твои рукописи в Матенадаране, на которые гляжу, не сдерживая слёз. Это я – твои горы под солнцем, камни, которые красивее белых песков заморских островов. Я, как дар, принимаю пыль твоей жаркой, словно пустыня, Араратской долины. И она кажется мне живительной, как дождь. По этим камням когда-то ступали апостолы Варфоломей и Фаддей, принесшие Истину. Здесь открываются страницы Библии, ибо она Аставацашунч[16]. Всё здесь, всё в тебе, всё началось отсюда и тайна существования мира в величественном позволении Арарата видеть его. Здесь чувствуешь Бога. Отсюда не можешь уехать. Армения, ты радость и печаль одновременно. Ты – волнение души, которая знает, что все мы, все люди на свете, чувствуем себя дома, когда смотрим на Арарат. Ты – чудо, к которому можно прикоснуться. Я хочу без конца изучать твои каменные узоры, подниматься на твои вершины. И видеть дождь в фиолетово-изумрудных сумерках Дилижана, и чувствовать, поднимаясь по ступенькам Гарни, что на мне не туристические кеды, а античные сандалии, и быть твоими красками, чувствовать, что здесь мне хорошо. Хочу, чтобы на мои руки легла красная пыль гор Нораванка, хочу срывать с куста сладкую ежевику озера Парз. Пусть меня укрывает сумрак твоих тайн, пусть твоя жара опаляет меня. У тебя на ладони я хочу быть путником в простой одежде, путником, который сможет пройти всю тебя: от края до края.
Севан
Моё озеро оказалось сладким на вкус. Пахло солью, но было сладким. Разве это не чудо? Счастье – сидеть на берегу Гокчи и всматриваться в ярко-голубую даль, в прозрачные горы, которые казались мне хрустальными. Из души поднималось что-то, название чему я так и не нашла. На берегу Севана я чувствовала себя дикой, закалённой и смелой. Хотелось, чтобы солнце выдубило мою кожу, сделало её чёрной. Странник я здесь или человек, вросший в эту землю корнями? Чайка над озером или лодка в нём? Лошадь, которая фыркает и с наслаждением нюхает воду? Почему я чувствую себя вечной, когда смотрю на Севан? И это чувство, что он мой – ведь не только в фамилии тут дело[17]. Чайки носились над скалами и хохотали. Севанаванк смотрел на меня так по-доброму, что щемило сердце. Эти древние святые стены были тёплыми. В них тесно и просторно одновременно, и так же было на душе – тесно, просторно, радостно, бездонно. И в этой бездонности, в этом просторе Тот, кого я чувствовала, выйдя на середину монастыря и подставив голову под луч солнца, падающий сквозь купол. Я впитывала тепло этого луча каждой клеточкой, всем своим существом. Он падал мне на голову, на лицо, я стояла под ним радостно, покорно и благодарно. Удивительный хачкар с изображением распятия темнел у стены Севанаванка. Он напоминал наскальные рисунки древних людей, но изображал распятие, и смотрел таинственно, молчал громко. Именно так в Армении молчат святые хачкары – громко. Стоит прикоснуться к ним – наполняешься силой. Такой силой, что в душе зажигается свет. У входа в Севанаванк – ряд коричневых хачкаров. Долго стою и смотрю на них не в силах уйти. Такая же коричневая ящерица пугается меня и сбегает вниз по спине хачкара. Он не успел нагреться на солнце, но хачкар тёплый. Это какое-то другое тепло. Я прикасаюсь к нему и чувствую, что плачу. Сколько веков стоят здесь хачкары? Кто сделал их? Как звали того человека? И мог ли он представить, что спустя столетия у хачкара будет стоять человек и плакать от счастья, от того, что в душе Бог и вечность? От того, что коричневые хачкары и Севанаванк, и сам голубой Севан будут для него родными?Гегард
Каждый раз, думая о нём, я искала слова, которыми его опишу и не находила. Увидев его, я потеряла дар речи. Как рассказать о том, что чувствуешь Бога вокруг себя и в своей душе – везде: в этих скалистых древних стенах и во всей Вселенной? Можешь просто тихо, одними губами, почти без голоса, произнести одним вздохом: «Бог» и замолчать. Что больше этого? Больше этого нет ничего. Гегард. Не просто древний – вечный монастырь среди гор, частично вырубленный в скале. Здесь хранилось копьё, которым пронзили тело Христа. Монастырь сжигали турки. Потом его восстанавливали. Среди этих стен из камня, стен, украшенных вырезанными львами и крестами, среди стен, где луч света – поток красок, чувствуешь себя так спокойно, что понимаешь: ты пришёл к Богу, и Бог принял тебя, маленького, испуганного, не знающего ничего о себе и Вселенной, и теперь ничего плохого случиться не может. Ибо есть Бог. Он допустил тебя увидеть чудо Гегарда. Чудо, в огромных залах которого – Он. И больше нет вопросов. И неясно, как в мире, где есть Гегард, могут существовать атеисты.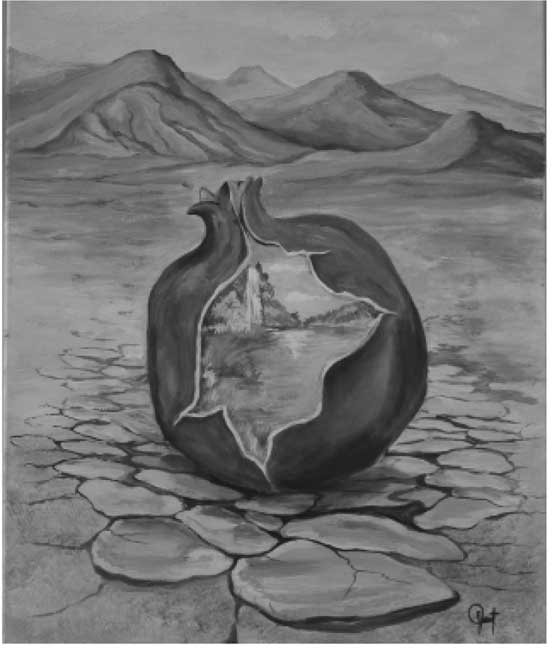 Художник Давид Гогчян
Художник Давид Гогчян
Всепоглощающий простор. Колонны, уходящие в вечность. Удивительные узоры на стенах. Зал, в полу которого – могилы монахов, аскетов, проведших в Гегарде свою жизнь. Каждый звук здесь становится в тысячу раз громче. Неужели Гегард могли построить простые смертные? Неужели всё это появилось, благодаря человеческим рукам? Думается, что Он сошёл с небес и подарил его людям. Прямо из стены монастыря струится вода. Это подземная река. Я зачерпываю полные ладони. Приникаю к воде губами. Ничего вкуснее не пила за всю свою жизнь. Мне никогда не забыть вкус этой воды. Пью и пью, не могу унять жажду. Вода, как молитва, как Благословение. Из фонтана во дворе монастыря её пьют белые голуби. Всё это кажется таким родным, будто там, в глубине меня, словно на стенах Гегарда, те же вечные кресты. А ведь так оно и есть. Только сердце человеческое не скала. Может ли быть скалой душа? На пути в Гегард мы были вынуждены остановиться. Дорогу перекрыли огромные каменные глыбы. На узенькую полоску обрушились горы. Большие экскаваторы расчищали дорогу. На несколько минут они остановились. Рабочие пропустили нас, и мы перебрались прямо по этим глыбам, а на другой стороне взяли такси. Нельзя было не увидеть Гегард.
Вспоминая тебя
Когда солнце освещает моё лицо и делает меня другой – немножко похожей на картину, оживляет мои волосы и глаза, зажигает их, я вспоминаю тебя, Армения. Оно касается меня будто случайно, но я знаю, что это не так. Когда на закате в небе появляются озёра и горы, я снова вспоминаю тебя, вижу Севан. Когда грусть сжимает меня в своих руках, я чувствую на своём плече твою тёплую шершавую, будто хачкар, ладонь. Вспоминаю, что есть ты, и, приникая к тебе, я дышу по-другому и понимаю, как суетен пластмассовый мир канцелярий и офисов, заводов и магазинов. Он плоский и неглубокий. А ты… ты вся храм и глубина. Глубина, где не задыхаешься, а дышишь настоящим воздухом. Ты не браслет на моей руке, а гранатовое зернышко, проросшее в душе, крест, начертанный внутри меня. Ты – полнота, которую обретаешь, глядя на мир с твоих вершин. И понимаешь: всё здесь, всё было, есть и будет здесь. И ласковый карий взгляд гор с коричневыми боками, и головокружение ущелий, и яркое солнце, в котором жизнь. Говорят, со временем воспоминания стираются. Мои – другого рода, их движение – в обратном направлении. Они появляются, вспыхивают золотыми блестками, словно пылинки под солнцем, светятся мягким светом красного туфа. Их становится больше и больше и, может, однажды я смогу понять, почему душа говорит с тобой на одном языке.Молоканка Катя
 Елена Асланян. Армения, г. Ереван
Елена Асланян. Армения, г. Ереван
Родилась в 1961 году. Высшее техническое образование, инженер-системотехник. Работала по специальности более 25 лет, с 2000 года серьёзно занимается литературой, переводами на русский язык. Имеет многочисленные публикации в Армении и зарубежом. Лауреат республиканских и международных литературных конкурсов. Есть у Елены в творческой копилке и победа на кинофестивале ECG&Romford Film Festival 2019, где в номинации «Книжный трейлер» её видеоролик к роману «Три двустишия» был признан победителем. Автор пяти книг и четырёх сборников, два из которых международные.
…1995 год. Армен смотрел из окна междугородной маршрутки, мчащейся в Гюмри по скоростной трассе между покрытыми изумрудной зеленью горами и почувствовал, что наслаждается жизнью вот в этот самый миг. В Гюмри служил его новый друг и коллега Алексей, с которым завязалась крепкая мужская дружба в военном госпитале в Москве, куда они оба попали со «своих» войн. Алексей попросил помочь ему сосватать девушку. Он был разведён. Его жена очень неожиданно для него заявила, что больше не любит его и отказалась вернуться на родину из ГДР при выводе советских войск. Она осталась там с сыном, наскоро оформив брак с местным немцем то ли и впрямь по любви, то ли фиктивно. Для простодушного советского офицера, всегда поступавшего честно со всеми, это оказалось неразгаданной загадкой, так же как и произошедший развал страны, которой вдруг оказались не нужны тысячи квалифицированных и верных её защитников. Да и сама себе страна, казалось, была не нужна. Для таких, как Алексей, столкновение с новой реальной жизнью, с какими-то невесть откуда появившимися «новыми русскими», с другими моральными ценностями и понятиями, иногда оказывалось роковым: люди ломались, не находя себя в новых реалиях.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Он всеми правдами и неправдами добивался своего назначения на базу российских войск в Армении, убеждённый, что найдёт спасение для своей израненной души рядом с другом на древней христианской армянской земле, откуда практически с каждой точки открывается неповторимый вид на библейский Арарат, заснеженныевершины которого ежесекундно напоминают людям о том, что есть нечто непреходящее, возвышающееся над суетой и бренностью. Есть высшая красота и гармония, безупречность первозданной чистоты, которая не может не оседать хотя бы мельчайшей частицей в душах живущих в долине Арарата людей. Когда Алексей по прибытии у ворот части столкнулся с выходящими женщиной и юной девушкой с белыми косынками на головах, словно сошедших с иллюстраций к русским сказкам, его пронзило мистическое чувство, что он вот так, по наитию, ведомый высшей силой, нашёл то, что искал. Вот эта юная славянская девушка и есть его судьба. Имя сейчас узнает, главное, что он узнал Её, свою судьбу. – Кто эти женщины? Они из семьи военнослужащего? – спросил он у дежурного. – Нет, это местные молоканки. Они приходят сюда по делам: домашнее молоко продают, яйца там, зелень… – А как зовут, знаешь? Дежурный демонстративно повременил с ответом, потом проронил: – Кто именно интересует: постарше или помладше? Алексей смутился: – Просто интересно. Вроде русские люди, но выглядят, будто прямо древние русичи из былин. – А – а, – дежурный восхищённо вздохнул, – а Катюша, – будто Снегурочка из снегов Арарата вылеплена… – Катя – это…? – …дочка, а мамашу – Любой зовут. «Катя», – повторил про себя Алексей. – …Катя, значит, – повторял к месту и не к месту Армен, скрывая замешательство, слушая сбивчивый рассказ Алексея. Он не сомневался, что Алексею откажут, но как сказать об этом другу. – А Кате ты нравишься? Ты говорил с ней о своих чувствах? – Армен решил начать издалека. – Да ты что, мужик, как я мог с ней поговорить, она из дома без сопровождения никогда не выходит, всё время с матерью. Вообще, одна никуда не идёт, даже в магазин. Нравы у них строгие: ни поговорить, ни погулять, ни выяснить, нравишься или не нравишься. Единственный выход, это вот так прийти и посвататься, вот и выяснится всё. – Нравы строгие – это ты хорошо сказал, – Армен ухватился за палочку-выручалочку, – люди они верующие, с чужаками стараются не общаться, а чтобы молоканка не за своего замуж пошла, так за свою жизнь один такой случай знаю… – Ну вот, теперь и второй будет… Армен помолчал немного, потом, взвешивая каждое слово, осторожно заметил: – Всё-таки, верующие люди, ради своей веры отказавшиеся от родины, от православия, очень сильно отличаются от тебя. Или ты хочешь стать членом их общины? Алексей закусил губу. Потом резко замотал головой: – Нет! Вне России и её православных храмов для меня жизни нет. Хоть я и неверующий, ни праздников не справляю, ни постов, не крещён своими родителями-коммунистами, я считаю себя христианским воином. – Христианским воином? – перевторил изумлённый Армен. – Да. Как и ты, между прочим. Не знаю, наверное, выспренно это покажется, но я хочу быть таким же русским православным воином, какими были казаки, например… А что касается веры Катюши… Молокане, например, отправляют своих детей в государственные школы, работают на стройках. Почти каждый второй бульдозерист – молоканин. Квартиры спокойно получали от государства, живут с соседями-армянами, нормально общаются. Зубы у стоматологов лечат, лекарства пьют, когда доктора прописывают, то есть, живут в современном мире, хоть и сознательно ограничивают контакты с ним. А Катюша, когда будет замужем за меня, примет как собственный мир своего мужа, мой мир, значит. – Алёша, брат, ну пойми ты, даже если бы вы из одного мира были, и то ничего у вас не вышло бы – разница в возрасте пятнадцать лет. Сможешь быть верным мужем вот для такой девчушки, которой расти ещё надо? – Смогу, – упрямо наклонил голову Алексей, – с прошлым покончено. Даже от сына никаких вестей нет. Ни на одно моё письмо не ответил. Я не просто так в Армению приехал, меня как будто звали сюда, чтобы новую жизнь начать. И это не просто случайность, что сразу Катю повстречал, как подошёл к воротам части. Перст судьбы… Влюбился, с первого взгляда… И сердце говорит мне – моя эта судьба. – Перст судьбы… А если ты ошибаешься, – Армен с жалостью посмотрел на друга, – вдруг Катя любит кого-нибудь… – Никого она не любит. И пока даже никто не сватался, я тактично всё выяснил, правда о своих намерениях молчал, чтобы не испортить дела. Всё предопределено для меня и Катюши. – Выгонят они нас, – сопротивлялся из последних сил Армен, – да просто на порог не пустят. – Нет, нет, я – их постоянный покупатель, с отцом Катюши Ефимом Трифоновичем подружился, э – э…, можно сказать, подружился, – поправил себя Алексей. – На порог точно пустят. – А можно я за дверью тебя подожду. А ты лучше с кем-нибудь из своего начальства пойдёшь… – Да ты что! – Ужаснулся Алексей. – Наш командир обязательно сцепится, мол, русские вы, давайте бороды свои сбривайте и назад, на землю русскую, пока её мигранты всякие не захватили… Алексей похлопал Армена по плечу: – А ты произведёшь на них впечатление. И красавчик, и вести себя можешь… – Ладно, – заулыбался Армен, – видно, совсем положение у тебя безвыходное, раз на такую примитивную лесть пошёл.
 Художник Галина Адамян
Художник Галина Адамян
Алексей вздохнул с облегчением, и деловито поднялся, приглаживая волосы. Семья Кати жила на окраине города в небольшом скромном собственном доме, что и спасло их от землетрясения, произошедшего в декабре 1988 года в Ленинакане, как тогда назывался Гюмри. По счастью, школа, где в это время училась Катя, устояла, дети не пострадали физически, получив психологическую травму на всю жизнь. Образование для десятилетней Кати закончилось, она стала помогать матери по хозяйству, но в основном занималась младшими шестым, седьмым братиками и недавно родившейся восьмой сестрёнкой. Катя была пятым ребёнком в семье. Самая старшая сестра вышла замуж за молоканина в США, брат переехал жить в молоканскую общину в Австралию, другой брат жил и работал в Ереване, в доме осталась уже сосватанная Надежда и младшие дети. Непрошенных гостей приняли сдержанно, усадили на лавочке, стоявшей вдоль стены, за стол не пригласили. Мельком увидели они Катю, спрятавшуюся с детьми на кухне. Армен неловко протянул коробку конфет. В последний момент, спохватившись, они отказались от покупки коньяка, молокане ведь спиртное не признают. Но так как никто коробку не принял, положил рядом с собой на лавку. Обстановка дома была скудная: стол, пара стульев, лавки для гостей. Не было ни телевизора, ни радио, ни общепринятого серванта с хрустальными вазочками и другого ширпотреба. Но чистота была идеальная. Вышитые белоснежные накрахмаленные занавеси составляли единый ансамбль с кружевными косынками на головах хозяйки дома и дочерей и создавали особую атмосферу другого мира со своими ценностями, правилами поведения и безыскусной неприукрашенной красотой абсолютной естественности. – С чем пришли, молодые люди? – Сдержанно спросил глава семьи. – Свататься пришли, – просто ответил Армен, – вот, мой друг Алексей полюбил с первого взгляда дочь вашу Екатерину. Просит её руки, слово даёт, что будет верным, любящим мужем. Будет заботиться о ней… Армен замолчал, не зная, что говорить и делать дальше. Алексей же выглядел глухонемым от рождения. Возникла тяжёлая длинная пауза. Ефим Трифонович молчал, опустив глаза долу. Немного обнадёживало тёплое приветливое выражение глаз Любы. – А какой ты веры будешь, Алексей? – раздалось вдруг. Алексей вздрогнул, будто очнувшись ото сна, и потом тихо, но уверенно ответил: – Православной. – А что ты про молокан знаешь? Девушку у нас сватаешь, а знаешь, на каких правилах она воспитана, что считает правильным, а что нет? Алексей переглянулся с Арменом, и сказал, что у него было на душе: – Я знаю, что вы истинно русские люди по крови, что сумели сохранить и пронести через века свои гены, чистоту души. Я не знаю всех тонкостей вашей веры, но с отношусь с уважением к вам. И восхищаюсь вашим трудолюбием и способности противостоять соблазнам цивилизации. Способности оставаться самими собой в своей первозданной чистоте. – Русские люди, говоришь, – усмехнулся Ефим Трифонович. – Без сомнения. И никогда не поверю, что вам безразлична боль земли русской, что никогда не испытывали зов земли предков, которую они покинули не так уж давно, в 18 веке. Теперь уже Ефим Трифонович переглянулся с женой. – Я знаю, как вы относитесь к нам. Но, возможно, пришёл момент, когда русской земле необходима любовь детей, когда – то покинувших её. Чтобы вы, …своим примером, скромной внешностью, презрением к деньгам, помогли нам, современным русским выстоять перед натиском… погани этой западной, да и восточной тоже. Отовсюду зло ползёт… душит… Может, в вас – то и спасение будет, пусть не через веру, а через корни наши, глубоко запрятанные, не поддавшиеся порче и гнили. Из кухонного дверного проёма показалась головка Кати, покрытая кружевной косыночкой. Алексей поймал её робкий, но лучистый, искрящийся первым женским чувством взгляд. Усилием воли он отвёл глаза от любимого личика и выжидающе посмотрел на Ефима Трифоновича. Тот сидел с непроницаемым лицом, однако поглаживание бороды выдавало внутреннюю борьбу. Вошла Надежда с подносом, на котором стояли стаканы с таном, представляющим собой немного подсоленную смесь мацуна с холодной водой. Армен заметил еле заметное движение головы, которым Люба подала знак старшей дочери немного ранее. Конечно, эта мудрая сильная женщина никогда не покажет гостям своё влияние в семье, но продемонстрированный знак доброй воли не прошёл мимо её супруга. Он внимательно смотрел на неё, когда Люба приветливо обратилась к гостям: – Угощайтесь, гости дорогие. А то, небось, от жары в горле пересохло. Армен, в самом деле изнывающий от жажды, буквально опрокинул стакан в себя и ободрительно посмотрел на Алексея. – Неволить и принуждать детей у нас не принято, – произнёс, наконец, глава семейства. – И ежели Катя захочет за православного русского замуж пойти, то удерживать не станем. Так дело в том, что совсем молоденькая она у нас, опыта жизненного у неё нет, никто ещё из молокан посвататься не успел, поэтому погодить надо. Подумать: и ей, и нам, и тебе, Алексей. Вот, Надежду проводим, а там видно будет. Люба встала, всё так же приветливо улыбаясь, но было понятно, что эта прощальная улыбка. Армен поднялся с лавки, вслед за ним встал на подкашивающиеся ноги и Алексей. – До свидания, – вежливо попрощался со всеми Армен. – А мне можно иногда к вам домой приходить? – Неуверенно спросил Алексей. – Конечно, можно, – сердечно ответила Люба, – приходи, хорошим людям всегда рады. Друзья вышли из дома, прошли в полном молчании улицу. Алексей выглядел расстроенным, но Армен, радостно улыбаясь, обнял его. – Ты чего кислый такой? Радоваться надо! Практически они согласились. В самом деле, пока старшая замуж не вышла, о младшей и речи быть не может. – А вдруг какой-нибудь молоканин посватается? Да ещё из Америки, или Австралии… – Ты что, глухой? Тебе же сказали: «неволить, принуждать у нас не принято». Пусть сватают, сколько хотят, а Катя – твоя. Вон, как смотрела на тебя из кухни… – Правда, смотрела, – умоляюще посмотрел на друга Алексей. – Правда, правда. И ты так хорошо сказал, про спасение земли русской. Алексей остановился. Потом обратил к Армену разом посеревшее лицо: – По – моему они поняли, о чём я. Алексей вытащил пачку сигарет. – А вот с этим завязывать надо, брат, – произнёс Армен, – во всяком случае, при тесте с тёщей. Про спиртное вообще молчу. Город тут небольшой, в часть они вхожи, услышат про пьянку, или, не дай Бог, про бабу какую, тут точно, на порог не пустят. – Я теперь – девственник. – Решительно сказал Алексей. – Ва-а-а-й! – А что, грешницы идут потом в монастырь, и чуть ли не святыми становятся. На святость я и не претендую, но вот девственником считать себя имею полное право. Вдруг Армена посетила мысль, с которой он поспешил поделиться: – Интересно, а кем бы стала Катя, если бы продолжила учиться: актрисой, кассиршей в магазине, референтом у какого-нибудь толстопуза, учительницей… – Ты знаешь, я много раз думал об этом. И о мудрости молокан, сознательно отрицающих все цивилизаторские блага: телевизор, жизнь ради удовольствия, образование, за которым расплачиваешься душой, продаёшь её дьяволу… И всё становится можно. Матери можно бросить ребёнка, потому что надо ей реализовать себя в этой жизни. Супругам можно бросить друга, потому что ушла любовь, а жизнь коротка, надо урвать как можно больше удовольствий. Можно трёх детей иметь от представителей трёх рас, показать этим уровень своей цивилизованности, якобы, толерантности. А на самом деле – пустота, гниль и беспозвоночность, как у пресмыкающегося. А посмотришь на молокан, и видишь стержень… – Ты в самом деле любишь Катю или ищешь спасение души? – Задумчиво спросил его Армен. – А разве это не одно и то же? – Немного подумав, ответил Алексей. Армен промолчал: у каждого свои ответы на подобные вопросы. Дай Бог, чтобы люди себе задавали их.
Встреча
 Вадим Бадалян. Россия, г. Сочи
Вадим Бадалян. Россия, г. Сочи
Родился в 1975 году в РСО-Алания, г. Владикавказ. Обладатель чёрного пояса (5Дан) по тхэквондо (ВТФ). Президент федерации тхэквондо г. Сочи. Тренер-преподаватель Высшей категории МБУДО ДЮСШ № 1 г. Сочи по тхэквондо (ВТФ). Старший тренер спортивной юниорской сборной команды Краснодарского края по тхэквондо. Заслуженный деятель физической культуры и спорта г. Сочи. Награждён медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодёжи». Автор книги «Винек. Возвращение в прошлое».
Эта история началась в 1972 году, в том самом городе Баку, когда его население было интернациональным, многочисленным и дружным, а в семью под названием интернационал входили в большей степени мои соотечественники и родственники. Ранним летним утром Арушан Бадалян и Василий Дыба, позавтракав с чашечкой душистого ароматного чёрного чая из традиционных стаканов армудов, вышли с вещами на улицу, где их уже ждала машина, чтобы отправиться на автовокзал города Баку. У каждого из них было отличное настроение, предвкушающее приятное времяпровождение в ближайшую неделю. С одной стороны, Арушан радовался скорой встрече с родителями и многочисленными родственниками, с другой – волновался, как пройдёт первое знакомство его родни с тестем Василием. Ну, а у Василия были свои волнения – связанные с первой встречей с родителями новоиспечённого армянского зятя Арушана. Дорога до автовокзала тянулась через весь город, частные дома сменялись высотными постройками, и Арушан, будучи профессиональным строителем, взглядом окидывал здания. Василий же, прикрыв глаза, дремал, так как понимал, что в ближайшую неделю он точно будет окружён всеобщим вниманием родителей зятя, и ему понадобится много сил, чтобы совладать с гостеприимством новой родни. Доехав до автовокзала, они вышли из машины и, вытащив свои чемоданы, направились к автобусу с табличкой «г. Джебраил». Расположившись в удобных креслах автобуса, Арушан и Василий переглянулись и, с одобрением кивнув друг другу, решили вздремнуть: впереди была длинная дорога, а тем для разговоров было не так уж и много, исходя прежде всего из разницы в возрасте и субординации тестя и зятя.
 Асатур с семьёй
Асатур с семьёй
Выехав из города, автобус плавно набрал скорость. В открытые окна залетал ветер и приятно бил в лицо, тем самым делая поездку ещё комфортней. Дорога проходила между живописными небольшими горными массивами, переходящими от посёлка к посёлку, и сопутствующей бурной рекой, то исчезающей, то появляющейся вдоль трассы. Через несколько часов автобус завернул на остановку, и все пассажиры вышли выпить ароматного чая и перекусить в придорожной чайхане. Через полчаса пассажиры вернулись в автобус и продолжили путь, а уже через два с половиной часа автобус, проехав указатель с надписью «Джебраил», повернул на стоянку городского автовокзала. Получив багаж, путники перешли на автостоянку такси, соседствующую рядом с автобусами. На стоянке Арушан окрикнул молодого человека, который, аккуратно засучив рукава, трепетно вытирал влажной тряпкой лобовое стекло своего нового УАЗа. Парень на УАЗике оказался таксистом-односельчанином по имени Ехо, которого заранее прислал отец Арушана – Асатур, чтобы тот встретил сына с долгожданным и уважаемым гостем. – Барев, Ехо! Хунцус?[18] – спросил Арушан. – Па, Арушан-даи парьёр! Лявым, дук хунцук? Паравык екал![19] – приветствовал Ехо, обняв старшего земляка и уважительно протянув руку Василию. Василий, немного измотанный дальней дорогой, оглядел юношу и тоже протянул руку. Оставалось проехать километров тридцать, чтобы наконец-таки добраться до родной деревни Аревшат. Выехав из города Джабраил, УАЗик оказался на просёлочной гравийной дороге, но старался ехать максимально быстро, оставляя пыльную полосу за собой. Ехо давил на газ, зная о том, что дедушка Асатур давно ждёт сына и гостя Василия. И вот, через какое-то время машина, проехав указатель «Доланлар», оказалась на участке дороги, откуда виднелись крыши деревенских домов. Арев-шат – много солнца – именно так переводится название села. И, действительно, солнце щедро дарило плодородной земле свои лучи. По левую и правую сторону располагались гладко ухоженные поля, покрытые пшеничным ковром. Выше, на зелёных лугах, гуляли большие стада овец, погоняемые несколькими пастухами, а поодаль, на одном из полей, аккуратно работал комбайн, ровно срезая созревшую пшеницу. Проехав родовой сад Ашуга Петроса, УАЗик въехал в деревню и по традиции, сбавив ход, медленно начал двигаться к дому Асатура Бадаляна, расположенному в центральной части села, напротив здания школы. Время было обеденное, и в деревне, как обычно, кипела жизнь. Кто-то набирал воду из родника, кто-то мыл шерсть, а кто-то трусил тутовник в своём саду. Машина катилась по центральной улице, её встречали и провожали приветствия и радостные возгласы сельчан. Все знали о приезде гостей. Проехав деревенский родник, УАЗ поравнялся с главным местом для старожил – памятником воинам-аревшатцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сто пять фамилий павших воинов-сельчан, написанных на армянском языке, были увековечены с четырёх сторон на высоком мраморном обелиске. Сто пять воинов, отдавших свою жизнь за победу и свободу против фашизма и тирании гитлеровской Германии. Василий, увидев мемориал за окном автомобиля, грустно вздохнул. И вот, через несколько метров Ехо остановил машину и объявил на русском языке: «Приехали!» Сколько было радости от долгожданной встречи Арушана с родителями и родственниками. Его и Василия по традиции встречала вся деревня. Родные братья Арушана, выстроившись по очереди, приветствовали крепкими объятиями сначала брата, а потом и тестя Василия. Мама Маграпиль, увидев сына, прослезилась, а отец Асатур, строго прищурив глаза, позвал всех зайти во двор. Во дворе стоял длинный двухэтажный дом, построенный в арцахском стиле с большой верандой на втором этаже и многочисленными подсобными помещениями для утвари на первом. Двор был большой и просторный с плодовыми деревьями, основным из которых была шелковица. Под огромным тутовым деревом располагался большой деревянный стол, со всех сторон окружённый скамейками и стульями, а чуть дальше стоял железный мангал, в котором догорал костёр для дальнейшего приготовления шашлыка.
 Художник Меружан Хачатрян
Художник Меружан Хачатрян
Родственники радостно смотрели друг на друга и засыпали нескончаемыми вопросами. Наконец-таки, все успокоились и разрешили гостям привести себя в порядок после долгой дороги. Женская половина начала накрывать на стол. Василий Антонович и Асатур Айрапетович сели поодаль на длинную скамейку в тени и ненавязчиво начали своё знакомство с небольших рассказов о сельской жизни и эпизодов, имевших место во время поездки. Через некоторое время старших пригласили уже за накрытый стол, который от разнообразия закусок просто ломился. Это и традиционный овечий сыр с зеленью, всевозможные соления, тушёные овощи на мангале, ароматный хлеб из тандыра, шашлык из молодого ягнёнка и, конечно же, традиционная хашлама, также приготовленная на костре. Мужчины сели за стол в определённом порядке – начиная от старшего к младшему, сохраняя традиции и отдавая дань уважения. Асатур, как обычно, во главе стола, а рядом, с левой стороны, посадили нового родственника – Василия. Тосты сменялись тостами, пили натуральный крепкий тутовый напиток за всех и за всё хорошее, вспоминали родных и близких и желали всего хорошего молодой семье Арушана и его новым русским родственникам. В течение всего времени застолья подходили родственники, соседствующие рядом со старшим братом и дядей Асатуром, женщины сидели недалеко за небольшим столом и только успевали заменять приборы и пополнять стол едой, так как одни подошедшие сменялись другими… Время пролетело незаметно, и наступил вечер. Родственники разошлись, и за столом остались самые близкие, продолжая пить ароматный чай вприкуску с кусочками сахара и разговаривая всё на те же обыденные темы. Маграпиль позвала Арушана и сказала, чтобы сын проводил своего тестя в комнату для отдыха, которая была заранее подготовлена для гостя и располагалась на втором этаже. Василий поблагодарил всех за гостеприимство и отправился отдыхать, так как день был настолько насыщенным, что ноги уже не слушались этого высокого, богатырского телосложения человека. Василий прилёг на кровать, прикрыл глаза и через несколько минут заснул крепким сном. Ночь пролетела незаметно, и ранний звонкий крик петуха заставил проснуться и открыть глаза. Василий спустился во двор и подошёл к умывальнику. Освежив лицо прохладной водой, он проследовал к столу, на котором уже стояли приборы для завтрака. Асатур пригласил сесть тестя, поинтересовавшись, как спалось ему на новом месте. Завтрак прошёл традиционно с рюмкой тутовой настойки натощак, на закуску сваренные всмятку яйца, а также чай, лаваш, масло, дошаб[20], варенье из вишни, мацони и другое. После завтрака Арушан пригласил тестя прогуляться и осмотреть деревню. Они вышли из дома в сопровождении Асатура, Таниэла и Левона, родных братьев Арушана, и направились в сторону верхнего родника при въезде в деревню. Из соседних домов то и дело выглядывали люди и приветствовали гостей, желая им хорошего отдыха и приятного времяпрепровождения.
 Василий Дыба в гостях у армян
Василий Дыба в гостях у армян
Пройдя несколько метров с правой стороны, они подошли к ограде, которая вела к памятнику павшим в Великой Отечественной войне. Мужчины вошли в калитку почтить память и выразить дань уважения погибшим сельчанам. Перед глазами Василия пролетели воспоминания военных времён. Он, как и многие другие, участвовал в боях и был ветераном Великой Отечественной войны. Да, тихий, скромный, он прошёл долгий и тяжёлый военный путь. Он, Дыба Василий Антонович, 1905 года рождения, уроженец Ростовской области деревни Ивановка, во время войны был в звании старшего лейтенанта, командиром пулемётного взвода, участником первого Украинского фронта на Воронежском направлении. В 1944 году был ранен в бою. Постояв молча у памятника, мужчины направились к выходу, чтобы продолжить экскурсию па окрестностям. Не доходя до родника, громко смеясь и разговаривая на русском языке, а также обсуждая, что можно посмотреть, они ненадолго остановились, и Таниэл предложил русскому гостю посмотреть на работу сельской мельницы, которая располагалась вплотную с родником. Василий, будучи человеком, родившимся в сельской местности, с удовольствием согласился. Они медленно подошли к большим дверям мельницы. Это было небольшое прямоугольное каменное здание, перед которым аккуратно на поддоне были сложены мешки с уже смолотой пшеницей. Мельница работала, был слышен шум двигателя жерновов, а из дверей валил поток мучной ярко-белой пыли свежеперемолотого зерна. В нескольких метрах от дверей мужчины остановились, так как на пороге мельницы с мешком на плече и весь белый от муки появился человек и сделал шаг в сторону сложенных мешков. Аккуратно скинув тяжёлую ношу и отряхнувшись, он увидел гостей. Таниэл посмотрел на Василия и, указав на человека с мешком, сказал, что это наш сельский мельник. Через долю секунды раздался одновременно удивлённый и восторженный крик Василия: – Захарян! Послышался ответ: – Василий! Все в недоумении переглянулись и не поняли, что произошло. Только Василий и мельник Арустам Захарян смотрели друг другу в глаза и не могли сдерживать эмоции. Они крепко, по-братски, обнялись. Это была встреча двух боевых товарищей. Это была встреча командира Василия Дыбы и солдата Арустама Захаряна. Это была встреча через тридцать мирных лет. Кто бы мог подумать, что, приехав к родственникам новоиспечённого зятя в далёкую горную армянскую деревню, русский офицер-ветеран встретит своего солдата! Они сели на бревно рядом со входом в мельницу и долго, не отрывая взглядов, смотрели друг на друга. Остальные сопровождающие не знали, что и сказать, так как это было очень неожиданно и радостно. Ветераны договорились через некоторое время встретиться, и уже через три часа Василий переступил порог дома Арустама. В многолюдном застолье два боевых товарища вспоминали, как проходила служба на фронте, как теряли боевых товарищей, как Василий по колено в грязи вытаскивал раненого Арустама на одном плече и тяжёлый пулемёт на другом с поля боя осенью 1944 года. Слёзы радости были на глазах. Друзья пообещали друг другу поддерживать связь и писать письма. Следующие несколько дней пребывания в деревне зятя для Василия были полны посещений множества интересных мест и домов. Это и прогулка на лошади в лесное местечко для отдыха, где в дружественной обстановке был приготовлен на мангале и в казане шашлык с хашламой. И, конечно, не обошлось без весёлых танцев в домашней обстановке под барабанный аккомпанемент Омрюма и дудукиста Епрема. Все проявляли большое гостеприимство и приглашали Василия Дыбу к себе в гости. Время пролетело быстро, и отпуск закончился… И вот, наступил день, когда таксист Ехо снова вёз Арушана и Василия на автобус, который следовал до Баку из города Джебраила. Вот так вот распорядилась судьба: Василий обрёл многочисленных родственников и волей судьбы встретил боевого друга через тридцать лет.
История одного советского детства (рассказ с сокращением)
 Наира Саркисян. Армения, г. Ереван
Наира Саркисян. Армения, г. Ереван
Родилась в городе Степанакерте. Изучала медицину, затем гражданскую журналистику. Работала диетологом в Степанакертском детском санатории. Летом 1992 года работала в военном госпитале Степанакерта. С 1991-го года избранные произведения печатались в некоторых газетах и журналах Степанакерта, Еревана, Москвы. В 1998 году издала поэтический сборник «Дух и душа». Цикл стихотворений о Геноциде публиковался на сайте «Наша Среда online» и получил множество положительных откликов. Стихотворение «Печаль по брату Варужану, погибшему на войне» прозвучало в Донбассе на одном из литературных конкурсов и получило приз зрительских симпатий. В произведениях взывает к доброте, милосердию, человеческой справедливости, любви к родине, природе, человеку.
Конечно, эту историю смело можно назвать абстрактной, потому что она может быть не только моей, но и многих других моих сверстников. Родилась я в Арцахе, одной из древних провинций исторической Армении, в городе Степанакерте. Родители мои родом из села Тернаваз, при советах Красное село, Аскеранского района. В Степанакерте мы несколько лет жили в однокомнатной квартире мамы, которую она получила во время студенчества. Когда мой дядя, её брат, вернулся из армии и женился, мама подарила ему свою квартиру. Мы переехали жить в однокомнатную квартиру бабушки Марго, маме папы. Кроме того, родители стояли на квартирной очереди как молодая семья. С квартирным вопросом в Карабахе всегда было сложно, и папа решил, что мы должны уехать. Новая история моей семьи началась с объявления в одной из советских газет, в которой было написано, что в городе Шахты Ростовской области открылись новые комбинаты по производству хлопковой ткани, где требуются триста рабочих, которым в течение года будет предоставлено постоянное жильё в районе ХБК (хлопчатобумажного комбината). Так как папа раньше работал в шелковом комбинате мастером-бригадиром, у него уже был опыт работы по этому профилю, то родители решили принять судьбоносное для нашей семьи решение – поехать по объявлению. В Шахтах мы почти год жили квартирантами в одной из собственных домов по улице Смидовича, близко от ХБК-а. Хозяевами дома были бабушка с дедушкой, у которых жила красавица внучка Наташа, на восемь лет старше меня. У них во дворе, рядом с их домом, был построен новый дом, с двумя комнатами и русской печью из огнеупорных кирпичей, которую топили углём. Внутри дома требовались косметические работы. Дедушка согласился сдать нам дом с условием, если папа завершит ремонт комнат. Папа согласился, и мы остались жить там.
 Из личного архива автора
Из личного архива автора
Родители никогда не запирали двери в доме. В наше отсутствие бабушка, добрейшей души женщина, по утрам заходила в нашу комнату, топила печку углём и ставила на неё разогреваться чайник с водой. Когда я возвращалась со школы, а родители с работы, по пути забрав из садика брата, дома было уже тепло и уютно. У бабушки с дедушкой во дворе была большая чёрная овчарка, но совсем не злая, хотя на заборе для устрашения хулиганов было написано: «Осторожно, злая собака». Несмотря на запреты мамы, я иногда подходила и гладила Черныша, мы с ним подружились. Стояла ранняя осень. В свой первый класс я пошла с опозданием почти на неделю. Моя первая учительница Раиса Степановна напоминала мне мою бабушку Женю, тоже учительницу младших классов, но армянской школы. Раиса Степановна дала мне букварь и посадила на единственное свободное место за последней партой. Так как я ходила в русский садик, то для меня не составляло труда рассказывать по иллюстрациям. Но когда уже начали писать буквы, решать примеры по математике, я почти ничего не видела с последней парты, часто поднимала руку и спрашивала разрешение посмотреть поближе. Потом меня пересадили за мою неизменную третью парту, менялись лишь ряды. А ещё я очень хорошо рисовала, несмотря на то, что вначале у меня было всего три цветных маленьких карандаша: синий, жёлтый и красный, чёрный цвет, как и серый, мне заменял простой. Как-то умудрялась, смешивая синий и жёлтый цвета, получать зелёный, смешивая красный и жёлтый, получать коричневый. Раиса Степановна в конце урока отмечала лучшие рисунки, и мои тоже были в их числе. Конечно, было приятно… Потом, с первой зарплатой, родители купили мне хорошие цветные карандаши. Со временем у меня появились фломастеры, но я не любила ими рисовать, потому что их нельзя было смешивать, получать из них другие цвета, ими я только что-то обводила, писала заголовки. Впоследствии мои рисунки попадали на школьные конкурсы, где я занимала призовые места. Папа работал на заводе мастером-бригадиром. Мама, инженер по образованию, работала в Управлении. У них была сменная работа, поэтому им не всегда удавалось провожать меня утром, я сама просыпалась по будильнику и собиралась на уроки. В то время, когда я ходила одна, часто попадала в истории, иногда из-за своего детского любопытства, иногда по стечению обстоятельств. Огромное пшеничное поле соединяло нашу улицу и район ХБК-а, где находилась моя школа. Наступила зима. Однажды по дороге в школу меня настиг такой сильный ветер, что я еле удержалась, чтобы кубарем не покатиться по направлению ветра под проезжающие мимо автомобили. Я ухватилась за маленькое тоненькое молодое деревце, которое довольно низко склонилось от сильного ветра. Так я несколько минут стояла на холодном порывистом ветру и ждала, пока он затихнет. К своему счастью, я дождалась девочку Иру, нашу соседку, она тоже шла одна. Мы, русская девочка Ира и армянская девочка Наира, пошли вместе, взявшись за руки, против ветра. Однажды, дело было утром, опять по дороге в школу. На меня, маленькую в красном пальтишке, широко размахивая крыльями, налетел огромный красный петух. Я очень испугалась и с криком побежала… Когда родители вернулись с работы, бабушка рассказала им о случившемся, после чего папа пошёл к хозяевам петуха, выкупил этого красного беса и велел им прирезать его у себя на глазах. С тех пор больше этого агрессивного петуха я не видела, но долго ещё обходила всех домашних птиц стороной. В одно время боялась даже индюков и гусей, пока мама не объяснила мне, что воинственное поведение птицы было из-за моего красного пальто, а теперь нечего бояться, нет ни того, ни другого. А ещё к нам пристроилась дворовая кошка. Это была обычная серая кошка, которая часто бегала у нас во дворе, но взгляд у неё был такой доверчивый. Мама иногда подкармливала её. Однажды, в очень холодный день, она поскреблась к нам в дверь, и мы её впустили погреться, затем вывели в коридор, чтобы она не лезла в нашу белоснежную постель грязными лапками. Днём мы её обратно впускали. Так прошла зима. Как-то я осталась с кошкой одна дома. Мы долго играли с ней и просто разговаривали, потом я достала из портфеля цветную бумагу, ножницы, клей и начала делать аппликацию по труду. Ножницы лежали на столе, и мне вдруг захотелось поиграть в парикмахера: «А давай-ка постригу тебя», – обратилась я к кошке. Отрезала ей немного усики. Кошка сразу переменилась в характере, не узнавала меня и, больно царапнув кисть моей руки, убежала. Когда мама вернулась с работы, спросила: «Что ты делала одна?» Я ей всё рассказала. Она мне объяснила, что нельзя у кошек стричь усики, это их органы чувств. Когда кошка обнюхивает какой-нибудь новый предмет, она одновременно с этим ощупывает его направленными вперед усами – так же, как мы ощупываем предметы кончиками пальцев. «Усики у животного отрастут, но больше так не делай», – сказала мама. Я чувствовала себя виноватой, мне было жалко кошку, она больше не заходила к нам домой, была как чужая, но мама по-прежнему продолжала подкармливать её, оставляя миску во дворе у лестницы.
* * *
Наступила весна, погода стала теплее. На поле снег уже начал таять, там стало грязно, и мы ходили в микрорайон в обход. Оказалось, что мой одноклассник Лесных Игорь живёт на соседней улице. Иногда мы пересекались и вместе шли в школу и домой. Когда нас перевели во вторую смену, после уроков нас встречала моя мама, мы провожали Игоря, а потом шли дальше своим путём. Игорь был весёлым мальчиком, заводилой в классе и во дворе. Он много говорил, шутил, смеялся, с ним было весело. Наконец, летом папа получил ордер на новую квартиру, и мы переехали в новый дом в новом микрорайоне на проспекте Строителей. С бабушкой, дедушкой и Наташей за время недолгого соседского проживания у нас сложились тёплые, почти родственные отношения. Родители приглашали их на все наши семейные праздники. Художник Каринэ Арутюнова
Художник Каринэ Арутюнова
Однажды, уже в старших классах, наша классная руководительница Людмила Кузьминична решила, что на двадцать третье февраля будем дарить мальчикам одинаковые подарки, а не кто кому что хочет, чтобы никому не было обидно. То же самое и девочкам на восьмое марта. Пришло восьмое марта, нам всем подарили одинаковые подарки, большие чашки и книжки с поздравительными открытками. Вдруг Игорь достаёт из портфеля куклы и хочет подарить девочкам. Людмила Кузьминична запретила, но Игорь сказал, что у него их полный портфель. – Ну, раз полный портфель, тогда можно, – согласилась учительница. На самом деле у Игоря в портфеле было всего две куклы, наверное, стащил у своих старших сестёр-близняшек. Он передал одну куклу красивой однокласснице Лене, а другую… Я спокойно сидела за своей третьей партой у окна и ничего не ожидала. Сзади сидящий мальчик толкает меня в спину и передаёт куклу. – Кому передать? – спросила я растеряно. – Это тебе. Я удивленно посмотрела на Игоря, поблагодарила, а он сидит покрасневший и улыбается… В конце учебного года семья Игоря переехала жить в Кисловодск, в тот уютный городок, где когда-то почти год жили и мы.
* * *
Я полюбила город Шахты, меня постоянно окружали только хорошие люди. Мои родители со всеми знакомыми поддерживали добрые отношения, а с близкими – дружеские. Была и первая любовь. Она началась летом, с нашего двора, мне было лет тринадцать. У нас во дворе была большая спортивная площадка, мы с девочками очень любили играть там в баскетбол. Часто во время таких игр к нам присоединялись мальчишки из соседнего здания. Естественно, команды разделялись, играли команда девочек и команда мальчиков. Во время игр я заметила, что невысокий Алёша почти не сводит с меня взгляда. Я тогда подумала: «Он маленького роста, этот симпатичный. Чего это он всё время на меня смотрит?» Лето закончилось, мы пошли в следующий класс. Оказалось, Алёша ходил в ту же школу, он на год младше меня. Раньше мы никогда с ним не пересекались, а сейчас даже в школе меня преследовал пристальный взгляд его небесно-голубых глаз. «Он маленький, – думала я, – но ведь физиологически же мальчики с возрастом обгоняют девочек в росте, вырастет и Алёша». Меня окружали много голубоглазых сверстников, но свет этого взгляда врезался мне в самую душу. Мне было грустно, когда долго не видела его. А однажды, когда я заболела и только через неделю пришла в школу, Алёша подружился с моим одноклассником, и почти каждую перемену приходил к моему классу. Незаметно пролетело время… Не знаю, какое было бы продолжение истории этой детской первой любви, но всему приходит конец. Художник Каринэ Арутюнова
Художник Каринэ Арутюнова
Мы прожили в Шахтах девять лет, которых хватило мне для глубоких незабываемых воспоминаний о детстве. Маме так и не удалось привыкнуть к тяжелому климату шахтёрского городка, из-за чего она часто болела, и отец решил, что мы должны вернуться на родину. Отец обменял нашу трехкомнатную квартиру в городе Шахты на аналогичную в Степанакерте, и мы уехали. Даже на родине свет и тепло тех небесно-голубых глаз долго преследовали меня. Они были со мною всюду: во сне, наяву, в грёзах… Я никому не рассказывала о голубом взгляде моей первой любви, который остался там, в городе моего детства, в моих снах и во мне… Я с большим трудом привыкала к моему новому окружению. Родители думали, что я болею, водили к каким-то врачам, для которых я оказывалась абсолютно здоровой. А я просто скучала по своим друзьям. Мы долго переписывались… Потом начался развал СССР. Соседняя республика Азербайджан, образованная при Советской власти, при поддержке советских войск взяла мою страну Арцах в блокадное кольцо, связь прервалась. Армянские воины ценой драгоценной жизни прорвали жесточайшую блокаду, освободили мой Арцах, остановили войну в моей стране. С развитием информационных технологий мы вновь нашли друг друга, общение возобновилось. Из интернета я узнала, что Алёша окончил Высшее военное противовоздушное училище в Вильнюсе, стал офицером российской армии. А ещё моя близкая подруга Наташа написала, что в 1988-ом году, когда у нас начались события, она хотела узнать весть обо мне. В то время их сосед служил в Степанакерте, она дала ему мой адрес, чтобы тот что-то узнал о нас, но нас не оказалось дома. После её рассказа я вспомнила, как однажды в том далёком прошлом, соседи при встрече с нами рассказали, что к нам приходил солдат, долго стучался… и, не дождавшись встречи, ушёл. Память… она ведь всю жизнь проходит с человеком. А жизнь продолжается…
Русское лето
 Кристина Петросян. Армения, г. Ереван
Кристина Петросян. Армения, г. Ереван
Родилась в 2002 году в Армении. Общественный деятель, член Европейского молодёжного парламента. Была делегатом от Армении на VI Национальной сессии (2019). Председатель в Ереване школьной сессии Европейского парламента (2020). Была постоянным автором школьной газеты «Нор серунд» («Новое поколение»). Стажёр по маркетингу и исследованиям в компании PicsArt. Создатель контента в социальных сетях (более 600 тыс. подписчиков). В проект «Единый крест» представляю очерк, который написала, когда мне было 14 лет.
Каждое лето я, мама и моя сестра Маша едем в русскую деревню. Мы всегда очень ждём этой поездки, и когда проходит Новый год, я начинаю мечтать о путешествии. Не знаю почему, но я очень привязана к русской деревне, может быть, потому что с первого года моей жизни мы каждое лето проводили в селе Большой Морец. Сейчас снова лето, и я в своей любимой деревне сижу на скамейке, ласкаю котят и пишу этот рассказ. Каждый день тут проходит как праздник, ребята бегают, играют, веселятся… И я даже осмелилась сказать маме: «Жизнь в деревне гораздо круче городской, тут столько свободы!»
* * *
Мы прилетели в Волгоград, от которого ещё 300 км ехать до деревни. Добрались до дома поздно, я вышла из машины и с нетерпением вдохнула свежий деревенский воздух, упала на прохладную зелёную травку и взглянула на небо. Вышли нас встречать бабушка, тётя, двоюродные братья и сестра. Я поздоровалась со всеми, а затем побежала в курятник посмотреть, снесли ли куры яйца. Это было моим любимым занятием на протяжении нескольких лет. Ночь. Все уснули, а я и мама сидим на скамейке под звёздным небом и смотрим на него. Помню, в раннем детстве мама мне говорила, что когда-то мы с ней жили в другой галактике и оттуда присмотрели себе для жизни эту деревню, где и родилась моя мама. Около нашего дома растут два больших тополя, и с каждым годом они становятся все выше и выше. Когда-то эти тополя посадили моя мама с братом, сестрой и дедушкой. Каждый день я, мама и сестра на велосипедах катаемся по лугам, ездим в березовую рощу, сосновый лес – любуемся красивым пейзажем, а мама нам рассказывает нам много историй из своего детства. На лугах мы часто останавливаемся для того, чтобы сделать гимнастические упражнения, потому что у нас интересное и здоровое лето. Ну, мы так решили… Около 19.30 мы с дедом и маленьким двоюродным братом усаживаемся на скамейку и ждём, когда придут с пастбища коровы. Пастух на большой лошади скачет за коровами, а около него бежит маленькая собачка, которая следит за тем, чтобы скот неразбежался. И удивительно, у неё это получается. Потом бабушка идёт доить корову, а мы с дедушкой пить чай и смотреть «Вести». Помню, много лет назад, когда президентом России был Дмитрий Медведев и он выступал по телевизору, я всегда слышала вместо его имени «два-три медведя» и не могла понять, почему его так странно зовут. Спросила об этом маму, которая мне сказала: «Его зовут Дмитрий Медведев», и все рассмеялись. В один день я, мама и мои двоюродные брат Витя и сестра Настя поехали в берёзки. Там мы нашли маленький шалаш из берёзовых веток. Каким же вкусным было печенье, которое мы ели в шалаше! Потом мы собрали много еловых шишек – рядом с берёзками росли ёлки, но нам их некуда было положить. Тогда мама сложила их себе за пазуху и стала похожа на ёжика. На обратной дороге Витька начал ныть, что устал. Мама ему сказала: «Держись, ты же мужик!» Маленькая Настя всю дорогу молчала, чем вызвала похвалу моей мамы, когда мы въехали в село. Тогда Настя сказала: «Я вообще-то тоже устала, но сильно терпела!»* * *
Через несколько радостных дней мы поехали на велосипедах, которые нам купила мама для того, что мы могли свободно передвигаться, ездить на речку, в гости, в соседнюю деревню Вязовку – к бабе Тане. Вдоль накатанной дороги рос длинный и густой лес. И вдруг прямо на дорогу выбежала лиса – она посмотрела на нас заинтересованным взглядом и поспешила по своим, лисьим, делам. Недалеко от дома бабы Тани мы должны были проехать по старому подвесному мосту, под которым глубокая речка Вязовочка. Я всегда боялась этого моста – он устрашающе дрожит под ногами, скрипит, но по нему ходило уже несколько поколений. Баба Таня приготовила для нас пышные ароматные русские пирожки, на которые мы сразу набросились. Такие пирожки бывают только в России! Потом баба Таня нас научила их готовить. Мы сидели и лепили пирожки уже собственными руками. Не знаю почему, но тесто было таким ароматным и вкусным, что я, когда баба Таня отворачивалась, отрывала куски теста и ела. У бабы Тани огромный сад, засаженный разными цветами – лилиями, георгинами, фиалками, ромашками, розами и другими. Мама ее сад называет «Садом Шахерезады».* * *
Я, Маша и баба Люба в один день пошли копать картошку. Накопали полное ведро. Потом баба Люба и Маша начали спорить, кто понесёт ведро. Бабушка сказала Маше: «Тебе тяжело!», но Маша не отдала ведро. Она уже переросла свою бабушку! Потом мы насобирали ягодок и яблок и сделали вкусный, самый настоящий, сок. Каждый день мы с друзьями гоняли на велосипедах по округу, а вечерами часто собирались у кого-то на скамейке или во дворе, разговаривали, шутили, смеялись, играли. 27 июля в Армении отмечали праздник воды Вардавар, нам было немножко грустно, что мы не смогли принять участие в этом празднестве, но 31 июля в деревне мы отметили День Нептуна. На пляже собрались дети и взрослые, все пели, танцевали, участвовали в конкурсах и играх, а потом дружно пошли купаться. Мы с мамой и сестрой переплывали речку Терсу, которая шириной примерно 80 метров. По реке плавали красивые лебеди, гуси и утки. А в воде можно было увидеть стайки больших и маленьких рыбёшек. Так было смешно, когда мама для нас ловила лягушонка. Он отчаянно пытался от неё упрыгать, но все-таки она изловчилась и поймала его. Лягушонок сначала пытался вырваться, а потом уселся на её пальце, свесил лапку и начал нас рассматривать. Он был такой маленький, смешной и доверчивый. Через некоторое время мы его отпустили, и он скрылся в водорослях в воде. В тот же день мы весело отметили день рождения бабы Любы. Бабушке исполнилось целых 58 лет.* * *
Уезжая, я уже знаю, что снова буду ждать лето. Мое русское лето.Дневник потерянной любви
 Сюзанна Аветисян. Армения, Ереван
Сюзанна Аветисян. Армения, Ереван
Родилась 8 июня 2000 года в Ереване. Училась в школе № 35 им. Н. В. Гоголя в Ереване, затем переехала в Польшу, где получила среднее образование, при этом параллельно изучала иностранные языки. В данный момент владею 5 языками (польский, русский, армянский, английский и испанский). В 2019 году поступила в филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в городе Ереване, на данный момент являюсь студенткой второго курса направления подготовки "Лингвистика". Помимо учебы занимаюсь репетиторством польского и английского языков. Благодаря творческому подходу преподавателей филиала МГУ, появилась тяга к написанию разных видов произведений – проза, поэзия и так далее.
Каждый из нас, к сожалению, терял в жизни близкого человека, кто-то раньше кто-то позже, но терял. И я уверена, что абсолютно каждый хотел бы провести с близкими тот последний день, попутешествовать по их воспоминаниям, побывать в чертогах мыслей, понять ошибки, может, даже подростковые глупости, увидеть их первую влюбленность, первый поцелуй, первое расставание… прожить всю жизнь этого человека, чтобы понять его, его поступки, его слова, его смех и его слёзы. Но это просто невозможно или было невозможным до тех пор, пока я не наткнулась на разодранную книгу на чердаке нашей новой квартиры. И, конечно, как истинный книжный червь, я бросила все свои дела и приступила к чтению, как мне казалось, романа. Однако, к моему удивлению, это был дневник, и, к сожалению, имя автора нигде не было указано. Я бережно листала его, обращая внимание на неуклюжий почерк моего героя, увидела даты и поняла, что записи были сделаны в конце восьмидесятых – начале девяностых годов, то есть этому дневнику больше 30 лет! Устроившись среди пыльных вещей и паутин, я принялась за чтение. Итак, первая запись… 19. 08. 1989 год: “Ну что ж, нужно как-то начать, наверно, лучше представиться, хотя я даже не знаю, это первый мой дневник, и я бы не начал его, если бы не моя сестра, которая посоветовала записывать мои мысли, чтобы хоть с кем-то поделиться. Такой уж я человек, без друзей и знакомых. Кроме сестры, у меня никого и нет, ну ещё и этот блокнот, который я купил на последние деньги. Мы выросли в Коломне, в старом доме недалеко от озера, куда мы с сестрой сбегали от бабушки, чтобы полюбоваться звёздами. Ах, наша любимая бабушка, которая покинула нас несколько лет назад и по которой я безмерно тоскую. После ее смерти я принял на себя ответственность за сестру и ее образование, ведь она самый талантливый человек на земле, а таланты нужно развивать. И вот, отодвинув в сторону свой талант писателя, я всеми силами копил деньги на университет для нее, и сегодня она оставляет меня и направляется в Москву за своей мечтой. Я так горжусь ею. А я? Я остаюсь в своем городке и попробую следовать своей мечте. И правда, стало чуть легче, как всегда сестра была права…”.
 Художник Арта Геворкян
Художник Арта Геворкян
Прочитав первую страницу, я влюбилась в этого героя, в его корявый почерк, его характер, ведь он не ожидал, что кто-то много лет спустя прочитает его записи. Поэтому он не мог лицемерить. Его записи были настолько откровенны, что это чувствовалось в каждой букве, и я начала сомневаться: стоит ли читать что-то столь сокровенное? Однако любопытство взяло вверх, и я продолжила. “После прощания с сестрой я решил пойти к нашему озеру, ведь там всегда приходило вдохновение и строчки писались сами, одна за другой, но этим вечером у меня ничего не получалось, и даже озеро не помогало. И тогда я заметил Ее… Безумно милую и, не побоюсь этого слова, маленькую, девушку, которая сидела на скамейке и ждала кого-то. Она выглядела настолько волшебно, как будто звёзды создали Ее: каскад длинных вьющихся волос цвета чёрного чернила, которое часто оставляло след на всех моих рубашках, изящные руки и по-настоящему малюсенькие стопы – это все, что я смог разглядеть, но этого было вполне достаточно, чтобы слова в моей голове построились в поэтические строчки и я быстро начал писать, чтобы ничего не ускользнуло из головы. Вдруг я приподнял глаза, но Ее уже не застал. Мое разочарование было неописуемым. Я оставил листок со своими мыслями на той скамье, где сидела Она и поспешил домой.” 23.08.1989. “Сегодня я Ее снова увидел: ангельское лицо, которое невозможно будет стереть из моих мыслей. А Ее кожа, настолько белая, что я боялся, что воздух может ее испачкать… Эта белоснежная кожа придавала Ей необычную невинность, которая присуща только ангелам, а эти глаза… Таких тоскливых глаз я никогда не видел: в них столько грусти и одновременно надежды, столько жизни и огня, столько противоречий… И вокруг этих темных, почти черных глаз росли необыкновенно длинные ресницы, которые придавали Ее ангельскому лицу невероятную таинственность. Ее прямой нос и до боли красивые губы, алые, как самая яркая роза, которая растет на нашей планете, очаровывали меня… В голове моей было столько стихов, которые я бы хотел посвятить Ей, но одновременно не было ничего. Она загадка, которую я бы в жизни не хотел разгадать. И, оторвавшись от Ее прекрасного лица, я заметил в Ее изящных руках мой листок со стихом, который оставил тем вечером на Ее скамейке…” 25.08.1989. “С того дня я каждый вечер наблюдаю за Ней и как самый последний в мире трус не могу заставить себя познакомиться с Ней, ведь Она так невинна и чиста, что мне кажется, что одно мое «привет» может запятнать ее белизну. Она словно хрупкая и безмерно дорогая ваза, которой можно лишь восхищаться, но приближаться нельзя… Каждый вечер я смотрел на Неё издалека, и каждый вечер у Неё в руках я видел помятый листок со своим стихом, который Она так бережно держала, как будто ждала меня. Разве могла моя бездарная писанина так Ей понравиться? Разве я мог ее заинтересовать?” 19.09.1989. “Итак, прошёл уже месяц со дня, когда я увидел Незнакомку, которая уже совсем не незнакомка. Я каждый вечер восхищался ею у озера, издалека, конечно. Каждый вечер умилялся Ее улыбкой, каждый вечер пытался с Ней заговорить, но все тщетно. Я боялся отказа, боялся настолько сильно, что при попытке знакомства начинал дрожать, как осенний лист. Но Незнакомка сделала все за меня. Сегодня вечером Она подошла ко мне, я не верил своим глазам: Она была настолько близко, что могла услышать биение моего сердце, да что там, его было бы слышно даже в Москве… Все, что она сделала – с улыбкой вручила мне мой листок и попросила закончить стихотворение. Не сказав ни слова, застыв на пару минут, я смотрел на свой кривой почерк и не мог понять, что происходит. Она встала, ещё раз пронзив мое сердце своей улыбкой и ушла неуверенным шагом, оставив одного взволнованного юного поэта…” 20.10.1989. “Я знаю, что забывал делать записи, но такой уж я человек, не люблю делиться мыслями, хотя все знают, что когда человек счастлив, он не делится этим с дневником, а до последнего пытается выжать из счастливого момента все до капли, чтобы насытиться вдоволь. Уже 2 месяца Она в моей жизни. Настолько счастливым я никогда не был, настолько беззаботным, романтичным, вдохновленным. Нет, никогда не был. Я узнал о Ней все, буквально все. Она болтает без умолку, каждое Ее слово, как музыка, настолько приятная и безумно очаровывающая. Она просила меня закончить стихотворение, которое я написал во время нашей первой встречи, но я никак не мог и поэтому не принял листок с набросками. Ещё Она любит закаты, тюльпаны, шоколад и морковку, а еще – солнце и теплоту. И это и неудивительно, так как Она армянка. Я никогда прежде не задумывался об Армении, о солнце, об абрикосах, но после Ее рассказов полюбил эту страну всем сердцем, ведь Она подарила мне мою солнечную девочку, которую я так люблю. Она рассказала мне о своём народе, о его могуществе и потрясающей истории, обещала показать горы и угостить традиционными пряностями. Как после этого не влюбиться в ее родину? И что самое необычное – Она показала мне крестик, который достался ей на крестинах от бабушки и которым Она так дорожила. Одновременно я пытался ей рассказать про Россию, но Она так много знала о ней. Она восхищалась моей родиной, рассказывала, как прекрасно себя чувствует в Коломне, как близка ей русская душа… Мне казалось, что та знакомая незнакомка олицетворяла два наших народа в одном прекрасном образе.”
 Художник Арта Геворкян
Художник Арта Геворкян
25.12.1989. “Таким счастливым я был только в детстве. Знаешь то чувство, когда счастье настолько близко, ты его ощущаешь, но боишься потерять. Когда ты слишком сильно пробуешь удержать что-то, либо ломаешь это, либо оно от тебя убегает. И я так этого боялся. Я безумно опасался Ее побега, хотя надо было опасаться, что я Ее «сломаю». Как ни странно, Она стала моей зависимостью, а я – Ее. Наш союз был неразделим, несмотря на ее упрямый армянский пыл и мое русское хладнокровие: после наших криков и ссор мы всегда возвращались к друг другу, неважно, кто был прав, кто виноват. Она вставала на носочки и утыкалась носом мне в шею, говоря, что мой запах Ее успокаивает, а я обнимал Ее как можно сильнее, как только мог. Но она такая упрямая… Иногда мне казалось, что я не смогу приручить эту дикую кавказскую девушку. Нет, не пойми меня неправильно, дневник, я не хотел сделать из Неё рабыню или властвовать над Ее мыслями, лишь утихомирить Ее, немного приземлить, ведь сам падал с высот и не хотел, чтобы Она знала эту боль. А Она лишь повторяла, что тяжелая жизнь убила во мне мечтателя, и что никогда из меня не получится хороший писатель, ведь я слишком приземлен, слишком реален и до жути пессимистичен. Все эти слова кололи меня прямо в сердце, но я не подавал виду. Моя зависимость не хотела меня понимать, мой собственный наркотик отказывался от моей натуры, и это свершилось вновь: я утонул в депрессии. Каждый, кто проходил через это, знает, что она, словно болото, засасывает тебя все мощнее и мощнее, твои эмоции, неважно, хорошие или плохие, их просто нет, ты теряешь смысл жизни, смысл любви, семьи, денег, работы. Ты теряешь все…. И самое мучительное в том, что осознаешь, что не можешь выйти из этого состояния, убежать или уплыть, ты лишь погружаешься с головой в болото и, к сожалению, уносишь с собой людей.” 30.12.1989. “Мое армянское солнце уже не грело так тепло, как тогда, либо оно уже устало, ведь все, что я делал – это ныл. Ныл о судьбе, о потерянной удаче, о том, что я одинок, но одновременно не подпускал к себе даже Ее. Самым отвратительным было то, что я видел, как из-за меня гаснет последний лучик солнца в Ее душе и ненавидел себя за это. И тогда я понял, что убил свое счастье, однако, как ни странно, не стал ничего делать, Такой уж я человек… Мое солнышко уже не пыталось меня развеселить, оно вовсе спряталось дома, от снега, от зимы и от меня… Я так Ее понимал. Депрессивные люди настолько эгоистичны, они думают лишь о себе, разговаривают о себе и хнычут тоже о себе, и я не был исключением. Понятия не имел, что у моей хрупкой девочки могут быть проблемы, о которых она умалчивала, чтобы не переутомить и так загруженного меня, но загруженного чем? Правильно, жалостью к самому себе. Ее бабушка была при смерти и Ей надо было лететь в Армению, чтобы успеть попрощаться, но это значило бросить университет во время сессии, что было равносильно исключению, однако ей было все равно… Это значило улететь туда в самый разгар войны… Но Ей было все равно… Это значило рисковать всем: образованием, будущим, жизнью… Но моей храброй девочке было все равно. Это же была Ее любимая бабушка. И меня не было рядом… Меня не было, когда Ей сказали эту жуткую новость… Меня не было, когда она плакала в ванной, закрыв рот руками, чтобы никто не услышал… Меня не было, когда она нуждалась во мне… Ты и представить не можешь, дневник, как сильно меня задело, что обо всем этом я узнал из Ее записки, которую обнаружил у меня под дверью сегодня утром, кроме неё в коробке лежал тот самый крестик от бабушки, а еще мой стих, точнее – его продолжение, написанное ее аккуратным почерком:”
* * *
Братья по крови
 Альберт Восканян. Армения, г. Степанакерт
Альберт Восканян. Армения, г. Степанакерт
Родился в 1957 году в г. Баку. С 1972 года проживает в г. Степанакерте. Творческий псевдоним «Азарий». Член Союза писателей и журналистов НКР, Международной Ассоциации блогеров, Евразийской творческой гильдии (Лондон). Лауреат конкурса «Герой Кавказа – 2015». Автор нескольких книг. Лауреат многочисленных литературных премий и обладатель медалей, среди которых Медаль Анны Ахматовой (Президиум Российского союза писателей, Москва, 2020 г.).
Летом 1998 года я поехал погостить на две недели к двоюродному брату в Тулу. Возвращаясь обратно домой, сел на рейсовый автобус Тула-Москва, чтобы вечером вылететь в Ереван. Где-то на полпути у придорожного кафе водитель сделал остановку, объявив, что в нашем распоряжении сорок минут… Я заказал себе порцию шашлыка, сыр, зелень и 50 граммов водочки. Заказ у меня принял подросток, русский парнишка. Я огляделся: чисто, уютно, почти все столики были заняты пассажирами нашего автобуса. Между столиками сновали два подростка-официанта, как сейчас принято говорить, «лица кавказской национальности». Всем троим парням было лет по 14–15. На лицо они были разные, но в них была какая-то неуловимая схожесть. До моего слуха дошли имена этих мальчишек, как они звали друг друга: Саша, Амаяк и Рауф. Тот, кого звали Амаяком, принёс мой заказ. Я принялся за еду, но не упускал из виду этих ребят. Парни подходили к столикам, бегали на кухню, оттуда, через какое-то время приносили готовый заказ… Неожиданно дверь в кафе широко распахнулась, и в помещение вошёл крупный мужчина средних лет русской национальности и по-хозяйски пробасил: – Рауф, с Амаяком обслужите новых клиентов, они расположились во дворе… Ребята тут же выскочили во двор. То, что это был хозяин, не вызывало сомнения. Я ел и думал: «Интересная ситуация: Саша – русский парень, Амаяк – армянин, Рауф, естественно, азербайджанец… Кто они такие, и почему у них еле уловимая схожесть в лицах…» Счёт мне принёс Саша. Расплатившись, я вышел во двор кафе и увидел хозяина, сидевшего на стуле в тени под берёзой. Я подошёл к нему, присел на свободный стул рядом с ним. Мы разговорились. Мужчину звали Виктором, жил в Туле, а это кафе, с его слов, он взял в аренду «у армян». Я не выдержал, спросил про ребят. Виктор широко улыбнулся и сказал: – Понимаю ваш интерес, вижу, вы разобрались, что они разных национальностей. Саша – мой сын, Амаяк – армянин, Рауф – азербайджанец, они мои родные племянники. Услышав это, я чуть со стула не упал… Мужчина сделал паузу, закурил сигарету, глубоко затянулся и продолжил: – У меня две сестры – Катя и Лиза. И так получилось, что первая вышла замуж за армянина, а вторая – за азербайджанца. И все они с мужьями уехали жить: Катя в Баку, Лиза – в один из районов Азербайджана… Потом у вас там началась война. Сёстры с семьями приехали сюда. Катя – в 1990 году, Лиза – в 1993 году. Естественно, мужья и дети были с ними. У каждого было по ребёнку. Оформили их как беженцев. Приехали без имущества, с лёгкой поклажей… Дом у меня большой, собственный, всем места хватило… Тут Виктор обернулся, внимательно посмотрев на машину, припарковавшуюся во дворе кафе, и продолжил: – На первых порах были проблемы между зятьями. У каждого из них была своя обида, своя правда и претензии друг к другу. Иногда их споры чуть ли не до драки доходили. Но я смог их жёстко поставить на место, объяснив, что они не у себя дома, а в Российской Федерации, и у нас здесь свои законы, которых необходимо придерживаться… Через несколько месяцев зятья с семьями съехали, снимают квартиры. С трудоустройством также я им помог. Мальчики пошли в школу, сейчас без проблем говорят на русском. Вот, кафе взял в аренду и предложил сыну и племянникам, они почти ровесники, чтобы во время летних каникул поработали у меня, заработали бы себе денежек к первому сентября… Тут подошли Рауф с Амаяком и практически без акцента обратились к Виктору. – Дядь Вить, мяса в холодильнике осталось мало… – сказал Рауф. – И хлеба надо бы подвезти, – продолжил Амаяк. В это время водитель нашего автобуса начал сигналить, собирая пассажиров, чтобы отвезти нас в Москву… Я тепло попрощался с ними и пошёл к автобусу, чтобы занять своё место, согласно купленному билету…
Ереванский текст
 Александр Люсый. Россия, г. Москва
Александр Люсый. Россия, г. Москва
Старший научный сотрудник Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (2014–2016), член редколлегии журнала «Вопросы культурологии», член Комиссии по социальным и культурным проблемам глобализации Научного совета «История мировой культуры» при Президиуме РАН, профессор Института кино и телевидения (ГИТР), с 2017 по настоящее время, член Философского общества России, Союза российских писателей, Союза журналистов России, Международной федерации журналистов и Русского ПЕН-центра. Кандидат культурологии (2003), доктор филологических наук (2017). Был экспертом литературных премий «Большая книга», «Дебют», «Бунинская премия».
Моё установочное знакомство с Ереваном как текстом началось с фильма Фрунзе Довлатяна «Хроника Ереванских дней» (1972). С первых же кадров главным героем этого первого советского экзистенциалистского фильма, как он был определён в критике, для меня стал не столько главный герой архивариус Армен (в исполнении Хорена Абрамяна), сколько сам город. Именно он заворожил меня с первых кадров, постепенно проступая вместе с перемещениями персонажей в утреннем рассвете на фоне горы Арарат под печально-тревожную музыку А. Тертеряна. Здесь, конечно, не место подробно напоминать сюжет фильма, который начинает разворачиваться, когда на улицах появляется красный «запорожец» с героем фильма за рулём, следующим на службу, чтобы вступить на свою вахту памяти. Это происходит не в Матендаране, а в обычном районном архиве гражданских состояний, в котором толпы посетителей пытаются выбить справки, способствующие установлению истинных родительских прав или справедливой пенсии. Но и при столь будничных заботах возникают вопросы глобального масштаба. Как добиться равновесия сохранения и позитивного функционирования памяти в дне сегодняшнем (сегодняшнем по-тогдашнему)? Герой не раз оказывается перед гамлетовским выбором личного вмешательства в проблемы временных вывихов. Лучшей современной иллюстрацией искомого равновесного состояния является инсталляция Сергея Параджанова «Ромул и Рем», при всей сравнительной молодости древнеримской цивилизации по сравнению с армянской (но о посещении музея режиссёра и художника чуть позже). Все сюжетные повороты фильма органично вписываются в то или иное городское пространство – площадь, перекрёсток, подъезд. Город как общий образ складывается из отдельных персонажей-домов, каждый из которых что-то из себя представляет в разное время суток, днём живописно, ночью графически. Фильм и город время от времени цитируют сами себя и друг друга – посредством медиализирующего фактора, документа, третьего, собирательного в рассуждениях и конкретизирующегося в конкретных ситуациях, героя фильма. Как по этому поводу пишет Михаил Ямпольский, письменность возникает как хранитель памяти, и то же самое можно отнести и к иным формам долговременной фиксации текстов. Поэтому письменность, в самом широком смысле этого слова, актуализирует проблему закрепления традиции. Аналогичным образом рассматривая этот вопрос, Ю. М. Лотман приходит к выводу с фундаментальными последствиями для общего понимания истории и культуры: «Для того, чтобы письменность сделалась необходимой, требуется нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных семиотических переводах, возникающая при частых и длительных контактах с иноэтнической средой». Иначе говоря, сама потребность в закреплении памяти возникает в ситуации повышенной нестабильности, динамичности культуры, в ситуации возрастающей установки на культурную инновацию. Современная культура, умножая формы фиксации текста, одновременно постоянно ищет новизны. Новое и традиционное входят в динамический сплав, который в значительной степени оказывается ответственным за производство новых смыслов. По сути дела, производство смысла заключено в этой «борьбе» памяти и ее преодоления.
 Художник Александр Мкртчян
Художник Александр Мкртчян
Вот и в «Хронике Ереванских дней» история вводится в структуру кинотекста как смыслообразующий элемент. Герой сжигает служебный документ в отчаянном порыве помощь просителям сохранить им неродного, но сына (за что следует понижение в должности). А в одном из его снов лист восстанавливается из пепла – на фоне масштабной и разрушительной архивной войны, вызванной исходным волевым вмешательством в естественный ход вещей. Кино может запустить сюжет в обратном направлении как былыми аналоговыми (плёнка), так и современными цифровыми технологиями, но любые вмешательства в память взрывоопасны. В свое время Аркадий Аверченко написал рассказ «Фокус великого кино» – как киномеханик случайно запустил кинохронику в обратном направлении, так что возникла иллюзия обратного течения самой истории. Рассказ этот стал установочным для трактовки кинотекста примерно в той же степени, как рассказ Борхеса «Аналитический язык Джона Уилсона» для познавательных сущностей Мишеля Фуко, как он это подробно описал в начале своей книги «Слова и вещи». События в фильме чаще разворачиваются в гранитной, относительно темной, смягчающей солнечные потоки части города, порой расцветая розовым туфом. И в задействованных в сюжете ереванских дней на пути героя возникают две женщины – гранитная, в которой он при деловой встрече узнает младшую соученицу по школе и с которой у него стремительно разворачиваются скульптурно-любовные отношения, и туфовая. Последняя лишь дважды мелькает – в реанимации, куда он, наведавшись к другу-врачу, становится случайным свидетелем смерти её возлюбленного, и в завершение, когда она, уже успокоившаяся и беспечная, проходит мимо с мороженым в руке, оказавшись предвестницей его скорой смерти от сердечного приступа в следующей сцене, в тот момент, когда он натолкнулся на группу играющих в войну детей. Ну, и в самом конце на горизонте опять является Арарат. Арарат и Матендаран, который тоже однажды послужить визуальной рамкой для героя – два полюса Еревана как городского текста. Воспроизвел бы я все эти впечатления, если бы не случилась недавняя поездка в Ереван? «Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага», – писал Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время похода в 1829 году», предощущая встречу с Араратом, пусть поначалу и мнимым («подмененным» Арагацем). Я считывал эти пейзажные реалии с борта самолета Москва – Ереван при виде Казбека сверху. Конечно, я стал пытаться сделать селфи, но соседка-армянка вызвалась мне помочь, взяв на себя функции фотографини. В промежутке прошедших десятилетий были учеба в Литературном институте и дружба с соучеником, писателем и кинорежиссером Эдуардом Вирапяном, внешне напомнившем мне, хотя и меньшего роста, героя «Хроники». После окончания института у нас возникали волны переписки. По моему заказу, он писал на открытках с обязательным присутствием в том или ином виде Арарата. Мы занимались как будто бы разными вещами. Он писал притчи, лишь некоторые из которых присутствуют в интернете, снимал фильмы, которые пока не довелось увидеть, объездил весь мир, включая страны Борхеса и Кузее. (Иногда неразличимым общим списком его соединяют с младшим братом, кинорежиссером и актером Эдгаром Вирапяном). Я же стал кадром города как текста, разрабатывая концепцию культуры как суммы и системы локальных текстов. Сначала вышла книга «Крымский текст в русской литературе» (СПб.: Алетейя, 2003), а через десять лет «Московский текст» (М.: Вече, Русский импульс, 2013). В промежутке регион прошел и через состояние настоящей «архивной войны».
 Художник Александр Мкртчян
Художник Александр Мкртчян
Я приехал в Ереван, чтобы в Ереванском государственном университете языков и социальных наук им. В. Я. Брюсова на XIV Международном форуме «Диалог языков и культур в XXI веке» (21–24.11.2018) выступить с докладом «”Перевод пространств”: Как Казбек замещал у Пушкина Чатырдаг, а Арарат – Карадаг». В свободное время посещал музеи – Музей русского искусства (со знакомством с его директором Марине Мкртчян), Национальная галерея, Музей современного искусства, Музей Сергея Параджанова, Дом-музей Сарьяна. Знатокам города легко представить проделанный мною круг. Иногда он перемежался предвыборными митингами с национальными танцами. Ереван легко читается ногами, в промежутке между просмотрами. Всем известно трепетное отношение здесь к истории, но я бы сделал акцент на Медиа-Ереване. Для свободного посещения любого музея достаточно иметь какое-либо удостоверение, подтверждающее какую-то принадлежность к прессе. Напишу ли я когда-нибудь большую работу по Ереванскому тексту, аналогичную тем, что уже написаны по Крымскому и Московскому текстам? Я продолжаю читать Ереван как текст, а Ереван читает меня. В качестве иллюстрации «машины грёзы» теперь предстает, конечно, отнюдь не «Запорожец». Современным кинопределом автономного плавания феномена города теперь предстают «Хроники хищных городов». И на этом фоне в качестве подтверждения продолжения нашего исходного диалога приведу нынешний ереванский отзыв Эдуарда Вирапяна о моем «Московском тексте»: «Никто так увлечённо не писал в письме как Иван Грозный и не важно, что действия Курбского принудили его заняться этим. На этот момент захвачен твоим московским текстом. Еще не зная, о чем книга – как я мог так ошибиться, предположив о чем; вспомнил? За моей спиной возникла тень Лихачева, желающего тоже ознакомиться с текстом, над которым я сейчас, ведь и для него прошлая Русь представлялась объектом, в котором он хорошо разбирался. – Уступите чтение мне, – сказал он с присущей ему деликатностью, – я не могу здесь долго оставаться, мне надо возвращаться туда откуда я пришел. Конечно, я уступил ему, сейчас книгу читает он, а я думаю о беспрецедентном факте в истории: эмоциональных письмах русского царя изменнику. Правильнее было бы развесить их по всей Москве, хотя бы на недельку, чтоб ни у кого не оставалось сомнений, что время таких дел давно кончилось в России и оно не будет вновь востребовано, если потребуется иметь русское слово в обороне и нападении, а сейчас вряд ли не такое время. Я давно хотел написать рассказ о взаимоотношениях Грозного и Курбского, причину не мог для себя найти, знакомство с Московским текстом создало причину, еще нет заглавия, но сюжет родился: однажды Москва просыпается и видит по всей столице прикрепленные в разных местах письма Грозного Курбскому. Что бы это могло значить и кого об этом спросить? – пытается разобраться вся страна. Российская академия наук предлагает спросить об этом Булгакова. – Так его же нет, – приходит ответ от правительства. – Ну и что, – отвечает Академия, – и Грозного давно нет, но только он мог велеть опричникам ночью войти в столицу и прикрепить в разных местах его письма изменнику. Будь здоров, Эдуард». Так я ещё раз получил от Еревана текстологический импульс, своего рода новый сценарий новой визуализации текста.
 Художник Александр Мкртчян
Художник Александр Мкртчян
В последние годы теория повествования отмечена сосуществованием т. н. «естественной» и «неестественной» нарратологии. Если классическая нарратология старалась описывать любые повествования – вымышленные и «нон-фикшен», речевые и художественные – в рамках единой теории, то новая теория повествования ставит целью разработать такие модели, которые учитывали бы те свойства повествований, которые сопротивляются описанию на основе лингвистического понимания естественной, устной коммуникации. Внимание привлекает не «нормальное» повествование, а то, что в ту или иную норму не вписывается: хаотическое, парадоксальное, случайное, экспериментальное. «Повествователем может быть животное, неодушевленный объект, машина, труп, всезнающий телепат, хор разрозненных голосов, кто (и даже что) угодно. При этом повествование может быть по структуре традиционным, а может, если рассматривать его в конвенциональной перспективе, бессюжетным, бессвязным, противоречивым. «Неестественная» нарратология проблематизирует представления о повествовании, акцентируя два момента: способы, которыми экспериментальные, «невозможные» повествования ставят под вопрос миметическое понимание повествования; и последствия, которые могут иметь «неестественные» повествования для представлений о том, что такое повествование вообще и как оно функционирует. Это стремление созвучно одному из актуальных трендов в постклассических культурных исследованиях: изучать не только устойчивые конструкции и системы, но и то, что в эти системы не вписывается и нарушает их. «Неестественная» нарратология вписалась в контекст двух других подходов постклассической нарратологии: когнитивного и трансмедиального. Но в отличие от этих подходов, касающихся в большей мере контекстов существования повествовательных текстов и ментальных процессов, сопровождающих их создание и восприятие, «неестественная» нарратология вновь обращается к описанию и анализу текстов, в очередной раз пересматривая категориальный аппарат нарратологии». Кинотекст предстает как взаимодействие и документализация таких нарратологий в той или иной степени или скорости.
Гербы Ереванской (Эриванской) губернии и Александрополя как символ единства армянского и русского народов
 Ваэ Аветисян. Россия, г. Москва
Ваэ Аветисян. Россия, г. Москва
Родился в 1982 году. В 1988 году поступил, а 1999 году закончил среднюю школу № 2 г. Джермука. По 2000–2002 годах служил в армии. С 2002 по 2006 – учился учился в бакалавриате исторического факультета ЕГУ, а 2006–2008 – в магистратуре факультета международных отношений по специальности «политолог». С 2009 года продолжил учёбу в аспирантуре в качестве соискателя учёной степени кандидата наук в кафедре всеобщей истории. Параллельно работал в школе, как социальны педагог, в университете «Гителик» преподавателем «Истории России». В 2015–2016 годах. был ведущим специалистом в «Центре тестирования и оценки» при правительстве РА. В 2016 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. Имею больше 15 научных статей, а также монографию.
Не имея в течение многих веков государственности, армянский народ свято хранил память о своих корнях, о некогда могущественных царствах, никогда не теряя надежды восстановить государство. Усиление в XVIII-ом веке позиций России на юге для христианского населения Закавказья открывало возможность освобождения от многовекового мусульманского ига. Обосновавшиеся в разных городах России представители армянского дворянства, не покладая рук, трудились над планами освобождения Армении под протекторатом России, отвечая тем самым чаяниям армянского народа. В процессе территориального расширения Российской империи и вхождения в её состав освобождённых от османского и персидского ига закавказских регионов, возникла необходимость полной административной интеграции новых субъектов в состав империи. По существовавшему в XIX веке принципу разделения земель в Российской империи, регион главным образом был разделён на губернии, уезды и отдельные округа, подразумевающие ещё и наличие сложенной геральдической системы обозначения земель, начиная от посадов, заканчивая несколькими вариантами общеимперских гербов. Несмотря на этот порядок, далеко не все административные единицы имели свои гербы, что свойственно и закавказским губерниям. Во время более чем 100-летнего нахождения региона в составе Российской империи, гербами утверждены были в основном губернии и области, а также некоторые города уездного значения. На протяжении этого времени несколько раз менялись образы гербов. В этой связи интересно указать, что ещё задолго до официального выхода в мае 1827 году «предположения для сформирования армянских батальонов» в кавказском корпусе российской армии, многие армянские отряды, восставшие против турецкого и персидского ига, с начала XVIII века поднимали стяг с российским двуглавым орлом. Известный поборник за освобождение Армении Исраел Ори (1659–1711) справедливо полагал, что в угнетённых массах армянского народа герб царя Петра Первого на самом деле вызовет небывалый подъём духа, столь необходимый для успеха готовящегося восстания. По плану Исраела Ори, сразу же после освобождения города Нахичевани там соберётся «вся старшина и всё войско их армянское и примут знамена с государевым гербом, тогда они с великим устремлением и с ревностию пойдут на неприятелей, чтоб могли от них избавитися и места свои и городы освободить». Он не ошибся: уже 26 июля 1730 года русскому резиденту (послу) в Константинополе Ивану Ивановичу Неплюеву посланник турецких министров выразил устный протест по поводу двух боевых знамён, отбитых в том же 1730-ом году у одного из армянских отрядов в сражении с турецким войском под Гандзаком (Гянджа). По мнению турецкого командования, эти знамёна имели российское происхождение. Сегодня трудно сказать, имели ли они русское происхождение или были приготовлены армянами для воодушевления ополченцев, но факт состоит в том, что эта традиция была успешно применена в штандартах армянских батальонов, сформированных по майскому указу 1827 года. Детали этих боевых знамён были заимствованы впоследствии для армянских территориальных гербов. В частности, это касается изображения Спаса Нерукотворного и Ноева ковчега, как центральных фигур многих гербов. Уже в первых проектах восстановления Армянского царства можно найти упоминания о будущих государственных символах страны. Авторы этих проектов хорошо осознавали важность эмблемики в жизни современной страны. Гербы являлись не только символом страны, но и олицетворяли характер, традиции, идеологию и преемственность данного государства, с них же и складывалась наградная система и т. д. Все эти факторы делали предполагаемые гербы не просто результатом художественного творчества, а прежде всего историческим памятником. Возникновение и эволюция армянской геральдики XVIII-XIX веков находится в тесной связи с общеисторическим процессом Российской империи. Российская геральдика напрямую влияла на оформление гербовых проектов «Армянского царства под Российским протекторатом», а после вхождения в её состав Армения находилась в сфере контроля имперской Герольдии. Важно отметить, что, начиная с Петра Первого, сама геральдическая наука в России развивалась в основном по правилам западноевропейского геральдического искусства. Практика утверждения земельных и городских гербов приобрела достаточный размах при Екатерине Второй и продолжалась весь XIX век. Именно тогда некоторые армянские земли впервые были включены в комплекс подвластных России земельныхгербов (печать к Георгиевскому трактату). Первоначально они использовались вместе с грузинскими гербами, в силу того, что по составленным армянскими освободительными кругами планам, Армения и Грузия, как одна единица, должны были войти под российскую протекцию. Эти формальные представления и в дальнейшем находили применение – в Большом государственном гербе Российской империи герб Армении являлся частью герба Царства Грузинского. В 1849 году после некоторых административных реформ, в числе Тифлисской, Кутаисской, Шемаханской и Дербентской губерний в Закавказье была создана Эриванская губерния. По указу от 9 июня 1849 года об учреждении Эриванской губернии территория новой губернии разделялась на Эриванский, Ново-Баязетский, Нахичеванский, Ордубатский и Александропольский уезды.

Ереванская губерния долгое время не имела собственного герба. Только после утверждения новых проектов гербов губерний и областей Российской империи в 1878 году у Еревана появился свой. Закон о гербе вышел 5 июля 1878 года и предписывал: «В лазоревом щите, серебряная скала, увенчанная золотым русским крестом. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентою». Интересно, что «серебряная скала» состоит из трёх вершин и вызывает ассоциацию о Святой Троице. Так же и с крестом, который, возможно, подчёркивал христианство армян, а, может, просто обозначал русское присутствие на этих землях. На наш взгляд, крест несёт в себе обе идеи.

В 1837 году близ селения Гюмри была заложена русская крепость, где в этом же году побывал Николай Первый. Крепость была переименована в Александрополь в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны. После нового раздела Закавказья в 1840 году Александрополь был официально провозглашён городом, становясь уездным центром. 21 мая 1843 года был утверждён герб Александропольского уезда: «Щит разделён на две половины: в верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Грузино-Имеретинского; в нижней, в зелёном поле, наклонённая серебряная лестница в знак того, что с учреждением города и нового управления, жителям дана возможность возвысить своё благосостояние; с правой стороны лестницы изображён крест, а с левой полумесяц, обращённый рогами вниз, в знак того, что город населён большею частью вышедшими из Турции христианами». Существовала и другая, доработанная по правилам 1857 года, совершенно отличающаяся от прежних, версия: «В червлёном щите золотой трёхлистный крест над серебряным полумесяцем. В вольной части щита герб Эриванской губернии, щит декорирован знамёнами, увенчан серебряной башенной короной».

К сожалению, проект официально не утверждён, хотя герб больше остальных составлен по геральдическим канонам: серебряная корона о трёх зубцах с орлом и два знамени вокруг щита указывают на положение уездного города-крепости, а крест над полумесяцем символизирует, как и прежде, торжество христианства. Кстати, по данным первой всеобщей переписи населения Российской Империи, Александрополь был самым большим городом Эриванской губернии по численности населения. После революции 1917 года старые царские символы были отменены, но в отдельных случаях они ещё находили своё применение. В случае с армянскими гербами Российской империи мы убеждаемся, что христианские символы отражают сущность армянского и русского народов, являются доказательством общего видения будущего. Они так же показывают единство двух братских народов, которые прошли долгий исторический путь плечом к плечу.
О мемориале, посвященном русским воинам-защитникам, погибшим в Ошаканской битве, при защите монастыря г. Эчмиадзина
 Элиза Согомонян. Армения, г. Вагаршапат
Элиза Согомонян. Армения, г. Вагаршапат
Недалеко от города Эчмиадзина, есть мемориал, посвящённый русским воинам-защитникам, погибшим в Ошаканской битве, при защите монастыря г. Эчмиадзина. В нашем городе в народе этот обелиск называют матур, что в переводе означает место паломничества. Ещё в детстве мы с семьёй очень часто приезжали к этому памятнику. Возле него были виноградники, сады абрикосовых, персиковых, ореховых, сливовых деревьев. Весной на майские праздники мы обязательно приезжали туда. Все деревья цвели, было очень красиво. А когда-то давно, в августе 1827 года, именно здесь русский войсковой отряд генерала Красовского вместе с армянскими добровольцами выступил на помощь к осаждённому монастырю и, несмотря на десятикратное численное превосходство персидской армии, сумел пробиться сквозь кордоны противника, после чего в ту же ночь осада была снята. Находившийся в то время в Эчмиадзине архиепископ Нерсес Аштаракеци (будущий католикос всех армян), держа в руках монастырскую реликвию «Римское копьё, обагрённое кровью Христа», молился за победу русского воинства. Добравшись до стен монастыря, солдаты в буквальном смысле валились с ног. Когда к воротам подтянулись все оставшиеся колонны и был отдан приказ войти в монастырь, то пять егерей, обняв ружья, остались лежать на земле. Не имея ранений и контузий, солдаты умерли от истощения сил. Штыки их ружей были обагрены кровью врагов, а в подсумках мёртвых солдат не осталось ни одного патрона. Русский отряд вошёл в монастырь под колокольный звон и молебные песнопения. Эчмиадзинский архиепископ Нерсес Аштаракеци обратился ко всем с приветственной речью. «Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь тридцатитысячную армию разъярённых врагов. Они стяжали себе бессмертную славу, а имя генерала Афанасия Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Эчмиадзина».
 Согомонян В. С.
Согомонян В. С.
17 августа патриархом было утверждено ежегодное отправление во всех армянских церквях благодарственного молебствия Богу. Во время этой битвы русский отряд понёс тяжёлые потери. Это был самый большой урон русской армии за всё войны с Персией – 1131 воин. В 1833–1834 годах по инициативе католикоса Епрема Первого Зорагехци и архиепископа Нерсеса Аштарекаци на средства монастыря и местных жителей по проекту инженера-поручика Компанейского, в километре от Эчмиадзина, был построен памятник воинам, павшим 17(29) августа 1827 года. Это 25-метровый обелиск из красного туфа, который символизирует своей формой единство и целеустремлённость. На вершине обелиск увенчан крестом. Памятник был установлен 9 (21) мая 1834 года.

А вы знаете, что вначале этого креста не было. Крест появился потом, история такова. Когда отмечали 150-летие воссоединения Армении с Россией, возле памятника велись ремонтно-строительные работы. Строительством руководил Согомонян Володя Сеникович (17.10.1935–05.04.1986) – мой отец. И он решил поставить крест на верхушке обелиска, что и было сделано рабочими. Хочу отметить, что это было сделано в советское время. Уже на протяжение многих лет ежегодно 17 августа мы, члены ОО «Россия», возлагаем цветы к обелиску, отдаём дань уважения, павшим воинам. Вечная слава Героям.
1810 год: неравный бой за Мегри отряда Котляревского с персами
 Андраник Арзуманян. Армения, Ереван
Андраник Арзуманян. Армения, Ереван
Родился в 1972 году в Ереване. В 1995 году окончил Ереванский лингвистический университет им. В. Брюсова. Работал на разных должностях, в том числе был ведущим специалистом в Российском центре международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве Российской Федерации (Москва), советником государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса, директором Российского центра науки и культуры в Александрии и вице-консулом в Египте и др. Сейчас является координатором программ Российского центра науки и культуры в Ереване.
Это произошло в июне 1810 года на границе Армении и Персии. К началу описываемых событий полковник Пётр Степанович Котляревский был начальником небольшого отряда, располагавшегося в урочище Кызылдаг и прикрывавшего Карабах со стороны Персии. «Идущему вперед, – постоянно говорил он, – одна пуля в грудь или лоб, а бегущему назад – десять в спину». Его обычным правилом было «действовать стремительно, необыкновенными, но самыми форсированными маршами, без ранцев и шинелей». Позднее его стали называть вторым Суворовым. Полковнику Котляревскому было поручено взять селение Мегри (юг Армении на границе с Персией). К населенному пункту лежало две дороги: одна, огибая горы, вниз по реке Аракс, а вторая вниз по течению реки Мегри. Персы укрепили дороги засеками и несколькими батареями по правому и левому берегам реки, мобилизовав около 1500 солдат. Само же селение, занятое отрядом в 500 человек, расположилось у подошвы двух отвесных скал. Котляревский понимал, что взять штурмом это природное укрепление невозможно и, желая сберечь людей, не пошел по известным дорогам к селению. Оставив пушки, он отправился через карабахский хребет по непроходимым горным тропам, оставленными противником без защиты.
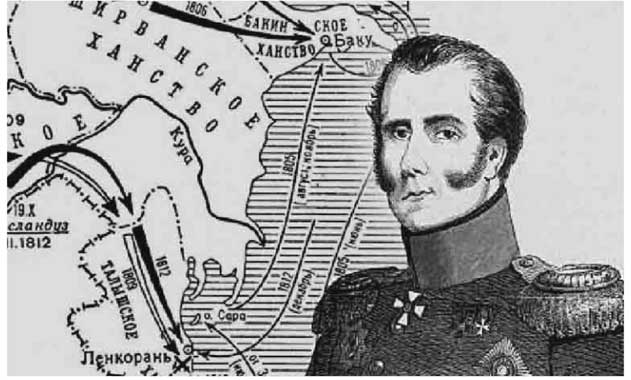 Петр Котляревский
Петр Котляревский
Он выступил из лагеря 12 июня 1810 года с 400 солдатами. Через три дня отряд был уже рядом с Мегри. Полковник раздели свой отряд на три части. Один отряд под командой майора Дьячкова в 150 егерей послал к левому хребту, к правому хребту пошел сам со 150 егерями, а прямо, напротив селения, отправил 100 человек. Котляревский сумел разделить вражеские силы на три части, атаковав их с трех сторон, овладел передовыми высотами. Русские отряды вытеснили противника из передовых укреплений. Дальше двигаться вперед было рискованно. Егерей могли уничтожить ранее, чем они добрались бы до основных укреплений. Котляревский остановил дальнейшее наступление и решил дождаться ночи. С наступлением ночи Котляревский взял 100 человек и тихо спустился с горы и соединился с егерями, направленными прямо против селения. Для того, чтобы отвлечь неприятеля, полковник послал 50 егерей под командой поручика Роговцева произвести фальшивую атаку против правого кряжа хребта. Майор Дьячков со своими егерями должен был атаковать 5 батарей, как только начнется фальшивая атака поручика Роговцева. Если все произойдет стремительно и слажено, то дело будет решено. Медлить было нельзя, потому что два персидских отряда шли на помощь к осажденным в Мегри. С рассветом русские бросились на штурм и к десяти часам утра, опрокидывая преграждавшего путь противника, ворвались в селение. Дьячков овладел тремя из пяти батарей. Нужно было взять остальные две. Котляревский поспешил ему на помощь и захватил остальные батареи. Таким образом, было занято селение и весь левый кряж хребта.

Теперь надо взять штурмом правый хребет. Егеря, ободренные успехом, вытеснили персов из укреплений правого хребта и остановились перед недоступной батареей, которая находилась на отвесной скале высотой более шести метров на самой середине кряжа. Там находилось 200 солдат противника с пушками. Взять штурмом, приложив к отвесной скале лестницы, было невозможно. Средств взобраться на высоту не было. Единственная узкая тропинка на скалу осыпалась множеством пуль. Котляревский решил взять осажденных измором, перекрыв им получение помощи и поступление воды. Всю ночь и весь следующий день держал Котляревский противника в блокаде. На другую ночь, гарнизон покинул батарею, спрыгивая с утеса. Дело закончилось полным взятием Мегри. Персы, оставив 300 человек убитыми, бежали. При этом русские не мешали им уйти, поскольку брать пленных они не могли из-за малочисленности своего отряда. С нашей стороны убиты 6 человек и ранены 29. Сам Котляревский был ранен пулей в левую ногу.

Так закончился этот невероятный штурм, в котором 400 егерей разгромили 2-х тысячный отряд противника, занимавшего практически неприступную позицию, и по своим природным характеристикам и по многочисленным искусственным укреплениям. За это сражение Котляревский был награжден Георгиевским крестом 4 степени, также был пожалован золотой шпагой с надписью на клинке «За храбрость». Остальные офицеры и солдаты тоже получили разные награды. Взятием Мегри персам был нанесен тяжелый удар. Они лишались важного опорного пункта для набегов в приграничные области Карабаха и теряли контроль над дорогой между Тавризом и Нахичеванью. Когда известие о взятии Мегри дошло до Аббас-Мирзы, тот приказал отрубить головы всем персам, которые защищали это селение.
Источники: 1. Сочинения графа В. А. Соллогуба: Т. 1–5. – Санкт-Петербург: А. Смирдин (сын), 1855–1856. – 5 т.; 2. "Утверждение русского владычества на Кавказе", под ред. Потто, Тифлис, 1901 г.
Араратские сны
 Елена Шуваева-Петросян. Армения, Ереван – Россия, Волгоградская область
Елена Шуваева-Петросян. Армения, Ереван – Россия, Волгоградская область
Родилась в селе Большой Морец Волгоградской области, училась в Москве и Ереване. Член Союза литераторов России, Союза писателей Армении, Клуба писателей Кавказа. Работает пресс-секретарем в Российском центре науки и культуры в Ереване. Организатор международного литературного конкурса «Армянские мотивы» (с 2009 года). Посол конкурса «Мир без войны и насилия» (2012 год). Участница Форума молодых писателей России и зарубежья (2009, 2011–2014, 2018). Координатор Фестиваля молодых писателей в Армении (Фонд СЭИП). Увлекается альпинизмом. Член Армянской Федерации альпинизма и горного туризма, член Федерации альпинизма России.
Сколько раз я подходила к Горе: с этой, нашей, стороны, такой величавой и вечно заснеженной, окружённой плодородными землями; с той, отчуждённой, стороны, такой отчаянно скудной и каменистой, с россыпями гигантских вулканических камней и пеплов, взбитых копытами лошадей в порошок, смотрела на вершину глазами, какими только ребёнок может смотреть на мать и отца – снизу, восхищённо, безусловно любя и растворяясь. Я подходила к её подошве днём, когда лучи солнца скользили по заснеженной вершине, выбивая искры; я подходила к её подошве ночью, когда вершину осыпали звёзды, и мне казалось, что это цельное полотно, по которому только одна единственная дорога – в небо. Я видела её на рассвете, когда ежесекундно она преображается, будто бы примеряя наряд, в котором вступит в день. Я видела её на закате – глубоком, бархатистом, обволакивающем. Я видела Гору тогда, когда её даже не видно: ты стоишь у подошвы, а Горы нет: просто сегодня у неё нет настроения; да и удивительное дело – не каждому гостю, путешественнику она являет свой лучший лик. Я целовала её каменные подошвы и плакала, когда мне было больно и тяжело, когда казалось, что некуда идти, кроме как… на вершину – туда, где меньше воздуха, но легче и просветлённей душа, чище и яснее разум, а люди – крепче и надёжнее. В этой Горе есть нерв – мощный, жгутообразный, он вплетён в корни, которые уходят глубоко, в самое сердце земли, и там, наполняясь энергией, разносят её по всему массивному телу, щедро делясь – с камнем, водой, воздухом, человеком, лошадью, собакой… со всем, что становится как-то причастным к ней. За свой долгий, более чем трехмиллионный век, она встала на одну ступеньку ниже Бога, но не отдалилась от человека, так и оставшись Пристанищем Ковчега, спасением. И мы, идя к вершине, просим у Горы разрешения, чтобы попасть на ступеньку Предбожья. Возможно, это дерзко, но почему бы нет, если Гора подпускает к себе, дарует лучшие переживания, «окошки» в зачастую суровой погоде, а потом долго или уже никогда не отпускает, потому что между вами завязывается духовный контакт. И Гора становится твоим личным алтарём, на который ты несёшь тяжёлую, болезную ношу, но чаще доходишь таким невесомым и лучистым, потому что за три дня пути к вершине много передумал, осмыслил, взвесил, разложил, оставил, выбросил. Жизнь человека похожа на эту Гору. Прежде чем она появилась на свет, земные недра выворачивало, крутило, обжигало. Гора росла из тысячелетия в тысячелетие, из камня в камень, напластовывалась. А потом её снова выворачивало, крутило, обжигало, и появилась рядом Маленькая Гора, детёныш, – такая хрупкая, но своенравная. Их разделяет и соединяет ущелье, они держатся друг за друга, рука в руке. Поразительное явление – вокруг нету ни единой гряды гор, они вдвоём – Большой и Маленький, неодинокие одиночки, и лишь вдалеке, по другую сторону границы, виднеется своими четырьмя вершинами громада, которая, согласно преданию, была сестрой Горы, но они разругались и разошлись. Говорят, что когда-то высота заграничной сестры доходила до семи тысяч, но произошёл мощный взрыв, что нам доказывает огромный, более чем двухкилометровый кратер и обширная территория в несколько десятков километров, так называемый, вулканический пояс. Сколько раз я подходила к Горе, когда невозможно было подойти, потому что у её ног происходили распри, интриги, баталии, проливалась кровь; и правительство захватчиков, вступая в борьбу с господствующим населением, находит возможность затруднить восхождение для всех остальных, или вообще закрывает Гору. И тогда… тогда я подхожу к Горе во снах – частых и долгих, зачастую продолжающихся из ночи в ночь. Это сны, наполненные тоской и болью; сны, возвращающие к первородине, к первым шагам на суше, к любви ко всему сущему, живому, любви, которая вдыхает жизнь во всё, что нас окружает. Экзистенциальные переживания превращают сны в реальность, и тогда всё переворачивается в бренной жизни: я – не я, я гораздо старше, сильнее, мощнее, мои ноги, как корни, уходят в глубину земли и сливаются с той жилой, которая питает Гору. Долго буду помнить, как в период, когда Гора была закрыта для нас, в час забвения я ехала к ней на какой-то дряхлой повозке. Повозка скрипела, стонала, грозясь развалиться в любой момент. Лошадь, понурив голову, еле плелась, смирившись с участью. Вокруг – катастрофическое обеднение края, и ни единой живой души; впечатления от оставленных жизнью мест самые угнетающие – будто проезжаешь через каменистое поле, на котором каждый камень – голова. Ты боишься смотреть по сторонам, чтобы не встретиться с застывшим взглядом, но твои губы молятся, губы просят: «Гора, возьми, вознеси эти души, освободи их от каменных оков, от кровавых слёз, дай право им стать твоими ангелами, которые наверняка не будут сидеть без дела – они превратятся в крылья для тех, кто выдохся в пути, у кого воля к жизни пересохла, как источники в этом краю, кто потерял опору и не верит, что сможет идти, кто… Гора, возьми, вознеси эти души, освободи их, пока не налетело вороньё, которому всё равно, на чём сидеть и что клевать… Гора, возьми, вознеси…» Я уезжала в горный край из степной местности, где у меня остались в прискорбном состоянии отец и мать: не хотели, не хотели они отпускать дитя далеко от себя. Я ехала через осень с её шуршащими, потом слякотными дорогами. Я ехала через зиму, и ветер метал в меня снежные комья, швырял из стороны в сторону повозку, а она – скрипела, но тащилась, родимая. Я ехала через весну – эта весна была без птиц, но наполненная звоном ручьёв, местами превращающихся в бурные вешние реки, которые сносят на своём пути все преграды, играючи, волокут гигантские камни; оказывается, моя старая лошадь может плавать, а дряхлая повозка ходить кораблём. Я ехала через лето – знойное, безжизненное, пыльное. Я ехала, пока на горизонте, в полоске уходящего дня, не увидела Гору. Её скаты блестели бурой, местами чёрной окисью, а снежная вершина рдела в закатных лучах. Охватившая душу радость сделала меня лёгкой, невесомой. Оказывается, я могу летать! Но отчего мне так спокойно в этом, пожалуй, пока ещё чужом месте? Глубоко врезались в память тактильные ощущения – нет, я не летаю, я стою на руках отца и матери, которые, в свою очередь, крепко вросли в твердь: закрываю глаза, замираю, ощущаю шершавость земли, нет, не земли, а родительских рук, загрубевших от тяжёлого крестьянского труда, но тёплых-тёплых своим грубым и сухим теплом. Всё родное сошлось в одном месте и породило новое – мир и жизнь, гармонию и надежду, веру и волю. Помню, из забвения я вышла с писаницей на губах: «Я буду! Я смогу!» Но Гора продолжала оставаться в заточении и подход к ней разрешался только во снах. Окружающие недоумевали: – Зачем тебе снова идти на Гору? – Она зовёт, – отвечала я. – Сколько раз ты на ней уже была? – Три… три раза, несколько лет назад, а будто бы несколько жизней назад. – Неужели не интересно сходить на какую-нибудь другую гору. Например, Килиманджаро – это же круто, это звучит весомо! – не унимались мои собеседники, продолжая травить душу. И сны продолжали сниться. Я бегу к Горе, хочу успеть, потому что она вот-вот закроется. У меня не так много времени, вернее, его совсем нет. Ступни избиты в кровь – я бегу босиком по камням, колючим головкам татарника, обжигающему то жаром, то холодом пеплу. Солнце уже западает за горизонт, и по другую сторону всплывает белый холодный шар луны, камни блестят от изморози, тяжёлые облака накрывают города и сёла у подножия горы, превращаясь в безграничное пушистое море. «Но это же нормально, мы всегда выходим на вершину ночью, чтобы успеть взойти на рассвете, в час волка, когда природа затихает», – утешаю я себя, но продолжаю почему-то спешить: Гора закрывается! И вот, вот она – передо мной, с той, отчуждённой, стороны. И пусть говорят, что этот лик её несколько хуже, чем тот, к которому привыкли мои глаза, она – Гора, которая стоит на ступеньку ниже от Бога, в её власти впустить нас в Предбожье или нет, и неважно, с какой стороны. И почему я стою у каких-то каменных дверей, и на меня взирает смуглый мужчина с подозрительной физиономией. – Гора закрывается через тридцать минут, – говорит он сурово. – Вы не успеете подняться на вершину! – Я успею, я смогу, я быстро бегаю, – уговариваю его. Глаза мужчины загораются интересом, он смотрит на меня, как на лошадь на скачках: успеет или не успеет, придёт первой или не придёт… – Ну, беги! – пропускает он. И я бегу – к эскалатору, потом лифту, потом снова эскалатору, каменным ступенькам, железной лестнице… внутри Горы. Подъём на купол Горы, самый последний бросок перед вершиной, верёвочный. Бечёвка жжёт руки, сдирает в кровь кожу, но я лезу – до закрытия пять минут! Взбираюсь наверх, но кто-то тянет меня за ноги вниз: мелкие твари с цепкими ручонками и кожистыми хвостами. Это они, это они протягивали моей бабушке на последней стадии рака точно такую же бечёвку, предлагая «уйти». Я отбрыкиваюсь, скидываю их с верёвки, потому что моя верёвка – лестница в небо, нам не по пути. Три минуты до закрытия! Я врываюсь на вершину – на этот островок, с которого при хорошей погоде можно увидеть города сразу трёх стран: Ереван, Баязет (я никогда не привыкну к новому названию: Догубаязит!), Маку. Они так далеко, но так близко от подножия, что возникает ощущение – им просто лень взбираться, а то сошлись бы на ступеньке Предбожья. Господи, я свободна! Дышу! Живу! Люблю! Могу! Это – Араратский сон Счастья, к которому нелёгкий путь – через отчаяние, разочарования, кровь и пот. Но Гора ко мне добра, она показала короткую и быструю дорогу: не за три дня до вершины, а за тридцать минут! Этот сон снится мне раза три-четыре в год, повторяясь в тех же деталях и эмоциях.

Последние комментарии
1 час 13 минут назад
3 часов 31 минут назад
5 часов 21 минут назад
11 часов 6 минут назад
11 часов 12 минут назад
11 часов 16 минут назад