Тень [Виктор Александрович Шмыров] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
В. А. Шмыров Тень



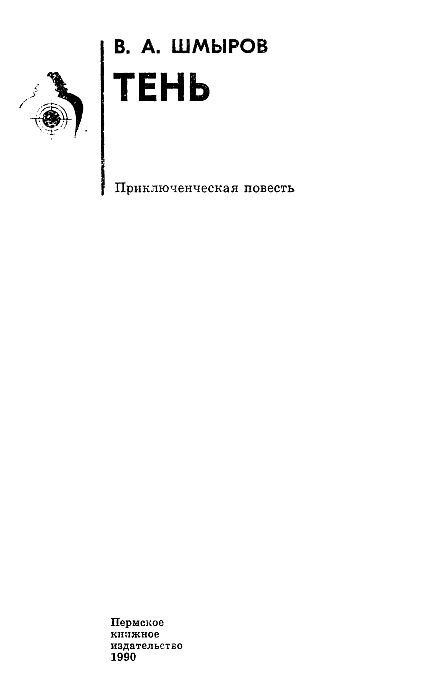
Солнце палило немилосердно и люто. Он не мог припомнить другого такого лета в некороткой своей и всякого, в общем-то, полной жизни. Даже тайга примолкла под навалившимся тяжким зноем, не шумела в застойном безветрии, не рассыпалась обычными каждодневными шумами, была неживой, пустой и хмурой; адово жарево разогнало по норам и дуплам все сущее, желтило, крутило в трубку березовый лист, валило высокую траву на высохших луговинах, прокалило не только песок и гальку бечевника, по которым ступал Тимоха, но и густой воздух вокруг. Одно благо: прибило, разогнало несусветным зноем нестерпимый, злой и жадный таежный гнус, не пел он тонко сейчас, не звенел вокруг, и Тимоха даже разделся по пояс, скатал зипунишко и подвязал к торбе, а пестрядинную рубаху обмотал вокруг головы. Который день уже брел он по берегу этой реки, всегда холодной, но в этакое пекло не приносившей свежести. Темная вода, лежавшая глубоким недвижным стеклом и лишь на перекатах мелко рябившая, слепившая глаза острым и переменчивым блеском, казалась с берега такой же вязкой и жаркой, как и воздух; только зачерпывая ее в горсть, обтирая лицо и шею, Тимоха всегда неожиданно ощущал ее глубокую студеность. Не проходящее третью неделю пе́кло не только до черноты обожгло его кожу и высушило и без того тонкое тело, но медленно выжигало саму душу. Он давно уже не думал ни о чем, не бормотал ни заклятий, ни молитв, шагал тупо, отстраненно, как большой двуногий зверь, и, как зверь же, скотина неразумная, бездушная, не видя и не замечая ничего специально, чутьем, инстинктом извечным, примечал все вокруг: и извивы реки, и отметные горушки, и белесые песчаные обмыски, и скрипучий галечник под ногами. Инстинкт этот, верный и безошибочный, звериное чутье вольного человека, таежника, бродяги, споткнулись о блеск жаркого металла среди окатанных речной водой камушков. Тимоха немо уставился на него, пробуждая медленно, постепенно и неохотно разум, недоверчиво оглядел сверху, скинул со спины скроенную из козьей шкуры мехом наружу торбу, присел на нее, утер со лба и бороды капли пота и протянул руку. На ладони лежал жаркий, прокаленный солнцем насквозь самородок. Находка не взволновала — не первое золото в руках. Сколько его уже прошло, но счастья не принесло. Ни счастья, ни денег... Он катал тяжелую горячую гальку в руках и, просыпаясь, выныривая из тягостного долгого безвременья, удивленно и внимательно осматривался кругом, озирая широкую здесь, в плесе, реку с островком напротив, подступающий к самому берегу кедрач, склоняющееся к нему солнце, зыбкую горную гряду, темневшую вдали за рекой. «Вот коли бы там, дома...» — думать было лень. Небрежно сунув золото в мешок, занялся устройством становища. Он натаскал с опушки сухого валежника, порубил его и зажег на галечнике, недалеко от воды, костерок. Подвесил над ним вынутый из торбы медный котелок, зачерпнув воды и сунув туда несколько ломтей темного сушеного мяса. Потом, отойдя подальше в чащу, нарубил лапника, перенес его к реке и здесь, подле ствола могучего кедра, быстро выстроил себе балаган. Пока варилось мясо, Тимоха, обшарив окрестности, отыскал вывернутое ветровалом несколько лет назад и уже подсохшее дерево, вырубил саженный сатунок и расколол на плашки. Затем, уже у костра, тщательно обтесав и выскоблив их топором, наточенным о большой валун, принялся мастерить корытце. Тем временем и солнце село. Замешав похлебку толокном, Тимоха съел половину, убрал остатки в балаган, бросил туда же торбу и зипун, загасил костерок и, равнодушно перекрестившись на восход, сам забрался в шалаш. Уснул мгновенно и крепко. Людей здесь, кроме него, не было, а зверей он давно уже не боялся. Через несколько дней, в течение которых Тимоха вдоль и поперек исходил, исползал долину реки и ближайшие ее притоки, он снова сидел у костра. Наскоблив с днища котелка сажи, растер ее с жиром и несколькими каплями похлебки на плоском камне; от холстинки, в которую заворачивал сухари, оторвал лоскут в две ладони величиной и острой щепкой нарисовал реку, притоки и ручьи, остров напротив, свой балаган, горный кряж. Крестиками на чертеже Тимоха отметил место, где были найдены самородки. Просушив рисунок у огня, аккуратно сложил и убрал в кожаную мошонку, туго набитую намытым песком. В другом мешочке лежали три самородка: кроме первого, самого крупного, немногим меньше голубиного яйца, на притоках он нашел еще два, поменьше. Потом разбил и бросил в огонь корытце, аккуратно разобрал и спалил балаган, долго сидел у костра, ворошил ветки, пока последние не сгорели, а уголья не остыли; золу и верхний прокаленный слой песка с галечником горстями сносил в реку, забредая далеко в воду, подмел бечевник еловой лапой и кинул туда же. Осмотрев все кругом внимательным цепким взглядом, собрал нехитрые свои пожитки, запихал в торбу, сунув на самое дно мешочки с золотом, обвязал голову рубахой и, взвалив мешок на голые плечи, не оглядываясь, пошел прочь в звенящем мареве жаркого июльского дня.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗОЛОТО

1. Вилесов Александр Григорьевич, директор Чердынского краеведческого музея. 13 июня 1974 г., г. Чердынь.
Боев пропал. Александр Григорьевич, не дождавшись его ни вчера, ни позавчера, поутру заглянул к детскому дому, постоял над ямами, выдержал яростный натиск технички и даже отпор дал, потом завернул к Лобанихе, но, получив и там отповедь, понял тогда, что Боев пропал окончательно, в волнении затрусил в музей, где, наскоро обежав залы и испугав смотрителей, перелистал переписку, выдернул нужное и заспешил в милицию. Там, сидя на старом кожаном диване — тоже пора в музей забрать, руки не доходят, как раз для давно задуманного купеческого интерьера, — он сперва ждал, пока Валерка Лызин закончит с двумя длинноволосыми парнями (один вологжанинский, другой, кажется, нечаевский) малоприятный разговор о каком-то пропавшем велосипеде, потом, пересев на жесткий стул перед столом, который уже ни в один интерьер не был годен, сбиваясь и путаясь, рассказал обо всем. Лызин выслушал невозмутимо, помолчал, пожевал губами и спросил: — Так в клад-то вы серьезно верите? — Да как сказать, Валерий Иванович, — мялся Вилесов, — маловероятно, кажется, чтоб Олин бросил все в земле, а сам за рубеж... Да, с другой стороны, в восемнадцатом-то у него в самом деле мало что нашли. Только вещи да посуда. Так, несколько десятков тыщ... мелочь по его масштабам! — А он что? Объяснял как-то? — Конечно! Тогда ревком им занимался. Да он твердил, что обанкротился на поставках кожи в армию. А так или не так, поди разберись, тогда не кончили, а потом Колчак пришел. — И он, значит, сбежал, а денежки в землю?! — Кто его знает, как там было... Но ушел без больших капиталов, точно. Во Франции дело почти с нуля начинал. — Вилесов задумчиво потер сухой ручкой щетинистый белесый подбородок. — А здесь почему мог оставить? Надеялся, может, что обратно вернется, никто же из них тогда нашу власть всерьез не принимал. Или боялся, что освободители по дороге того, грабанут; в армии-то колчаковской какого только сброду не было... — Н-да... Короче говоря, существование клада не исключается? — Конечно, конечно! — обрадовался Александр Григорьевич. — Именно так, не исключается! — Ну, когда этот бродяга объявился? — Дней десять назад. Или чуть больше, сейчас, вспомню... — Вилесов наморщил лоб. — Ну да, мы тогда выставку готовили к Дню защиты детей, значит, это накануне было, в субботу! — Как он представился? — Не помню точно... запарка была, а тут он. Начал что-то говорить, а мне не до него, попросил погулять, музей осмотреть. — Недоверия он не вызвал? — Нет, наоборот. Одет просто, аккуратно, разговаривал вежливо. Да я сразу и не понял, что он в связи с этими письмами, — указал Александр Григорьевич на принесенные им бумаги, которые Лызин с усмешкой уже успел пробежать и положить, подровняв, перед собой, — что он их автор. Только вечером, когда второй раз пришел, все объяснилось. — Документы какие предъявил? — Да нет, — снова заробел Вилесов, — не видел я документов, не догадался спросить, как-то не до того было. Он про письма вспомнил, я нашел, разговорились. А документы как-то не пришлось... Лызин снова усмехнулся, но уже не добродушно, а сердито: — И вы ему сразу поверили! — Да нет. Не совсем... — Чего ж кладоискательством занялись? — Очень уж он сам уверен был. Только-только освободился, бросил все, даже домой не заезжал, сразу через полстраны сюда, на последние, можно сказать, деньги, а мы ему сразу от ворот поворот? Вот и решили, пусть покопает... Ведь даже, если клад и есть, найти его на такой усадьбе сложно, там больше пяти гектар. Лызин хмыкнул. — Ну, рассказал он вам о сокровищах, дальше что? — Потом копать стал. — Один? — Да нет, мы к нему Галину Петровну приставили, — поспешил Вилесов, почувствовав в интонациях следователя новый упрек в ротозействе, — научного сотрудника отдела древней истории. Она археолог по специальности. — Ну! Копать, значит, умеет? По науке клад искали! А где она сейчас, ваша Галина Петровна? — В Перми, на семинаре. К следующей неделе вернется. — Понятно... — протянул Валерий Иванович. — Ну, и нашли чего? — Да нет, до субботы ничего не было. А потом он стал траншею рыть, после обеда радостный прибежал, стопку мисок принес. Но миски эти к олинским кладам отношения не имеют, они еще в восемнадцатом веке, лет за сто до его рождения, были сделаны. — Где они сейчас? — В музее, в кабинете у меня. Нужны? — И, увидев утвердительный кивок, заспешил: — Давайте я позвоню! Кто это? Марина? — спросил, набрав номер. — Слушай, Мариночка, у меня в кабинете на окне стопка мисок, да, да, тех самых, принеси, пожалуйста, в милицию, в кабинет к Лызину, прямо сейчас, да, да, мы ждем! Ну вот, — довольно повернулся к Валерию Ивановичу, — сейчас принесут. — А миски эти, — спросил тот, — он один, без археолога вашего нашел? — Да... — снова растерялся Александр Григорьевич. — Я понимаю, его, наверное, не нужно было одного оставлять, но людей у нас и так мало. Лето, отпуска... Да и вообще... — Понятно, понятно, — махнул рукой Лызин, но так махнул, что Вилесову показалось: мол, шляпа ты, старая шляпа! — Значит, вы считаете, что к Олину находка отношения не имеет? — К последнему Олину, — уточнил Вилесов. — Ну, конечно, к последнему, — согласился Лызин. — А как он на это прореагировал? — А я ему ничего не сказал. — ?! — Да он так обрадовался, что у меня духу не хватило разочаровать. Думал — потом. А он считал, что на верном пути, такой обрадованный, даже обедать не пошел, хотя столовая закрывалась, обратно побежал. В воскресенье же, к вечеру, зашел, сказал, что под брандмауэром ничего нет. Расстроенный очень был, больше я его не видел. — То есть к вам в музей он больше не заходил? — Нет, не заходил. Ни позавчера, ни вчера. А сегодня я сам был у Лобанихи, он у нее останавливался, так она говорит, тоже со вчерашнего дня не видела, не ночевал. Ругается, говорит, сбежал и не заплатил. — Ругается, значит, — откликнулся Лызин. — А может, он в самом деле сбежал? Надоело ковырять землю, вот и уехал. А? — Может, и уехал, — насупился, обидевшись на ехидные лызинские интонации, Александр Григорьевич. — Найти его надо... Лызин помолчал, глядя куда-то в сторону, пожевал губами. — А зачем? Зачем, спрашиваю, искать? — спросил вдруг резко, повернувшись к Вилесову, лег почти грудью на столешницу. — Чтобы с Лобанихой рассчитаться? Или вы полагаете, клад он нашел и скрыл? Тогда пишите заявление! На каком основании дело возбуждать? Если мы так каждого ханурика искать будем, то... — Не знаю, — надулся вконец Вилесов. — Не знаю насчет клада. Не думаю. Но узнать надо, да и не дело так — копал, копал, бросил и уехал, не сказавшись. — И еще, — добавил, помолчав. — Он у меня еще деньги увез... — Как увез? Украл? — Да нет, я ему сам дал, авансом. Кончились у него, перевода не было. Он за это должен был дрова расколоть. Мне за них отчитываться надо, пятьдесят рублей. Не расколол ни полена. — Так, так. Ну вот, еще и деньги! Еще что-то есть? — Да... — замялся Вилесов. — Он у брандмауэра грядки с клубникой перекопал. Технички детдомовской. Она возмещения требует, в суд грозится подать, а копали-то не мы! В дверь тихо поскреблись, и на пороге появилась Марина — однофамилица Лызина и, кажется, дальняя родственница, симпатичная девчушка, работавшая в музее хранителем. — Здравствуйте, — едва слышно произнесла, не поднимая глаз от пола. — Я принесла. Вот. Протянула сверток. В нем оказалось шесть вставленных, как матрешки, одна в другую глиняных глубоких мисок. Все шесть были одинаковы: толстостенные, иссиня-черные, блестящие, словно лаком покрытые. По бортику у каждой вился лепной орнамент — виноградные гроздья, листья, лоза. Валерий Иванович щелкнул по нижней ногтем — звук был высокий, чистый, звонкий. — Вы считаете, им двести лет? — спросил он с сомнением Вилесова. — Да. Точно. У нас есть аналоги. — А зачем их в землю? — Трудно сказать определенно. Может, на счастье? Когда брандмауэр начинали строить? — Ну ладно, разберемся, — отодвинул их на край стола Лызин. — Они пока у меня полежат. — А как же? У нас учет. — У нас тоже, — Лызин достал бумагу и ручку. — Я вам расписку напишу, не волнуйтесь, не такие ценности храним. Он быстро черкнул и протянул листок Вилесову. — Пока все. Боева мы найдем, но если что-нибудь еще узнаете, звоните. До свидания.Чердынский краеведческий музей. Вход. 748 от 16. 03. 72 Академия Наук СССР Чердынский краеведческий музей. г. Чердынь Пермской области. Директору. 3865/272/2 от 10.03.72. Пересылаем Вам для ответа по существу письмо Боева Георгия Павловича.
Г. В. Онуфриев
Чердынский краеведческий музей. Вход 748/2 от 16. 03. 72 Уважаемый гражданин президент академии наук. Прошу Вас ответить мне на такой вопрос: имеются ли приборы, которые могут находить спрятанные под землей золотые вещи? А дело вот в чем: мой отец, Боев Павел Порфирьевич, до революции служил у чердынского купца Олина приказчиком. Когда этот купец-эксплуататор прятался от Советской власти, тогда зарыл свои сокровища в землю, а зарывать ему их помогал мой отец с каким-то еще человеком. Отец был человеком темным, не понимал, что делает, да и сокровищ-то не видел, только ямы копал. Потом всю жизнь отец боялся, напугал его купец сильно, только перед смертью матери рассказал, а она потом мне передала. Где точно зарыты сокровища, отец не знал — ямы рыли по всей усадьбе, чтобы, наверное, с толку сбить, потому и нужен прибор, который золото находит. Сам я в Чердыни никогда не бывал, родился уже после, но где находится усадьба и какие на ней постройки знаю, мне мать подробно все рассказала. Фамилия купца — Олин, а в доме его после революции, говорят, милиция была, там и надо искать. А что купец сокровища спрятал — точно, у него, мать говорит, все время потом обыски были, даже землю красноармейцы рыли, самого под арест сажали, но так ничего и не нашли. Мать моя тогда тоже у купца этого в служанках была, помнит. А он ведь самым богатым купцом был, миллионщиком. Куда же все богатства делись, коли не спрятаны? Как я понимаю, богатства большие, и теперь они народные. И их найти, раскопать нужно, чтобы они народу и достались. А мне ничего не надо. Если, конечно, как говорят здесь, мне полагается четвертая часть, тогда конечно, а если нет, то ничего и не надо. Отец это велел рассказать про сокровища. Я бы сам мог показать, как мне мать объясняла, да сейчас поехать не могу, не от меня зависит, но если понадоблюсь, то я с удовольствием, напишите только моему начальству. А можно и без меня. Пошлите кого-нибудь с прибором, что золото отыскивает, говорят, у вас такие есть, в город Чердынь, на Урал, пусть посмотрят. Мой адрес: г. Шаартуз, п/я ОР 806/6. Боеву Георгию Павловичу.
Тов. Николаеву разобраться. 5. 03. 72.С приветом!!!
Направить в Чердынский музей для ответа. 6. 03. 72(подпись неразборчива)
А. Николаев
Чердынский краеведческий музей. Вход. 986 от 6. 04. 72 Здравствуйте, уважаемый товарищ Вилесов! Отвечаю на Ваше письмо. Вы пишете, что в моем письме в академию наук не все точно, что в доме купца Олина никогда милиции не помещалось, а всегда был детский дом, а милиция в доме купца Крестовникова, на это отвечаю, что отец, может, и ошибся, спутал или фамилию купца, или дом. Мать моя умерла в позапрошлом году и поэтому помочь вам тоже не сможет. Думаю, что искать надо, где милиция. Лучше было бы, если я смог сам приехать и на месте вспомнить, как там мать рассказывала. Но это не от меня зависит, напишите начальнику товарищу Шубину Виктору Герасимовичу по адресу: г. Шаартуз, п/я ОР 806/6.
С приветом Боев!!!
Чердынский краеведческий музей. Вход. 1018 Чердынский краеведческий музей. г. Чердынь Пермской области. Директору Вилесову А. Г. № 4521/21/11 от 26.08.72. На ваше письмо № 478/2 от 22.07.72 сообщаю, что гражданин Боев Георгий Павлович отбывает наказание в исправительно-трудовой колонии усиленного режима по статье № 228 УК РСФСР[1]. До истечения срока наказания все вопросы, связанные с его передвижением, решает Верховный суд РСФСР.
Р. S. Письма Боева и его рассказы большого доверия не вызывают. Они тут и не такое сочинят, лишь бы вырваться на несколько дней.Подполковник Шубин В. Г.
2. Лызин Валерий Иванович, начальник отдела УГРО ОВД Чердынского райисполкома, капитан милиции. 13 июня 1974 г., г. Чердынь.
Это же надо придумать: шаромыга заезжий, кладоискатель, потерялся, пропал, а ты ищи! Своих хануриков мало? Да и вообще, куда он мог деться? Да никуда. Известно, тунеядец, вольный человек, сегодня здесь, завтра там. Поведение непредсказуемо. Надоело землю ковырять, вот и ушел. Куда? Да мало ли куда, страна большая... Но и эти, музейные, хороши! Чего у них только не случается?! То ерунду какую-нибудь, ложки-плошки, что по деревням мешок за полчаса насшибать можно, сопрут, то в подвал интернатовские заберутся, костер запалят, а сейчас купеческое добро с проходимцем искать затеяли, анекдот! Оригиналы! Первого встречного берут клады искать, сокровища миллионные и даже документов не спрашивают, верят, видите ли! Святая простота, как таких к музейным ценностям приставляют? На почту ходил... за переводом... Документы должны были быть. Где же он паспорт-то получил, коли, по его же словам, домой не заезжал? Что-то здесь не то. Темнит ханурик. Да и друзья... Пробежав оставленные Вилесовым бумаги еще раз, Лызин потянулся к телефону, набрал номер. — Алло! Петрович? Привет! Да, опять я. Узнай там у своих девиц, не обращался ли в течение двух последних недель за корреспонденцией до востребования Боев Георгий Павлович. Если получал, то что, когда и какие документы предъявил. Да, жду... — подвигал плошки, помолчал. — Как там рыбалка? Где? На Кривом? Ну, ничего, ничего. Телеграмму даже отбил? Когда? В воскресенье вечером? Они не путают? Ну ладно, ладно... Телеграмма мне эта срочно нужна, разыщи и пришли. Ага, постановление потом сделаю. Ну пока! Вот так вот. Не так уж он и прост, этот шаромыга-кладоискатель, Боев Георгий Павлович. Друзей-товарищей имеет, деньги ждет, телеграммы шлет. Все нормально. Всякий человек имеет друзей-товарищей, которым при случае можно телеграмму отбить и которые выручат в трудный час, денежки пришлют. Каждый человек далеко не прост. Было бы хуже, коли б не было друзей, телеграммы, паспорта. Придется его, видно, все же искать, устанавливать охотника за кладами, искателя сокровищ, хоть и без него совсем не скучно было. Ну да ладно, все равно в детдом из-за ограбленного киоска «Союзпечати» идти надо... По дороге в детдом Валерий Иванович завернул к Лобанихе. Пробо́й входной двери в ее половину был заткнут щепочкой, что означало кратковременное и недалекое отсутствие хозяйки. Лызин пересек выложенный старыми полусгнившими досками двор и толкнул калитку в огород. Старуха поливала огурцы. — Здравствуй, Савелишна, — подойдя, прокричал в ухо. — Будь здоров, милай, — ответила приветливо та. — Будь здоров. С чем пожаловал-от? — Да вот огурчики твои попробовать, хороши, говорят, больно. — Так ить у тебя самого хороши, кто с бабкой-от твоей, царство ей небесное, ровниться мог? Ты ее поминаешь ли? — Поминаю, Савелишна, поминаю! — Да уж жди вас, помянете. Ты еще, может быть, не пьешь так-от, некогда тебе, а мои-то, как жрут ее проклятую, как жрут! Оне помянут! Схоронить-от не сладят толком! — качала сокрушенно старуха головой. — Так ведь ты по кватиранта мово поди пришел? — догадалась она и выпрямилась. — Ну, Савелишна, из тебя сыщик хоть куда! Пойдешь ко мне работать? — Мы свое отробили, теперь уж вы, молодые; да и работа у тебя не баская, арестантов ловить... Пойдем-ка в избу, чего здесь-от толковать. Перед тем как уйти из огорода, старуха аккуратно повесила медный ковшик, из которого поливала грядки, на край деревянной бочки, стоявшей под навесом крыши, туда же, под свес, пристроила вверх дном ведерко, поправила пленку, неровно свисавшую с парника, и, выходя, прикрыла плотно дверь, набросив ременное колечко. В комнате, или, как говорила сама Савелишна, в горнице, она усадила Лызина за покрытый вымытой до белизны клеенкой стол и поставила перед ним большую эмалированную кружку с квасом. — А че он натворил, кватирант-от мой, пошто ты его ишешь? — Да, говорят, задолжал он тебе, вот и ищу, чтобы рассчитался. — И-и-и..! — укоризненно протянула старуха. — Веть пятый десяток поди пошел, а все шутки шутишь. Долги наши, кто должен кому, на том свете сочтутся. А тебе, коли говорить нельзя, так и скажи, не скоморошничай... Ну ладно, — тут же отошла она. — Спрашивай, чего надо. — Когда он пропал, квартирант твой? — Да кто его знает? Позавчера ночевать не пришел, я допоздна ждала, радио вон слушала, — кивнула на старый, тарелкой, репродуктор на стене, — пока не замолчало. До того два дни из избы не шагивал, лежал все на постеле, а как дружок за ним пришел, так он при мне боле не воротался. — Какой дружок? — А я почем знаю? Но только приезжий, не наш. Позавчера, после обеда, и объявился. Я во дворе была, курятник починяла, когда он пришел. «Здравствуйте, говорит, бабушка, не у вас ли Григорей Павлович проживают?» А я говорю: «У меня, в горницу вон к нему ступайте». А скоро оне вместе и вышли, с тех пор я его больше и не видела. — Как он выглядел, дружок-то? — Да молодой совсем, годов тридцати, не боле. Модный такой, в штанах синих, узких и куртке такой же. На глазах очки большие, черные, в железной раме. — Высокий, низкий? — Да с тебя будет, не ниже, только потоньше, у тебя-от вон и пузо ужо растет. Волосы черные, на косой пробор. А боле ничего не приметила. — А в руках у него что-нибудь было? — Да нет, кажется, не было. — А раньше ты его не видела? — Не-е... Не нашенский он, я чердынских-от почитай всех знаю. — Понятно... — протянул Валерий Иванович. Мало было шаромыги-золотоискателя, еще и дружок объявился, пижон приезжий в джинсовом костюме. Теперь и его устанавливай. Ишь, как они полезли, как грибки. Если так и дальше пойдет, впору будет остальные дела в архив сдавать. Ну да ладно, пижона установим, приехал же он как-то в город, значит, кто-то видел. — Вот ты сказала, Савелишна, что постоялец твой последние дни на постели лежал, он что, и копать не ходил больше? — Ну да. В субботу пришел ввечеру, а когда — сказать не могу, в церкву я к вечерне ходила. Уходила — его еще не было, а пришла — он уже спит. Да вроде как пьяненькой. — Как догадалась, что пьяный? — Да я ее, зелье сатанинское, за версту чую! Немного он вроде и выпил-от, утром здоровеньким встал, не то что мои идолы, а дух-от на всю избу. Я даже дверь отворяла. — А до того не пил? — Ни разу! Я думала, чай леченый? — Понятно, понятно... А скажи-ка, с субботы и до вторника он совсем никуда не ходил? — Того не ведаю. Может, и ходил куды, когда меня дома не было. Я ведь не привязанная. А при мне — нет. — Так... Вот ты сказала, при тебе больше не возвращался. А без тебя что, заходил? — А я вчера долго дома не была. К подружке своей, к Анастасии Никитишне, ходила, прихворнула она, уже неделю целую в церкву не хаживала, вот и пошла проведать. Потом в магазине пододеяльники давали, очередь стояла, а потом меня девоньки чай зазвали пить с шаньгами. А когда вернулась, смотрю: постель, где спал-от он, перевернута вся, я не так застилаю, и половики посбиты. Заглянула под кровать, а чемоданчика его нет. Сбег он, пока я гулевала. Сбег и денег не заплатил, да деньги-от, бог с ним, с деньгами, не велики, только не по-людски делать-от так, та́ем! — Александра Григорьевича Вилесова-то за это и отбрила? — Музейного? Ну да! Это он его ко мне направил, знает, что скучаю одна-от, потому хороших людей и пускаю пожить. А тут прибегает и давай шуметь — где кватирант, где кватирант! Когда уехал да куды! А я что, караульщица? Не приставлена, ради бога! От и сказала. Обиделся, улетел! — Ну ладно, Савелишна, я потом еще зайду, расскажешь, что знаешь, о постояльце, а пока идти надо. — Беги, беги, трясись с богом. Вот такие пироги... Что там случилось, в субботу? Не клад же, в самом деле, нашел! Телеграмму послал, выпил и рыть перестал. Не по случаю ли находки шести глиняных тарелок такой банкет?.. Или тоже понял, что туфта, и отчаялся? Масштабы кладоискательства Валерий Иванович оценил полностью только во дворе детского дома. Следы перекопов, шурфов и закопушек виднелись повсюду: прямо у входа, у каменных столбов ворот, цепочками тянулись вдоль выложенного тяжелыми лиственничными плахами забора, вблизи фундаментов стен дома и многочисленных дворовых служб. Хорошо хоть детишки в лагере, оценил Лызин. Не то бы они тут такое устроили! Все пять га перелопатили бы. Да еще не раз. Что, интересно, Вилесов придумал, как объяснил раскопки? Не сказал, надеюсь, что богатства хозяйские ищут? Хотя с них станется... Все закопушки, кроме траншеи у брандмауэра, отделявшего купеческие амбары от хлевов и сараев, были закиданы землей, а некоторые и заложены обратно дерном. Траншея же зияла узкой, в полметра, разверзшейся щелью. Лызин присел возле нее на корточки и сверху стал разглядывать слоистые, как пирог, стенки, неровное щебенчатое дно. Примерно в середине траншея расширялась в бесформенную, неряшливую яму. К стене была прислонена старая ржавая лопата со сломанным, грязным черенком. Лызин наклонился и вытянул ее наверх. «Неужели этим чудом копал? — поразился. — Что это Вилесов — не мог приличным инструментом снабдить, боялся, что сопрет?» — Дядя! — оборвал мысли детский голосок. — А правда — вы из милиции? Рядом стояла девчушка в стоптанных сандальках на босу ногу и застиранном фланелевом платьишке. Сандальки были разными: правый — коричневый, с дырочками поверху, левый — красная плетенка с оборванным ремешком. Коротко стриженные волосы были украшены обломком гребня. — Правда, а что? — Скажите Кольке, чтобы Катьку отдал! — Какую Катьку? — Куклу. — А кто такой Колька? — Колька-то? Шкряба! Он вас боится! — А, Шкряба, хорошо, скажу. А ты почему не в лагере? — А у меня и еще у Леры, Зины и Петьки инфекцию нашли, грибок! — А Колька? — Колька из лагеря сам сбежал. Позавчера. И сюда пешком пришел, — округлила глаза девчушка. — Понятно... А что это у вас рыли, не знаешь? — Я не знаю. Петька говорил, что строители смотрели, крепкие ли стены под землей. Дом-то ведь наш очень старый, еще до революции, при царе, построили. Здесь купец жил, самый богатый! — Да ну?! — Да! Колька здесь вчера даже денежки нашел! — Где здесь? — Да здесь, в яме, — она указала рукой на траншею. — Они вчера с Петькой здесь копали и денежки нашли. — Какие денежки? — Я не знаю, они нам не показывали. Они их спрятали сразу. — А ну-ка, давай сюда Шкрябу! Скажи, что его дядя Лызин срочно зовет, я тут ждать буду. Деньги оказались золотыми. Валерий Иванович долго вертел в пальцах блестящую желтую монетку. Она была на удивление небольшой, не больше двугривенного. На одной ее стороне был оттиснут герб Российской империи — двуглавый хищный орел с высунутыми языками, и надпись под ним: «СПб» и «1889». На другой стороне значилось достоинство — десять рублей. — Где вы ее нашли? — Вон там, на дне лежала. — Одна? — Лежала одна, а когда покопали, другую нашли. — Где она? — У Петьки. — Вот что, Колька, давай тащи и Петьку и монету скорее сюда. Деньги эти для меня очень важные. Я вам конфет куплю и билеты в кино. — Ну да, конфеты! Они вон, десять рублей стоят, это сколько купить можно! — Ну и что, что десять? Они же старинные, значит, сейчас недействительные. Ну ладно, может, премия какая еще выйдет, велосипед, может. И шкоды твои прощу. Понял? Только вы тут больше не ройтесь. Сам не копай и другим не давай. Понял? Я на тебя надеюсь, давай беги, неси денежку. Проводив Шкрябу, Лызин спрыгнул в яму и тонкими слоями стал срезать лопатой землю со стенок траншеи. Неужели клад вправду существует? Мистика и фантастика. Сокровища затонувших кораблей. Так, выходит, он и в самом деле сбежал? Скрылся с золотом купеческим. Ай да ханурик! Теперь его поискать... Почему деньги прямо в земле? Посудина какая-нибудь должна быть. Не мог же купец их просто так, в яму, не гвозди... А с этим всем что делать? Отвалы просеять придется, может, руками перебрать, что там еще на лопате вылетело... Охрану поставить? Закопать траншею? Надо в прокуратуру да в Пермь, в управление, сообщить, все равно дело к ним уйдет. Ай да шаромыга, старичок-боровичок!Телеграмма
586/12 1832 0906 отпр. 1656 Срочная Куда, кому: г. Свердловск, ул. Пионерская, д. 87. Карлову Сергею Ивановичу. Срочно высылай деньги Коммунистическая 146 выезжаю. Отправитель: г. Чердынь, до востребования.Боев Г. П.
Рапорт
В ходе порученного мне розыска мною были опрошены пассажиры теплоходов «Заря», автобусов и самолетов, а также их экипажи, прибывшие в Чердынь за период с 9 по 12 июня. Разыскиваемого лица по приведенным приметам никто не опознал. 15. 06. 74Инспектор УГРО ОВДмладший лейтенант Молотилов
Рапорт
В ходе порученного мне розыска мною было установлено, что гражданин Чугин Константин Иванович видел Боева Г. П. с неизвестным, похожим на разыскиваемое лицо. 18. 06. 74Инспектор УГРО ОВДмладший лейтенант Молотилов
Начальнику Уголовного розыска Лызину В. И. Я, Чугин Константин Иванович, видел гражданина Боева в понедельник, около 3 часов дня, когда ходил в магазин за хлебом. До этого Боева я видел неоднократно во дворе детского дома, куда заходил к завхозу насчет работы. У магазина Боев вместе с неизвестным мне молодым человеком в синем джинсовом костюме и темных очках усаживались в «Жигули» синего цвета. На машину я обратил внимание потому, что у моего сына, живущего в Перми, машина такая же точно. Номер не заметил. Куда уехала автомашина, не видел. Записано мною собственноручно. 18 июня 1974 г.
Чугин
3. Никитин Евгений Александрович, старший инспектор УГРО УВД Пермского облисполкома, капитан милиции. 23 июня 1974 г., г. Чердынь.
Удивительный этот городок — Чердынь. Уснувший. Где вот только в нем принцессу искать? Спящую красавицу. Есть же еще такие места на земле! Вне времени. Который раз в нем, а привыкнуть не могу. Пожить бы здесь годика два, отдохнуть за все разом. Или хотя бы полгодика... Прохожие редкие и те сонные! Ну, понятно: субботнее утро, куда им спешить? Разве в булочную, за батоном свежим, к неспешному завтраку. С натуральным молоком, от настоящей живой коровы, конкретной Буренки или Розочки, а не полумифического существа, изображенного в молочном на Комсомольском! А ведь и в Перми сегодня субботнее утро, но разве там до сна кому? Нет, положительно жить следует не там, в толчее и спешке, а в таком вот полугородке. Вышний Волочек! Хотя, куда там Вышнему Волочку до этого монстра? Там даже заводы есть, а здесь одни кочегарки... Клад! Это же надо придумать! В Перми смешно, а здесь в порядке вещей. Дома-то сплошь купеческие. Хоть под каждым клад ищи. И во дворе у каждого, за сарайками и купеческими же хлевами-амбарами, огороды, лучок прямо с грядки, огурчики. Даже баньки. Двадцатый век лишь в провода́х да разбитых дорогах. Да в запущенности... Купчишки бы свои хоромы поберегли, до такой срамоты не довели. Латали бы и белили-красили вовремя. А все равно приятно. Ездим всё, суетимся — Золотое кольцо, Серебряное... Там, конечно, поухоженней будет, но зато как перестроено! А здесь всё, как при Горохе, даже тротуары деревянные, скрипучие. Или при нем другие были какие? И куда власти городские смотрят? Сюда туристов возить — золотое дно! Эльдорадо! А кто знает, что такая жемчужина доисторическая на севере, в тайге, завалялась? Хоть бы открытки изда́ли или слайды. В таких мыслях Евгений Александрович и дошагал незаметно до железного, кованного нижегородскими умельцами крылечка райотдела. Дежурный — толстощекий, румяный и кудрявый младший сержант — откровенно дремал, сидя за застекленным окошечком подле автоматического пульта. — Эй! — постучал ногтем по стеклу Никитин и даже слегка присвистнул. — Эй, мо́лодец, проснись и пой! Сержант посмотрел на него строго и осуждающе. «Экий Алеша Попович!» — подумал Евгений Александрович. И подмигнул сержанту: — Где ее искать-то? — Кого? — Да принцессу! — Какую? — Спящую. — Вы что это, гражданин? — выпрямился дежурный. Шутить богатырь расположен явно не был. — Вы это что? Документы предъявите! — Вот, пожалуйста, — протянул Никитин удостоверение. — Извиняюсь, товарищ капитан, — сон с Поповича слетел разом; он даже фуражку откуда-то из-под стола выхватил и, бросив на кудри, пальцы к козырьку приложил. — Младший сержант Попов! Не признал. А мы ждем, когда вы позвоните из аэропорта, вот и машина караулит. «Надо же, — поразился Никитин, — точно, Попович! Вот так город кладов, джиннов и чудес! Все чудесатее и чудесатее, как Алиса говорит!» — Послушай, — обратился он к сержанту, — а тебя случаем не Алешей, не Алексеем звать? — Никак нет, — отрапортовал тот. — Владимиром. Владимир Кузьмич Попов. — А-а... — разочарованно протянул Никитин, словно в лучших ожиданиях обманулся. — Вызови-ка мне Лызина Валерия Ивановича. — Сейчас, товарищ капитан, позвоню, он давно вас ждет. Вы пройдите сюда, — распахнул дверь дежурки. — Нет, спасибо, я лучше на улице. Усевшись на простую деревянную скамью — доску на двух врытых в землю чурбаках, напротив кованого крыльца и рядом со стендом «Их разыскивает милиция», — Евгений Александрович закурил. Машины, о которой говорил дежурный и которая, по его словам, дожидалась первого зова Никитина, нигде видно не было. На ее счет сержант заблуждался вполне честно и добросовестно. Сегодня это тоже восхитило Евгения Александровича, в общем-то не терпевшего недисциплинированности и разболтанности на службе. Немного погодя вышел на улицу и присел рядом сержант. — Сейчас придет, — сообщил. — Воду на огород носит, жена ответила... Видно было, что обратно в дежурку он не спешил. — А тебе туда... ничего? — кивнул на дверь Никитин. — Я окно открыл, зазвонит, здесь услышу, — отозвался беззаботно кудрявый богатырь. — Вы к нам из-за клада приехали? Вот это осведомленность! Уж не вывесили ли они приказ на доску объявлений?! — С чего ты взял? — Да догадался. У нас же последнее время ничего интересного не было, что бы Пермь заинтересовало, только клад. — А о кладе откуда знаешь? — Да о нем весь город давно знает! Еще не легче! — И что же о нем знают? — Да что приезжал какой-то ханурик, рыл в детдоме, добро купеческое искал... — Ну и как, нашел? — Да кто его знает, нашел или нет, нам не докладывают, — в голосе дежурного явно звучала издевка, хотя круглое лицо так и лучилось простотой. — Кто говорит, что золото нашел и увез, а кто и не верит. Только почему, спрашивают, милиция там всю землю перетрясла? — Так уж и всю? — Ну да! Перед тем как засыпать траншею, все отвалы просеяли. Сам кидал. — Ну и как, много золота насеял? — Да нет, золота не нашли. Черепки там всякие, стекляшки — это сколько угодно, а золота нет. — Ну, а сам-то ты в клад веришь? — А чего... — неопределенно отозвался сержант. — Все может быть. У меня вон племяш и то находил. — Что находил? — Да клад. — Какой клад? — Мешочек кожаный, с монетками серебряными, мелкими, как чешуя, оказались — еще от Ивана Грозного. — Ну и куда он их? — Как куда? В музей. У нас все, что найдут, в музей несут. — И много находят? — Да каждую весну, как огороды пашут. То медяки царские, то бусины, то еще чего. Я вон даже саблю старинную находил, сломанную, правда. — Да-а, интересный у вас город. — Старинный. Больше пятисот лет ему... Дальнейшей беседе помешал подошедший Лызин. Одет был Валерий Иванович в выцветшую застиранную форменную рубаху, отечественные незамысловатые джинсы из серии «Ну, погоди!», стоптанные башмаки, на голове вместо берета чехол от фуражки. — Здравья желаю! — приветствовал он Никитина и пожал руку. — Чего здесь сидишь, я тебя дома жду. — Да вот, беседую... — А ты чего на улице? — напустился Лызин на дежурного. — Службу напомнить? Живо в дежурку! Видишь, какие кадры, — пожаловался Никитину. — И тех не хватает наполовину... Хоть матушку репку пой. А что делать? Жить-то надо, вот и берем демобилизованных. А они тут как в чечки играют! — Да зря ты на него, — заступился Никитин. — Хороший, видно, парень, а дисциплинка да кадры сейчас всюду того... Пообтешется, в школу отправите или на юрфак. В кабинете, на втором этаже особняка купца Крестовникова, в комнате с высокими лепными потолками, густо и многослойно замазанными краской резными дверьми, позеленевшими от времени и небрежного обращения замысловатыми медными дверными ручками и затейливой фурнитурой оконных запоров, Лызин уселся в высокое черное деревянное кресло за обшарпанным столом, некогда обитым зеленым сукном, теперь проглядывавшим ущербно из-за мутно-желтого стекла залитыми чернилами ранами. Дождавшись, когда Никитин расположится рядом на продавленном диванчике, спросил: — Чего это ты с таким заданием странным? — А ты уж знаешь? — А как же, проинформирован... — откинувшись на вытертую до костяного блеска спинку, процитировал: — «Командировать для ознакомления с делом о сокрытии клада и оказания помощи старшего инспектора и т. д. многоуважаемого Никитина!» «Вот ведь прохиндей, — с завистью подумал Никитин. — Опять все знает! Откуда? Приказ лишь вчера подписан». — Вот так! — подмигнул Лызин. — У меня свои каналы. А в конце еще и так: «Многоуважаемому Никитину произвести инспекцию дел и т. д. и т. п.». Там что, — боднул головой назад себя, почти ударившись о высокую спинку, — считают, что тебе одного клада мало? Думают — пустышка? — Ну да, — согласился Никитин, стараясь попасть в тон. — Больно уж сообщение твое того... — покрутил в воздухе пальцами. — Купцы, сокровища, кладоискатели! — Ага, — злорадно подхватил Лызин. — Шехерезада, сказки тысяча и одной ночи! Нам здесь делать нечего, вот и развлекаемся. А это тоже сказки? — Лызин распахнул дверцу стоявшего сбоку стола сейфа, запустил в его темное нутро руку и бросил на стол подле Никитина три золотые монетки. — Или у вас думают, что у нас это так, в порядке вещей? Коль городок купеческий, то и золото под каждым забором? А я вот его впервые вижу, сколь служу. — Да не кипятись ты, остынь! — попытался успокоить Никитин, с любопытством взяв монеты. — Третья, значит, отыскалась? Там же? — Нет, на огороде у меня! — Хорошие у вас тут огороды, слышал уже... — он сложил монетки стопочкой и подвинул обратно. — А что еще на них произрастает? Или это все? — Да нет, еще кое-что есть! Лызин снова склонился к сейфу, вынул большой предмет, завернутый в белую тряпицу, водрузил на стол. — Вот! — жестом фокусника сдернул ткань. Под ней оказался глиняный горшок. — Вот, — снова повторил Лызин, наслаждаясь эффектом, — три дня клеил! — Он тоже оттуда? — А откуда еще?! Орлы наши всю землю пальчиками перебрали. Чего только не насобирали. Мешок добра. А это я из таких вот кусочков склеил. Ну и ребус! Спина все еще болит. — А может, горшок к золоту вовсе отношения не имеет? Сам говоришь, мешок добра нашли, не всё же из клада? Да раньше еще и тарелки какие-то вроде? — А деньги все же в нем были! Мы третью монетку, знаешь, где нашли? Вот к одному такому осколку прилепилась изнутри. Он, видимо, лопатой его разнес, а потом деньги уже из земли выбирал, вот и затерялись три штучки. — Да-а... Хорош горшочек! — Не горшок это вроде, а жбанчик, пиво в таких раньше ставили. Видишь, вот тут дыра? Носик был, но его не нашли, то ли шаромыга куда задвинул, то ли вовсе не было. Может, пожадничал купчишко, пожалел целую посудину в землю хоронить? Знаешь, сколько в него входит? Почти пять литров. А с золотом это почти двадцать килограммов! А вы — Шехерезада! Уходит золото-то, пока вы сомневаетесь. Да, отметил Никитин, это уже кое-что! Ай да Лызин, молодец! Это как же он орлов-то заставил работать, вон из каких осколочков корчажка собрана, совсем некоторые с ноготок. Нюх у него, как всегда, верный. Не поленился всю землюперелопатить. Тут уже не сокрытие, а хищение в особо крупных... — Ну так как, берешь дело или знакомиться будешь, инспектировать? — Лызин заметил произведенное им впечатление и снова вернулся в ироническое состояние. — А то я поищу кому передать... — А сам что, сбыть спешишь? Дело-то, похоже, интересное. Или за раскрываемость боишься? Так у тебя все в порядке, ты, как всегда, краса и гордость районных служб. — Да плевать мне на статистику, пусть за нее начальство болеет. Золото, пока горячее, искать нужно! Ушло оно, видимо, от нас, машина-то, похоже, иногородняя. — Лызин снова заглянул в сейф, извлек оттуда тощую папку, бросил на диван Никитину. — Почитай вот, мы, конечно, тоже без дела не сидим, свои крючочки и у нас есть, но остальное — ваша компетенция! Пока Никитин штудировал содержимое папки, Лызин аккуратно завернул жбанчик, осторожно, как хрустальный, поставил в сейф, сложил в лоскут красного бархата монеты и убрал туда же. — Ну вот, усек? — произнес, убирая папку. — Пойдем ко мне, давно уже тебя завтрак ждет, там и помозгуем. Мне тут рыбки вчера принесли, уха будет, баньку надо топить. — Да погоди ты с банькой! На розыск Боева подавать надо, к купцу сходить, еще что. — Что? Задело? Да не суетись ты, на розыск бумаги я еще вчера оформил, а на усадьбе теперь сторожить нечего, успеем. Пошли давай. Пошли.Протокол опознания
Мною, инспектором УГРО ОВД младшим лейтенантом Молотиловым, при участии начальника отдела ГАИ ОВД старшего лейтенанта Курьянова, произведено опознание гражданином Чугиным Константином Ивановичем модели автомашины «Жигули». Для опознания Чугину К. И. были предъявлены автомобили следующих моделей: ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106. Все предъявленные к опознанию машины были синего цвета. Чугин К. И. на опознании указал на модель ВАЗ 2103. 20. 06. 74Инспектор УГРОмладший лейтенант Молотилов
Начальник ГАИ ОВДстарший лейтенант Курьянов
Рапорт
На учете в отделе ГАИ Чердынского ОВД состоят следующие автомобили «Жигули» ВАЗ 2103 синего цвета: 1. ПМИ 48-92 принадл. Пермякову В. Г., г. Чердынь. 2. ПТА 32-18 » Шварцу В. Г., пос. Рябинино. 3. ПМЖ 54-73 » Корионову Н. Ф., г. Чердынь. 4. ПМИ 59-51 » Власову Г. Н., с. Покча. 5. ПТГ 26-24 » Романову В. Ф., пос. Рябинино. 6. ПМШ 18-63 » Шаврину С. Г., пос. Керчево.Начальник ГАИ ОВДстарший лейтенант Курьянов
Рапорт
Мною, инспектором УГРО ОВД Молотиловым, совместно с начальником ГАИ РОВД Курьяновым, произведен осмотр личных автомобилей «Жигули» ПМИ 48-92 и ПМЖ 54-73, принадлежащих Пермякову В. Г. и Корионову Н. Ф., а также сняты показания с их владельцев. Корионов Н. Ф. в период с 6 по 14 июня находился в командировке, машина находилась в гараже. Автомобиль Пермякова в указанные дни стоял на ремонте в мастерских лесотехникума и выезжать не мог (был снят задний мост). 21. 06. 74Инспектор УГРО ОВДмладший лейтенант Молотилов
Срочно Для служебного пользования г. Чердынь Пермской области. РОВД УГРО. По поводу телеграммы Боева Г. П. № 586/12 от 9. 06. 74 сообщаем, что по указанному в телеграмме адресу находится общежитие завода «Уралмаш», Карлов Сергей Иванович в общежитии не проживает, на паспортном учете в городе Свердловске и Свердловской области не состоит. Указанная телеграмма в настоящее время находится в адресном ящике общежития. 22. 06. 74
Инспектор Свердловского УГРОстарший лейтенант Шевцов
4. Скворцова Галина Петровна, научный сотрудник Чердынского краеведческого музея. 24 июня 1974 г., г. Чердынь.
Домой она вернулась накануне вечером. Многодневное совещание Управления культуры и областного музея было долгим и скучным; по одной только причине она не удрала — программа его не была излишне плотной, и каждый день удавалось вместо запланированных развлечений и показательных мероприятий сбега́ть в областной архив и, зарывшись в высокие стопы дел, позабыв об остальном, погружаться в минувшее, перечитывать собственноручные записи давно умерших и забытых потомками любознательных людей: чиновников, народных учителей, купчиков, кои не подозревали никогда, что принадлежат к славной плеяде краеведов, не настаивали на своих порой весьма сомнительных открытиях и откровениях, не пытались стяжать славу или иную какую компенсацию за добровольные труды, а, тщась проникнуть целомудренным и неискушенным оком в глубину веков для собственного удовольствия и для прочтения друзьям и домочадцам, выискивали в целых еще тогда местных архивах документы, переписывали их старательно и толковали, насколько позволяли грамотность и разумение. Галину Петровну давно интересовали забытые энтузиасты, которые в каждую эпоху, в каждой стране, не гонясь за лаврами, а из одной только любви к славному Отечеству и его «гистории», отравляли медленно глаза свои бумажной пылью в темных канцеляриях, разворачивали с трепетом душевным ломкие от времени свитки и, ничтоже сумняшеся, излагали их подобным времени языком. На этот раз повезло особенно — в одном из фондов Соликамской воеводской канцелярии наткнулась она на записки чердынского городничего майора Куприянова, в которых славный сей офицер, отвечая на сухие вопросы Гералдмейстерской конторы Сената, не только излагал собственную версию происхождения «старейшего среди всех здешних градов — Чердыни», но и осмелился весьма аргументированно, проницательно и, главное, верно полемизировать не с кем-нибудь, а с самим досточтимым автором «Истории Сибирской» — действительным членом Академии Г. Ф. Миллером! Находка эта, а также приложенные майором к записке копии уникальнейших документов, несмотря на все остальные неудачи поездки, поддерживали ее, легко в общем-то ранимую, в хорошем настроении даже тогда, когда коллеги попеняли на «некомпанейность». В этом легком и радостном состоянии она и вернулась в Чердынь. Не могли его испортить ни сообщение о неизвестно куда девшемся, скорее всего сбежавшем, кладоискателе, с которым успела уже немного сдружиться, с чисто бабьим жалостливым участием в его путаной и бестолковой жизни, ни витавшие в воздухе слухи о выкопанных и вероломно увезенных сокровищах. Ни в купеческие, ни в другие какие, кроме разве археологических, в которых большей частью не золото, а бляшки медные, клады она давно уже не верила, наслушавшись о них по долгу службы довольно. Посмеявшись над досужими домыслами обывателей и посочувствовав еще раз удравшему с вилесовскими деньгами Боеву, другим же утром, несмотря на выходной, отправилась она к детскому дому, захватив с собой полевую сумку с инструментами и рулон миллиметровой бумаги. Пятый год, с первого своего лета в Чердыни, Галина Петровна обязательно и неукоснительно наблюдала за всеми земляными работами в городе. Сначала над ней посмеивались и подшучивали, потом привыкли к маленькой женщине, спускавшейся во все свежевырытые ямы и траншеи, а затем и специально стали звать и даже работы приостанавливали, если ее почему-то не было на месте. А копали в городе, хоть и строили понемногу, охотно, и в конце концов за прошедшие годы Галине Петровне удалось составить стратиграфическую карту городской территории и даже датировать основные ее элементы, обойдясь без крупных и дорогостоящих раскопок, осилить которые районный музей не мог. Поэтому и согласилась на предложение Вилесова и, отложив остальные дела, днями пропадала на купеческой усадьбе, добросовестно кругля глаза и всплескивая руками, слушая выдуманные и не совсем боевские истории, внимательно изучая тем временем все его шурфы и ямы, вычерчивая профили стенок и даже подбрасывая идеи — где еще копать; район этот, окраинный в городе XVIII-XIX веков, как раз выпадал из ее построений. Теперь нужно было осмотреть все, что накопал кладоискатель в ее отсутствие. Но все закопушки — пять или шесть ям в разных местах и траншея вдоль брандмауэра, что вырыл Боев в то время, которое просиживала она в архиве или на заседаниях, — оказались закиданными землей. «Не беда, — решила Галина Петровна, осмотрев рыхлый и уже успевший просесть под прошедшими дождями грунт, — разбросать недолго, даже лучше еще, стенки не осыпались». Оглядевшись, она заметила сидевших по-старушечьи на крылечке девчушек и подозвала их. — Здравствуйте, тетя Галя, — нестройным хором отозвались те. Подружиться с ними Галина Петровна успела еще во время кладоискательской эпопеи. Девчушки охотно помогали ей тогда — таскали конец рулетки, носили воду. — А Шкряба где? И Петька? — Они там, — махнула рукой одна из девчушек, Киселиха — Зинка Киселева, ябеда и плакса, — в карты играют! Позвать? — Позвать! — Чего звали-то? — с независимым видом, руки в карманы, через пару минут показался сам Шкряба. Рядом с ним стоял неразлучный приятель и адъютант Петька. Оба были босы. У обоих застиранные полосатые бесформенные штаны подвернуты до обветренных, исцарапанных и грязных колен. От обоих резко пахло куревом. Бесхозные эти дети стали болью Галины Петровны, даже вид этих, коротко стриженных — что мальчишки, что девчонки — сирот, при живых, но беспутных родителях, с незамысловатыми игрушками в руках, отзывался застарелой болью, будил глухие воспоминания о безотцовском собственном послевоенном детстве в затерянном в тайге и болотах Усть-Цилемском районе Нижней Печоры... — Опять курили?! — напустилась она. — Уши оборву! — Че надо-то?! — отстаивал самостоятельность маленький мужичок. — Траншею эту надо разрыть, вот чего! А ну, бегом в музей за лопатами, скажите, я послала. — А дядя Лызин из милиции сказал, что копать нельзя! — Да ну? А мы как-нибудь сами, без него обойдемся. Живо! — То роют, то зарывают, то снова разрывают, — заворчал, уходя, Шкряба, но, оказавшись за воротами, припустил бегом: в музей детдомовские, а особенно сам Шкряба, ходили охотно. А тут с поручением Галины Петровны! Пока ребята бегали, она успела с девочками вымерить и нанести на план усадьбы все новые ямы и траншею. Потом вместе со Шкрябой и Петькой расчистила до подстила стенку траншеи по фундаменту брандмауэра и, отослав ребят раскапывать закопушки, стала неторопливо и внимательно наносить на большой лист миллиметровки ее структуру. — Что это вы тут делаете?! — раздался вдруг властный голос за спиной. Не прерывая работы, ткнув носком сапога в то место, которое она сейчас зарисовывала, Галина Петровна коротко, через плечо, оглянулась. Сзади, сверху, стояли двое. Одного она сразу узнала — из милиции, дом его рядом с музеем. Не отвечая, отвернулась дочерчивать извилистую границу известкового слоя. «Покрикивает тут, — возмутилась. — Перебьется! И чего приперлись? Действительно в детектив, в клады играют?» Но другой голос, удивленный и радостный, прервал: — Галка?! Она снова выпрямилась и внимательно посмотрела на спутника Лызина. — Женька! — узнала вдруг. — Женька, откуда, чертяка, сто лет не видела, — затараторила разом, выскочив из траншеи. — Вот молодец! Так рада тебя видеть! Вымазанной в земле рукой пригнула голову Никитина и чмокнула в щеку: — Женька! Женечка-а!! — Приве-ет! — в тон ответил тот. — А ты тут чего делаешь? — Я? — удивилась Галина Петровна и повела рукой за спину, на траншею. — Я вот работаю! — А!!! Так ты и есть — Скворцова Галина Петровна, — догадался Никитин. — Научный сотрудник. Правильно! Ты же историня, и бородач твой был Скворцов. — Ну, конечно, Женечка, давно уже замужем, и фамилия другая, и сын в детсад ходит! А ты? — А у меня уже в школу, дочь, а вот фамилия прежняя. — Вот! — повернулся к Лызину. — Гляди-ка, Галка Пастухова. Мы с ней в профкоме год вместе, я председателем, на последнем курсе, сам понимаешь, диплом, экзамены, практика, какая тут общественная работа, а тут эта егоза-первокурсница! Ох и попила моей кровушки! Не знал, что и делать, то ли диплом писать, то ли сантехнику в общаге ремонтировать да в буфете за стойкой стоять. — Ну, ну, Женечка, не прибедняйся! И диплом ты отлично защитил, и сантехнику выбил, и буфет работать стал. Ты ведь у нас на все руки, если накрутить! — Да-а! — блаженно улыбался Никитин. — Было дело... Крутила... — Ты знаешь, — снова обернулся к деликатно помалкивавшему Лызину. — Я ведь ее даже в кино водил. В зоопарк. Думал, отстанет с трубами, куда там! — А я-то... Эх, Никитин, Никитин... — Ну, ну! Она сама меня отшила, когда появился этот бородатый романтик, так ведь? — Так, так! А здесь-то ты что делаешь? — Да вот, по делам, посмотреть, что вы наковыряли. — Ой, я и забыла! Ты же в милиции, мне говорили... Какой-то там важный следователь. По особым преступлениям. Ты всегда был важный. Так вы, правда, из-за Боева? Правда, думаете, он здесь клад нашел и того... — наконец сообразила она и присвистнула. — Ну да, — переглянулись Никитин с Лызиным, — есть такая версия. А что, сомневаешься? — Где клад? — отвернулась к распахнутой траншее Галина Петровна. — Здесь? — Допустим. Она присела на корточки и еще раз внимательно осмотрела слоящиеся, текучие наплывы известкового раствора, линзы песка, бутовую кладку обнаженного фундамента, нашпигованную щебнем белесую землю подстила и покрывающий все это сверху жирный унавоженный пласт гумуса. — И что за клад? Никитин, подтянув аккуратно брюки, присел рядом и, тоже окинув развороченную землю взглядом, тихо произнес: — Золото. Много. В основном, видимо, червонцы. — Какие червонцы? Никитин вопросительно взглянул на Лызина. Тот нехотя опустился подле: — Царские. С орлами... — Вы их что, видели? — Да. Одну даже сам нашел. — Где точно? — Да вот здесь, в яме. — Точнее где? — Да здесь вот, только глубже, в самом низу, в глине. Скворцова спрыгнула в траншею и внимательно, сантиметр за сантиметром, осмотрела стенки ее в том месте, где указал Лызин. — Нет! — объявила спустя несколько минут, выбравшись наверх и вытирая руки. — Здесь не могло быть червонцев. — То есть как это не могло? Они же есть! — Не знаю, что там у вас есть, но золотых монет конца XIX века здесь быть не может, — повторила она упрямо. Лызин пожал плечами и демонстративно отвернулся. Никитин, наоборот, снова склонился над щелью. — Ну-ка, ну-ка, почему не может быть? — Да смотрите! — концом ножа Галина Петровна ткнула в стенку. — Видите слой? Это строительный мусор, образовался во время строительства брандмауэра, — провела она рукой по замшелой стене, — а это XVIII век. Слой-то не нарушен! Как же могли монеты XIX века оказаться под слоем XVIII века? Следы перекопа были бы видны, траншея узкая, а их нет. — Но ведь я сам нашел! — не сдавался Лызин. Но слова Галины Петровны его заинтересовали, он даже спрыгнул в траншею и водил ладонью по стенкам, ощупывая неровные, влажные камни. — Как же они здесь оказались? И жбанчик... — Какой жбанчик? — Расколотый. В нем, видно, золото и спрятали. — Большой? — Да вот, — развел руками Лызин, показывая его размеры, и замер, соотнося ширину расставленных рук с шириной траншеи. — Смотрите-ка, едва-едва! — Ну вот, сами видите, — обрадовалась Скворцова. — Яма-то от такого горшка должна быть шире! А где следы этой ямы? Лызин внимательно, пядь за пядью, как только что до него Галина Петровна, изучил стенки. Никитин со Скворцовой наблюдали сверху. — Нету! — объявил наконец Лызин. — Нету никаких следов! И как я сам не догадался? Мистика! Но ведь монеты-то есть! Может, они где в другом месте зарыты были? Здесь вон или там? — махнул вдоль траншеи. Галина Петровна тем временем уже сама рассматривала дальний конец щели. — Идите сюда, — позвала, — вот, — указала рукой на ее конец. — Вот здесь Боев кончил копать. Здесь же кончается стена XVIII века, остальная часть была пристроена позже. Видите шов? И кирпич отличается! Темную стену брандмауэра действительно от подножья до вершины рассекала щель. Внизу она была едва заметна, но чем выше поднималась, тем шире становилась. Трещина была старой, успела порасти не только мхом: наверх, под железную кровлю взобралась березка и укрепилась, проросла там, цепляясь сухими белыми корешками за мельчайшие трещины. Видно было теперь, что стена построена не враз, вторая ее, дальняя, часть была пристроена к готовой позднее, а потом из-за неравномерности осадки они немного разошлись. — И вот здесь, смотрите, — указывала Галина Петровна, — здесь он почему-то зарылся под фундамент, видите, какая ниша, может, действительно что-нибудь нашел, вроде горшка вашего или тарелок этих, но только не то, что искал, и, конечно, не золото. Перекопок опять нет! То, что здесь лежало, если здесь действительно что-нибудь лежало, могло быть закопано не позднее строительства этой вот стены. А он искал клад периода гражданской войны. Ни Лызин, ни тем более Никитин уже не пытались спорить с Галиной Петровной. Они внимательно, как прилежные ученики, слушали все, что она говорила, и смотрели на все, что она показывала. — А когда была достроена стена? — Не знаю. Судя по кирпичу — в конце прошлого века, но когда точно, сказать нельзя. Архивы нужно смотреть. — А там дата есть? — Не знаю, — уклончиво ответила Галина Петровна. — Архивы Олиных частично сохранились, может, там есть. А может, в делах городской думы или управы; строительство крупное, должны были Олины разрешение запрашивать, тогда с этим строго было, проект любого амбара в цвете представлялся и разбирался... Постойте-ка, — прищурила глаза, — что-то такое я недавно читала... Но где, где? Не помню... — А здесь что могло быть? — Лызин снова спрыгнул в траншею и, разглядывая пустоту под фундаментом, измеряя ее спичечным коробком, срисовывал в записную книжку. — Трудно сказать. Под тем вон концом, — указала Галина Петровна на противоположный край стены, — тарелки поливные лежали. Их на счастье в начале строительства уложили, традиция эта на Руси с древнейших времен держится. Слышали, наверное, как в деревнях деньги под углы кладут? — А золото, золото могло здесь быть? — Ну, если на счастье, то одна монетка, но не горшок ведь. — А клад? — Да я же сказала! Только не тот, что Боев искал. Все зависит от того, когда эти стены были построены... И потом, если золото было здесь, там-то как оказалось? Метров ведь пятнадцать... — Слушай, Галочка, — вступил в разговор Никитин, — ты уж вспомни, пожалуйста, где про стену читала. — Вспомню, вспомню, Женечка, непременно. В музее надо бумаги поднять. — Ну так пойдем в музей! — Подожди немного, мне тут рисовать кончить нужно да забросать, а то еще упадет кто-нибудь. — Я сейчас за фотоаппаратом сбегаю, — встрепенулся Лызин, — заснять все надо, пока не засыпали. — Да сидите вы, есть у меня аппарат, а лучше засыпайте тот конец, я там уже все сняла.Срочно Для служебного пользования. ОВД Чердынского райисполкома, г. Чердынь Пермской области. На ваш запрос № 569/56 сообщаю, что Боев Георгий Павлович отбывал наказание в ОИТК №... по статье 228 УК РСФСР с 9 февраля 1972 по 24 апреля 1974 года. Освобожден в связи с истечением срока заключения. За период отбывания наказания дважды подвергался дисциплинарным наказаниям за нарушения режима. Проездные и сопроводительные документы выписаны по прежнему месту жительства в г. Сарань Карагандинской области Казахской ССР. 22. 06. 74
Начальник ОИТКподполковник Шубин
Рапорт
Рабочий Рябининского сплавного рейда Шварц В. Г. в период с 8 по 12 июня своей машиной не пользовался, что подтверждается свидетельскими показаниями соседа Усанина П. П., с которым Шварц в указанные дни находился на вахте. Что касается В. Ф. Романова, то в настоящее время его нет дома, 16 июня, получив отпуск, он выехал с семьей на машине к Черному морю. 22. 06. 74Участковый инспекторсержант Хомяков
Начальнику УГРО ОВД капитану Лызину.
Рапорт
В период с 10 по 12 июня на паромной переправе Рябинино нес дежурство ефрейтор Жуйко Р. С. Никаких происшествий за указанный период на посту отмечено не было. В настоящее время ефрейтор Жуйко находится в краткосрочном отпуске по семейным обстоятельствам, прибудет из которого 28 июня.Начальник оперативного постапрапорщик Чистюхин
5. Вилесов Александр Григорьевич. 24 июня 1974 г., г. Чердынь.
Концы с концами снова не сходились. Александр Григорьевич перемешал лежащие на столе бумажки и снова, в который уже раз, стал раскладывать их аккуратными стопками. На бумажках были записи: выписки из рапортов, донесений, сводок, протоколов заседаний и собраний, воспоминаний очевидцев и участников далеких событий весны 1920 года. Гражданская война была для Александра Григорьевича не только историей, но и частью, причем далеко не самой меньшей частью, всей его жизни. Тогда, в лихое и буйное время, когда сам Александр Григорьевич был так удивительно молод, когда кидали его судьба да приказы из края в край еще более юной РСФСР, когда мерз до костной стылости в окопах под Бугульмой, гонял дезертиров в тайге под Красноярском, охранял в Москве первую эскадрилью советских «фарманов», он конечно же ни о какой такой истории и думать не думал. Ни позднее, будучи сначала избачом, а затем уполномоченным Улескома в родном таежном Чердынском уезде, ни даже тогда, когда по направлению Укома «за любознательность и любовь к старине» был переброшен «на музейный фронт» и принял у земского старичка-интеллигента Владимирцева связку тяжелых ключей, выстывшее, давно не топленное здание да сундуки, шкафы и витрины с костями, чучелами и другими древностями, — он не понял еще всего ее значения; гражданская оставалась лишь частью его собственной, личной судьбы, как и судеб всех, почитай, сверстников... С молодым задором и жадным любопытством колесил он тогда по уезду, сколько гор излазил с тем же хранителем Владимирцевым, горными и лесными инженерами, лесоустроителями, сколько геологических и палеонтологических коллекций собрал, древних могильников раскопал! Сколько мудрых, а порой мудреных книг перечел долгими зимними вечерами и ночами под мерцающим светом коптилки, самоучкою, народной извечной хитростью постигая профессорские откровения, пытаясь ответить на вопросы Истории и Жизни... До всего сам дошел! Геологию осилил: встали перед ним как живые обитатели триасовых морей и карбонатных толщ; всю, казалось бы, историю постиг Сашка Вилесов, от зарождения первого живого до эры электричества! Потом только, позже много, понял он, не Сашка уже, а Александр Григорьевич, когда, как упустил живое и неслышное дыхание времени, шагавшего мимо! Тогда бы, а не сейчас распутывать загадки, большие и маленькие тайны гражданской войны: у живых узнавать о мертвых, о павших в тяжелых каждодневных боях, ни одного имени не упустить, ни единой строчки, по горячим тропам пройти, порохом пахнувшие гильзы собрать, рассудить, кто прав, а кто нет, кто враг, а кто так, чтобы навсегда сохранить в истории, в памяти народной всё о драме тех дней! Но мудрость и память приходят со временем. Так уж устроено природой человеческой, что лишь прошедшее, прошлое становится историей, что потребовалось прожить Саше Вилесову долгую и трудную жизнь, три войны пройти, состариться рядом с музейными сундуками и полками, вобравшими в себя пыль и тлен многих столетий, чтобы понять такую простую истину — не было в истории человеческой времени более важного, трагичного и прекрасного, чем его, Сашкина, юность! И лежал на нем вечный долг перед земляками, живыми и мертвыми. Много лет уже гражданская была главным делом: все время свободное проводил он за этим вот столом, в десятый, в сотый раз перелистывая документы далекой юности, делая новые выписки, и тасовал, тасовал на полированной столешнице бумаги. Но времени было так мало... Каждодневные важные и не очень важные дела все время отрывали от любимого дела, и Александр Григорьевич не раз подумывал о давно заслуженном отдыхе, но никак не мог решиться навсегда расстаться с «древностями», среди которых прошла вся его жизнь. Вот и сейчас не успел собраться с разбегающимися мыслями, в кабинетик его, как всегда без стука, вошла завотделом древней истории Галина Петровна, а с ней Лызин и незнакомый молодой человек, высокий и стройный. Вилесов сердито, демонстративно отодвинул записи, снял, протер и снова нацепил очки и только тогда взглянул на вошедших. — Александр Григорьевич, здравствуйте! Знакомьтесь вот, товарищи из милиции, — словно не замечая его раздражения, затараторила Галина Петровна. — Вы не помните, когда был достроен олинский брандмауэр? Я где-то читала не так давно, но вот забыла где... Вилесов встал, вышел из-за стола, за руку поздоровался с Лызиным, протянул сухую стариковскую ладонь Никитину. — Никитин, Евгений Александрович, — представился тот. И, почувствовав повисшую в воздухе паузу, добавил: — Инспектор милиции из Перми. — Вилесов Александр Григорьевич, заслуженный работник культуры, — с достоинством произнес хозяин кабинета и только после этого ответил Скворцовой: —Данные о строительстве брандмауэра содержатся в записях на Ветхом завете из собрания Олиных. — Ой, и правда, — всплеснула руками Галина Петровна. — Я сейчас! — Минуточку! — остановил ее Вилесов. — Книга хранится в фонде рукописей, первый шкаф, вторая полка. — Да, я помню, Александр Григорьевич, — ответила Скворцова, выскальзывая в дверь. Вилесов укоризненно покачал головой и повернулся к гостям, указав рукой на старенький диванчик: — Присаживайтесь, пожалуйста, она еще не скоро. Вы не из-за Боева, случаем, брандмауэром интересуетесь? — И из-за него тоже, — уклончиво ответил Лызин. Но, подумав, добавил: — Похоже, он что-то выкопал в том месте, где смыкается старая стена и новая, вот нам и нужна дата. И он рассказал Вилесову о траншее, нише под фундаментом, соображениях Галины Петровны, своих сомнениях, умолчав лишь о золоте. — В Галине Петровне зря сомневаетесь, — поддержал директор молодую сотрудницу. — Археолог она грамотный, скоро будет диссертацию защищать, ошибиться не может, коли говорит — перекопов нет, значит нет, не сомневайтесь. А что, — внезапно лукаво спросил Лызина, — Боев-то, похоже, не только мои пятьдесят рублей увез, а еще чего? Ищете его? — Ищем, ищем, Александр Григорьевич, — вступил в разговор Никитин, увидев, что Лызин не собирается отвечать старику. — Только вот где... Вы не вспомните, может, он в разговорах с вами поминал кого? Может, город какой или еще что? — Да нет, я уже сам думал, вспоминал. Вот только, — Вилесов встал, подошел к дивану, на котором сидел Лызин с Никитиным, и уставился поверх их голов, — не знаю, имеет — нет ли это значение, тогда не подумал вовсе, а потом... Никитин оглянулся. Над ними, над спинкой дивана, висела большая карта. Густой коричневой паутиной резали широкий лист пожелтевшей ломкой бумаги реки, темной ретушью выступали справа отроги гор, кололи глаза непривычные, не на месте стоящие Ъ в названиях деревень и сел. В углу карты было обозначено: «Карта топографическая Чердынского уезду Пермской губернии. В дюйме семь верстъ». — Что вы вспомнили, Александр Григорьевич? — не выдержал и вступил в разговор Лызин. На карту он не смотрел, и так ее хорошо помнил. — Да в тот, последний раз, когда Боев у меня был, он почему-то про Кутай расспрашивал, — ткнул пальцем в карту Вилесов, — что там сейчас да как туда попасть... Река Кутай тоненькой ниточкой начиналась между двумя темными отрогами в самой сердцевине Уральской гряды, долго и путано петляла меж ее хребтами в узкой долине, вбирала в себя десятки ручьев и таких же горных речушек, пока не вырывалась из каменных объятий в зону предгорий, где заметно полнела, стелилась уже не волосяной, а нажимной линией, петляла степеннее, не заворачивая лихих головоломных коленец, и, наконец, впадала в Вишеру. В верхнем, горном, стремительном ее течении никаких условных знаков не было; в среднем, где выкатывалась узким каньоном на равнину, вблизи друг от друга по правому берегу были нарисованы два темных квадратика с надписями «В. Кутайский з-дъ» и «Н. Кутайский з-дъ». Верст на пятьдесят ниже — маленький кружок с названием «Кутайка» и в самом устье кружок побольше — «Кутайское». — Ну и что, что он спрашивал? — наседал Лызин. — Да все... Я подумал, с чего бы он? Нашел он там чего или не нашел, расстроился или обрадовался, а Кутай-то тут при чем? Тогда не сообразил, а как сейчас подумаю, так странно... — Про Кутай и Лобаниха говорила, — пояснил Лызин свой интерес Никитину. — Но та ничего не могла сказать. А вам-то он как свой интерес объяснил? — Да что-то об отце вспоминал, будто бы бывал он там и ему рассказывал. Только зачем дорогу выспрашивал? — Ну и что вы ему? — Рассказал, что ни заводов, которые на карте обозначены, ни деревеньки, ни села на Кутае давно уже нет, пустая река совсем, следы даже трудно сыскать поселений старых. Что теперь не наш там район, сказал. — Про деревни откуда знаете? — Так у нас Галина Петровна там в прошлом году разведкой была. Она не только археологию свою, но и остатки заводов искала, и деревеньку нашла, которую белогвардейцы сожгли. В этом году снова собирается. — Какую деревеньку? — повернулся к карте Лызин. — Да тут она не обозначена. Маленькая была, старообрядческая, Махнева, вот тут, — желтый сухой ноготок Вилесова уперся в крохотную, ранее не замеченную точку, нанесенную карандашом сантиметрах в двадцати от заводов. — Про экспедиции вы ему тоже рассказали? — Нет, про экспедиции не рассказал, не пришлось. А дорогу до верховий описал. Дверь в кабинетик снова распахнулась, на пороге появилась Галина Петровна с толстой, в кожу переплетенной книгой в руках. — Вот! — выдохнула она, — нашла! Александр Григорьевич забрал у нее фолиант, осторожно водрузил на стол, откинул медные, потемневшие от времени застежки и бережно начал листать желтые толстые страницы. Минуту спустя, прочел: — «Благославлением божиим августа одиннадцатого дни одна тысяча осемьсот сорок восьмого продолжено бысть строение стены каменной, иже зовомо брандмауэр, какова защита есть от стихии огненной и кары божией животам нашим». Никитин пересел с дивана на стоящий подле стола свободный стул и склонился над книгой. — Можно взглянуть? — Любопытствуете? Пожалуйста, — и Вилесов развернул тяжелый том так, чтобы Никитину было удобнее. Но прочесть в книге Евгений Александрович ничего не смог. Широкие листы ее посредине были плотно заполнены убористыми строчками, ни слов, ни букв в которых Никитину узнать не удалось, как ни вглядывался. Отдельные закорючки в строках выбивались из рядов, нависали над ними сверху, либо, наоборот, подпирали снизу. Сбоку, на широких полях книги, столбиками были сделаны другие записи, больше похожие на русские, и, приглядевшись, Евгений Александрович даже разобрал несколько слов: «милость», «благословляю» и «усопшего». — На каком языке? — спросил наконец, ткнув в основной текст. — На русском, Женечка, на русском! Полуустав шестнадцатого века, — ответила Галина Петровна. — Что, родную речь не признал? Вот так наши предки и изъяснялись! — На русском? — изумился Никитин. — А ну-ка, прочти здесь. — «Ночами на ложе я искала любимого сердцем, я искала его, не находила. Встану, обойду я город, поищу любимого сердцем». — Что это? — Ветхий завет, Женечка! — Но это же, вроде, из Библии? — Ну да, часть ее. — Странно. Такие слова, о любви... — Это Песнь Песней Соломоновых, Женечка! Классика мировой культуры. Библия не молитвенник — фольклор, народное творчество. — Это олинская книга? — Ну да. Читали ее на сон грядущий, деток по ней учили. — А о брандмауэре где? — А вот, на полях. Видишь, какие широкие, Олины с начала семнадцатого века стали здесь делать разные пометки о своих важных делах. Может, не всегда бумага свободная была под рукой, а может, специально, потомкам в назидание, книга-то им больше трехсот лет служила. — И много таких записей? — Около сотни, правда, Александр Григорьевич? — Вместе с владельческими восемьдесят четыре записи. — Здорово! — удивился Никитин. — И о чем они тут писали? — Да обо всем, — Галина Петровна указала на короткий ряд строчек, которые безуспешно пытался прочитать Евгений Александрович: — «Укрепи господи душу раба своего в силе и мужестве, отведи искус и гордыню зло сущее». — А это? — указал Никитин на следующий столбец, заполненный другим, размашистым и мягким, а оттого еще более путаным, почерком. — «Августа одиннадцатого дни одна тысяча осемьсот сорок восьмого года злыи смертию безпокаянно преставися злодейством и душегубством Поликарп Филатьевич Олин. Помяни, господи, душу раба своего». — А это что за стихи? — Вирши: «Ключик к злату под камень спрятал, коль ума найти достанет, все богатство твое станет». — Что это значит? — Бог его знает! Любили предки свои мысли в завлекательную форму облекать. А тут еще и в стихах. — Хватит тебе о купце, — оборвал Никитина Лызин. — Успеешь. Скажите-ка, Александр Григорьевич, чем знаменит этот Кутай? Почему Боев о нем мог спрашивать? — Чем знаменит? — переспросил директор. — Железом своим, заводы там были, да еще, пожалуй, золотом. — Золотом?! — вскинулся Никитин, все еще листавший книгу. — Ну и история! Куда ни ступи, всюду золото! Не Чердынь, а Монте-Карло или Клондайк! — Ну, золота-то там, положим, немного было. Да вот, вы почитайте записки Белицкого, пермского краеведа прошлого века. Не вставая с места, Вилесов достал из стоявшего возле стола книжного шкафа тонкую синюю брошюру, раскрыл на знакомом месте и передал Лызину. — Да... эпопея, — протянул тот, пробежав ее быстро глазами. — Я ее возьму у вас временно. Ну, а еще какие-нибудь свидетельства об этом золоте имеются? — Да есть еще... Но тоже неясные. Вилесов выдвинул один из ящиков стола, извлек из него толстую картонную папку, развязал и, быстренько перебрав лежащие в ней листочки, протянул один из них Лызину: — Вот, прочти, рапорт Кутайского волисполкома. Лызин долго и внимательно изучал узкий и длинный листок, видимо вырванный из амбарной книги. Неровные строчки выцветших бледно-фиолетовых чернил на нем пересекали жирные линии граф и слова в верхней их части: «Складъ», «Реестръ», «Счетъ». Потом протянул бумагу товарищу, вздохнул громко и протяжно и спросил: — Это все? — Да нет. Есть еще краткие письма в переписке уисполкома, сейчас принесу. Но в них тоже ничего не понять... — И Вилесов вышел за дверь.Чердынский краеведческий музей. № 268/12, лист 82. (Копия)
Рапорт
По вашему запросу об имевшем место инциденте в Кутайской волости сообщаю следующее: ноября месяца на Филиппов день с верховий Кутая прискакал раненый конный милиционер Чистякин и сказал, что на них, конный разъезд разведки, напали близко от бывшего Кутайского завода неизвестно какие люди, а им сказали, что губисполкомом посланы на заводы, мандаты имеют, обстреляли их, товарищей его, Копылова и Ванькова, убили, а его ранили. Мы туда посылали нашего милиционера, третьего дня он вернулся и сказал, что там же, на Кутае, бандиты сожгли деревню Махнево в 5 дворов и жителей всех убили и сожгли, один дед Стафей остался, но и тот ничего не видел, в тайге был, белковал. Еще он за заводами брошенный стан видел, где Чистякина ранили. Про бандитов этих у нас разное говорят. Кто говорит, что это олинские людишки, золото моют, будто и самого там недавно видели, а кто говорит, что англичане это — из-за Камня разведкой пришли. Самим нам того не разведать, людей нет. Солдаты-то у нас только милиционер Якушкин да я, а я инвалид войны, какой от меня прок. Вы бы сами сюда, товарищ комиссар, приехали или людей прислали. А то еще и вогуличи на прошлой неделе пришли, говорят, за Камнем белогвардейцев много, сюда собираются, их хотели заставить тропы показывать, но они сбежали и оленей бросили. Не знаю, правду, нет говорят, но я велел им не болтать, панику не сеять. А если поедете к нам, то бы мануфактуры сколько привезли, керосину и газет.С большевистским приветомпредседатель волисполкомаПрохор Коровин
6. Олин Николай Васильевич, купец первой гильдии. Декабрь 1918 г., г. Чердынь.
Комиссар был юн, строен, затянут в ремни. Еще он был зол. Очень зол. Это остро чуял сидящий перед ним на скрипучем венском стуле бывший купец, а теперь гражданин, Николай Васильевич Олин. Контра недобитая, змея хитрая и враг, по глубокому убеждению сердитого комиссара. Комиссар мерз. Часто поводил плечами под тонким сукном гимнастерки, подходил к печи и припадал к ней грудью, обнимал, распластывал тонкие длинные пальцы по глянцевитым изразцам, замирал на мгновение, блаженно закрыв глаза и постанывая тихо, потом отрывался разом и снова начинал мерить комнату широкими шагами, сверкать страшными темными глазищами. «Господи, богородица пречистая, заступница наша, пронеси и помилуй, прости, господи, грехи мои! — молился бывший купец. — У, ирод окаянный, семя антихристово, нет на тебя погибели!» Ему было жарко и дурно в этой, до звона натопленной комнате. Пот щекотными каплями копился в волосьях над ушами, в густой бороде, крупными градинами осыпал лоб, струился меж лопаток. Но ни достать платок, ни даже расстегнуть поддевку он не решался, опасаясь комиссара. Бешеный он, бешеный и есть! Что в голову стукнет, не угадаешь, начнет опять наган свой цапать, беда! «Пронеси мя и помилуй!» У комиссара уши ватой заложены, плывет, качается в глазах, в мареве знойном большая эта комната с хороводом стульев по стенам, громадным, бильярдных размеров столом, заваленным бумагами, манящей в свои объятья кожаной уютной кушеткой у толстозадой печи. Вся, до грязных пятен на обоях, знакомая комната, бывшая многие эти месяцы не только кабинетом, но и домом родным, стала коварной и непослушной. Трясет упрямо головой комиссар, борется с обволакивающей тело сладкой дремой, косит злым глазом на кушетку. «Врешь! Не сломишь! Я тебя, подлюку, сам скручу!» Бросил комиссар тонкое свое тело в кресло, широким жестом раздвинул наваленные грудой папки; звякнула глухо упавшая на пол шашка, лежавшая тут же, на краю стола, рядом с телефоном и стаканом в позолоченном подстаканнике. Поморщился комиссар, поднял оружие, смахнул рукавом пылинки с нарядных, в черненое серебро оправленных ножен, сунул, не глядя, за спину, в щель между шкафом железным и кадушкой с засохшей пыльной пальмой, хрустнул костяшками, выворачивая ладони, и уставил горящие глазищи в купца: — Ну что, гражданин Олин, надумал, будешь говорить правду? — Да что вы, гражданин комиссар, я и так вам всю правду, как на духу! Как на духу? У-у, контра! Прячешь злобные глазки свои, не глядишь прямо-то? Нарастал гнев в груди комиссаровой, под перекрестьем потертых ремней, мутной пеной поднимался к горлу, к пламенем и слабостью охваченной голове. Но нет. Не дам я тебе, купчишка, этой радости! Подавил комиссар гнев, а с ним и головокружение откатило, омыло глаза ясностью, укрепилось все в комнате, перестало качаться. Ну вот, мы гидру мировую, а тут хвороба какая-то!.. Не выйдет, гражданин Олин! — А сыновья-то твои где? — спросил вдруг совсем спокойно и устало. И спокойствие это, ровный, бесстрастный голос еще больше напугали Олина. Растерялся даже. — Сыновья-то? Да как... Старший-то, Константин, в Усолье в ноябре еще уехал, а младшенький, Сашенька, у сестры. Третьего дни увезла к себе. «Увезла... — усмехнулся комиссар. — Спрятал змееныша, гад, чуешь, что горит земля под ногами, жарко стало! А отчего, отчего тебе жарко?» — Зачем Константин в Усолье уехал? — Кто его знает зачем, мне он шибко не докладывается. Вроде как товарищ у него там по полку, раненый, вместе они с фронта вернулись, так попроведать, погостить. — Нет его, гражданин Олин, в Усолье, — так же ровно и спокойно продолжал комиссар. — Нет и не было, проверяли. И к товарищу своему, Кузнецову, не показывался. Так куда же делся? — Ну, коли не бывал в Усолье, тогда не знаю! Он ведь поперешный... Сами, поди, слышали, до войны-то книжки ваши тайные читал да прятал, газетки у ссыльных брал, через то и в тюремном замке три месяца отсидел. Может, у вас где и служит? — Ты мне о революционности его не заливай! — сузил глаза комиссар. — Знаем мы ваших сынков! До февраля и книжки, и банты, а в ноябре за пулеметы?! Говори, где сын! — стукнул кулаком по темному, затертому маслом ружейным сукну так, что подпрыгнула трубка на аппарате, да стакан жалобно звякнул. — В тайге спрятал, на Кутае? — Какой Кутай, зачем Кутай, ей-богу, не знаю! — закрестился купец. — Имя-то божие не трепли всуе, — усмехнулся комиссар. — Набожный, говорят, а врешь божьим именем! Не боишься сковороды лизать? Помолчал. — Ну да ладно, отыщем твоего сынка, а сам-то что там делал? — Это где? — На Кутае, где. — Когда? — Да недельки две назад! — Не бывал я там, путаете вы что-то, гражданин комиссар, обманули вас, оговорили меня. — Оговорили, значит? А где же ты был? Не было ж в Чердыни, дома? — Да я на Колве, в Тулпане и Черепанове, — обрадовался Олин. — Товарищей там ваших видел, и они меня, из исполкома, Матвеев и Васкецов. Комиссар подвинул аппарат и снял трубку: — Барышня? Дай-ка мне исполком, Матвеева. И минуту спустя: — Филипп Васильевич? Ты на Колве, в верхах, недавно был? А Олина Николая Васильевича там не видел часом? Да, да, его самого... Когда? Понятно... Ну ладно, спасибо тебе. — А чего это вдруг потянуло туда вас? И ровный тон больного комиссара с воспаленными бессонными глазами, а в особенности неожиданный переход навы вдруг разом успокоили Олина, вернули обычную уверенность и важность. «Чего это я перепугался? — удивился недавнему страху. — Щенок ведь, моложе Котьки, что он может, только за наган и хвататься!» Достал из кармана платок и отер пот со лба и бороды. — Дак людишки ведь у меня там, нужно было хлебушка привезти, еще чего... — Какие еще людишки? Год уже как не ваши, а граждане РСФСР. — Ну да, — закивал Олин, — конечно, конечно, граждане, как же, но столь лет со мной, я с ними, привыкли уж. — И чего вдруг забота такая? Торговля-то ваша закрыта, и снабжается Тулпанская волость, как и прочие, по нарядам упродкома. — Дак какое это снабжение, известно... А у меня еще пшеничка осталась на старых лабазах, вспомнил вот... — Пшеничка, значит... На лабазах... — снова встал из-за стола комиссар, заходил из угла в угол, от белесой ломкой пальмы до печи и обратно. — Случайно, говорите, вспомнили... А когда весной реквизиция была, забыли о ней? — Ага, запамятовал, извиняйте. Комиссар еще с минуту ходил, все убыстряя шаг, сопротивляясь новым приступам хвори и ярости, потом подскочил к купцу, рванул за бороду кверху, задрал широкое лицо к пронзительным своим глазам: — Хлебом откупиться надумал, лабазы вспомнил, о людишках заговорил, сука, — голос его зазвенел струной, натягиваясь все туже и туже, пока не взобрался к той пронзительной ноте, от которой дальше уже некуда, дальше он мог только сорваться, полететь вниз, в ужас и мрак, в пропасть, откуда уже не было возврата, забился на том подъеме, которого не только враги боялись, но и кони военкоматовские шарахались в испуге: — За дурака меня считаешь? Думаешь, не знаю, коли не местный, что от Тулпанской волости до Вишеры, до Кутая сорок верст тайгой? Твои люди разъезд постреляли?! Твои людишки деревню кержацкую пожгли?! А? Говори, гад! Замер Олин, боясь шевельнуться. «Бешеный! Чисто бешеный, правду говорят! Господи, спаси и помилуй!» А комиссар нашарил дрожащими пальцами кобуру, расстегнул, выхватил наган, уткнул больно в заросшую бородой щеку: — Молчишь? Ничего, заговоришь сейчас, а коли и не заговоришь — не беда, я тебя и так во дворе у амбара шлепну! Без покаяния! За золото! За деревеньку! За всю кровь, что ты, гад, из народа высосал! А ну, встань и пошел! На негнущихся ногах задвигался к двери Олин, стиснув в кулаках шапку и беззвучно перебирая губами: «Все... Конец! О господи-и!!» В коридоре их перехватил Барабанов — председатель трибунала и друг комиссаров, втолкнул обратно в комнату: — Опять? А ну убери револьвер! — Уйди! — Не дури, говорю! — Я его, гада!.. — Сядь! Да ты же болен! — вывернул наган и толкнул комиссара к столу. — За что ты его? — набросил на плечи комиссаровы свою шубу и, закурив, уселся напротив. — Вот! — нашарил на столе комиссар письмо Коровина и ткнул в руки другу. — Этот гад на Кутае... Сам сознался, что в тех краях был... и сын его старший там, видать. — А факты есть, улики? Или так все, эмоции? — Где я тебе факты возьму, где?! На Кутай послать, так там уже, может, колчаковцы! Какое следствие? Сколько сами еще продержимся?! — А если все же не он? Если дозор белогвардейский? — А его и без того есть за что! За деньги скрытые, за кровопийство его подлое! — За это мы с тобой полгорода к стенке поставить можем, городок-то купеческий, все они тут кровушки попили. Мы же — власть! Крепкая, народная, даже если и уйдем временно! Негоже так-то... Эй! — распахнул дверь и приказал испуганно замершему красноармейцу: — Этого в подвал, и за доктором живо! — Отпустить? — комиссар саданул кулаком по столу. — Нет!!! Я его все равно к концу приведу! — Нет. Мы тебе не позволим. Я Сашке доложу, — взялся Барабанов за телефон. — Э-эх, вы-ы!!! — простонал комиссар, добрел до кушетки и рухнул на нее, закрывшись шубой с головой.Чердынский краеведческий музей. № 263/12, лист 123. Уездный военкомат. Прошу срочно нарочным сообщить, на основании чего и за что вами арестован гражданин гор. Чердыни Олин Николай Васильевич.
Председатель ЧКТрукшин А. П.
Чердынский краеведческий музей. М 263/12, лист 125. Военкомат. Приказываю немедленно выпустить содержащегося под стражей без достаточного основания гражданина Олина Н. В. В случае невыполнения распоряжения будете привлечены к суду Революционного Трибунала.
Можешь установить за ним негласное наблюдение и запретить выезд. И не дури там!Председатель ЧКТрукшин А. П.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ КУТАЙ

«...Кутай есть правый приток Вишеры. В древнейшие времена, как можно судить по археологическим древностям, здесь находимым, и местным преданиям, река эта была связующим транспортным путем Российской части Империи с Азиатской. В подтверждение этому служат и ныне существующие вогульские тропы, по которым названные вогулы перегоняют стада свои с одного склона гор на противоположный. С Кутаем связаны чердынские легенды о золоте, каковое тут якобы издревле мыли купцы Олины. В легендах сих утверждается, что золото было обнаружено на Кутае беглым каторжником и продано им Олиным. Говорят, что из добытого золота купцы там же, на Кутае, в скиту потайном, чеканили фальшивые деньги, а когда в столице про то прознали и ревизора направили, Олины спрятали в тайге все свое золото, а скит со всеми людьми сожгли. Не беремся судить о достоверности этой легенды, весьма походящей на известные рассказы о невьянской башне г-дъ Демидовых, но необходимо заметить, что в середине столетия пробудила она в местном народе настоящий старательский бум, и многие отцы семейств, оставив свой плуг и прочие ремесла, как в какой-нибудь Калифорнии, бросались в тайгу столбить участки или искать спрятанный купцами клад, отчего наступило разорение многое и убыток. Достаточно сказать, что ни один из многих сих ревностных старателей не только не сколотил себе состояния, но даже не вернул средств, затраченных на работы и приобретение участка. Единственным положительным следствием этих работ было открытие богатых железных руд, близ которых ныне возводится частным образом завод...»
И. Белицкий. По Уралу. — Екатеринбург, 1887. — Вып. 3. — С. 74.
1. Скворцова Галина Петровна. 29 июня 1974 г., р. Кутай.
Вечер был неслышен. Круто горбились увалы вокруг беззвучной первородно-чистой воды, галечного обмыска отлого сбегающей к реке поляны горного склона, где стояла раньше деревенька, а теперь лишь вечными стражами выпирали из земных недр изрезанные частой сеткой трещин-морщин крутые лбы белых камней, да осыпали на них длинную хвою старые, как весь этот мир, прекрасные кедры. Солнце, зацепившись краем за еловую щетку, скользило вдоль склона, падало тихо и неслышно в распадок, и красные его предзакатные лучи палили выцветающее здесь, у кромки дня и ночи, небо нежным кисейно-розовым светом, зажигали подбрюшину плывущих в бездонном синем небе облаков, ласкали кожу уютным домашне-детским теплом. Галина Петровна недвижно сидела у призрачного пламени костерка, бездумно крошила тонкими пальцами сухие еловые прутики и бросала в огонь. Она любила такие мгновения, негорькое одиночество, тесную связь, слитность с древним и вечным миром, с травой, небом и водой, дарящую тревожную радость жизни, отрешение от мельтешни и пустой суетности... В археологию ее привело поначалу то же, что постоянно и властно влечет в экспедиции всех историков-первокурсников: палатки и спальники, веселость лагерной жизни, пригорелая каша, чай в ведре, бесшабашное и удалое братство посвященных, теплое плечо товарища у огня, трепетность первого прикосновения к тому, что сотни или даже тысячи лет назад выронили человеческие руки. Теперь, когда археология стала работой, многое притупилось, она уже не столько сама пела, сколько слушала, отодвинувшись в сторону, голоса начинающих коллег; радостная бездумность сменилась неотвязными заботами о раскопах, продуктах, дисциплине. Она по-прежнему ценила веселую лагерную жизнь, много копала сама, легко и охотно спешила на помощь коллегам, жертвуя порой отпуском; но незаметно с годами появилась новая привычка: начинать и кончать сезон в малолюдных разведках, а при случае — уходить и в одиночные маршруты. Особенно дороги были такие вот дальние таежные поиски, когда на десятки километров нет человеческого жилья, и не помешает тебе никто в добровольном твоем уединении, не завернет нежданный гость, с которым опять же надо о чем-то говорить. К костру подошел Женька. Налил в кружку дымящегося чая, молча, с видимым удовольствием, вышвыркал, прикурил сигарету от уголька, морща лицо от дыма и жара, сказал: — Вырыли. Ставить теперь будем? Она кивнула. Женька неторопливо докурил, бросил окурок в огонь, спустился к бечевнику, где перевернутая вверх дном лежала на камнях резиновая лодка, горбился хозяйственный скарб, и отвязал завернутую в брезент доску. Выудив из недр громадного рюкзака пакетик с гвоздями и прихватив у костра топор, пошел по берегу к тому месту, где река делала крутой поворот, выбегая из тайги к небольшой неровной поляне, на которой стояла некогда деревенька Махнева. Здесь, возле вырытых в каменистом грунте ям, лежали жердины. Женька с дожидавшимся тут же Олегом Молотиловым врыл их, плотно уминая землю и щебень, развернул доску и приколотил. Широкая белая доска четко и рельефно встала на берегу. Не заметить ее было невозможно. Текст составляла она сама. Всю зиму собирала материалы: выясняла и уточняла имена, фамилии, даты рождения, перелистала тысячи страниц архивных дел. Она знала о них теперь очень многое, иногда казалось, что всё. Видела их нелегкую таежную жизнь, добровольное отшельничество в деревеньке-скиту, тяжелый крестьянский труд, зверовой промысел... Первыми сюда, в вершину Кутая, перебрались Махневы, староверы-беспоповцы, Анфия Григорьевна и Карп Силантьевич. Прежде в устье жили, но, когда потянулся на Кутай за шальным золотишком бесшабашный лихой люд, испуганные многолюдством, пьянством и драками, снялись с насиженного гнезда, что прадеды еще основали, скрываясь от антихристов Никоновых, погрузили скарбишко в лодку, подсадили малолетних сыновей, подпалили раскатанную избу и, упираясь шестами в каменистое дно, двинулись вверх, дальше в тайгу. Но и на новом месте не зажились. На широкую луговину, где усмиряет река свой бег, вырвавшись из горных теснин, где начинаются кутайские плесы, где срубили они под сенью вековых кедров новое жилье, скоро пришли люди. Не золото уже искали, а руду железную. И снова взялись за шесты Анфия Григорьевна и Карп Силантьевич, вели упорно лодки вверх, наперекор реке, пока не добрались до этого вот пятачка ровной земли. Здесь и осели. Потом другие потянулись. Женились сыновья, найдя молодиц в раскольничьих деревнях по Вишере, пришли с младенцем на руках и котомками за спиной Пачгины, затем Сысоевы, и образовалась в таежной глуши деревенька тайная в пяток дворов, о которой ни земское, ни какое другое начальство не ведало долгие годы, пока на нее не набрели перед самой германской горные инженеры, искавшие новые руды, чтобы вдохнуть новую жизнь в недолгого века кутайские заводы. Тут же и на учет взяли. Статистика земского с землемером и солдатом прислали. Переписали всех, живых и мертвых, под кедрами схороненных, поименно, пашни да пожни обмерили, скот перечли и в налог государев положили. А статистик потом еще в местной газетке и статейку про «робинзонов тайги» и «нравов дикость» тиснул. Но ничего в жизни их уложенной, размеренной не свернуло. Все беды и грозы мира проносились стороной. Стоял крепко скит, защищенный горами от бурь и сомнений. Война, стон и кровь, отречение царское, революция были в другом мире, в другой жизни; а здесь, как раньше, тайговали мужики, пахали скудную землю, ловили рыбу в своей реке, в подати же решили не вступаться. А коли приставать начнут, — уйти дальше, вверх, или совсем за Камень. Потом снова появились в Махневе чужие: два бывших солдата в шинелях, сапогах и с ружьями, но без погон. Странное говорили эти двое. Что нет больше царя на Руси, что новая власть теперь — народная, крестьянская да рабочая. Что они, эти два худых и черных солдата, и есть власть здесь, в Кутайской волости, что ни старост, ни урядников боле нет. Что староверов гнать теперь не будут, и жить они могут, как захотят... Странное говорили. И мирские товары с собой принесли, хоть они махневцам без надобности, — соль, сахар да порох. А про подати или иное какое тягло не заикнулись вовсе. Долго рядили махневские мужики, не пришествие ли это антихристово, ворошили книги, считали. Но так ни к чему и не пришли. Подождать порешили, а коли что — то за Камень. ...Медленно брела она по угору меж высоких копен кипрея и крапивы, что всегда вымахивают на разоренном жилье. Еще в прошлый год, в разведке, натолкнулась на это место, но внимания не обратила: мало ли разбросано по земле русской пустых дворищ? Лишь краткая запись в дневнике отметила место бывшего человеческого приюта. Удивилась только: кто мог забраться в такую глушь? И догадалась верно — старообрядцы. Уже потом, в музее, рассказал ей Александр Григорьевич о страшной судьбе деревеньки Махнева... Остановилась перед буйной порослью невысокого холмика. Стояла здесь когда-то крепкая крестьянская хоромина. Там еще одна. И там, и там... А последняя, пятая, на отшибе, над излучиной, выдвинулась вперед, как пост сторожевой. Кто где жил? Теперь не выяснить... Да и не важно, наверное, в какой избе шорничал Сысоев Савватий, а в какой сидела за кроснами Пачгина Евлампия Спиридоновна. Миром жила деревенька, одной семьей. Гомонили дети, что Пачгины, что Махневы, гамузом толкались из избы в избу, пока не шуганет кто из старших, лазали по лбам разбросанных средь дворов каменных истуканов, набивали синяки и шишки, ломали грибы за околицей, ягоду рвали, ловили корзинами шустрых харюзков, а те, что посмелее, лезли на кедры за смолистыми шишками, росли и взрослели. И кто оборвал все это? Чья злая воля? Не была она ни наивной, ни сентиментальной. Как историк, музейщик, знала трагедию гражданской войны. Сотни судеб пролистала в тонких папках личных дел, чуткой болью прикоснулась к далекому огню, сколько воспоминаний сама записала! А однажды, наткнувшись в архиве на потрясающие своей простотой и трагизмом документы о защитниках Кай-Чердынского фронта, повела комсомольцев-старшеклассников по тропам гражданской, по тем местам, где юные их ровесники-вохровцы, голодные и обмороженные, встали зимой девятнадцатого перед англичанами снаряженной армии Миллера, встали и не пропустили, закрыли Республику... Знала, хорошо знала Галина Петровна цену классовой борьбы... Но Махнева... Не было здесь ни сельсоветчиков, ни комбедовцев, даже сочувствующих не было; не делили махневцы ни помещичьей земли, ни купеческого добра. Стояла деревенька в стороне от жизни, в стороне от добра и зла, никому не мешала, схоронившись глубоко от глаз человеческих, да не устереглась. Что случилось здесь зимой тысяча девятьсот восемнадцатого года? Ясно представляла себе Галина Петровна неспешную каждодневную жизнь махневцев, но вот смерти представить не могла... Как затрещали здесь выстрелы, закричали дети, заплескало на холодном ветру пламя? Чья изуверская рука поднялась на немыслимое преступление? Какой ужас пронесся здесь, что даже уцелевший в тайге дед Стафей Сысоев, крепкий таежник, увидав, сошел с ума и умер, пройдя пешком от скита к Вишере, к людям? Снова спустилась Галина Петровна к воде, снова подошла к белевшей в спускающихся легких сумерках светлой летней ночи доске, прочла глубоко вырезанные буквы:«Здесь находилась деревня Махнева, уничтоженная со всеми жителями белогвардейцами в ноябре 1918 года.
Махнев Терентий Климович 67 лет Махнев Влас Карпович 72 года Махнева Анна Спиридоновна 56 лет Махнев Петр Терентьевич 34 года Махнева Екатерина Петровна 32 года Махнева Дарья Петровна 11 лет Махнева Вера Петровна 8 лет Махнев Павел Петрович 4 года Пачгина Евлампия Спиридоновна 47 лет Пачгина Прасковья Тихоновна 23 года Пачгин Василий Миронович 6 лет Пачгина Таисия Мироновна 4 года Сысоева Василиса Карповна 76 лет Сысоева Елизавета Кузьмовна 28 лет Сысоев Федул Терентьевич 24 года Сысоев Терентий Федулович 8 лет Сысоева Таисия Федуловна 7 лет Сысоев Захар Федулович 4 года Сысоева Дарья Федуловпа 4 года Сысоев Иван Федулович 1 год
Вечная память безвинным жертвам колчаковского террора!»
2. Никитин Евгений Александрович. 2 июля 1974 г., р. Кутай.
Ай да Лызин! Настоял ведь на поездке, полковника убедил. Не знаю, какие он там ему кружева вязал, но дело сделано. Сколько не бывал в лесу? Странно все же... Дней по сто пятьдесят-двести в году — в командировках, по каким только медвежьим углам не носило: и на санях, и на вертолетах, и верхом бывало, в той же в тайге порой... Но такого покоя... А и не видал ведь там ни тайги, ни рек, так, гонка сплошная: если зорька, то мельком, коли уху сладят гостеприимные хозяева, то обжигаясь, а если вечерок свободен выкроится, то уж и с водочкой непременно, как же, рыба посуху не ходит... И чалдон, как всегда. Недаром наши любят к нему ездить. И вертолет организовал, и помощника своего отрядил, лодку польскую, обстановку на реке простукал, даже тушенку расстарался, не инспектор — мать родная. Одно грустно — все к концу подходит. Не заметили даже, как большая часть маршрута позади. И никаких следов. Осталось-то всего верст восемьдесят: геологи, драга да бригада леспромхозовская в устье. Чует сердце, пустышку тянем, а все равно хорошо! Туго накачанная резинка, подвязанная с бортов крепкими березовыми жердями, задрав острый высокий нос, скользила по поверхности воды почти не погружаясь, легко и стремительно. Галка впереди осматривала берега, подымая иногда бинокль к глазам, поглядывала на лежавшую перед ней на покато вздымающемся прорезиненном брезенте форпика карту, короткими взмахами задавала курс. Олег дремал в середине, среди рюкзаков и спальников, сам Никитин сидел сзади, у транца, широким веслом направляя лодку в рукава и протоки по Галкиным жестам, и тоже внимательно оглядывался. — Сейчас будет большая поляна, — повернулась Галина, — ручеек там, сделаем привал, можете чай поставить, мне пляж осмотреть надо, в прошлом году неолит здесь был. Через несколько минут, действительно, вынырнули к поляне, прильнувшей слева к изгибу реки, разлившейся здесь относительно спокойным плесом. У дальнего ее края река снова сжималась, дробилась островом на две рябившие перекатистые протоки. Невысокая отлогая терраска, заросшая мелким осинником и густой, пестревшей неярким, но радужным многоцветьем травой, неширокой дугой тянулась вдоль берега. В дальнем конце она рассекалась овражком, по дну которого, видимо, и бежал ручей. Над устьем овражка разлапился невысокий, коряжистый, узловатый кедр, склонивший мохнатые лапы вниз, к воде. Невдалеке желтела палатка; рядом, на бечевнике, — длинная деревянная лодка с маленьким моторчиком на корме. Несколькими взмахами Никитин подгреб к берегу, развернулся поперек течения и, подняв весло, подождал, пока их не прижало водой к нарощенному доской борту долбленки. На обрывистом краю терраски появился человек. Второй на корточках сидел у воды, на галечнике, метрах в семидесяти ниже. Оба молча глядели, как гости выгружались и вытаскивали свою лодку. Поднялись наверх. Поздоровались. Здесь, под кедром, был разбит небольшой лагерь. Бездымно томился костерок, над которым на толстых крепких рогулях лежала до глянца обожженная жердина с черным чайником. Рядом — горка аккуратно порубленных дров, тонкий топор на темном топорище; на коротко обрубленных отростках вогнанной в землю толстой ветви — кружки, пара котелков, алюминиевый половник с круто изогнутой ручкой. Поодаль, под самым деревом, — добрая палатка с распахнутым пологом, внутри два матраса, рюкзаки, скатанные мешки. Сбоку, между костром и палаткой, — ловко связанный из вершинника стол, застланный куском фанеры, вымытой дождями до сплошной ровной серости, и скамья. На столе — бумаги, толстая раскрытая тетрадь и полевая сумка. Все добротно, хозяйственно, ладно. «Да, — оценил Никитин. — Это тебе не туристы, тяп-ляп! Даже в тайге с относительным, но комфортом. Только что-то их мало, Лызин говорил об отряде». Тем временем хозяин, до черноты загорелый крепкий мужчина, на вид немногим старше Никитина, с короткими седеющими волосами, гладко выбритый и даже одеколоном припахивающий, одетый в клетчатую линялую рубашку, защитного цвета брюки и мягкие светло-коричневые ботинки на толстой рифленой подошве, собрал бумаги, аккуратно и неторопливо сложил их в сумку, кинул ее в палатку, снял с веток две кружки. — У нас только две, — сказал, — принесите еще пару. Никитин взглянул на Мотовилова, тот понял, сходил к лодке, принес еще две кружки. Хозяин разлил чай, выудил из стоявшей рядом со столом картонной коробки открытую банку сгущенки и полотняный мешочек с колотым сахаром. — Чай вот, — сказал. — Хороший чай. Чай действительно был вкусным, с легким ароматом зверобоя, мяты и еще чего-то, чего Никитин не знал. — Туристы? — спросил хозяин, когда они отставили пустые кружки. — Нет, археологи, — ответила Галка, доставая пакет с документами из старой своей сумки — пастушечьей, шутил Никитин. Его, точнее лызинская, почти новая, темно-коричневая, глянцевитая, лежала тут же, подле Галкиной кирзовой, нарядная, даже кокетливая на старой, изрезанной ножом фанере. — Вот открытый лист. — A-а, так коллеги почти, — отозвался мужчина и, возвращая документ, представился: — Малышев Павел Петрович, Ленинградский геологический. — Так вы не геофизики? — спросил Никитин. — Только вдвоем? — Геофизики ниже, — ответил Малышев. — А мы действительно вдвоем. Свободный поиск. — Это как? — Да так. Есть гипотеза, нужно проверить — вот и ходим, роем, глядим. И если быть точным, то из Ленинграда я один, а Шпрота, — геолог махнул рукой по направлению берега, где, невидимый за кромкой обрыва, находился второй, — он почти местный, он рабочий, промывальщик. — Эй! — крикнул громко в сторону реки. — Толик, иди чай пить! — Почему зовут его так... необычно? — Шпротой? Аристократ! Уверяет, что закусывает исключительно этой консервой, когда она есть, конечно. А так он бич. Убежденный, идейный и со стажем. Но промывальщик классный! Классный промывальщик подходил уже сам. Мятое, в сетке частых морщин, темное до черноты, заросшее неряшливой, разной длины щетиной лицо его определению возраста не поддавалось совершенно, даже острому профессиональному никитинскому взгляду. Он мог быть как ровесником, так и годиться в отцы. — Что моете? — спросил Никитин. — Не золотишко? Шпрота на реплику никак не отреагировал, словно не слышал вовсе; красными обваренными руками достал из коробки непочатую пачку чая, снял с ветки закопченную поллитровую кружку. — Золото? — переспросил вместо него Малышев и прищурился, глядя на Никитина. — Моем фракции на разных глубинах, историю формирования долины, а она тут древняя, надо сказать, изучаем. Чистая наука. Промывальщик пересыпал всю пачку в кружку, плеснул воды из чайника, подбросил в костерок несколько сухих щепок и присунул посудинку. Сам присел на корточки возле, уставился в огонь. Смотрел не отрываясь, не отворачиваясь и не моргая даже тогда, когда порывы ветерка кидали в его лицо клубы дыма. Пока чифир варился, все молча наблюдали за его манипуляциями. Потом Галка поднялась. — Евгений Александрович, — обратилась к Никитину, — пока мы тут сидим, я пляж осмотрю. Поднялся и Олег. За время недолгого путешествия он успел пристраститься к археологическому поиску и, как только позволяло время, бродил вместе с Галиной Петровной, выглядывал внимательно под ногами, поднимал и переворачивал камни. Сейчас, определив, что Малышев и промывальщик мало похожи на разыскиваемого ими Боева и «пижона», он решил, что Никитину не нужен. То же подумал и сам Никитин и махнул рукой: «Идите!» — Давно тут стоите? — решился расспросить Малышева, осторожно выведать, не встречал ли тот пропавшего кладоискателя и его друга. — Неделю, — коротко ответил геолог. — А людей каких-нибудь видели? Проплывали, может, или проходили? Малышев внимательно взглянул на Никитина, и тот пояснил: — Двое... Одному за пятьдесят, другому около тридцати. — Тоже археологи? — Нет, просто знакомые. В Красновишерске встретились, они тоже на Кутай собирались, порыбачить. Вот я и думаю, может, увидимся здесь. — Нет, — коротко отозвался Малышев, резко как-то отозвался и уставился в костер. — Не видел, — продолжал какое-то время спустя. — А как ваш маршрут, успешно? — Да как сказать... есть несколько новых памятников, но немного, — ответил Никитин, пытаясь подражать Галкиным интонациям. Его насторожила короткая отстраненность геолога, забе́гавшие под темной кожей крутых скул желваки, он попытался понять причины: видел Боева и молчит? Почему? — А вообще Кутай — река интересная, — Малышев снова оживился. — Долина сформировалась еще в нижнем плейстоцене, и ледники ее не сильно перепахали... Тут может быть палеолит. — Да... — неопределенно ответил Никитин, проклиная в душе и Галину, и археологию. Что-то не вязалось. Что-то было не так. В геологе, он это профессионально остро схватил, несмотря на расслабленность последних дней, да и в нем самом возникла напряженность. Почему? Откуда? — Кстати, погодите минуту, я вам кое-что покажу, в лодке у меня лежит. — Малышев направился к реке. Никитин стремительно прикидывал ситуацию. Документы... Документов его мы не видели. Наши он просмотрел, а свои не показал. Забыл? Или не счел нужным? Никитин оглянулся — промывальщик, сидя на корточках у костра, прищурив в бритвенный прорез глаза, отхлебывал из закопченной кружки. — Мустье? — вернувшийся геолог отодвинул на край стола никитинскую сумку и высыпал горсть камней. — Чего? — не понял Никитин. — Это может быть мустьерский кремень? Орудия? Никитин взял один из камней — осколок гальки, повертел в пальцах. Камень как камень. С одной стороны шершавая, в мелких оспинах окатанность, с другой — острые изломы. На рубило или другой инструмент древний, как их запомнил Никитин по рисункам в книгах, галька походила мало, но сколы были острыми и ими можно было при желании что-нибудь разрезать. Еще раз помянув и археологию, и Галку, неведомое это мустье, принялся, как мог, выкручиваться: — Может быть... Я, знаете, в камнях не специалист. Это лучше Галине Петровне показать, я занимаюсь другими эпохами. Он протянул камень обратно, надеясь, что реплика прозвучала уверенно и профессионально. — Нет, нет, оставьте себе. Если заинтересуетесь, посмотрите косу правого берега километрах в полутора ниже. Он присел к костру, рядом с промывальщиком, поправил угли, подбросил дров и подождал, пока они разгорятся. — По реке давно идете? — спросил вдруг, не подымаясь с корточек. — Четвертый день. — А наверх как забрались? Вертолетом? — Вертолетом. — А сейчас куда, до Вишеры или ниже? — В основном до Вишеры. — Ну, это уже близко... Он снова задумался, сидя у огня, вороша горящие ветки. Через минуту встрепенулся: — Хотите ушицы? У меня там, за протокой, — махнул рукой на остров, — сетка стоит. Это недолго, пока ваша Галина Петровна работает, мы сообразим. Сейчас, я только соберусь, все равно проверять пора. Он направился к палатке, согнувшись, зашел внутрь и задернул за собой полог. Вышел через пару минут — в длинном брезентовом плаще и закатанных до колен болотных сапогах. Через плечо был переброшен полупустой рюкзак. — Я быстро, — сказал, проходя мимо костра. — Вы тут пока котелок поставьте. У края терраски, перед тем как спрыгнуть вниз, на бечевник, оглянулся: — Помогите лодку сдернуть. Да оставьте вы свою сумку! Никитин спустился к воде и столкнул нос долбленки. Геолог стоял на корме и помогал шестом. — Может, и я с вами? — спросил Никитин. — Помогу... — Нет! — отозвался Малышев. — Я один. Воду поставьте. Двигался он быстро, резко. От этих движений под плащом обрисовались контуры полевой сумки. Отложил шест и опустил в воду мотор. «Зачем ему сумка с собой? И зачем оделся так, словно не сеть проверять, а в поход собрался?» — Эй, Малышев! — крикнул. — Малышев, постойте! Геолог, не отвечая, раз за разом дергал ремень стартера. Мотор не заводился, но лодку и так относило быстро от берега течением. Никитин оглянулся. Галина и Олег разошлись в разные концы пляжа: Олег вниз, к острову, Галина вверх — ходили, глядя под ноги, нагибались, подбирали что-то. Шпрота, выронив кружку, полупривстав, широко разинув рот, смотрел на реку. — Постойте, вам говорю! Стойте! Вернитесь! Я из милиции! Стойте! Он бросился к своей лодке, но одному ее было не сдернуть, тогда Никитин рванулся наверх, где на столе, в сумке, лежал его пистолет. Но не успел он пробежать и полдороги, как за спиной треском раскатился выстрел, подхваченный и умноженный эхом. Бич закричал. Никитин с размаху упал и, перекувыркнувшись, оглянулся. Бросив мотор, скинув мешавший плащ, широко расставив ноги, Малышев, в быстро удалявшейся лодке, целил карабин в их сторону. Никитин снова рванулся к столу, но второй выстрел опять заставил его прижаться к земле. Лишь когда геолог опустил карабин и взялся за шнур, Никитин в несколько прыжков достиг стола, выхватил пистолет и выстрелил вверх, над втягивавшейся в протоку лодкой. Малышев распрямился и вскинул карабин. У реки щелкнул пистолетный выстрел. Геолог коротко и резко взмахнул рукой, выронил оружие и обвалился. Промывальщик снова закричал. Никитин обернулся. Бич лежал поперек костра. Грязная рубаха дымилась, волосы на голове горели. Выхватив промывальщика из углей и сбив пламя, Никитин бросился к реке. Лодки уже не было видно. С двух сторон бежали Галина и Олег. В руке младший лейтенант сжимал пистолет. Подбежали почти одновременно. — Ты что?! Ты куда стрелял?! — Я... я... я... в мотор, товарищ капитан, — захлебывался Молотилов. По бледному лицу его шли красные пятна. — Я в мотор целил, не знаю, как вышло... я хорошо стреляю! — Вышло! Вот тебе и вышло! — Он что, убит?! — в глазах Галины бился страх. — Вы убили его?! — Не знаю, подождите. — Никитин быстро соображал. Резинка лежала перекосившись, опав на бок, видно пробитая выстрелом. — Скворцова, лейтенант, займитесь вторым! Сам побежал вниз, к острову. Не замечая студености горной реки, спотыкаясь, падая и вновь подымаясь, ударяясь о валуны, по перекату перебрался на остров, проломился сквозь заросли тальника, пробежал тяжелым вязким песком и выскочил ко второй протоке. Долбленка, уткнувшись в кусты, прижалась к другому берегу. Никитин снова бросился в воду и в несколько взмахов доплыл до нее. Малышева в лодке не было. Правый борт у кормы был забрызган кровью, карабин валялся на дне, левая лапка струбцины мотора блестела свежим изломом — сюда сначала ударила молотиловская пуля. Никитин вскарабкался в лодку, оттолкнулся от берега и поплыл вниз, внимательно осматривая сырую жирную глину подле кустов, легонько подгребаясь ладонью левой руки. В правой он держал пистолет. Потом дернул шнур — мотор схватился с пол-оборота. Развернув лодку, Никитин поднялся наверх, до стрелки острова, откуда видны были и поляна и палатка на ней, потом снова спустился вниз, осматривая берега и дно. Никаких следов, кроме его собственных, не было. Страхуясь, отплыл еще ниже, за поворот, до того места, где река, сжимаясь в узкую теснину, вбегала, клокоча и пенясь, в каменистый каньон, где стометровые отвесные стены белых скал обрывались прямо в воду. Потом вернулся в лагерь. Молотилов встретил его у воды. Промывальщик, туго спеленутый бинтами, полулежал, привалясь к стволу кедра, и протяжно выл на одной надрывной и щемящей ноте. Негромко. Галка сидела подле. — Он... убит? — Не знаю... может быть. Его нигде нет, может, ушел. — Ох, — с облегчением вырвалось у нее. — Почему он стрелял? Он тот, кого вы ищете? Никитин недоуменно пожал плечами, подошел к промывальщику: — Ты кто? — Бич. Бич я, гражданин начальник, ей-богу! — не переставая выть, глотая слезы, ответил тот. — Толька-Шпрота я, Казанцев, кого хотите спросите! — А он кто? — кивнул Никитин на реку. — Геолог же, Малышев! — Это я уже слышал! — прикрикнул Никитин и склонился угрожающе низко. — Кто он такой на самом деле?! — Не знаю, ей-богу, не знаю, гражданин начальник! — уже не тянул, а кричал бич. Тело его напряглось, выгнулось, на губах проступила разом пена. — Убьет он, убьет он меня, гражданин начальник, увезите меня скорее, спрячьте! В тюрьму, хоть куда, убьет он меня-я!!! Потом обмяк резко. Никитин с трудом приоткрыл туго сжатые веки — бич был без сознания. — Что у него, опасно? — Ожоги, товарищ капитан, — отрапортовал Молотилов. — И пуля в плече, но ранение, кажется, неопасное. Поставили обезболивающее, надо увозить. — Крестись, коли кажется. А увозить... Думаю, что как раз надо здесь оставить до вертолета. Снова задумался, с трудом переваривая весь сумбур происшедшего. Искал выход. — Вот что, — принял решение, — вниз пойдете вдвоем, на их лодке, под мотором. Справишься? — повернулся к младшему лейтенанту. — Конечно! — Осторожнее только, там струбцина сломлена, в нее ты угодил. Дойдете до Ваи, свяжешься с Чердынью, с Лызиным. По дороге встретите геологов, если у них есть связь, воспользуйся, если нет, идите вниз, не задерживайтесь. Предупредите только, чтобы осторожны были, в тайге может быть раненый преступник. Ждите там, откуда свяжетесь с Лызиным, прилетит вертолет, заберет. Все. Нет, не все, постойте, — остановил и показал на камни на столе, рядом с распахнутой своей сумкой: — Это что? Галина недоуменно пожала плечами. — Это не древние? Может быть, орудия? — Ну что ты! Рядом не лежали! — Что такое мустье? — Мустье? Мустьерский период — это один из этапов палеолита. — Это не может быть мустье? — Обыкновенные гальки, их здесь сколько хочешь! Когда лодка скрылась за островом, Никитин выждал еще минут пять, пока не стих вдали ровный стрекот мотора, принес из совсем обмякшей резинки бинокль и стал метр за метром осматривать остров и правый берег реки, пока не заметил в воде, в тени ивняка, темный предмет, полоскавшийся у куста, росшего впереди других на острове, примерно в том месте, где настигла геолога пуля. Это была полевая сумка, зацепившаяся ремнем за сук. Снова пришлось брести перекатом на остров, а потом обратно. В лагере, раздевшись и разбросав вокруг костра одежду, он осторожно раскрыл на столе планшетку. Кроме карандашей и ручек, линейки и компаса, рассованных в специальные кармашки, в ней были два полотняных мешочка, отсинькованная карта, слипшаяся тетрадь и удостоверение в красной пластиковой обложке. Никитин осторожно развернул корочки. Сердце заныло...Министерство геологии СССР
Ленинградский научно-исследовательский институт
четвертичной геологии
Удостоверение № 658
Предъявитель сего тов. Малышев Павел Петрович действительно работает в институте в должности младшего научного сотрудника. 17 апреля 1973 г. Действительно до 31 декабря 1973 г. Продлено до 31 декабря 1974 г.Начальнику милиции подполковнику Кульгейко. Я, Звонков Павел Васильевич, шофер АТП, совершал 11 июня рейсовый маршрут Чердынь — Камгорт. У лесовозного отворота в сторону Колвы на 11 километре я заметил сворачивающий в отворот автомобиль «Жигули» синего цвета, с номером ПМЛ, первые две цифры 46, год моего рождения, поэтому я и запомнил, задние не помню. Было это около полшестого вечера. На машину обратил внимание, потому что и сам на это место езжу рыбачить, а тут вижу — номер иногородний, подумал, что чужие повадились, запакостят все. Кроме того, они свернули на разбитый лесовозный ус, хотя недалеко есть другая дорога, она дальше сходится с лесовозной, местные ее знают, а постороннему не найти. Написано собственноручно.
29. 06. 74Звонков
Начальнику Чердынского ОВД подполковнику милиции Кульгейко от гражданина Фомина Р. К. Я, шофер райисполкома Фомин Р. К., машину «Жигули» синего цвета видел в шестом часу вечера в Покче у магазина. Я бы на нее и внимания не обратил, но заметил, как из магазина вышел Боев, которого я видел раньше в музее и детском доме. В музей я заходил к товарищу — Коле Старыгину, он говорил, что Боев этот клад приехал искать, вот я его и запомнил. Из магазина Боев вышел с водкой, нес в сетке три или четыре бутылки и какие-то банки, я еще удивился, куда столько, ведь алкаши эти обычно бормотуху берут, а не водку, а он в машину и сел. Там еще двое были, но их я не разглядел, машина тут же уехала в сторону Вильгорта. Номер не запомнил, но обратил внимание, что иногородний, то ли ПМА, то ли ПМЛ, цифр не помню. Написал собственноручно. 30. 06. 74
Фомин
Капитану Лызину.
Показания
В конце мая и начале июня наша бригада работала на ремонте дороги у пос. Лобаниха. 11 июня утром, около девяти часов, когда я возвращался из первой ездки, на полдороге между Лобанихой и Покчой меня остановил молодой парень, лет тридцати, в синем джинсовом костюме, и попросил вытащить его машину. Я подсадил его, и мы свернули в лес. Машина была не далеко, в полукилометре от тракта, сидела на мосту. Видно было, что они сами хотели вытащить, рядом ваги валялись, которыми приподнять пытались, и лапник, чтобы колею завалить. Я взял машину на буксир и дотащил до тракта. Кроме парня, в машине был еще один человек, пожилой, но я его не разглядел. Когда мы подъехали, он вышел из машины и бродил все время в стороне, неподалеку, вроде как грибы искал, а когда я машину потянул, он пошел к тракту пешком, вдоль дороги. Парня я еще спросил, как их сюда занесло, ведь рядом другая дорога есть, там лесовозу не пройти, петляет сильно, а «Жигулям» в самый раз. Тот ответил, что они приезжие, из Перми в Ныроб к родственникам ездили, а на обратном пути и завернули сюда, спиннинг покидать, слыхали, что в этих местах река рыбная, но ничего не поймали, да и спешили. Номеров машины я не видел, так как знаки были заляпаны грязью. А марка — ВАЗ 2103. 29. 06. 74Н. К. Данилов
3. Лызин Валерий Иванович. 2 июля 1974 г., г. Чердынь.
— Вот здесь она сидела, — указал Данилов на залитую жидкой грязью лесовозную колею. — Он, видно, пытался проехать поверху, но мост-то у него у́же, вот и сверзился да прямо и на дифер. Лызин перепрыгнул через мутную жижу на глинистый островок между двух вымоин, сбалансировал там, помахав руками, поднял толстый еловый, грязью заляпанный шест и ткнул в воду. Тот погрузился почти на полметра. Лызин присвистнул. — Да, тут сядешь! — Вот я и говорю, здесь разве на вездеходе, а они на «Жигуле»! Данилов присел на корточки, сокрушенно закрутил головой и сплюнул в грязь, выражая сочувствие незадачливым рыбакам. — А сколько их было-то, Николай Кузьмич? — Да двое же! Я писал да пареньку твоему, лейтенанту младшему, говорил. — Точно двое? — Ну я же не пьяный был, помню! Один, тот, что за рулем, все со мной, он и трос заводил, и помогал потом мотором, хотя чё его мотор, я бы и так вытащил. А второй вон там, меж елок бродил, я удивился еще, чего ищет, грибам-то в этом году рано. — А какой он был? Молодой, старый? — Да какой старый! Может, чуток меня старше, волосы седоватые. А так, вроде, крепкий еще, прямой. Лызин усмехнулся — самому Данилову было под шестьдесят. Не хочет в старики. — А как он выглядел? Высокий, низкий? Узнать сможете? — Узнать-то поди узнаю, а вот рассказать какой, не смогу, пожалуй, извини, Валерий Иванович. Росту среднего, с меня, не больше. — Ну да... А может, третий у них тоже в лесу бродил? — Да нет, не было третьего. Я же, как их отцепил, отъехал всего метров сто до ручья и остановился, кабину надо было прибрать, истоптал грязью здесь-то. Вот и видел, как тот, второй, в машину сел, и они уехали. А третьего не было. Лызин выслушал шофера, опираясь на еловый шест. Потом взглянул на один конец, повертел, вынул из грязи другой конец, осмотрел и его. Срубы были неровными, размочаленными. — Посмотри-ка, Кузьмич, — протянул Данилову. Тот глянул мельком. — Чего смотреть-то, топор тупой был, дело обычное. Или еще лучше, лопатой рубили. — Н-да, тупой, — Лызин перепрыгнул через вторую колею и поднял ветки на другом краю дороги. — Как думаешь, это они рубили или раньше лежало? А может, после? — Они, наверное, кому еще! Кто сюда полезет? Я, когда подъехал, сразу заметил, что ветки свежие, подумал еще — лезет народишко сам куда не знает, по глупости своей, а страдает лес. Лызин перебрал ветки, отбросил их и вздохнул. Ну, топор был тупой, ну и что? Ясности-то нет. Кто такие, где искать... И топор здесь ни при чем. В два скачка перебрался обратно к Данилову. — Дальше я тут проеду, Николай Кузьмич? — На твоем вездеходе чего не проехать, только прими левее, под елки, а дале уже ровнее пойдет. — Ну ладно, спасибо тебе, Кузьмич, поехали, до машины подброшу. — Так тебе же вперед надо, вот и езжай, а до тракта-то я и сам дойду, недалече. Да и разворачиваться тебе здесь не с руки. — Ну ладно, как хочешь, до свидания. Лызин пожал шоферу руку и, когда тот, повернувшись, уже зашагал обратно, окликнул: — Да, еще, Кузьмич, извини, этот-то, стиляга, как ты говоришь, где поймал тебя? — У самой вилки, где «Зилок» стоит. Там он и выскочил. — Он тебя как просил? — Да обычно, как. Помоги, говорит, отец, сели вот, ни туда, ни сюда, водка, говорит, есть. А так вежливый, ничего не скажешь. — Водка? — заинтересовался Лызин. — Ну да, водка, дело обычное. Он мне двебутылки совал, да я одну взял, все еще в холодильнике стоит. — Стоит, говоришь... А он откуда ее доставал, не заметил? — Да с заднего сиденья, под плащом лежали — три бутылки. Три бутылки. Лызин помолчал, переваривая информацию, потом попросил: — Ты, Кузьмич, вот что, ты бы завез мне эту бутылку, а я тебе взамен другую отдам. — А зачем мне замен-то? Так бери, коли надо, что, я не понимаю? Я тебе ее сегодня же и доставлю, как обедать поеду, лады? Куда привезти-то, домой или на службу? — В отдел, Кузьмич. Или, знаешь, ты ее лучше в холодильнике у себя держи, а вечерком я сам заеду, хорошо? — Хорошо. — Только ты ее, пожалуйста, не трогай, ладно? — Ладно, не трону, сам возьмешь. Что еще-то? — Да все, Кузьмич, еще раз спасибо, иди. Когда старый шофер скрылся за поворотом, Лызин сел в газик. Бочажину проехал, как и советовал Данилов, слева, наклонясь и прижимаясь к деревьям, потом колея стала мельче, и Валерий Иванович вел машину, зорко всматриваясь в следы. Вскоре дорога раздвоилась: легконакатанная, неширокая, со следами протекторов легковушек и мотоциклов, шла прямо, а старые лесовозные следы повернули налево. «К реке», — догадался Лызин. Выехал на берег. Широкий пойменный луг тянулся вдоль Колвы километра на полтора. Местами на нем кустились заросли черемухи, тянулись вверх высокие липы, по береговой кромке вилась промятая в траве дорога. Лызин свернул на нее и проехал весь луг из конца в конец, потом обратно. Встал у дальнего конца. Он насчитал семь старых кострищ. Конечно, они могли в ту ночь и не разжигать огня, пересидеть в машине, включив печку, так, может, было даже логичнее, если верны его предположения; но чисто по-человечески трудно представить ночь у реки — тревожные вскрики птиц, неясный гул леса, всплески на воде — и без костра. Да и подозрительно, если бы еще кто-нибудь рыбачить сюда приехал. Нет, костер они должны были запалить. Только вот который из семи? Неужто все обшаривать? Тут столько добра наберется, экспертам работы на полгода. Нужно искать тот костер. Валерий Иванович вышел из машины и подошел к кострищу, у которого остановился, ближнего к лесу. Все не сгоревшие дотла головни были обуглены, нарубленных, но не сожженных дров не было. Вот так. Поищи их следы, а то — тупой топор! Да мало ли у кого еще мог быть тупой топор... Костер здесь жгли много раз, чего только нет вокруг: банки, окурки, осколки бутылочные! Да и земля так утоптана, как за раз и рота не утрамбует. А дрова где брали? Лызин огляделся. Бревен, заносимых обычно на луга половодьем, близко не было: или сплавщики успели зачистить, или колхоз перед сенокосом убрал. Могли, конечно, и в лесу, но ночью, в темноте... Значит, у воды, плавник, дело обычное, как Кузьмич говорит. Спустился к воде. Здесь, вдоль берега, лежало несколько толстых кряжей, а возле них, у самой кромки воды, в глину воткнуты рогульки — все ясно, рыбацкое место. Поодаль полузанесенная илом фантастическим спрутом торчала узловатая коряжина. Лызин добрался и до нее и сразу увидел знакомые следы тупого топора. Неужели здесь? Тщательно обследовал берег и нашел еще несколько обрубков с похожими следами. Радуясь удаче и боясь ошибиться, перешел к другому кострищу. Здесь следов тупого топора не нашел. Потом осмотрел и третье, и четвертое, все остальные, подряд, ничего не пропуская. Таких следов больше не было. Часа через полтора, сгоняв еще раз к бочажине на лесовозной дороге и захватив еловый дрын и несколько веток, он вернулся к первому кострищу. Последние сомнения отпали — и вагу и дрова рубили одним орудием! «Нашел! — радовался Лызин, — нашел ведь! Ай да топор, сколько времени сберег, тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! — постучал козонками по отполированному рыбацкими задами бревну у воды. — Ночь они провели здесь. Приехали вечером втроем, а уехали утром вдвоем... Купили много водки, а выпили мало... Все сходится, если только трусливому браконьеру Коле Черткову со страху не поблазнилось, он должен найти здесь то, за чем приехал; если место нашел, теперь дело за малым». Лызин снял брюки и рубашку, аккуратно повесил на спинку сиденья. Затем достал заранее приготовленные старые форменные штаны, в которых работал на огороде, натянул застиранную рубашку-ковбойку, разложил возле, придавив камнями, полиэтиленовые пакеты. Обшаривать стал все подряд: от берега, метр за метром, тщательно перебирая пальцами камешки, комочки сухой земли, веточки, раздвигал траву и ощупывал каждую кочку, каждую ямку. Находки раскладывал по пакетам: в один — сигаретные и папиросные окурки, в другой — металлические и капроновые пробки от винных бутылок, консервные крышки, в третий — бутылочные осколки. Все остальные предметы, не поддавшиеся пока классификации, попадали в четвертый мешок: алюминиевая ручка от столовой ложки, позеленевшая блесенка без тройника, несколько кусочков свинца, монеты — алтынный и два гривенника, причем один старый еще, дореформенный, пятьдесят третьего года, несколько раздавленных спичечных коробков, ржавая пряжка и другие мелкие предметы, вывалившиеся из карманов и рюкзаков или выброшенные за ненадобностью и копившиеся тут, среди кочкарника и травы, на протяжении многих лет. Он пока не сортировал свои находки, по собственному горькому опыту зная, насколько неверным может оказаться субъективное первое мнение, складывал подряд, запоминая лишь и отмечая в блокноте, где лежали те или другие привлекшие его особое внимание вещи. Начальный круг поисков определил в пятнадцать метров вокруг костра. Часа через два, когда в пакетах скопилось уже изрядно, он продвинулся за темное пятно золы и углей, обойдя его пока стороной, и наткнулся наконец на то, что искал: среди редких порыжелых травинок, привалившись к сухому сучку матово светящимся боком, лежала пистолетная гильза. Лежала она совсем на виду, не прячась, найти ее, казалось, можно было сразу, запросто, без того кропотливого труда, что он проделал, но Лызин знал — это не так. Отметив место воткнутой в землю щепкой, он вернулся к машине, достал из кармана форменной рубахи пакетик с пинцетом. Гильза хранила еще кислый запах пороха. Он внимательно осмотрел ее со всех сторон, вытряхнул в карман спички из коробка, сунул туда клок ваты, лежавшей вместе с пинцетом в пакетике, и уложил находку. После этого позволил себе отдохнуть. Значит, Черткову не показалось. Все теперь сходилось один к одному. И двое-трое, и водка, и появившийся и снова исчезнувший труп... Ивана Пьянкова он встретил вчера утром. Иван, шаркая по каменным плитам тротуара ссохшимися разбитыми сапогами, брел куда-то, видимо сам не зная куда, и на лице его — огромной, отекшей, давно не бритой роже — блуждало подобие счастливой улыбки, он, похоже, только что «принял», и наступило для Ивана Пьянкова самое блаженное его время. Иван Пьянков был тунеядцем. Хлесткое короткое слово бич не прижилось в Чердыни, и людей, принадлежавших к вольному, бесшабашному, безответственному и далеко не безобидному этому племени, чердынцы, удивленные и напуганные грозным их нашествием в майские дни 1957 года, когда лихой и разномастный этот люд привезли накануне Всемирного фестиваля из столицы в сонный таежный городок для изоляции и перековки, доныне называли в полном соответствии с официально-бюрократическими канонами — тунеядцами. Но Иван Пьянков был тунеядцем не привозным. Те, не желая перековываться общественно полезным трудом и менять привычный беззаботный образ жизни на какой-либо другой, пусть даже сулящий всяческие блага, постепенно и незаметно рассосались куда-то, большей частью тишком вернувшись в родные края, но до этого счастливого для Чердыни момента успели посеять цепкие семена плевела и породить буйную местную поросль, к которой принадлежал и Иван Пьянков. Все здесь к нему давно привыкли и забыли уже, каким он был в другой, той, прежней жизни, где и как жил, что делал и чего не делал. Теперь он обретался всюду и нигде. Дом свой с радостью по случаю запродал горсовету под площадку строящейся гостиницы, деньги в неделю пропил и спал теперь летом на воле по заброшенным сарайкам, а зимой — в кочегарках или у запивших мужиков, которым всегда с готовностью составлял компанию, и те его компании тоже не бежали, потому что по натуре своей Иван был существом беззлобным и безобидным: питался, чем бог подаст, и пил, что кто ставил. А если не подавали, то Иван крал. Он никогда, боже упаси, не брал чего крупного, а всегда так, по мелочам, на полбанки, не больше. Поэтому к блюстителям закона, а особенно к нему, Лызину, Иван Пьянков относился повышенно конфузливо. Вот и сейчас, поздно заметив «опера», поняв, что им уже не разминуться, что не улизнуть от встречи никуда, Иван обреченно побрел к Лызину, и радость погасла на бесформенном его лице. Он даже сдернул с головы грязную, когда-то голубую кепочку с целлулоидным козырьком красного цвета и крутил ее в огромных, распухших кулаках. — Здравствуйте, Валерий Иванович, — поздоровался вежливо и, переступив с ноги на ногу, обдал Лызина густым запахом цветочного одеколона, который по причине доступности и дешевизны давно стал излюбленным его напитком. — Здравствуй, Иван. Опять ты мне встретился! Что же с тобой делать? На отсидку оформлять? — Ну что вы, гражданин начальник, зачем на отсидку? Я ж работаю! Дрова колю в собесе, ты зайди к заведующей, она тебе скажет! — Знаю я твои дрова. Простыни у Максимовой ты спер? — Какие простыни?! — Иван попытался принять независимый вид невинно оскорбленного человека, но запутался в жестах и сник совсем. — Не знаю я никаких простыней, и никакой Максимовой не знаю. Я вот что, — оживился он внезапно и, наклонившись, зашептал Лызину почти в ухо, — вот что слыхал: Коля-то Черт, ну ты знаешь, говорят, в мережку топляка поймал! — Какого топляка? — не понял сразу Лызин. — Ну да этого, утопшего! Он у Мудыля сеть ставил, там ему приплыло, — Пьянков пьяно хихикнул. — Где-то ты слышал, от кого? — Да я не помню, — сразу поскучнел Иван. — Третьего дня где-то угощались, вот кто-то и сказал, не упомню, внимания даже не обратил. — А еще про что там говорили? Пьянков склонился еще ниже. — Да говорили, что ты ищешь, кто мотор у Паршакова снес, так Васька-то Горячих сейчас запчасти продает. — Ну ладно, разберемся. Всё? — Всё, товарищ начальник! — Иван снова распрямился во весь свой богатырский рост. — А ты в собесе, правда, узнай, я ведь и вправду... — Ладно, ладно, шагай, кольщик, ты Максимовой поколи, отработай простыни, а то сыновья-то никак не соберутся навестить. Я тебе серьезно говорю, гляди, проверю! Сообщение Пьянкова об утопленнике, выловленном Чертом — Чертковым Колей, Лызин оценил только вечером. Оно весь день сидело в нем гвоздем, но в суете и текучке притерлось, а за ужином всплыло и встало на свое место. Утопленник, если он, конечно, не выдумка шаромыг, выплыл у Мудыля. А где-то повыше, у Лобанихи, ночевал Боев с друзьями. Втроем. А на обратном пути в машине Данилов только двоих видел. Ищем мы Боева, розыск всесоюзный, а он, может, тут, под боком... Лызин тут же отправился к Черткову. Коля, которого в его почти пятьдесят лет никто никогда, исключая собственных только детей, иначе как Колей не называл, пил на веранде чай. Увидав входящего Лызина, он поперхнулся, плеснул из чашки на кружевную желтую скатерть и налился краской. — Чего это ты? — спросил Валерий Иванович, усевшись на отслуживший свой срок в комнатах диван. — Да так... не ждал. — А... Меня редко кто ждет, это верно. Вот зашел спросить, рыбки не уступишь? — Лызин протянул руку и потеребил за хвост свисавшего с бельевой веревки, натянутой поперек веранды, двухкилограммового леща. Рядом с ним висело еще с десяток таких и с ведро мелочи. — А, рыбки! Ну, конечно, пожалуйста, прямо сейчас? — Да погоди, не суетись, допей чай-то, успеется. Чертков опустился и поднес большую, как пиалу, чашку к губам. — Все хотел спросить тебя, где ты таких красавцев ловишь? — Так в реке, — не успев глотнуть, Коля снова опустил руку. — В реке! У меня сын тоже вон днями на реке пропадает, да приносит все больше сорогу. — Так ведь места знать надо! — Места... Знаю я твои места. И снасти знаю! Еще чего поймал?! — Как это чего? Ничего, — он снова покраснел. — Вот что, Чертков, — Лызин смотрел холодно и строго. — Если я тебя спрашиваю, значит, я знаю. Если я пришел к тебе домой, а не в отдел вызвал, значит, хочу все по-хорошему кончить. Для тебя по-хорошему. А если я знаю, то докажу. Покопаюсь, поищу, но докажу, точно, тогда говорить с тобой будем по-другому и не здесь. Так что давай, решай. Я тебе не инспекция и не рыбнадзор, и сети твои меня пока, — Лызин подчеркнул, выделил это пока, — не интересуют, меня интересует то, что ты поймал у Мудыля. — Так ведь не я поймал, — Чертков весь, до макушки, налился краской. — Он сам поймался. — Кто он? — Утопленник. — Какой? — Я не знаю, — растерялся Коля. — Мужчина, женщина? — Мужик. — Как он выглядел? — Обыкновенно. Белый. Я не разглядел, испугался. — Где он сейчас? — Не знаю. — Как это не знаешь? — Да так... Я его обратно отпустил. — Обратно?! — Ну да. Лызин помолчал, обдумывая новость. Потом снова спросил: — Если ты сеть отпустил, то она и сейчас там? Коля заерзал озабоченно, стал передвигать по скатерти чашку. Лызин глядел на него и ждал. — Так я того... Сеть-то обрезал. — Как это обрезал? — Да так... — Чертков показал, как он резал сеть ножом. — Вот, значит, как. Обрезал, пожалел сеть... А его, значит, обратно, на дно?! Коля сидел, потупив глаза. — Вот что, Чертков Николай Тимофеевич. Давай-ка все по порядку, ничего не пропуская: когда, где, почему и далее. Чертков помедлил, откашлялся и начал: — Так это, значит, того... На прошлой неделе поехал я сеть проверить на Мудыле. Поднял ее у берега, как положено. А дальше, чую, тяжело. Подумал, опять балаи нанесло или пень какой, изорвал сеть поди. Ну и подымаю. А там, у самого конца почти, как раз посередине реки, он и запутался. — Какой он? Волосы, лицо, во что одет? — Так голый. — Как это голый, совсем? — Ну да, совсем. Я сначала думал — купался и утонул, а потом гляжу, у него к ногам железяка привязана. — Какая железяка? Чем привязана? — Ржавая, круглая. Как колесо. Проволкой привязана. — И ты, значит, его того, решил не связываться? — Ну да. Лызин снова помолчал, пожевал губами. Вот это пироги... — Сеть-то большая была? — Семьдесят пять метров. — А осталось? Чертков пожал плечами. — Ну-ка давай, неси ее сюда. В оставшемся куске было шестьдесят девять с половиной метров. — Так ты, значит, аккуратненько вокруг него сеть и обрезал? — спросил Лызин, когда они кончили мерить и снова сели к столу. — И ничего, говоришь, не заметил? Лицо какое? Старый, молодой? — Так не было лица, рыба, видно, объела... Лызин молчал. — Да вот еще... У него здесь, — Чертков ткнул пальцем себе за правым ухом, — дыра круглая... и здесь... — показал на левый глаз. Лызин молчал, а Чертков беспокойно ерзал. — Груз у тебя на том конце какой? — Кошка... кованая. Новиков ковал... вот такая, — он развел руки сантиметров на двадцать. «Кошка, значит! Ну и гад же ты, Коля Чертков, моя бы воля, я бы таких, как ты... Где его искать-то теперь, с твоей кошкой?» Лызин встал. — Вот что, Коля. Завтра, с утра, раненько, с солнышком, ты отправишься на Мудыль и найдешь мне этого утопленника со своей кошкой. А как выловишь — привезешь и меня отыщешь! Понял? — Так как же... Мне же на работу завтра. — Я тебя от работы освобождаю. На завтра. А коли не сделаешь, надолго освобожу. За сокрытие. Понял? — Понял... я, конечно... с утра... — Ну вот и хорошо. До завтра. — А если я его найду, так мне что, в лодку его, что ли? Лицо Черткова было искажено неподдельным ужасом, и Лызин его пожалел: — Ладно. Не надо в лодку. Оттащишь, где помельче, и пометишь буйком. И сразу сюда! Сам Лызин с утра, заехав в дорожный участок за Даниловым, отправился за гильзой. За гильзой от патрона, которым убили Боева. И вот он нашел ее. Нашел и место преступления и следы преступления. Теперь дело за теми, кто ночевал здесь три недели назад. А это, видимо, будет посложнее, много посложнее. Лызин снова встал на четвереньки. Необследованной осталась еще треть намеченной территории. Минут через сорок запищала рация. Он подошел и снял трубку. — Да? — Товарищ капитан, вам сообщение от Никитина. — Читайте. — «Срочно высылай помощь. У меня тяжелобольной, второй в тайге». — Кто передал? — Молотилов. — Откуда? — С Кутая, из лагеря геологов, через Красновишерск. — Где Никитин? — Говорит, километрах в десяти-двенадцати выше. Лызин помолчал. — Какие будут распоряжения? — не выдержал дежурный. — Подожди! Подумал, огляделся, стряхнул с коленей налипший сор. — Алло? Слушаешь? — Да, товарищ капитан! — Ты вот что. Срочно свяжись с авиацией и закажи вертолет. Срочно, понял? Пусть с рейса снимают, если надо, и сюда, то есть на аэродром, я минут через тридцать буду. — Понял, товарищ капитан, сейчас сделаю! — И еще. Собери свободных от дежурства. По тревоге. Одежда и все остальное — для работы в тайге. С оружием. Начальнику все передай, я сейчас. — Понятно. А мне можно с вами, товарищ капитан? — А ты кто? — Младший сержант Попов! — Так ты же на дежурстве. — А я подменюсь! — Кто это тебе разрешит? — А вот увидите! — Ну смотри, отбой! Лызин быстро переоделся. Щелкнул десяток раз фотоаппаратом, сложил находки в машину и сел за руль.Начальнику УГРО ОВД Чердынского райисполкома капитану Лызину В. И.
Рапорт
Я, ефрейтор Жуйко Р. С., нес оперативное дежурство по паромной переправе «Рябинино» в период с 10 по 12 мая. 12 мая во второй половине дня, около 4 часов, со стороны Чердыни на переправу прибыла автомашина «Жигули» ВАЗ 2103 синего цвета. Машину вел высокий молодой человек в синем джинсовом костюме, темных (дымчатых) очках в металлической оправе. Кроме него в машине находился пассажир — человек пожилого возраста. Из машины пассажир не выходил, а спал, надвинув на глаза шляпу и привалившись к стойке кузова. Документы обоих были в порядке, фамилии их и номер машины не запомнил. Опознать при необходимости смогу обоих. 2 июля 1974 г.Ефрейтор Жуйко
4. Никитин Евгений Александрович. 2 июля 1974 г., р. Кутай.
В ожидании помощи Никитин занялся лагерем. Ни в палатке, ни в рюкзаках ничего необычного не нашлось — стандартный набор полевиков: белье, одежда, теплые вещи, туалетные принадлежности, инструменты, бинокль, приемник транзисторный — вот, собственно, и все. Бумаг никаких обнаружить не удалось — ни документов, ни писем, совсем ничего. В одном из полотняных белых мешочков, обвязанном плотно бечевкой, оказалось несколько щепотей золотого песка и маленький, чуть больше ногтя, камушек золотой же, самородок. В другом — патроны к карабину. Бич в сознание не приходил, и Никитин принялся за поляну. Здесь было пять глубоких, по четыре-пять метров, шурфов, тянувшихся кривой цепочкой от верхнего края поляны к нижнему. Последний, видимо, был недокопан. Внутри — лопата и кайло. Вторая лопата воткнута в отвал. От этого шурфа Никитин спустился к реке. Именно здесь и сидел промывальщик, когда они пристали. На гальке бечевника лежали брезентовые рукавицы и широкое деревянное корытце с полого наклоненными стенками. «Лоток», — понял Никитин. На дне его горкой сбились гальки, штук десять. Он взял в руки одну, повертел — камень как камень. Положил обратно. Потом заметил желтый блеск на бортике. Задержав дыхание, склонился: на дереве посверкивали мелкие крупинки золота. Осторожно перенес лоток к лагерю, сходил за рукавицами, лопатами, кайлом. Возвращаясь, заметил, что бич очнулся и следит за ним из-под полуприкрытых век. Никитин с лотком присел у него в ногах, ожидая, когда тот перестанет валять ваньку и поймет, что играть с ним бесполезно. Через минуту бич открыл глаза. — Что это? — Золото, — тихо, почти шепотом ответил тот. Видно было, что к нему возвращалась боль. — А камни зачем? — Так. Выкинуть забыл. — Вы здесь золото мыли? — О-ох!!! — лицо бича исказилось гримасой. — Начальник! Увези ты меня отсюда, больна-а! — Терпи, — ответил Никитин. — Скоро за нами прилетят. Так вы здесь золото мыли? — О-оо! — в полный голос тянул бич. — Ничего я не скажу! Ничего-о! Убьет он меня, убье-ет! Увози скорее, начальник, о-оо! Никитин поставил второй укол, и скоро бич затих. Капитан вернулся к столу и взял подсохшую тетрадь, сшитую, как оказалось, не из обычной линованой бумаги, а из плотной миллиметровки. Наполовину тетрадь оказалась заполненной записями, выполненными одним и тем же мелким аккуратным почерком, и рисунками: схематическими набросками реки, зарисовками стенок шурфов, планами и другим. Записи были сделаны профессионально, с сокращениями, конспективно. Местами к листам прилеплены нашлепки глины и земли разного цвета. «Ш. 9, — разобрал Никитин на последнем заполненном листе, — поч. покр. — 12; лессов. сугл. — 20-25; гал. мел. фр. (до 5 см) — 105-110 см; гл. сн. — 18-20; сугл. щб. — 45-50 (пермь?)» и так далее, в том же духе. Смысл прочитанного был неясен, но понятно стало, что записи сделаны геологом. Сердце щемило... Вертолет прилетел даже быстрее, чем он ожидал. Внезапно выскользнув снизу из-за поворота, прошелся по долине, наполнив ее отраженным от гор гулом, развернулся над лагерем, завис и мягко сел в стороне. Дверца распахнулась сразу, как только колеса коснулись земли, из темного его чрева на поляну первым выпрыгнул Лызин, за ним молодой парень в белом халате с металлическим сундучком скорой помощи в руке, потом посыпались остальные: в сапогах, в брезентовых куртках, у некоторых были охотничьи ружья и даже две лайки. Доктор, оглядевшись, не говоря никому ни слова, сразу же пошел к лежавшему под кедром забинтованному бичу. Лызин — к Никитину. — Кто такой? — Не знаю, — пожал плечами Никитин. — Вот как? И что с ним? Никитин кратко рассказал о том, что разыгралось здесь несколько часов назад. — Да-а! — присвистнул Лызин. — Дела-а! Что предполагаешь? — А черт его знает! Послушал тебя, полез, а тут! — Никитин сокрушенно махнул рукой. — Может, конечно, сообщники Боева, но больно уж много их получается, там трое, здесь — еще двое! Может, старатели самодеятельные? Я слыхал, там, где золото, встречаются... Может, он и в самом деле геолог и тоже старательством занялся, а тут напугался? — Он, говоришь, документик тебе оставил? — Вот, — Никитин подтолкнул Лызину сумку. Тот раскрыл ее, достал бумаги и тетрадь, полистал, почитал. — А на этого? — кивнул головой на бича, возле которого суетился врач. — Никаких бумаг? Никитин помотал головой. — А золото где? — Вон, на столе. В мешочке и на лотке. Лызин склонился над столом. — Занятно, занятно... Ну ладно, какой он геолог, мы выясним быстренько. — Взглянул на часы. — Сегодня уже поздно, а завтра с утра в Ленинград запрос пошлем. А я, признаться, подумал, что напрасно тебя сюда сговорил. Боева-то, похоже, уже в живых нет. — Как это нет? — А вот так! Не у одного тебя новости. — И теперь уже Лызин рассказывал о браконьере-трусе Черткове, исчезнувшем трупе и гильзе. — Я ведь, честно говоря, как труп-то всплыл, решил, что Боева убрали при дележе. А теперь... Не вяжется все это. Подошел доктор. — Ну что же, перевязан он вполне терпимо, лучше здесь не сделать. Нужно в больницу. Что ему ставили? Никитин кивнул на сломленные ампулы. Доктор пошел к вертолету за носилками. Лызин, сунув в рот два пальца, громко свистнул и махнул рукой. Милиционеры подошли. В одном из парней, с лайкой на поводке и с ружьем за плечами, Никитин узнал кудрявого здоровяка. — A-а, Алеша! Привет! — Здравья желаю, товарищ капитан. Только зовут меня Володей. — Да я помню, Алеша — это так, вроде присказки, ружье-то тебе зачем? — Камуфляж, вроде как охотники. — Какие сейчас охотники? — Ну так браконьеры, еще лучше. Что, их здесь не бывает? А попадется что, так мы и в самом деле постреляем! — Эй, Попов! — оборвал его Лызин. — Я тебе постреляю. И поболтаю тоже. — Я чё, товарищ капитан, — снова придурился тот, — я ничё. — Ну ладно, хватит зубоскалить, время терять, слушайте. В лесу преступник. Ранен срикошетировавшей пулей вот там, на воде, в лодке, но потом выбрался на берег и ушел. Ушел, по всей вероятности, вниз, вверх не пойдет, путь у него один — к Вишере. Будем прочесывать тайгу. Начнем отсюда: трое по одному берегу, трое по другому. Сегодня нужно дойти до лагеря геологов, это километров десять по реке, там определимся с дальнейшими поисками. Если встретите — сигнал три выстрела. Не исключено, что вооружен, карабин его у нас, но может быть карманное оружие, страхуйтесь. Брать только живым. Вопросы? — Куда он ранен? — Поймаем — узнаем. Еще? — Может, он утонул? — Будем исходить из того, что жив. Больше вопросов не было. Не теряя времени, свернули и погрузили лагерь, скатали лодку. Одну тройку перебросили на правый берег и полетели к геологам. Там их ждали. К вертолету, едва он коснулся земли, подошли Молотилов, Галка и высокий бородач в «энцефалитке». — Капитонов Николай, — представился, — начальник отряда треста Пермнефтегеофизика. — Извините, что беспокоили вас и еще побеспокоим. У вас тут следователь из Перми побудет, — показал Лызин на Никитина. — Конечно. Что-то случилось? — В тайге раненый преступник. А может, он и утонул. Наши люди сейчас прочесывают тайгу и к вечеру выйдут сюда. Приютите на ночь? Геолог кивнул. — Хорошо бы организовать поиски в реке. У вас лодки есть? — Лодки-то есть, да только после работы, сейчас все на профиле. — Ну конечно, после работы. А я еще пришлю помощь снизу, от сплавщиков. И последнее. Вы геолога, что выше вас стоит, знаете? — Малышева? Он к нам приезжал. — Зачем? — Да так, познакомиться, соседи все-таки, коллеги. Керн смотрел, карты. — Чем он занимается? — Мерзлотой. Гляциолог он, льдами интересуется. — Здесь есть мерзлота? — Ну да, линзами встречается. На картах помечена. — Золото его интересовать может? — Золото? — Капитонов искренне удивился и, бросив взгляд на окрестные сопки, покачал головой. — Я, конечно, не специалист, но золото, здесь... Хотя золото всегда много загадок загадывает. — Понятно. — Лызин достал малышевскую тетрадь и протянул Капитонову: — Что это? — Полевой дневник. Называют еще пикетажкой, пикетажной книжкой. — Точно? А это что за записи? Николай вчитался. — Обычные полевые записи. — А вот здесь, — распахнул Никитин последнюю страницу, — здесь что написано? — «Шурф номер девять. Под почвенно-покровным слоем мощностью до двенадцати сантиметров лессовидный суглинок толщиной двадцать-двадцать пять сантиметров, ниже галечник мелких фракций, диаметром до пяти сантиметров, толщина слоя сто пять-сто десять сантиметров. Ниже синие глины, стерильные, мощностью в восемнадцать сантиметров, ниже суглинок, насыщенный щебнем, сорок-сорок пять сантиметров, возможно, пермской эпохи». Всё. — Спасибо. В этой записи с точки зрения того, чем занимался Малышев, ничего необычного нет? Капитонов пожал плечами: — Как будто нет. — Ну, еще раз спасибо. До свидания. Салют! — махнул рукой на прощание. — Вечером свяжемся. Вертолет легко скользнул вперед и вверх и через минуту скрылся за поворотом реки.Для служебного пользования. ОВД г. Чердыни Пермской области. УГРО. На ваш запрос № 583/12 от 14. 06 сообщаю, что Боев Георгий Павлович встал на учет в г. Сарани 4 мая 1974 г., получил паспорт VII ШЖ № 749883 15 мая и был трудоустроен слесарем на хлебозавод с 25 мая. 9 июня Боев предъявил администрации предприятия заверенный телеграфный вызов на похороны сестры — Кошелевой Клавдии Павловны из г. Свердловска, получил недельный отпуск и отбыл из города. После Боев ни по месту работу, ни по месту жительства не появлялся. 26. 06. 74
Инспектор по надзоруСаранского ОВДлейтенант Овчинникова
4-го 16 час. 07 мин. БЛ. 17. Из Ленинграда 4402 19 04 1517
Г. Чердынь, райотдел милиции. Начальнику.
Срочная
Ответ ваш запрос подтверждаем старший научный сотрудник института Малышев Петр Павлович командирован производства работ гляциологической тематике различные районы Пермской Свердловской областей том числе Красновишерский Чердынский районы тчк. Просим сообщить институту причину запроса тчк.
Заместитель директора научной работе Белов
5. Казанцев Анатолий Витальевич, по прозвищу Толька-Шпрота, бич. 5 июля 1974 г., г. Чердынь.
Толька-Шпрота блаженствовал. Он, — давно отвыкший от тепла домашнего и человеческого, годами скитающийся по тайге да по задам не ахти каких многолюдных и устроенных сибирских поселков-новостроев, живущий днем идущим, давно разучившийся заглядывать хоть на сутки вперед, есть нормально, спать в постели, — лежал теперь в отдельной палате районной больницы. Наплевать было ему, что панели в ней, крашенные казенной темно-синей краской, протерлись так, что сквозь грязные залысины проступала местами не только серая штукатурка, но и добротный дореволюционного темного обжига кирпич, а разводы по краям обнажали напластования зеленой, оранжевой, желтой и бог еще знает какой краски, случайно оказавшейся к очередному ремонту на складах больничных, райпотребсоюзовских, а то еще и купеческих. И неважно также, что полуторасаженное окно, задернутое в нижней части желтоватой, застиранной до кисейной тонкости шторкой с чернильным штампом в углу, сиротски темнело грязным стеклом и облупившейся рамой, что из мебели, кроме железной кровати, в палате, узкой, как пенал, стоял лишь квадратный стол с облезшей полировкой, синяя тумбочка да единственный обитый дерматином стул, что тусклая, засиженная мухами лампа убого свисала с высокого потолка на витом шнуре. Толька-Шпрота не замечал убожества: он лежал на панцирной сетке, олицетворявшей в годы его детства и юности чуть ли не буржуйскую роскошь, а на кроватях спать, пусть и не на белоснежных, но стираных простынях, ему приходилось в жизни нечасто; и какая разница, что лежал он немытый: кормили три раза в день, сытно и вкусно, первым, вторым и третьим, и не было у него сейчас никаких забот, а что касается до страданий, то он к ним сумел приспособиться, по-звериному отключался, и лишь по ночам достигала его тупая боль и непроходящий зуд под бинтами. Да еще эти вот, из милиции... — Где и как вы встретились? — задал следователь новый вопрос, и Шпрота понял, что так просто он не отстанет. — Ой, начальник, больна-а! — попытался захныкать, но сидевший на стуле Лызин пресек: — Брось! Не больнее, чем час назад, а песни ведь пел! Ну, так как же вы с этим геологом встретились? — Это он ко мне приехал. — Куда? — В Майский. Поселок такой есть в Сибири. — Зачем приехал? — Промывальщик, говорит, нужен, вот и разыскал. — А что, поближе не было? Ты один на всю Сибирь? — Лызин решил «завести» бича и не ошибся, тот схватился враз. — Может, поближе и было, только, начальник, знаешь, какой я промывальщик? Э-ээ!.. Ниче ты не знаешь! Да я же у самого Николая Ивановича Лугина работал! Он меня как ценил? Куда сам — туда и меня: и на Колыме, и на Алдане, и где мы с ним только не работали, сколь золота нашли! Премию государственную получили, вот! А ты — поближе... — А премию что, и ты тоже? — Да нет, — бич потускнел. — Кто нам премию даст. Это Николаю Ивановичу. Но он мне сам сказал: «Это, говорит, Толька, не только моя, это наша с тобой премия! Нужны деньги — бери! Хочешь в Крым, хочешь на Кавказ, куда хочешь езжай — гуляй! Я бы, говорит, без тебя этого золота ввек не нашел!» Да зачем мне деньги? Гульнули с корешами и все. Хороший он мужик, лучше не встречал, и на том спасибо. — А в Тюмени как оказался? Тоже золото искал? — Не-е. Умер Николай Иванович, сердце не выдержало. — И ты — в Западную Сибирь? — Еще бы! Звали меня, правда, другие в свои отряды, но я ушел. Болеть стал часто, климат там плохой, холодно и сыро, вот и уехал. Корешки говорили, что в Сургуте жить хорошо, нефть, мол, нашли, люди разные, деньги, опять же, есть... — Когда ты переехал? — Да и не помню. Лет восемь или девять, а может и меньше, я годы-то не считаю, мне без надобности. — Ну, а с Малышевым как встретились? — спросил Никитин. — А где он? Вы его поймали? — снова напрягся Шпрота. — Убит твой начальник, убит. Говори, не бойся. За отсутствием второго стула Никитину пришлось устроиться на боевской кровати, в ногах, на краешке стальной рамы, едва прикрытой тощим матрацем. Накануне, поздно вечером, он с группой вернулся в Чердынь. Дольше задерживать в тайге милиционеров не мог — служба райотдела стала выбиваться из наезженной колеи, и начальник приказал Лызину прекратить поиски. Ни живого, ни мертвого геолога обнаружить не удалось; неоднократно прошарив прибрежную тайгу и дно Кутая, Евгений Александрович укрепился во мнении, что Олег убил или тяжело ранил Малышева, и, раненый, тот утонул. А труп найди-ка в такой реке: то омуты бездонные у скал, то перекаты да пороги, местные говорили, что порой через год, а то и позже отпускает река свою добычу. Но неопределенность все же оставалась. Лызин считал, видимо, иначе, и от того было муторно. — Верно, убит? — Ну да. Шпрота воспринял известие недоверчиво: веки его снова стянулись в тонкие щелочки, узкий лобик наморщился и потемнел, губы беззвучно зашевелились. Толька-Шпрота думал. — Ну ладно, — наконец решил он. — Пусть будет по-вашему, начальники. Я ведь правду сказал — сам он меня нашел. Я тогда даже работал, в артель на промысел записался, а тут он и объявился. — Когда это было? — Недели две назад, сейчас посчитаю, — снова зашелестел провалившимися в беззубый рот губами, — ну да, точно, перед днем медиков, Козел еще, Козлов Яшка — артельщик, говорил, что отмечать будем, готовиться надо. — Ну и что Малышев? — Как что?! Пришел аккурат в обед, мы ушицу хлебали. Подсел, бутылку достал, как полагается... А потом меня спросил, говорит, промывальщик срочно нужен месяца на два-три, до конца сезона, что ему меня Павел Николаевич рекомендовал. Вот и все. — И ты сразу же согласился? — Так он ведь сказал, что от Павла Николаевича! — А кто это — Павел Николаевич? — Ветров. Буровик он. Буровой мастер. Я у него две зимы трудился, он мне как отец родной. Уж если он просит, я для него... Да и самому интересно стало, сколь годков лоток в руках не держал. — Как Малышев представился? — Все честь по чести. Документик с фотокарточкой предъявил, от института, Малышев Павел Петрович, научный работник, сказал, что его льды и золото интересуют. — Золото? — Ну да. Он говорил, что золото на его гипотезу работает, объяснял, да я не понял толком, образование-то у меня... — Он сказал, что нужно будет за Урал ехать? — Говорил, что начнем с этой вот стороны, а потом обратно через горы перевалим. — Тебе ничего странным не показалось? — Тогда нет. — А потом? — Потом? Не знаю я о нем ничего, гражданин начальник, — Шпрота говорил ровно, без обычного ерничества и надрыва, даже вроде грустно. — Но геолог он, точно. И хороший геолог! Я уж разбираюсь, поработал с ними, пожил, всяких насмотрелся. Работать умеет, что надо сам делает, не заставит лишнее за себя пахать, лопаты не брезгует. Вот только глаза у него... — Что глаза? — Дурные... Ничего плохого он мне, вроде, за эти две недели не делал, наоборот, но задумается порой, глянет на меня — мороз по коже. — На Кутай давно прибыли? — Давно. Из Майского прямо на другой день выехали — и сюда. — Всё вдвоем были? Никого не встречали? — Не-е. Всё вдвоем. Вот только в Свердловске, при пересадке, часа четыре времени было, так он куда-то уходил, но к поезду вернулся, а так все вместе. — Где ты его ждал в Свердловске? — На вокзале, где ж еще? С моей-то рожей да в город... — А он что, но делам ходил? — Не знаю. Посиди, говорит, тут, я сейчас, а сам... Может, ездил куда, а может, и нет, я-то ему зачем? Он вон какой, а я? Конфузил бы только... — На Кутае все на одном месте стояли? — Да нет, начальник. Сначала на лодке вверх да вниз. Он вроде как осматривал реку-то, сам, видать, раньше на ней тоже не бывал, но карта у него, все по ней сверялся. — Какая карта, в планшетке? — Да нет, другая, самодельная, вроде как абрис. Он ее в кармане штормовки держал, мне не показывал, а как место подходящее заметит, так остановится, осмотрит, карту свою достанет, прикидывать начнет... Я удивлялся еще, почему абрис? У нас на Алдане такие были, так там понятно, дикий край, никаких карт других вообще не было, а здесь? — Что он искал? — Да не знаю... Приметил только, что мы все больше у ручьев разных да островов останавливались. А потом в том месте встали и шурфы стали бить. — Понятно... Ну а золото? Много намыли? — Да нет, куда там! Да и какое здесь золото? Я, конечно, граждане начальники, не геолог какой, образование у меня — я уже говорил, но повидал я его, проклятого, немало. Так что без наук знаю, где можно взять, за то меня Николай Иванович держал, а здесь все не так... Вот если б Николай Иванович, он бы вам точно сказал, есть или нет здесь золото, но по-моему — нет. — Но на лотке-то было! — Так это ж знаки только, блеск. Я его вам, хотите, прямо вот тут, — кивнул головой на окно, — намою, во дворе, поупираюсь, а намою. Его где больше, где меньше... На Кутае — много, но это еще не золото. — Ну а самородки не попадались? Бич уставился на Никитина, даже приподнялся в постели, пожал под серым одеялом забинтованными плечами: — Какие самородки, начальник? Это же тебе не Клондайк и даже не Колыма! В дверь заглянул врач. — Товарищ Лызин, — зашептал, — к телефону! Оставшись наедине с Никитиным, Шпрота подобрался. Этот второй опер был связан со стрельбой, болью, ранами, всем ужасом, пережитым им там, на Кутае; Шпрота его боялся. — Ну а почему он в вас стрелял? — Не знаю, начальник, ей-богу, не знаю! Ничего я ему не сделал, как на духу говорю! Сам не знаю, это он в вас, а не в меня стрелять должен был, наверно, перепутал. — Ну вот что, — бросил вошедший Лызин. — Разговор ваш интересный в Перми продолжите. Так что готовься к перелету, путешественник! — подмигнул даже. — А я чё, я готов. Лызин подхватил Никитина под руку и повел из палаты. Обостренным слухом привыкшего к невзгодам человека Шпрота успел услышать последние его слова, сказанные товарищу в дверях палаты: — В отдел, полковник звонит, и Вилесов что-то откопал, сидит, ждет. Держись, сейчас с нас с тобой за два утерянных трупа три шкуры спустят!Протокол
технико-криминалистической экспертизы
Мною, экспертом Пермской НИЛСЭ Кругловой Н. Г., произведена технико-криминалистическая экспертиза удостоверения Ленинградского научно-исследовательского института геологии Министерства геологии СССР за № 658, выписанного на имя Малышева Петра Павловича, и открытого письма того же института. Перед экспертизой были поставлены вопросы: 1. Не подвергался ли какой-либо из этих документов подчисткам, припискам, исправлениям или другим изменениям? 2. Не произведена ли замена фотокарточки на удостоверении? 3. Фабричным или кустарным способом изготовлена печать, оттиски которой имеют эти документы? 4. Не дорисована ли какая-либо часть оттиска печати? Произведенная экспертиза показала, что на удостоверении переклеена фотокарточка, оттиск печати на ней воспроизведен графическим способом (дорисован) с высокой степенью точности. Бланки документов изготовлены типографским способом. Позднейшим исправлениям тексты и подписи не подвергались. 6. 07. 74Эксперт-криминалист Круглова Н. Г.
6. Олин Поликарп Филатьевич. 14 августа 1843 г., г. Чердынь.
— А если я за приставом пошлю? — Поликарп Филатьевич катал по зеленому сукну тяжелый желтый камушек и с любопытством смотрел на гостя. Тот, хоть и одет был, несмотря на теплый в этом году август, в ношеный, до ниток основы протершийся зипунишко, латанный по локтям, сидел против купца не как прочие, на краешке стула и ломая шапку в руках, а прочно, основательно, даже приразвалясь, и шапчонку свою суконную, порыжелую от долгих лет, на стол возле чернильного прибора бронзового фигурного пристроил. И слова Поликарпа Филатьевича не напугали — блеснул только острым взглядом да ухмыльнулся добродушно в косматую дикую бороду: — А на кой тебе, хозяин, пристав-то? Золотишко он себе приберет, я от него сбегу, а тебе в том какой резон? Никакого тебе нет резону. — Ой ли, сбежишь? — Сбегу, хозяин, не от таких бегал. А если не от него, то на этапе иль из острога снова... И золотишко, что принес я окромя этого, — кивнул нечесаной головой на стол, где пальцы купца поглаживали, ласкали жаркий металл, — пропадет все. А зачем? — Много у тебя еще его, золотишка-то? — Так ты ж, Поликарп Филатьевич, не сказал еще, возьмешь ли, а уже сколько?! — Потому и спрашиваю, что знать хочу, стоит ли мне вязаться в это дело. Может, ты убил кого да ограбил. — А тебе не все равно, ограбил — нет, много или мало? Коли не будешь брать, другому сторгую. Скажешь цену свою, тогда посмотрим, сколь тебе уступить. — Да ты никак жилу нашел, коли так торгуешь-то! — Ну, это уж мое дело, что я нашел, твое дело, Поликарп Филатьевич, покупать, мое — продавать. А коли не хочешь, то я пойду, пожалуй, — потянулся бродяга за шапкой. — Да постой ты, экий скорый! Не телка ведь продаешь! — купец подкинул самородок и поймал, потом еще раз и еще, словно взвешивал, прикидывал, потом поднес к глазам. Камушек походил на маленькую птичку, поджавшую головку, опустившую короткий воробьиный хвостик. «Жар-птичка», — усмехнулся. — А ты за него сколько хочешь? — спросил. — Пятьсот рублей за фунт. —Ого, так ты золото на фунты продаешь?! — На чё продаю, на то и ладно. — Серебром, конечно? — Не ассигнациями же! — Дороговато уж, — прищурился купец. — Так и не назем ведь, — усмехнулся бродяга. Поликарп Филатьевич встал из-за стола, отодвинув высокий резной стул, прошелся наискось по комнате, по чистым половикам, подошел к окну и толкнул раму. В лицо хлестнуло пряным таежным воздухом. Усадьбу дед его поставил на самом городском краю над монастырем; открывался отсюда, с высоты, широкий речной простор, покойные луга заколвинские да необъятное, зеленое, прочерченное строгим рисунком крестов Иоанна Богослова, убегающее волнами далеко-далеко море тайги. Любил он необъятность эту, от людской мешкотни удаленность, потому и строился здесь. Любовь эта и внуку передалась. Но сейчас не до красот было, прикидывал, считал, даже губами тонкими подрагивал. — Вот что, — повернулся к гостю, подошел и встал рядом, опершись о край стола. — Пятьсот-то рублев за фунт это ты того, загнул. Это ж почти казенная цена, а оно у тебя темное... Да и какой мне резон брать его по казенной? А по триста я бы, пожалуй, дал. Сколько у тебя его? — Ну-у, хозяин, креста на тебе нет, за триста! Эк хватил. Прощевай пока, — стянул со стола шапку. — Ладно, триста пятьдесят! — Четыреста! — Триста семьдесят и ни полушки больше! — Пойдет, — размыслив, протянул бродяга и снова поставил провшивленную шапку на чистое сукно. — Бог с тобой. По этой цене я тебе, пожалуй, фунтов пять уступлю. — А у тебя что, и поболе есть? — Коли и есть, то не про твою честь, я кого посговорчивее небось найду. А пока прощевай, я тебе завтра принесу, а ты деньги-то приготовь. — Он снова поднял шапку и натянул на лохматую голову. — А это? — указал Поликарп Филатьевич на лежавший посредине стола самородок. — Это что, мне оставляешь? — Ага, на затравку. Или лучше вот что, ты дай-ка мне рублей пятьдесят, я бы хоть одевку какую купил, а то срамно в этом к тебе ходить. Поликарп Филатьевич вытянул из кармана кошель, достал деньги, протянул бродяге. Тот аккуратно спрятал их за пазуху. — Ну ладно, хозяин, прощевай пока. — Иди с богом, приноси завтра свой товар, посмотрю, может, и остальное сторгуем. Бродяга направился было к двери и взялся уже за ручку, но остановился, постоял и, вернувшись обратно, уселся на старое место, возвратив шапку на столешницу. — А ты бы вот что, хозяин, — проговорил медленно, помолчал, поскребши темными сухими пальцами в дремучей голове. — А ты бы купил у меня жилу-то. — Это как, жилу? — Поликарп Филатьевич тоже присел за стол. — Да так, купил бы и все. Денежки у тебя, видно, есть, а мне все легче, не ходить, не трудить ноги, не торговать по мелочам. — Ну и где она, твоя жила, в каких краях, что мне там с ней делать? — Да она тут недалече, верст двести. — Как это тут? Ты что, золото не из Сибири принес? — Да нет, хозяин, тут я его нашел, в вашем уезде. — Нуда! — поразился Поликарп Филатьевич. — Ей-богу, — кинул крест бродяга. — На Кутае. — Врешь ведь поди! Как же ты тогда проболтался-то? Коли сказал где, так я и сам найти смогу. Найму инженера горного и найду! — Нет, Поликарп Филатьевич, не найдешь! — Глаза бродяги светились на черном лице сквозь буйную поросль лукаво и весело. — Жила-то там хи-итрая! Я сколь смотрел, так она только в одном месте и выныривает! А место я схоронил, никакому рудознатцу золота моего не сыскать. Так-то! Поликарп Филатьевич снова встал и прошелся по комнате из конца в конец. Поправил кружевную салфетку на столике у зеркала, послюнявив палец, стер с него пятно. — А на Кутае ты как оказался? — Да я ж из Сибири добираюсь, ты правильно угадал, а коли беглый, то уставные дороги мне заказаны. Вот и шел тропами вогульскими, а там и на золотишко набрел. — И богатая жила? — За недельку, коли повезет, фунт намыть можно. — Что ж ты мало взял? — Сколь надо, столь и взял. Тебе-то не последнее продаю. А коли еще понадобится, дорога мне теперь известная. Только вот, думаю, хлопотно это, лучше тебе жилу уступить, ты местный, тебе больше с руки. — И что возьмешь? — Да тыщ двадцать, пожалуй, возьму, нельзя меньше. Жила-то золотая! Ты с нее, поди, раз в десять иметь будешь, а то и поболе. Да и пачпорт еще. — Какой пачпорт? — Обыкновенно какой. Я ж беглый! Так-то с золотишком в котомке пройду еще, а тысячам твоим лошадка нужна да пачпорт. — Да где же я его тебе возьму? — А уж где хочешь. У тебя, пожалуй что, все писаря здесь куплены вместе с приставом — скажешь им, выправят. — А на кого паспорт-то? — не заметив как, уступил купец. — Да на кого хочешь, мне что так, что эдак, все едино. Или лучше вот что, сделай-ка на Кузнецова, Кузнецовых-то везде много, а имя укажи — Тимофей. Бродяга совсем освоился в кабинете, вытянул ноги в стоптанных бахилах, откинулся на спинку стула, выхватил из связки нечиненое перо, ковырял им в расшатанных черных пеньках зубов. — Ну а ты мне что взамен? Как жилу покажешь? — А я чертеж сделал, там все подробно обрисовано. — Э нет, чертеж у тебя за такие деньги покупать не стану. Ты мне золото покажи. Бродяга на минуту задумался. — Ладно, хозяин, сговоримся! Поедем на Кутай вместе. Там я тебя на место сведу и при тебе золотишка сколь удастся возьму. Если боишься меня — бери с собой своих людей, только смотри, прознают другие про золото — беда! Там мне за жилу и заплатишь. — Ну что ты, разве можно с собой такие деньги брать? Лучше здесь, как вернемся. — А не обманешь? — Крест поцелую. — Крест оно, конечно, хорошо. Только давай вот еще как сладим: напиши-ка ты мне ручательство свое: де обязуешься отдать мне двадцать тысяч, коли я тебе жилу точно укажу и песку золотого при тебе намою. — За три дня полфунта! — Хорошо, пиши так! — А на кого ее писать? — Да на того же, что и пачпорт. И еще, когда я от тебя поеду, ты мне с собой письмо пропишешь, что будто я твой прикащик и еду с казной по торговым делам в Нижний Новгород да Москву. А пачпорт с ручательством загодя, до Кутая, дашь. У меня здесь человек верный есть, у него и оставлю, а коли что случится, так он исправнику и передаст. Задумался снова Поликарп Филатьевич. Боязно с каторжанином беглым путаться, но золото — вот оно! Надо на Кутай ехать, а там видно будет. А коли действительно взять с собой людей верных, так и вовсе бояться нечего. — Ну ладно, поедем на Кутай! Только ты мне перед тем золото, о котором прежде говорил, все ж принеси. — Хорошо, хозяин, принесу золото и денег с тебя пока не возьму, когда вернемся, за все разочтемся. Поедем когда? Прикинул Олин: — У меня дела тут есть спешные, за недельку окончу, тогда и в путь. — Хорошо. Прощевай пока! Бродяжка натянул шапку и вышел вон. Поликарп Филатьевич в окно видел, как он, выйдя из ворот, огляделся на улице и, сплюнув под ноги, завернул за угол. Тогда купец, перегнувшись вниз, окликнул чинившего на крылечке хомут кучера Леньку Фроловых: — Поди-ка давай за оборванцем, что от меня сейчас вышел, он на Юргановскую свернул, проследи, куда он и что. Где ночевать будет, к кому зайдет. Да смотри, сам ему на глаза-то не попадайся, а коли что, так мигом сюда! И когда кучер ушел за каторжанином, Поликарп Филатьевич долго еще глядел на поросшую желтоватой травой улицу с двумя вьющимися следами тележных колес, на невысокий заборец соседнего бедного дома, деловито снующих кур и думал, думал...Чердынский краеведческий музей. Фонд 23, опись 2, дело 18, лист 46. (Копия) Сие ручательство прописал купец Поликарп Филатьевич Олин в покупке у вольного человека Тимофея Кузнецова золотой жилы в двадцать тысяч рублей. А деньги выдать Тимофею Кузнецову, как покажет жилу и добудет из нее в три дня полфунта золота, по возвращению в Чердынь в тот же день. К сему Поликарп Филатьевич Олин руку приложил и крест целовал. (На подлинной приписи разными почерками: 1. Сие ручательство поступило вместе с анонимным доносом на купца Олина в канцелярию исправника 5 октября 1843 года. 2. Оное ручательство является фальшивым, поскольку писано не рукой г-на Олина и подписано не им. На допросе г-н Олин показал, что никакого вольного человека Кузнецова не знает и никакой жилы не покупал, что все это есть простой извет.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТРЕТИЙ

1. Никитин Евгений Александрович. 9 июля 1974 г., г. Пермь.
Подумай о третьем... Ай да шеф! Так-то, наверное, и я смогу — подумай, мол. Что думать? Следов нет. Кто его вообще видел? Ничего конкретного. Есть же версии — отрабатывать надо, тянуть, щипать ниточки-связи. Не спеша. Да, неувязочка, товарищ капитан, не спеша тут нельзя. Стрелять тут начали, оружие заговорило. И больно лихо его пускают в ход, без всяких крайних, вроде бы, обстоятельств. Шеф прав, необычно это. Да и золото уходит, выходит, надо спешить... Вообще, он по-божески с ним обошелся! Прав Лызин, за такое можно было и чего покрепче схлопотать... Главное — от дела не отстранил, поздно, говорит, крепко влез. Хотя, бывало, и не на такой стадии отстранял. Пожалел? Или считает, что вина не столь уж велика, что попали в переплет со стрельбой случайно? Дров на Кутае, конечно, воз наломали, и самое грустное — не знаем, каких! Связаны Малышев, или как там его, и бич этот несчастный с Боевым и золотом олинским, или это два самостоятельных дела, и сплелись они случайно? Шеф считает, что по теории вероятности совпадение практически исключается. Ему хорошо — технарь, а я эту мудрость по популярным брошюрам сколько осиливал? Плохо их, видно, пишут, популярные-то... Или я так глуп? Но до конца, видимо, и у него уверенности нет, иначе не так бы врезал! Что уж что, а тут у него не заржавеет. — Дяденька, достань мячик, пожалуйста! — Что? — не сразу сообразил Никитин. — Мячик, говорю, достань! Перед ним стояла девчушка лет пяти, в нарядном белом платьице, почти балетной пачкой топорщившемся вокруг тонюсеньких ножек, с огромным белым бантом. — А где он? — А вон! — махнула рукой в сторону на высокую невытоптанную траву недалеко от скамейки. — А сама? — Там крапива! — голос девчушки был звонок и капризен. Никитин поднялся и выпнул такой же нарядный, как сама девчушка, яркий мячик. — Лови! И снова вернулся на свою скамью. Он любил приезжать сюда, когда, конечно, позволяло время, и решать свои задачки под высокими корабельными соснами, под гомон птичий и детский. Раньше ходил в Горьковский сад недалеко от управления, но там его скоро засекли, и от доморощенных острот про Штирлица житья не стало. Потом нашел это место в Черняевском лесу — обширном и диком городском парке, куда, к счастью, еще не успели добраться массовики-затейники со своими качелями-каруселями. Здесь он сидел всегда на одной и той же скамье, а если она бывала занята — научился выживать гостей, маяча на дорожке возле. Но, похоже, и этот уголок кто-то уже застукал — кончая разнос, полковник бросил: — Езжай давай на свою скамью да пораскинь мозгами хорошенько, все равно вечер уже. В Чердыни что, все скверы повырубили? Не нашли там с этим Анискиным, где посидеть, подумать? Так ведь и в тайге же был! Шутит шеф. Ну, коли шутит, значит, не все потеряно... Итак, снова да ладом. Началось все с исчезновения незадачливого кладоискателя. О кладе он узнал якобы от отца, который его то ли зарывал, то ли ямы готовил. Это первое. Но как сие проверить? Галка уверяет, что просмотрела все, какие есть, документы, фамилии его не встретила. Но время-то какое было! До паспортных ли тонкостей? Людей по всей стране швыряло без всякого учета и регистрации. С самого начала — прокол! Второе. Письма о кладе стал писать из мест заключения. Причем не сразу, а год спустя. Почему? Может, лежали мысли под спудом, в подсознании, а как затосковал совсем за проволокой — надежда мелькнула на дурочку прокатиться. Кто-то эту версию уже выдвигал. Лызин? Вилесов? Ага, начальник колонии, более того, считал все вымыслом. А Боев-то освободился и — сюда, за кладом! Вот так. Другое — никакого отца не было, и истоки кладоискательской эпопеи нужно искать в лагере, версию эту ему подкинули там. Кто? Дальше... Заимев паспорт и устроившись на работу, получает телеграмму из Свердловска. Ладно, Свердловск пока оставим. Шеф предложил еще два варианта: Боева кто-то послал, семейного предания не существует, за кладоискательством стоит чья-то рука. Вторая версия производная — и отец, и ямы были, но на активное действие Боева кто-то подвинул, недаром он не вспоминал об этом кладе столько лет. Кто-то, узнавший от Боева же о кладе и поверивший в него. Все, таким образом, сходится на зоне. Что-то там безусловно было, но удастся ли найти? Дальше. Приехав в Чердынь, Боев действительно берется за лопату. А перед тем показывается в музее, рассказывает о сокровищах. Если он приехал сам, это еще объяснимо, а если послан? Зачем ажиотаж создавать? Мог, наверное, другую версию придумать. Другую, другую... А какую — другую? Чтоб убедительно было? Галка говорит, там сплошь охранные зоны — все раскопки только под наблюдением... Видимо, другой версии им было не придумать, шли ва-банк. Ну а зачем письма в Академию писать? Что-то тут не вяжется... Положим, письма писал еще до того, как в сферу чужого внимания попал. Ямы копал на усадьбе не как попало, а только под стенами. Каменными стенами. Стоп! Что-то такое было про каменные стены... Ладно, потом, поехали дальше. Траншею под брандмауэром заложил, когда Галка уехала в Пермь. Случайно? Или знал, где искать, и тянул время, ждал, когда один останется? Та траншея была последней. В конце ее Лызин нашел три червонца и обломки горшка, возможно, из-под клада. Хотя до траншеи он и без Галки в других местах рыл... Галка отрицает возможность нахождения этих монет под стеной, по ее словам, стена выстроена много раньше, чем монеты отчеканены, и никто там до Боева не копал. Как же монеты попали в землю? Стоп. Как это не копал? По словам Боева, купец перед бегством всю усадьбу изрыл ямами, прятал добро. Опять неувязка. Ям-то много должно быть, значит, и добра, но ничего там до сих пор с тех славных времен не обнаружено... Боев врет? Или их пустыми обратно зарывали? А почему бы и нет? Много ям могли маскировать одну, настоящую, с кладом, отвлекали внимание. Яму, где золото... Золото... Золото и каменные стены, ага, вспомнил, это стишки из книги, как их Галка назвала, вирши? «Ключик от злата под камень спрятал»! А дальше — «кто сумеет найти, тот и золото получит»? — не совсем ладно, но смысл тот, нужно позвонить Лызину или Вилесову, уточнить. Так, так, так! Это уже кое-что! Под стеной могло быть не злато, а ключ к нему. Что значит — ключ? Письмо, карта, адрес... Что еще? А карта какая-то была у геолога. Бред! Мало ли у геологов своих карт. Следовательно, ключик, а не золото. А монеты откуда? Рядом с ключиком лежали? Да еще горшок... Хотя горшок мог быть тем самым, но не с золотом, а с ключом. А золото подбросили? Зачем? Ложный след? Больно уж жирно червонцами разбрасываться! А почему бы нет? Все зависит от цели. Зато надежно. Мы ведь клюнули, всесоюзный розыск этому золоту объявили и Боеву, с ним скрывшемуся! Ладом! Значит, тут основные гипотезы две: найдено золото либо какой-то ключ к чему-то, настолько важный, что и золота не пожалели... Нужна тщательная экспертиза монет и горшка. Дальше. Кто мог монеты подбросить? Боев? Он на подпольного миллионера мало, судя по всему, походил, самодеятельная порнография — не «Плейбой», бизнес небольшой. Значит, те, кто к нему приезжал. Телеграмму Боев посылал в Свердловск, сам вызов получил оттуда же. Появляются двое: один пижон в джинсовом костюме, видели его многие, в целом вырисовывается, другой — личность темная. Отмечен трижды: в Покче у магазина, на переправе в Рябинино и шофером в лесу. Никто его толком не разглядел, определяется лишь возраст — пожилой, волосы седоватые, но не старик. Хотя, может, грим? Вряд ли. В Рябинино оперпост, проверки, там с таким камуфляжем живо загребут... Вот и все. Прибыли на машине, увезли Боева с собой. Дальше версия Лызина: поехали делить добро, купили в Покче водки, свернули к реке. Ночью то ли поссорились, то ли по предварительному сговору Боева убили. Хотя это нужно еще доказать, гильза гильзой, но трупа до сих пор нет. Заставит шеф Лызина Колву вычерпать! Но это работает, если клад был. А коли под стеной ключ, даже золотой? Может, он жив? Гильза, труп с дыркой — совпадения. Да и не видел никто трупа-то, кроме пьяницы-браконьера. А гильза? Ребятишки принесли, потеряли, или браконьеры с самодельным стволиком под пистолетный патрон ондатру били. Без пули, оружия или трупа гильза ничего не дает. Значит, на этом этапе версии три. Первая — клад найден, разделен и увезен, Боев жив, а гильза и утопленник к нему отношения не имеют. Вторая — клад поделен на двоих, а Боев мертв. Третья — никакого клада не было, убрали Боева за то, что много знал. О чем знал? Да хоть о чем. О ключике, например. В любом случае, пока нет трупа, нужно продолжать розыск Боева, устанавливать и искать пижона, выявлять машину, пассажира и золото. Ого! С Боевым и золотом, вроде, все? Ах да, обыск на квартире, где он жил. Хозяйка отметила беспорядок, все, по ее словам, перевернуто было, даже матрац. Считает, что сам постоялец так собирался, а если он к тому времени был на колвинском дне? Выходит, те что-то искали и вещи его забрали... Теперь всё. Сейчас — «геолог» с бичом. Начнем по порядку. Что привело нас на Кутай? Легенда об олинском золоте, музейные документы и боевский интерес к реке. Там встретили «геолога». Почему он стал стрелять? Спугнули мы его? Прав шеф, легенда была не подготовлена, шита белыми нитками, на Боева рассчитана. Вот тот тип и проверил меня на элементарных тестах, камнях этих проклятых! И уйти решил, когда понял, кто я и откуда. А, уходя, лодку вывести из строя. Два раза он в лодку стрелял, для гарантии. А когда я предупредительный дал, Олег, не поняв что к чему — тут еще бич закричал, — со своим пистолетом и высунулся... Тогда, наверное, третий выстрел и был. С Олеговым слился. Вот только зачем он стрелял третий раз? И в кого? А может — все не так? Может, последние два — в лодку? Или первый и третий? Когда Шпрота закричал? Какие тут варианты? В кого он все же стрелял? В парке стемнело, и над головой зажегся фонарь. Сидеть в легкой рубашке стало прохладно, и, встав, Никитин направился по аллейке к шоссе. Перейдя его, в кафе, работавшем для проезжающих шоферов почти круглосуточно, выпил два стакана кофе и пошел по дорожке вдоль кромки леса к дому. Итак, какие тут варианты? Начнем с того, что дела эти не связаны... Первое: документы некоего Малышева оказываются в руках преступника. Но этот преступник — геолог тем не менее. Далее — вторая странность: геолог этот, или кто он там такой, работает именно в том районе, где должен был работать Малышев. Это понятно из ответа института. Потом — где в это время находится сам Малышев? Что надо этому «геологу»? Ищет золото? Самодеятельный старатель-авантюрист? Может быть. Как у него все же оказались чужие документы? Хозяин благословил? Вряд ли... Может, украл? Может, настоящего Малышева тоже нет уже в живых? Очень уж лихо этот «геолог» пуляет. Лететь, видимо, кому-нибудь в Ленинград, разыскивать Малышева, жалко, не мне, мне такое счастье никогда не выпадет, мне — боевские связи и места не столь отдаленные... Хотя тоже неблизкие. Ну а если это все же одно дело? Опять же Свердловск, туда отлучался этот «Малышев». Свердловск, Свердловск... Он, конечно, и по магазинам мог пройтись, на чашку чая к знакомым завернуть тоже мог. Как все это связывается? Боев находит ключ, допустим, карту, дает телеграмму в Свердловск, через день появляются сообщники. Самого Боева, видимо, убивают, карту передают «Малышеву». А тут и документики как раз вовремя оказываются... Кто же тогда этот «геолог»? Организатор? Исполнитель? Эта стрельба... Незаконное старательство — одно, а покушение на убийство — совсем другое. Какой исполнитель возьмет на себя мокрое? Ну а если все же? Если все они — и «геолог», и Боев, и друзья его неведомые, и даже бич — одно? Искали купеческое золото, наткнулись на ключ, стали искать замо́к? В этом случае оперативности их позавидуешь. Не успели найти ключик, тут же появляется и промывальщик и прочее... Кто же из попавших в свет может быть Карабасом-Барабасом? «Геолог»? Вряд ли, он появляется лишь на Кутае. Зачем ему в Чердынь кого-то посылать? Он и сам бы с Боевым управился... Пижон тоже не из мыслителей: Боева ходит ищет, за рулем сидит — одним словом, светится. А вот пассажир его, темненький старичок-боровичок, третий, как говорит шеф, а? Ай да шеф! Подумай о третьем! Такой может, в принципе, быть организатором. В Чердынь такому нужно съездить самому, посмотреть, оценить ситуацию на месте, с Боевым поговорить, что бы он там ни нашел... А вот на Кутай он уже стар, да и что ему там делать? Там специалист нужен, геолог, его и послали! Интересно, какие еще специалисты могут быть под рукой такого боровичка? Подумай о третьем! На такую вакансию вполне кто-нибудь из Олиных мог подойти, так, видимо, Лызин и предполагал, недаром запрос в комитет оформлял, жаль, конечно, мужика расстраивать, но ответ неутешителен... А колоритное семейство! Еще что? Галка! Нужно убедить шефа привлечь ее к архивным поискам, может, прояснится с кладом этим проклятым да виршами шифрованными. А так, кажется, все. Можно писать план и завтра докладывать. Шеф, конечно, найдет, что добавить, но с основным кругом, кажется, всё.Комитет Государственной Безопасности
по Пермской области
Начальнику УГРО УВД Пермского облисполкома. На запрос № 265/6 от 25 июня 1974 года за подписью начальника УГРО ОВД Чердынского райисполкома капитана милиции Лызина и в соответствии с его же письмом № 312/2 от 3 июля о пересылке информации в ваш адрес, высылаем краткую справку о семье бывшего чердынского купца Олина Николая Васильевича. В справку включены сведения о мужских представителях династии: Олине Николае Васильевиче и его сыновьях — Олине Константине Николаевиче и Олине Александре Николаевиче.Майор Красных
Для служебного пользования ОЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1876 года рождения, русский, до 1918 года проживал в г. Чердыни Пермской губернии, купец первой гильдии, содержал магазины по торговле пушниной и битой дичью в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Москве. Осенью 1918 года привлекался органами ВЧК и Ревтрибунала г. Чердыни к дознанию по подозрению в организации массовых убийств в Кутайской волости Чердынского уезда и за сокрытие реквизируемых ценностей, освобожден за отсутствием улик. В 1919 году с войсками Колчака покинул Урал, затем, в 1921 году, эмигрировал в США, потом во Францию. В период с 1923 по 1929 год, проживая в Париже, близко сошелся с кругами русской эмиграции, субсидировал издания белогвардейских газет и организацию подрывных мероприятий, направленных против СССР. С 1929 года проживал в Руане, где открыл собственную торговлю, порвал с белоэмигрантами, в результате чего подвергался с их стороны преследованиям. В том же 1929 году принял французское подданство. Летом 1937 года Олин Николай Васильевич постригся в русский православный монастырь, где и умер в 1943 году. ОЛИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 1897 года рождения, русский, уроженец г. Чердыни Пермской губернии. Окончил мужскую гимназию, в 1912 году сблизился с политссыльными, проживавшими на поселении в Чердынском уезде, читал и собирал революционную литературу, за что в 1913 году был арестован и осужден к трем месяцам тюремного заключения. В 1914 году добровольцем ушел на фронт. В 1915 году, окончив полковую школу, получил чин прапорщика. После февральской буржуазно-демократической революции стал членом полкового комитета, произведен в подпоручики. С весны 1919 года служил в армии Колчака, командовал ротой и батальоном. Эмигрировал в Америку и в 1924 году соединился с семьей в Париже. По отношению к активной части белоэмигрантских кругов занимал нейтральную позицию, оказал большое влияние на отца в этом вопросе. Закончил Коммерческую школу и с конца 30-х годов руководил семейной фирмой. В годы второй мировой войны и оккупации фашистскими войсками Франции был участником Сопротивления, оказывал движению не только финансовую помощь, но и лично принимал участие в различных операциях диверсионного характера и актах саботажа, за что в 1946 году был награжден орденом Почетного легиона. В 50-х годах переключил интересы фирмы на торговые связи с Советским Союзом, член и активист Общества советско-французской дружбы, неоднократно с деловыми визитами посещал СССР, в 1965 году по особому разрешению посетил города Пермь и Чердынь. Жена — Олина (Голубева) Нина Владимировна, 1915 года рождения, из семьи белоэмигрантов. Дети: Олин Вадим Константинович, 1936 года рождения, коммерсант; Нуар (Олина) Евгения, 1939 года рождения. ОЛИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1912 года рождения, уроженец г. Чердыни. В 1919 году вывезен родителями за границу, обучался в пансионатах Америки и Франции, в 1929 году выехал для обучения в Югославию, а оттуда в 1931 году переехал в Германию, где обучался в Берлинском университете. Здесь примкнул к нацистскому движению, за участие в фашистских погромах дважды высылался из страны. В 1933 году, после прихода нацистов к власти, вернулся в Германию, принял немецкое гражданство. С 1938 года сотрудник абвера. В период с 1938 по 1941 год посещал нашу страну под видом коммерсанта. В годы Великой Отечественной войны в чине капитана являлся инструктором разведшкол, сотрудником русского отдела абвера; обеспечивал связь с власовцами и ОУН. Клички: Schattenhaft — Призрак, Slawe — Славянин, Kaufmann—Купец. В 1945 году на территории Украины был уничтожен при ликвидации банды ОУН в войсковой операции НКВД.
2. Кологривов Виктор Миронович, инспектор УГРО УВД Пермского облисполкома, лейтенант милиции. 12 июля 1974 г., г. Ленинград.
В Ленинграде он был впервые. Пока такси катило его от аэропорта к управлению, без устали крутил головой, стараясь увидеть что-нибудь замечательное, что-нибудь такое, что бы он сразу узнал по фотографиям или рассказам друзей и знакомых, неоднократно здесь уже бывавших. Но ни Медного всадника, ни Эрмитажа, ни Петропавловки или колонн ростральных нигде видно не было. Несколько раз машина переезжала по мостам, коротким и длинным, горбатым и прямым, но какие текли под ними реки или каналы, он тоже не знал, а спросить стеснялся. Дважды успел заметить на парапетах львов и засомневался, те ли это львы, что тиражируются на открытках с видами Петрова города, а когда, стоя у светофора на широком и красивом проспекте, прочел случайно на стене дома его название — «Невский проспект», — окончательно сконфузился, так как почему-то представлял Невский набережной, а здесь никакой воды видно не было. Смущение это сохранялось и в управлении, где он вдруг неожиданно запутался и долго не мог найти нужный кабинет и нужного подполковника Куницына, и даже когда разобрался в дверях и представился подполковнику. Во всяком случае сам Кологривов заметил, что смущение его не укрылось от хозяина. — Да ты проходи, — протянул тот в ответ, вставая из-за стола и потягиваясь так, что в его могучих плечах что-то хрустнуло. Выйдя навстречу лейтенанту, пожал руку и усадил в удобное мягкое кресло. — Ну, что там у вас стряслось? Пока Виктор рассказывал, подполковник слушал не перебивая, даже курил незаметно, почти не дымя. — Понятно, — подвел итог услышанному. — Сейчас основная задача — разобраться с институтом и выяснить, есть ли там такой сотрудник, а если есть, то где он и что он. Так? Виктор кивнул. — Фотография на удостоверении переклеена? Виктор снова кивнул. — Не исключено, что интересующий вас субъект тоже работает или раньше работал в том же институте, это вы учли? — Да. — Насколько я понимаю, от нас пока особой помощи не требуется. Если выплывет торговля золотом, тогда подключимся, а пока... Может быть, послать с вами в институт нашего человека? А то, кто знает... Вообще, ленинградцы славятся отзывчивостью, но ведь всякое бывает, а вы со стороны. — Нет, спасибо, — твердо ответил Виктор. — Может, позвонить предварительно? — Нет, товарищ подполковник, — Виктор встал. — Спасибо. Я все сделаю сам. Мне поручили проинформировать вас о моем задании, что я и исполнил. Разрешите идти? Виктор знал, что не умеет производить впечатления. В свои двадцать шесть он выглядел едва ли не на пять лет моложе! Его принимали за кого угодно — за студента, порой даже за акселерата-старшеклассника, что было иногда очень ценно, но только не за работника милиции, тем более сотрудника уголовного розыска. Не знал Виктор другого. Не знал, что перед его отлетом полковник лично звонил Куницыну и рассказал, что лейтенант Кологривов, несмотря на свою молодость, недолгий стаж розыскной работы и совсем юную внешность, является умным и цепким работником, способным быстро ориентироваться в обстановке, что в его аппарате лейтенант оказался не по протекции, а был переведен из дальнего райотдела, в котором успешно проработал полтора года, за молниеносное расследование сложного и особо опасного преступления, где продемонстрировал прекрасные аналитические способности и незаурядное понимание психологии преступника; что, оказавшись в его штатах, он несколько растерялся и оробел рядом с зубрами розыска, и теперь самостоятельность, естественно, разумная, ему будет лишь на пользу, надо только немного нажать на самолюбие. Ничего этого, разумеется, Виктор не знал, да и знать был не должен. Вспышку подполковник оценил. — Ну-ну, — сказал примирительно, — не хотите, как хотите. Давайте я хоть машину вызову. От машины Виктор отказываться не стал. В отделе кадров института его направили к привлекательной средних лет женщине с русыми волосами, уложенными в высокую замысловатую прическу. Она молча его выслушала, невозмутимо и внимательно прочла удостоверение, сняла трубку телефона и вставила тонкий палец в отверстие диска. — Куда вы собираетесь звонить? — остановил ее Кологривов. — Замдиректора, — ответила женщина, недоуменно вскинув брови и набирая номер. К этому лейтенант был готов. Он прихлопнул контактные кнопки: — Не надо никому звонить. С замдиректора я сам поговорю. Вам же нужно показать мне списки сотрудников и личные дела, которые я спрошу. Вот и все. Ничья помощь нам с вами сейчас не требуется. Женщина подумала над его словами, потом положила трубку, улыбнулась и достала из шкафа за своей спиной несколько папок. — Пожалуйста, списки. Лаборанты нужны? — Нет, спасибо. — Виктор добросовестно проштудировал список и назвал наугад несколько фамилий, в том числе и Малышева. Кадровик достала папки личных дел. Фотография в деле Малышева была совсем иной. Кологривов долго вертел в руках бумажный лист учета, разглядывая незнакомое узкое вытянутое лицо с большими глубоко посаженными глазами, перечитал анкетные данные, переписал в записную книжку рядом с такими же выписками из других дел, совершенно не нужных. Полистал остальные подшитые в папку листы — приказы с благодарностями и поощрениями, повышениями и передвижениями по службе, — из которых следовало, что Малышев Павел Петрович, проработавший в институте уже почти двадцать лет, был работником аккуратным и дисциплинированным, дело свое знал, пусть и не быстро, но зато уверенно продвигался по служебной лестнице. Все с ним было в порядке. У задней корочки был подшит конверт. Виктор заглянул и в него. Там лежали три фотокарточки Малышева, точно такие же, как на листке по учету, видимо, кадровики запасали их впрок, блоком, на всякий случай. Одну из трех Виктор незаметно переложил в свою записную книжку. Пролистав еще с десяток дел, вернул все папки женщине с красивой прической и достал фотографию «геолога». — Этот человек вам не знаком? — Этот? — женщина подержала фотографию перед глазами, достала очки из стола, снова посмотрела на «Малышева», покачала головой: — Нет, впервые вижу. — А может, он работал здесь прежде? — Молодой человек, я в институте работаю почти всю свою жизнь и память у меня хорошая! Замдиректора по науке охраняла молоденькая, но уже опытная секретарша и пропустила Виктора к шефу только после тщательного изучения документов и продолжительного совещания с охраняемым начальством. — Пожалуйста, вас ждут, — вышла наконец из обитой красной искусственной кожей двери с начищенной медной табличкой. Хозяин обширного и роскошно обставленного в сугубо деловой современной манере кабинета, молодой, немногим более сорока лет, поднялся за столом и указал на раковину-кресло с другой его стороны. — Вы из Перми? Наверное, из-за Малышева? Что с ним? Ваши сотрудники из... — он полистал бумаги на столе, — Чердыни не ответили на наш запрос, и мы волнуемся. — А почему вы должны узнавать о своих сотрудниках у нас? — То есть как это почему? Они попросили подтверждение, мы ответили, но зачем оно потребовалось, нам непонятно. — Где должен быть сейчас Малышев? — Как где? В поле, разумеется. — Это я понимаю, что в поле, — Виктор давно научился не сердиться на своих собеседников, принимающих его за юного простачка-лопушка. — Где в поле? — Район его исследований довольно обширен, — замдиректора, видно, понял, что разговаривать в подобном тоне с заезжим юнцом не удастся, и стал, соображая, тянуть время, говорить ничего не значащие фразы, тут же фиксируемые Кологривовым, достал пачку сигарет, предложил собеседнику, закурил сам, когда тот отказался, долго пристраивал на столе пепельницу. — В этом сезоне должен обследовать северное Приуралье и Урал, приполярную зону Ханты-Мансийского округа и часть Эвенкии. — Что значит обследовать? — Ну, — покрутил в воздухе пальцами хозяин, красиво покрутил и дым красиво выпустил, — у него своя специфика. Льды... Шурфы... обнажения описывает, рекогносцировку проводит, мало ли еще... — Отряд у него большой? — Он один. — Как один? Громадный район от Печоры до Енисея на одно лето — и один? — Не совсем один, конечно. Он на месте нанимает рабочих, на шурфы, промывку, еще на какие работы, но от нашего института он там один. — И много у вас таких одиночных маршрутов? — Да нет. Мы предоставляем их в исключительных случаях, когда интересные идеи появляются, а на фундаментальные разработки сил нет. Они как пробный шар... — А как он рассчитывается со своими рабочими? — У него на это есть деньги. — Наличные? Так много? — Не так это уж и много. Берет на подотчет, по возвращении или письменно, по почте, отчитывается перед бухгалтерией, документы финансовые сдает и прочее, как положено. — Понятно. А где он сейчас? — Когда это сейчас? Прямо сегодня? — Сегодня, вчера, позавчера, неделю назад! — По вашему сообщению мы решили — в Пермской области. — А по вашему? Замдиректора недоуменно пожал плечами: — У нас, знаете ли, много людей в поле, весь институт почти, всех не упомнишь! — Учет какой-то ведется? Должен же хоть кто-то знать, где находятся сотрудники! — А как же! Планы есть. Но они могут корректировать планы на месте: оказался район бесперспективным или удалось быстрее обследовать — и дальше! — Значит, вы не знаете, где должен быть сейчас Малышев? — В общем-то секретари отделов и секторов должны знать, но в их отделе секретарь, как на грех, в декрет ушла, и там никого нет. — Понятно. А где он был раньше? В июне или мае, вы знаете? — Это легко установить, — обрадовался заместитель. — В конце июня он должен был отчитаться за второй квартал, у нас с этим строго! Бухгалтерия бабки за полгода подбивает, вот и требует с полевиков отчеты финансовые. Он нажал на одну из многочисленных кнопок селектора и произнес: — Мария Петровна, зайдите ко мне с полугодовыми отчетами по третьей группе. — Иду, — отозвался аппарат глухим замогильным голосом. Все бумаги Малышева были в полном порядке: табеля учета рабочего времени, заявления о приеме на работу шурфовщиками от граждан Нигамаева Р. К., Петухова М. К., Крапивина К. Н., их паспортные данные, расходные ордера, квитанции, трудовые договоры, билеты авиационные, железнодорожные, автобусные, маршрутные листы и прочие бумажки — общим счетом не менее полусотни штук; всего за два месяца на две тысячи триста пятнадцать рублей восемьдесят копеек. Отметки на командировочном удостоверении и маршрутных листах были сделаны в различных организациях и сельских Советах Тюменской области. Виктор тщательно изучил бумаги и сделал необходимые выписки. — Откуда были присланы документы? — Ниоткуда не присланы, он их сам привез. — Как это сам? Он был здесь, в Ленинграде? — не выдержал замдиректора. — Ну да. Сам все принес, торопился очень, просил быстро проверить и подготовить ему новый подотчет. — И деньги вы ему не переводили? Он сам получил? — Ну конечно. В кассе по ордеру. — Странно... Почему ко мне не зашел? — А он должен был зайти? — спросил Виктор, когда Мария Петровна вышла из кабинета. — Не то чтобы должен, но у нас традиция такая: если полевик, начальник отряда или группы, бывает летом дома, то заходит, рассказывает. А вы вот что, вы к жене его обратитесь, она-то точно знает. Найти адрес? — взялся за трубку. — Спасибо, не надо, я уже взял в отделе кадров. Что за человек Малышев? — Малышев? Как вам сказать... Так себе. Средний работник, звезд с неба не хватает, но и не лодырь. Активист, в профкоме и редколлегии, рисует неплохо. Да! За диссертацию вот, говорит, сел, может, на защиту через пару лет выйдет. А так, что сказать... Нормальный работник. Жена Малышева была красавицей. Сам он, судя по фотокарточке из личного дела и отзыву заместителя по науке, ничего особого собой не представлял. Но когда в ответ на звонок на пороге квартиры появилась высокая, стройная молодая женщина в брючном костюме, с туго обтянутыми смуглой кожей высокими скулами, точеным носом, огромными темными глазами и гривой распавшихся по спине волос, прихваченных голубой лентой у чистого лба, Кологривов растерялся и в ответ на ее приветствие, сбиваясь, пересказал заранее заготовленную легенду об общем друге-геологе, которому срочно понадобился адрес ее мужа. Лепет его, сам это чувствовал, казался бессвязным, тем более что красавица на глазах теряла приветливость и учтивость. — Малышев? Не знаю, где он болтается, и знать не хочу! Нет, не пишет. Не пишет и не звонит. А чего волноваться? Мы же не дети, надо будет — сообщит. Что? Приезжал? Ах да, я забыла, в конце июня приезжал, получил деньги и снова уехал. Куда? То ли в Сибирь, то ли на Урал, он туда каждый год ездит. Нет, не знаю. Вряд ли кто вам скажет, где искать. Друзья? Так они все такие, все в поле. Хорошо, если что-нибудь узнаю или вспомню, обязательно позвоню. До свидания. Вернувшись к вечеру после безуспешных розысков адреса Малышева в управление, в кабинет подполковника, и анализируя с ним вместе дневной розыск, Виктор понял внезапно, что Ираида Николаевна Малышева переиграла его и специально или не специально чего-то недоговорила. Или попросту провела... — Отношения семейные — дело трудное, — махнул рукой Куницын. — Тут с налету ничего не поймешь. Кто знает, что там между ними? Поди разберись... Но если другой зацепки не будет, придется их распутывать.УВД Пермского облисполкома. УГРО. На ориентировку № 286 от 4 июля 1974 г. В восемнадцати километрах от г. Красноуфимска вблизи дороги Пермь—Красноуфимск 18 июня был обнаружен затопленный в реке автомобиль ВАЗ 2103 синего цвета без государственных номерных знаков. По номерам двигателя и кузова установлено, что затопленная автомашина принадлежит жителю г. Первоуральска Кичеву В. Н. и с 9 июня 1974 г. числится в розыске как украденная у владельца. В настоящее время автомобиль возвращен владельцу.
Начальник ГАИ ОВДкапитан Копалин
3. Миронов Владимир Геннадьевич, старший инспектор УГРО УВД Пермского облисполкома, майор милиции. 13 июля 1974 г.
Вой двигателя и вибрация скоро перестали ощущаться, вертолет легко скользил над заболоченной тайгой; внизу расстилался утомительный однообразный пейзаж — сплошной бурый покров болот, посверкивающий, как новогодними блестками, пятнами открытой воды, прочерченный косыми линиями редких и чахлых падающих сосенок. Но унылость эта, убожество юганского пейзажа привораживали взгляд, и трудно было оторвать глаза от окна, от скучной этой равнины, как от рвущихся мимо колес железнодорожного состава. Владимир Геннадьевич пересилил себя и поглядел на спутника — младшего лейтенанта Муртазеева, хозяина участка, что «больше двух Люксембургов». Тот, перехватив взгляд Миронова, подмигнул и скосился вниз: видал, мол, какие у нас тут Палестины. В Юганск Владимир Геннадьевич прибыл два дня назад, и оказалось, что немного опоздал: буровой мастер Ветров Павел Николаевич только накануне с бригадой улетел на вахту на две недели. — Если погода не испортится, — добавил участковый, с любопытством рассматривая гостя. — А если испортится? — Тогда свободно могут еще недельку-две прихватить. Всякое бывает. — Да?! Ну и перспективы ты рисуешь! Что же делать? — А что хотите, — пожал плечами тот, — можете здесь дожидаться, а можно и туда, на буровую, слетать. — Ну ладно, за приглашение спасибо, полет мы отложим, а пока ты бы рассказал что-нибудь о Ветрове. — А что рассказывать? Мужик как мужик. Хороший мастер и человек хороший. — Прямо-таки и хороший? — Ну да. Настоящий мужик. Кавалер орденов, коммунист, депутат райсовета. Чего еще-то? Нормальный мужик, все бы здесь такими были. Миронов присвистнул: — А ты того, про ордена и Совет-то не путаешь? Может, про кого другого говоришь? — Как это про другого? У нас бурмастер Павел Николаевич Ветров один. Что я путать буду?! Он еще и дружинник, мне помогает, бичи здешние его боятся! — Да, задал ты, Рустам, задачку, но ничего, разгадаем. Два дня разгадывал ее Владимир Геннадьевич. Успел побывать в геологическом управлении, слетать в райсовет, поговорить с десятками разных людей, получить массу информации о бурении скважин в условиях Зауралья, оперспективах нефтеносности «площадей», о трудности работы с «кадрами», выслушать множество жалоб и просьб, откровений и поучений, и понял, что искать нефть в Ханты-Мансийском округе дело трудное, хлопотное и дорогое, но искать ее надо, и будущее у этого малообжитого и холодного пока края большое, что в следующий свой приезд он найдет не возочки на колесах под непонятным названием «балки́», а города с большими домами, театрами, светлыми магазинами и другими необходимыми элементами городской культуры. Еще он понял, что не «контингент» определяет здесь жизнь, что живут и трудятся в неуютных краях этих в основном прекрасные специалисты, преданные своему делу люди, по разным причинам приехавшие сюда геологи, буровики, вышкомонтажники, эксплуатационники, инженеры и рабочие, сварщики и дизелисты. Одним из достойнейших среди трудовой этой гвардии был буровой мастер Ветров Павел Николаевич, чья художественно исполненная фотография, на которой он был снят у вышки, в залитой нефтью, антрацитово сверкающей робе, по праву украшала управленческую доску Почета. Жизнь, прожитая Павлом Николаевичем до того момента, как попал он в поле зрения Миронова и его коллег, казалась простой и ясной, как арбуз: война, которую будущий бурмастер прошагал от звонка до звонка, три ранения, контузия, медали и два ордена, работа на стройке, заочный нефтяной техникум и буровая. Здесь Ветров тоже прошел весь положенный путь от верхового до помбура, и восемь лет назад, приехав в Сибирь из более теплых и сытых мест, получил бригаду, быстро освоился, навел порядок в разношерстном своем коллективе, выдвинулся в передовики, начал бить местные рекорды и приближаться к союзным, получал новые, мирные уже награды, не потеряв при этом уважения коллег и подчиненных. Успехи его зависти не вызывали. И брал бурмастер, как понял Владимир Геннадьевич, справедливостью и добротой. Но работу требовал всегда. «Ветров, — воскликнул один из его сошедших с круга бывших рабочих, склонный, видимо, к философской созерцательности, — да он же стукнутый! Он же в работу, как долото в породу, лезет! И других туда же!» Но в интонациях не было осуждения, наоборот, послышалось Миронову скорее восхищение необыкновенными ветровскими способностями да сожаление сбежавшего от возможного своего счастья, измытарившегося, не вконец еще опустившегося «бывшего интеллигентного человека». Нет, недруги были и у Ветрова. И их тоже разыскал Владимир Геннадьевич и расспросил осторожненько, между прочим, не бросив тени на заслуженного мастера. У каждого обиды были свои: одному отказал в доверии и выгнал из бригады за кражу, другой, пытаясь использовать былое дружеское расположение уважаемого депутата, надеялся вне очереди получить столь дефицитное здесь отдельное жилье, да просчитался, третий лично Павлом Николаевичем уличен был в злостном браконьерстве. Но даже ругань их могла быть зачтена Ветрову плюсом. Не только криминала, элементарных житейских, всеми прощаемых слабостей Миронову в поведении бурмастера найти не удалось. И сегодня утром, когда на ветровском портрете не осталось неясных мест, Миронов созвонился с полковником, получил добро, пришел в тесный кабинетик участкового и, вытирая пот скомканным платком, бросил младшему лейтенанту Муртазееву: — Летим теперь, показывай свои Палестины! Буровая произвела неожиданное впечатление. Он и до этого не раз видел вышки, но все как-то случайно, мимоходом, со стороны, вблизи бывать не приходилось. Еще при снижении, когда вертолет, разворачиваясь в воздухе, примеривался к посадке и окружающее слилось в качающийся гигантский хоровод, он обнаружил, что сама вышка — лишь часть большого комплекса, что, кроме нее, на искореженном, залитом мазутом болотном островке приткнулись вагончики, грязные круглые емкости, прямоугольный котлован, до краев наполненный ржавой, в радужных разводах водой, штабеля длинных труб, навес, крытый рубероидом, с сотнями аккуратно уложенных бумажных мешков, несколько тракторов и даже два МАЗа. «Они-то зачем? — мелькнула мысль. — Дорог ведь нет...» Встречать их никто не вышел, хотя вертолет приземлился в какой-нибудь сотне метров от вышки рядом с грудой ржавого исковерканного металла, в котором Миронов с большим трудом узнал остов наполовину вросшего в землю бульдозера. Пилот сиял наушники и повернулся: — Надолго сюда? Владимир Геннадьевич неопределенно пожал плечами, но участковый быстро сориентировался: — Да с полчасика, Петрович, посидим, так что ты давай гаси свой примус. Летчик пощелкал тумблерами, и рев двигателя, поднявшись до пронзительного воя, стал постепенно стихать. Муртазеев махнул головой и распахнул дверь: — Пошли? Тишины не было и здесь. Ровно и громко ревели дизели в большом дощатом сарае, примыкавшем к вышке; сама она отзывалась железным лязгом, тяжелым грохотом и стуком; почти неслышные в этом ансамбле, вносили скромную свою лепту и пофыркивающие тракторы. Все были заняты делом. Обутый в большие муртазеевские бродни, Миронов с трудом пробирался вдоль разбитой тракторной дороги вслед за участковым, радуясь, что дал уговорить себя переобуться, намаявшись в поселковых хлябях. — Эй! — окликнул Рустам молодого рыжего парня в грязном драном свитере, перекатывавшего трубы и с любопытством исподлобья разглядывавшего гостей. Парень распрямился, сплюнул, переступил с ноги на ногу и молча махнул грязной рукавицей на один из вагончиков. Пошли туда. У дверей Миронов оглянулся — парень все так же стоял и смотрел им в спину. Перехватив взгляд, снова сплюнул в сторону и, согнувшись, деревянной вагой подцепил очередную трубу. В вагончике за столом, заваленным бумагами, сидел Ветров. Миронов сразу узнал его по фотографиям на доске Почета и в личном деле. Простые люди, он давно это заметил, всегда походили на свои фотографии. Бурмастер вскинул голову на скрип двери, прищурился отрешенно и невидяще, придерживая указательным пальцем строчку в лежащем перед ним листке, теребя другой рукой косточки видавших виды счет, все еще погруженный в свои, видимо непростые расчеты. Лишь через несколько секунд взгляд его стал осмысленным, он улыбнулся вошедшим, отчеркнул что-то в листке остро отточенным карандашом и встал навстречу, протягивая вперед руку. — А... Рустам! Здравствуй! Так это ты прилетел, что ли? Случилось что-нибудь? Сбежал кто? — Да нет, Павел Николаевич, я вот гостя к вам привез, знакомьтесь, Миронов Владимир Геннадьевич. — Да? Очень приятно, проходите. Миронов пожал широкую и крепкую ладонь, достал удостоверение. Ветров бережно взял и внимательно прочел. — О! Да вы из Перми никак? По какому такому делу? — К вам, Павел Николаевич. — Да ну? Зачем ко мне оттуда? Я и в Перми-то, признаюсь, всего два-три раза проездом бывал. — Да я не из-за вас, Павел Николаевич, меня сюда другое привело. Тут переминавшийся и смущенно покашливавший участковый не выдержал и сказал: — Пока вы тут беседуете, можно я к ребятишкам на вышку схожу, а? Миронов оценил деликатность пария, подмигнул: — Ну давай, только недолго. — Ага! — Рустам выскочил, прикрыв за собой дверь. — Хороший парень, — проводил его глазами хозяин. — Мне с ним часто приходится по всяким делам. Старается. Ну так зачем вы ко мне в такую даль летели? Миронов достал блокнот, вынул из-под обложки фотографию промывальщика и протянул бурмастеру. — Посмотрите, пожалуйста, Павел Николаевич, знаком вам этот человек? Ветров сощурился близоруко, достал из кармана застиранной ковбойки очки. — А, как же, знаком! Это Казанцев Толик, Толька-Шпрота. Сейчас отчество вспомню, — наморщил лоб. — Ага, Витальевич! Казанцев Анатолий Витальевич. А он что, натворил чего? Да он же безобидный. Хотя... Э-э-э! — махнул рукой с какой-то отчаянностью. — Говорил же ему, что достукается. Значит, и он дошел? Всем им, видно, одна дорога, хоть хороший, хоть плохой... — Когда вы с ним последний раз встречались, Павел Николаевич? — Когда? Сейчас подумаю. — Он снова наморщил дочерна загорелый обветренный лоб. — Да уж лет пять, пожалуй... Точно! В августе шестьдесят девятого кончили скважину с опережением и с нефтью. Наградили нас тогда хорошо, нефть-то здесь только начиналась, к орденам представили, к медалям, ну и деньгами, разумеется, большую премию дали. И отдыха два месяца. Я домой уехал, семья тогда не со мной жила, негде здесь-то было. А когда вернулся, бригада собралась, кроме него, нас на новый участок перебросили, я в управлении записку ему оставил, думал, нагонит, да нет, так и не приехал. — И с тех пор вы его не видели, не слышали о нем? — Не видел, точно. А слышать слышал. Через полгода письмо от него получил. Извинялся. Попутал, мол, бес, Павел Николаевич, дружков старых встретил, загулял с ними, вот и не приехал, а посему прошу простить и не поминать лихом. Но обратно не просился, знать, вольная жизнь снова закрутила. Я ему сам написал, позвал, да он и не ответил... А может, и письма моего не получил, они ж как перекати-ветер. Ну а потом от ребят слышал, болтается, мол, по Сибири, то там его видели, то здесь. Приветы через них пересылал. А однажды даже баночку икры, не знаю, где он ее взял. Только не украл, вы не подумайте, он хоть и бичует, но чужого не возьмет. Не брал раньше... — А как вы познакомились? — Познакомились как? Да обычно. Тогда с рабочими плохо было. Не они на работу просились, а мы сами разыскивали и сговаривали кого придется. Бурильщик один у меня этим занимался, Витька Петров, разъезжал вроде агента какого, когда свободен был или нужда была. Вот он и привел как-то троих. Матушки-светы! Всякие виды я до того видел, но таких бродяжек! Как сейчас помню... В рванье, худущие, как в войну беженцы. Шишковали они, прослышали про кедровый бизнес и удумали, подались артелью в тайгу. Как водится у таких — без ума и без запасов. Заплутали. Едва там и не остались, да местные случайно нашли и вывели. А местный-то, сибирский мужичок себе на уме: накормить накормил, да милиционеру сдал, чтоб, значит, с глаз подале. А тут помощник мой про них и прослышал. Ну и поладили с сержантом, тому тоже до райцентра киселя хлебать не хотелось. Вот и привез. Двое-то, правда, немного поработали. Один, Климов Владимир Степанович, умер месяца через четыре, а работал ничего, да и со специальностью, трактористом когда-то был. Другой — Шундиков — еще раньше сбежал. А Казанцев остался, два года почти в нашей бригаде работал. — А что он за человек? — Что за человек? Да как всякий человек, сложный. Досталось ему. Деревенский он. В войну пацаном еще... в колхозе робил, под немцем побывал, с Орловщины он. А в конце войны женился в шестнадцать годков на солдатке-вдове, мужиков-то тогда... пацаны за мужиков шли. А вдова-то веселая оказалась, попалась на рынке с хлебом краденым, а тут дите, он на себя все и взял. Ну и врезали ему по законам времени на всю катушку. Сел пацаном, а вышел мужиком... Вдова уж который раз замуж вышла, сын почти тогда же помер, других родных не осталось, родители еще в войну с голодухи умерли, брат на фронте голову сложил. Вот он и остался там же, на Колыме. Миронов знал уже в общих чертах биографию Тольки-Шпроты по тем данным, что удалось собрать за короткий срок оперативным порядком, они почти полностью совпадали с рассказом бурмастера, лишь о самооговоре в полученных бумагах ни слова не говорилось. — Ну а на Колыме, — продолжал Ветров, — сами знаете, какая работа. Геологи, экспедиции, когда чё, когда ничё, сезонная, одним словом. А деньги приличные. Так бичами и становятся. Но Казанцев еще ничего. Он тем хлебом на всю жизнь напуганный, его и зона блатным не сделала, работал, когда, конечно, работа была, разнорабочим был, шурфовщиком, золото даже мыл. А потом сюда подался. — Почему, не знаете? — Ревматизм у него, а там все с водой. Да и начальник его, геолог, с которым он работал, то ли уехал куда-то, то ли умер. А он, как ребенок, как собака, привязчив. — Ясно. А у вас как он? — Нормально работал. Сначала так себе, потом стараться стал. Правда, слаб он, а у нас всякое бывает. И с дисциплинкой не всегда... Привык к вольной жизни. И к уважению! По рассказам, его ведь там за классного специалиста почитали, а так ведь порой и повыдрючиваться можно, цену свою поставить. Он и здесь порой пытался. А в общем мужик был хороший. Непутевый только. Ни кола ни двора... С вахты сменимся, кто куда, а он в общагу. А общага — барак! Там салажня в основном живет да блатняки, а он уж, слава богу, не мальчик. И в отпуск тоже. Вся бригада — кто по домам, кто на юг, к морю, а он тут же и оставался. Сговорил я его однажды ко мне съездить, пожить месячишко, по лесу нормальному походить, порыбачить, так он на четвертый день удрал и сюда вернулся. — Почему? — Отвык он, совсем отвык от нормальной жизни. Боится ее. Жить не умеет, держаться не умеет, как деревянный ходил, через слово — спасибо да пожалуйста. Совестился... А тут он среди своих, тут ему просто. — Да... А вы, Павел Николаевич, рассказывали о нем кому-нибудь? О прежней жизни его, о Колыме? Может, посылали к нему кого-нибудь? — Нет, посылать не посылал. Да и не рассказывал. Чужая беда — чего зря трепать-то. Вам вот первому, да вам по службе положено. Да что он натворил-то? Или нельзя сказать? — Почему нельзя, можно. И Миронов рассказал Ветрову о событиях на Кутае, умолчав о купеческом кладе и стрельбе. — Вот как... — помолчав, медленно произнес бурмастер. — Ну, если он говорит, что привет от меня передали, значит, так и есть. Только я никого не просил об этом. Значит, кто-то обо мне знает и об отношениях наших прежних... — А кто о них знал? — Вся бригада старая да и другие тогдашние товарищи. — Кто-нибудь из них здесь есть? — Нет, на буровой никого, все сменились. Колька Ермачков сам сейчас бурмастером, Витька Петров тоже. Володька Карпов в управлении, институт закончил, старшим инженером по монтажу. Вот и все. А остальные все разъехались, кто куда, кто в Татарию, а кто в Баку. — Адреса знаете? — Неужто и их разыскивать будете? — Там посмотрим, может, кого и придется. — Да... Ну и работка у вас, не позавидуешь. Всех, конечно, не знаю, но кое-кого помню, остальных те подскажут. — Тогда, пожалуйста, Павел Николаевич, я сейчас запись нашего разговора оформлю, а вы пока адреса вспомните и запишите, хорошо? — Хорошо, товарищ майор, сделаю. Вот только просьба у меня. — Какая просьба? — Можно мне Казанцеву письмишко написать? Можете вы его передать, если, конечно, можно. — Пишите. Только я его прочесть должен. И ему не передам, а дам прочесть, письмо же придется к делу приобщить. Устроит вас? — Конечно, конечно, сейчас напишу. Минут через пятнадцать вертолет снова поднимал их в небо. Павел Николаевич стоял на крылечке своего вагончика и, приложив руку козырьком ко лбу, провожал их. Рыжий парень в рваном свитере даже помахал. — Ну как, Владимир Геннадьевич, успешно? — спросил Рустам. Миронов пожал плечами. Рустам протянул ему сверток. — Что здесь? — Рыба. Балычок. — Что? — Балычок, говорю, ребята передали. — Где взяли? — Сами изладили. — Да здесь и реки-то нет! — Как это нет? Вон там, — махнул Рустам рукой, — километров двадцать всего. — И они туда ходят? По болотам? — Да здесь же, Владимир Геннадьевич, свои мерки, десять верст не конец. А рыбалка все же развлечение. — И когда они успевают? — А меж сменами! В райотделе ждал другой сюрприз. Дозвонившись до управления, Миронов получил новое распоряжение: по адресным отметкам в командировочном удостоверении и маршрутных листах, сообщенным из Ленинграда Кологривовым, разыскать в Тюменской области геолога Малышева, его рабочих или установить новый район его работ.Здравствуй, Толя! Майор Миронов рассказал мне обо всем, что с тобой приключилось. Меня очень огорчила твоя беда. Прошу тебя, расскажи обо всем, о чем тебя будут спрашивать, ничего не скрывай. Я не верю, что ты можешь совершить что-нибудь плохое, но даже если это так и ты в чем-то виноват, все равно ничего не скрывай. А потом, когда все выяснится, приезжай-ка обратно сюда! Можешь работать у меня или у Коли Ермачкова, он теперь сам бурмастер, может, слыхал? Работу тебе найдем обязательно и жилье тоже. У нас сейчас благоустроенное общежитие начинают строить, отдельную комнату выбьем, а пока в балке́ поживешь. Ну а если тебя осудят, будем ждать твоего возвращения. Не падай духом! Всякое в жизни бывает, ты это лучше меня знаешь. Привет тебе от Екатерины Ивановны, Володи и Лены. Они теперь здесь со мной вместе живут. Лена скоро замуж выйдет, а Володя кончает институт заочно и тоже бурмастером пойдет. Тебя все они помнят и тоже ждут. Да ты ведь сможешь и у нас пожить, Ленкина комната осенью освободится. Парень у нее что надо, тоже наш нефтяник, из Баку приехал, Ревазом зовут, боюсь только, что он ее потом увезет в свой Азербайджан. Правда, пока не собираются, а там, может, и совсем обживутся. А если сможешь, то приезжай на свадьбу, в конце октября будет. От всех ребят привет. Смотри там, будь человеком, слышишь, а мы будем тебя ждать. Если чего надо, напиши, не стесняйся. До свидания.
Павел Ветров
4. Олин Поликарп Филатьевич. 13 сентября 1843 г., г. Чердынь.
Бродяга снова сидел развалившись на гнутом стуле, разложив на нарядном сукне столешницы хоть и мытую, но все едино старую свою шапку, сбитую, в порыжелых пятнах. Мало походил он сейчас на того оборванца с самородками в грязном платке, что пришел сюда прошлым месяцем. Кружком остриженная голова хоть и густо посыпана белым, но сидит прямо на крепких плечах, и ровно обрезанная борода широкой лопастью покойно лежит на груди. Приоделся бродяжка, не скажешь теперь, что каторжанин беглый, на купчика больше, на приказчика богатого похож. Хитер! Одежу не новую купил, чтоб в глаза не кидалась, а все не только исправную, но и нарядную! Вон каков, гоголем сидит, что кафтан, что рубаха. А сапоги-то! Козловые ведь сыскал, сумел, экая бестия... — Ну так как, хозяин, кончим седни ли, а? Али все денежки собрать не можешь? Уговор-от, помнишь, каков был? Как возвернемся с Кутаю, так в тот же день и сладим, а? Третий день уж идет, мне и в дорожку пора, недосуг ждать. Не задумал ли худа какого, обма́ну? Так гляди, золотишко-то я тебе краешком лишь открыл, без чертежа моево жилу век не сыскать. Да и ручательство у верного человека схоронено. Ишь какой! Вроде и мягко, ласково говорит, ровно и в самом деле купец потомственный, а глаза-то будто уголья жгут! Дурнем задумал на старости лет Олина сделать? Ну, это еще поглядим, господи прости... — Да нет, что ты, мил человек, сейчас посчитаемся, все уже и готово, в кассу пойдем. Касса тут же, в господском доме. Для пожарного времени отделил ее дед от остальных хоро́м, вход отдельный устроил, со двора прямо, на двойные кованые двери запираемый; такой толщины потолок сводом выложил, что рухни вся хоромина, сгори в пожаре, а эта комната в целости устоит. Единственное оконце, в фут шириной, не на волю глядело, а внутрь дома, в коридорец, на железные ставенки запиралось — не для свету назначено, для выдачи денег! Но с сегодняшним гостем не в оконце рассчитывался Поликарп Филатьевич, самого в кассу ввел и дверку изнутри на засов прикрыл. Огляделся тот и плечами передернул: ровно в застенок угодил — кричи не докричишься. Отомкнул Поликарп Филатьевич большой замок на железном сундуке, что в углу стоял, и выложил на стол несколько холщовых да кожаных кошелей: — Вот, как уговорились. Считай. Без спешки, неторопливо, с легким дрожанием рук перебирал тот содержимое, перечел и червонцы, и серебро, и ассигнации, сгреб затем в кучу на край стола и огляделся, ища, куда бы все сложить. — На вот, держи, — протянул ему Олин сумку черной кожи с медной пряжкой. Потом вынул из-за пазухи сложенную бумагу и положил рядом: — Паспорт. — Угу, — прочел бумагу бродяжка и, усмехнувшись криво, спрятал. — Ну? Твой чертеж где? — Да тут, хозяин, недалече. Бродяжка взял в руки шапку, лежавшую по обыкновению с краю стола, вывернул и стал подпарывать толстым желтым ногтем ветхую подкладку. Засунул в дыру два пальца, пошарил и вытащил на свет полотняный грязный лоскут. — Вот, хозяин, гляди, — развернул его под свечой. На серой в две ладони размером тряпице черным, вроде как углем, была прочерчена широкая кривая линия — река, догадался Поликарп Филатьевич, склонивший голову над столом. Сбоку пририсованы крестики и значки, напоминающие то скалы, то деревья, то ручьи. — Вот! — ткнул ногтем гость в крайний крестик. — Здесь мы с тобой, хозяин, были. Золотишко там тоже есть, да небогато насыпано, мыть долго надо, сам знаешь. А вот тут повыше, версты с полторы, зришь? — Он провел пальцем до другой кривой линии потоньше. — По этому ручью поднимись до сломанного кедра, это версты с две, а от него уже недалече — отсчитай еще сто двадцать сажень, тута и будет жила, вот значок, видишь? Поликарп Филатьевич проследил за пальцем и кивнул. — Я схоронил ее, обвалил берег маленько да пониже лесин несколько в воду свалил, вот вода и поднялась и выход спрятала. Завал разбери да глину покопай. Там не только песочек, камушки есть. А плотину повыше поставь, мыть сподручнее будет. Понял ли? — Это-то понял. А что это еще за крестики по Кутаю? — А здесь я тоже золотишко находил, только немного, вроде того, что тебе показывал, оно меня на мысль о жиле и навело. Поищи и тут, может, повезет, может, пропустил я чего... Это видишь? — Снова сунул грязным ногтем в крестик. — У острова кривого, от нашего места версты с три; это вот и на излучине, у переката; а последнее место у камня большого, что с правого берегу прямо в воду уходит, названия его не ведаю, да он там один и есть, в этом-то месте. Теперь, вроде, все рассказал. Ну что, прощевай пока? — Будь здоров. Может, на прощанье хоть скажешь, как величать тебя, за кого молить? — Чего ж не сказать-то теперь, — усмехнулся бродяжка. — Теперь сказать можно. Тимохой меня звать. А еще звали Сычем. Так и величай — Тимоха Сычев. Ну так я пойду? — Иди с богом, — отомкнул купец дверь и склонил голову в ответ на земной поклон Тимохи. — Может, и доведет господь еще встретиться. Когда скрылся гость за воротами, выехали из конюшни верхами Ленька Фроловых и Лазарь Калинин, подъехали, склонились вниз. — Давайте тихонько, с богом! — благословил купец. — А чего не здесь-то? — кивнул Ленька на раскрытые двери кассы. — Позвали бы, мы бы сдюжили. Не ответил ничего Поликарп Филатьевич, посмотрел лишь так, что Ленька отпрянул и тронул жеребца. Поднялся купец наверх, встал у любимого своего окна и невидяще уперся в широкие заколвинские просторы. ...Три дня тому вернулись они с Кутаю, где показывал бродяга золото свое. Втроем ходили — Тимоха, Поликарп Филатьевич да работник его — Лазарь Калинин, саженного росту молодец, что прежде извозным промыслом жил, пока не угнали лихие люди его упряжку со всем товаром, подкараулив с кистенем на таежной дороге. А когда оклемался Лазарь да сам со злобы удумал то ж сотворить — не усчитался, что силушка у недюжного уже не та... Повязали его ямщики да под хозяйские очи и доставили; но не выдал татя Поликарп Филатьевич, выслушал да развязать велел и накормить. А потом и лекаря привез. Не ошибся в работнике, собаки вернее стал Лазарь, по каким торговым или иным делам ни отправится купец, тот всюду рядом, и самого стережет, и добро хозяйское. И на Кутае с бродяжки глаз не спускал. Да там вроде Сыч и без догляду все справно вершил. В четыре дня добрались они до места, до середины реки. Огляделся каторжанец на одной из полян и мешок свой сбросил: — Всё, пришли. И пока Лазарь балаган ставил да огонь палил, смастерил тот корытце, бросил в него тут же, у костра, из-под дерна вынутой земли — и к воде. Долго тряс, раскачивал в холодных струях, пока не снесло землю. Выбросил тогда камушки и поднес Поликарпу Филатьевичу: — Вот, гляди, хозяин! Сощурился тот. На скобленом дереве и точно посверкивали желтые крупинки. Золото! Его он сразу в любом виде узнает, почует! — Да что ж мало так? Говорил, много, а этим-то манером по крупинкам в месяц золотник наберешь! — Да я же тебе, хозяин, не место показываю, такое-то золото тут прямо вот, под ногами. А ну-ка пойдем сюды! На этот раз зачерпнул прямо со дна в том месте, где вливался в Кутай горный ручей. Здесь крупинок было поболе. — Но и это не место, хозяин, вон под ту горушку пошли! У самого края поляны, где набегал к реке крутой увал, копнул Тимоха жирную черную глину, что языком из-под каменных плит выпирала, а как достал посудину из воды — ровно позлащенный был край! Дух перехватило! Не только Поликарп Филатьевич оробел, но и Лазарь, слуга верный, столбом застыл, глядя, как раз за разом уносила река черную грязь, оставляя на тонких, струганных топором плашках драгоценный песочек, забыв напрочь про догорающий костер и выкипевшую юшку... Повечеряли уже в темноте сухомяткой: вяленым мясом да сухарями; чай, правда, все ж варили. А поутру, едва засветало, снова к горушке золотой. К полудню пол-языка, а он немалым был, смыли почти, начал Лазарь под камни подгребаться. Изладил каторжанин еще одно корытце, и стал его Лазарь ворочать неумело в громадных своих лапах, и, бес попутал, сам Поликарп Филатьевич оскоромился, счастья попытал. Схватился лишь, когда дурной блеск в глазах слуги углядел. — Все! — оборвал разом. — Шабаш, хватит! Посчитали: и коли не полугривенку намыли, то совсем немного. — Ну, а дале где? Эт-то кончается! — А дале в другом, хозяин, месте. Да и здесь не все. Язык-то, вишь, под гору уходит, коли ее расковырять, там много еще будет. Но и это не золото. Я ж тебе не жилу пока, а только тоненькую ее веточку показал, а жила здесь, рядом, но схоронена крепко. Она у меня на чертеже означена. А чертеж, как сговорились, как денежки велишь дать. Мелькнула тогда грешная мысль, но глянул на каторжанина и отступился, отогнал ее прочь: такого огнем жги, пилой пили — не скажет. Да и ручательство невесть где... Так и пошли обратно втроем. Ушли-то втроем, а еще двое там, у горушки, на месте остались. Хоть и хитер бродяжка, да купец-то Олин не глупее, чай! Пока валандался каторжанин в Чердыни неделю, он времени зря не терял — отыскал по горному делу знающего человека да с ямщиком своим, тоже человеком верным, с Ленькой Фроловых велел за собою следом идти, хоронясь, а как сами с Кутаю возвращаться учнут, все там обыскать наново. Нынешней ночью они и воротились. Доложился горный, что сыскать жилы не удалось, хоть и осмотрели все кругом на сколь верст. Вот и полагай тут, как быть... Совсем странное горный сказал: что мало золота и под горушкой заветной взяли, что вроде так и до́лжно быть, что оно, золото-то, под горушкой вроде как насыпано... Но если бы только под горушкой! Может, горный сам знает плохо? Как тут быть? Сам ведь его видел! Этими вот руками из корытца доставал! Там ведь оно под костром прямо было. Пусть мало, но было. Может, и впрямь горный... А вдруг хитрит?! Вдруг сам что удумал?! Да и Тимоха, а?! Ай да каторжанин, вон ведь чё порешил: чертеж подменный за тыщи продать! Ну, это еще поглядим, кто кого обхитрит-то! Долго еще стоял у растворенного окна купец, выхаживал по комнате из угла в угол. Стемнело совсем, а он все на ногах и свечей у себя не велел зажигать; переполошились кругом, дотемна еще затихли, даже девки с работниками на дворе шепотом лаялись, и пес лишь поскуливал, не решаясь подать полный голос; так потом и улеглись и в страхе заснули. А он все у окна, пока к утру уж не заслышал стук копыт. Выглянул. Въехали во двор двое — Лазарь и Ленька. Живо сбежал вниз, распахнул дверь кассы, рукой трясущейся свечи запалил. — Ну?! — Помилуй нас, Поликарп Филатьевич! — Не устерегли?! — Устеречь-то устерегли, да придушили ненароком. — Как это придушили, господи прости? — закрестился по привычке в угол, но образов там не было, лишь сундук денежный стоял. — Да нечаянно, батюшка! Здоров уж больно, черт, все бился, Леньке вон нос-от чуть не своротил на сторону, ну мы его чуток и стукнули, а потом навалились. Глядь, а он уж и не дышит. — Вот грех, вот грех-то, господи всемогущий, спаси и помилуй, так как же вы так, ироды окаянные?! Разом повалились оба в ноги: — Батюшка, прости, не ведали того сами, не чаяли-и! — Чё уж, чё уж теперь-то... Где окараулили? — Да до Губдора еще, батюшка, в болотнике, где ельничек. Мы в нем и схоронились. — А дели-то куда? — Да известно — в воду, куда же еще, ввек теперь не сыскать. — А кони? Коляска его? — Обшарили все, как ты велел, да в пожни свели, а там уж, как бог положит. — Ну и сыскали чего? Склонили оба головы: — Извиняй, батюшка, ничего... — Э-эх! — махнул рукой. — Деньги где?! — А вот, — выступил вперед Лазарь и сбросил с широких плеч котомку. — Туда положь, — мотнул головой на сундук. Слуга распахнул мешок и, достав кошели, положил на крышку. — Что там еще? — Рухлядишка всякая да одежонка его, мы хоть и прошарили всю, да решили тебе самому свезти. — Вываливай! Лазарь опрокинул торбу. На каменные плиты пола вывалились мятая, кровью по вороту залитая рубаха, следом козловый сапог, штаны суконные, кафтан, второй сапог, шапка, завернутый в белую тряпку крупяной калач, покатившийся прочь, разматывая холстину. Из-за пазухи Лазарь достал бумаги и протянул хозяину. Тот быстро просмотрел. — А ручательства не было? — Какого? — Какого, какого! Никаких бумаг у него больше не было? — Нет... — Ну ладно, ступайте, да глядите мне, ни гугу! Оставшись один и заперев дверь, спустил Поликарп Филатьевич подсвечник со стола на пол и стал прошаривать одежду: сперва один сапог повертел в руках, помял, покачал каблук, потом, отбросив, принялся за другой, протянул руку за кафтаном, но тут увидел лежавшую немного в стороне старую шапку. Подклад, надорванный утром Тимохой, был обратно подшит большими стежками. Махом разорвал его купец надвое, и прямо в руки его упал грязный лоскут. Есть все же! Вот он, чертеж доподлинный! Чуяло сердце... Ай да каторжанин, головушка буйная, не обхитрил все же! К столу бросился Поликарп Филатьевич, дрожащими руками разгладил тряпицу на столе. Что за наваждение? Такая же река, те же крестики. Схватил свой кошель и вытряхнул из него чертеж, оставленный Тимохой. Оба были почти одинаковы. Только новый еще грязнее да затасканнее будет. И несколько крестиков новых. Вот и все... — Господи, неужто напрасно грех на душу взял? Господи! Прости мне, господи, помыслы мои тайные, бес попутал! Жадность окаянная, душегубство принял, господи-и!!!Государственный архив Пермской области. Фонд 126, опись 4, дело 18, лист 64. (Копия) Господину Губернскому капитану-исправнику. Имею честь сообщить, что мною было произведено дознание о совершенном якобы купцом Олиным Поликарпом Филатьевичем душегубстве бродячего человека по прозванию Тимофей Сычев, по поводу которого имею сообщить нижеследующее: названный бродячий человек Тимофей Сычев, неизвестно откуда появившийся, пропал безвестно сентября месяца сего года. Объявился оный Тимошка в Чердыни за месяц, и где обретался и чем жил, неизвестно. Одиннадцатого сентября купил у мещанина Селиванова коляску, которая была найдена вместе с лошадьми крестьянами села Губдор шестнадцатого сентября. Самого каторжанина обнаружить не удалось. К сему необходимо присовокупить, что пересланное для дознания ручательство писано не Олиным Поликарпом Филатьевичем и подписано не его рукой. Посему полагаю безадресное, то есть анонимное письмо наветом, а беглого каторжанина Тимофея Сычева скрывшимся неизвестно куда.
Октября 16 дня 1843 годаИсправник Чердынской Управы благочинияРодион Николаевич Бурмотов
5. Миронов Владимир Геннадьевич. 16 июля 1974 г., Тюменская область.
— Как это умер? Когда умер? Вы не путаете? — Да нет, товарищ майор, все точно: Нигамаев Руслан Камиллович, 1931 года рождения, паспорт IV-ШЖ № 549652, прописан по улице Полевой, 24, так? Мы вот и документы сдать еще не успели. Секретарь поссовета — девчушка еще совсем, с жиденькой белесой косицей за спиной, после школы, видно, в институт провалилась и устроилась сюда стаж зарабатывать — смотрела на Миронова с любопытством. Владимир Геннадьевич протянул руку к бумагам, лежавшим перед ней на столе: — Разрешите, пожалуйста, мне взглянуть. Бумаги были в целом в порядке. Истрепанные грязные листочки лежавшего сверху паспорта крест накрест перечеркнуты черной тушью, к корочке сзади подколоты справки: участкового, поселковой больницы, выписка из книги записи актов гражданского состояния и прочие, из чтения которых майор понял, что смерть настигла сорокадвухлетнего Нигамаева Руслана Камилловича, последние двенадцать лет человека без определенных занятий и жительства, от непомерной для ослабленного регулярным пьянством организма дозы алкоголя, что случилось это, вероятно, в ночь с 24 на 25 мая, что тело его было обнаружено в котельной гаража потребсоюза кочегаром этой котельной Валуевым Петром Захаровичем 26 мая, а 28 числа было перевезено для вскрытия в морг поселковой больницы, что состоялось это вскрытие еще через день и произвел его хирург Козлов Юрий Алексеевич и что наконец захоронено было оно на средства той же больницы 10 июня на поселковом кладбище... Несообразностей было много, но самая главная заключалась в том, что по сообщенным Витькой Кологривовым сведениям, в то самое время, когда многострадальное тело Нигамаева Р. К. с таким трудом предавали земле, сам Нигамаев Р. К. трудился благополучно в должности шурфовщика у ленинградского геолога Малышева и зарплату со всеми положенными надбавками и коэффициентами получил не только за май, но и за весь июнь. Вот такая мистика в этом деле... Клады и золото, исчезающие трупы и воскресающие мертвецы, неизвестно куда пропадающие свидетели. Недаром с самого начала, с совещания у полковника, его не покидает скепсис. Пусть интуиция, но ведь и интуиция — инструмент познания. Вчера, по дороге в поселок, он завернул в геологическую партию, где в мае и июне были отмечены документы Малышева и его рабочих — Петухова и Нигамаева. Секретарша, ведавшая канцелярией партии, выслушав его, сразу ответила: — Никаким геологам из Ленинграда в этом году мы командировки не отмечали. — Как это не отмечали, если на них ваши печати?! — Может, не из Ленинграда? У нас тюменские нефтяники отмечались, геологи из Тобольска. Были даже из Новосибирска, а из Ленинграда — нет. — Может быть, их отмечали не вы? — Это моя функция. Подписывает начальник или главный геолог, а печати ставлю только я. — А вы не болели, никуда не отлучались? Женщина едва заметно улыбнулась. — Нет, не болела и не отлучалась. — А учета у вас никакого нет? — А что, у вас есть такой учет? Журнал отмечаемых командировок? Так он называется? — Да нет, я не знаю, — растерялся Миронов. — Наверное, тоже нет. Хотя не мешало бы... Могу я увидеть начальника? Новая, едва заметная улыбка: — Конечно. Андрею Васильевичу я сейчас доложу. Но ни Андрей Васильевич, ни замы его никакого геолога из Ленинграда в глаза не видели и документы ему не подписывали. В поселке Владимир Геннадьевич оказался лишь под вечер, когда все конторы были уже закрыты, и, устроившись в доме приезжих, отправился на поиски малышевских рабочих по домашним их адресам: выявлять Петухова, Нигамаева и принятого на работу только в июне Кондратия Никитича Крапивина. Сначала нашел домик последнего, расположенный ближе к центру поселка, неподалеку от дома приезжих. Хозяина дома не было. — А кто знает, куда унесло! — с раздражением, агрессивностью даже ответила старуха соседка, когда Миронов обратился к ней. — Мы не караулим. Живет как хочет и где хочет. Шатается по тайге-то неделями или рыбачить уйдет, а дом-то вон, того и гляди, совсем завалится. И забор пал — ко мне на картошку хряки за два двора повадились, а прясло-то его, ему ставить. Да где ему, бродяжит все, до седых волос дожил, а ума-то, ой, господи! С большим трудом удалось Владимиру Геннадьевичу остановить нескончаемый поток застарелых обид и жалости к непутевому соседу. Старушка провела его в свою тоже небольшую, особенно по местным сибирским меркам, избушку и чаем с травами напоила. Из долгой беседы с соскучившимся по живому общению человеком Миронов узнал в конце концов, что весь июнь Крапивин «пропадал неведомо где, опять в тайге, видать», возвратился с деньгами, «гулевал три дни», а потом «в артель рыбацкую записался, да, сказывают, и доселе в ней, видели его, как рыбу привозил, про то в рыбцехе лучше знают, у них спроси». С двумя другими «кадрами» оказалось еще хуже — Петухов Матвей Кондратьевич давно уже, около трех лет, не проживал по тому адресу, что был указан в документах Малышева, домишко свой продал семье заезжего нефтяника, выписаться, правда, за эти годы так и не удосужился и жил где придется, порой и в чуланчике своей прежней избы, куда пускали его сердобольные новые хозяева, так же случайно работал, а ныне домовладельцы не видели его с самой весны. На улице Полевой, где, все по тем же малышевским данным, должен был обретаться Р. К. Нигамаев, этого адреса вообще обнаружить не удалось: вся улица представляла собой цепь новостроек, и никто из обитателей уцелевших кое-где старых домиков вспомнить такого не мог. Затемно уже вернулся Миронов на продавленную койку в дом приезжих и утром был в поселковом Совете. Отсюда отправился в местное отделение разыскивать сержанта Зарубина, чья подпись украшала протокол осмотра котельной быткомбината и мертвого тела Нигамаева. И Петухов, и многострадальный Нигамаев оказались старыми его клиентами, проживали когда-то — не в столь далекие, в общем-то, времена, когда, как и все другие граждане, имели то, что именуется домашним очагом, — на территории его участка, не то дружили, не то корешковали меж собой, охотничали вдвоем, рыбалили, выпивали вместе, как водится. Чем, когда поманила их вольная жизнь, теперь уже и не понять... Не враз и не медовым калачом мелькнула на пути. Но и не случайно сорвала исправных вроде мужиков с назначенного им круга, фартом дурным охотничьим мелькнула, что случается все же порой в тяжелом промысловом труде, деньгой шальной и легкой прозвенела раз и другой в кедровой шишкой набитом мешке, в запретной икре да шабашке немудрящей, но прибыльной, которой иной хозяйственник прореху заткнуть пытается. А там — покатилось, как это бывает нередко, от размеренной трудовой жизни к случайной и дикой «воле» по укатанной и горькой дорожке, что проторили многие тысячи непутевых мужиков и которую Руслан Камиллович Нигамаев прошел уже до самого конца. Сомнений его смерть не вызывала. Кочегар Валуев позвонил в поселковое отделение к обеду, когда зашел в котельную за инструментом и обнаружил труп. Зарубина дежурный разыскал часа через три, и к месту происшествия тот смог добраться уже к вечеру. Валуев, которому дежурный велел быть, не отлучаясь, на месте, да еще несколько человек — грузчики и шоферы, вернувшиеся в гараж, сидели возле застланного старой газетой ящика, на котором стояли бутылки, два захватанных стакана, наломанный хлеб, лук, огурцы да желтое крупно нарезанное сало — Нигамаева поминали. Тело лежало в темной грязной котельной на закиданной старыми ватниками и мешками железной с фасонистой гнутой спинкой скамейке. Лежало на животе, с подогнутыми под живот руками. Под голову был подложен старый, многие виды видавший рюкзачок, на ногах — обрывок сиротского байкового одеяла, покрытого сплошь ржавыми, жирными пятнами, одеяла, какие встречаются лишь в солдатских казармах, больницах да детских домах; черные заскорузлые ботинки с ржавыми клепками валялись под скамьей. Зарубин отбросил серую грязную ткань, задрав рубашку, осмотрел тело со спины, перевернул на спину и обследовал грудь, живот, голову и шею — никаких признаков насильственной смерти невооруженным глазом заметно не было. Поправив на мертвом одежду, прикрыв с головой, вышел наружу к ожидавшей его на бревнах компании. Тут ему охотно рассказали, что гудели в котельной два дня назад, а кончили лишь вчера, то бишь 25 мая, а где был Нигамаев, никто толком вспомнить не мог, вроде бы пил до конца, а может, и нет, он ведь алкаш, быстро валится, а на лавке все время кто-нибудь да спал, да и не только на лавке, так что поди разбери, кто где был, а Нигамаев-то вообще с зимы так в котельной и живет, спит на этой лавке или в углу на ветоши. Но позавчера он, кажется, еще подсаживался, а вот вчера, когда похмелиться забежали, он уже не вставал, это точно, его кликнули, он не шевельнулся, ну и решили, коль не хочет, так им же лучше, больше достанется, тревожить не стали, а что он мертвяк и не подумалось вовсе, а вот Валуев молодец, понял сегодня, что неладно дело, подошел. Зарубин выслушал, отказался помянуть усопшего, переписал собутыльников, вернулся в кочегарку за рюкзачком, в котором, как оказалось, хранил несчастный нехитрое свое барахлишко, и отправился в отделение составлять бумаги. — Почему труп еще больше суток оставался там? — спросил Миронов. — А... — протянул Зарубин и махнул рукой. — Больница везти отказалась, не их дело, говорят, их забота — больные, а не мертвые, и санитаров, мол, нет все равно, а мы тоже не могли, машин-то у нас — шарабан в ремонте, а на газике разве увезешь? — Ну и как все-таки справились? — Да дали потом машину, мы суточников[2] послали вместо санитаров, так и увезли. — Он все так в котельной и лежал? Участковый отвел глаза и болезненно сморщился. — Ну да ладно, дело ваше... Родные у него были? — Была жена... Да где ее найдешь? Как он гулять начал — она долго поначалу держалась, мозги ему как могла вправляла, а потом, видать, махнула рукой, да туда же. Вы ж знаете, когда мужик пьет, еще полбеды, а коли и баба возьмется, совсем беда! Поначалу они вместе на шабашки ходили, а потом и врозь стали. Ее уже с год у нас не видно, Руслан говорил как-то, что она вроде бросила пить, на буровую куда-то поварихой устроилась, да, видно, снова сорвалась, иначе, думаю, все одно заехала бы. Искали мы ее, как он умер, на похороны-то, да не нашли. — Он сновасокрушенно махнул рукой и пригладил седые свои волосы. — Почему так долго не хоронили? Участковый поднял глаза на Миронова, и взгляд его оказался грустным и мудрым. Майор смутился. — Хоронили... — Зарубин усмехнулся. — Вы уж сами, наверное, поняли — как. Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана. Больница отказалась — средств нет, поссовет тоже, а у нас денег не только на гробы, на скрепки порой нет, сами знаете, какой бюджет... Так и препирались почти две недели, а он все на льду лежал. Я потом в район позвонил, сразу все нашли: поссовет деньги на гроб, больница одежку какую-то, а наши суточники яму вырыли да захоронили. Вот так. Он откашлялся в кулак, достал большой клетчатый платок и вытер вспотевшую шею. Миронов чертыхнулся про себя — нашел, где лезть с нравоучениями. — Ну, а где он был в начале мая? — Да все здесь. С зимы. Он в этой котельной кочегарил, так никуда и не уезжал, я сам его не раз встречал. Сезон отопительный в этом году до 15 мая, так он все работал, а потом еще на две недельки остался — прибрать тут все, почистить, законсервировать до осени. — Понятно... А Петухов? Вы же говорили — они друзья, он-то где? — Да кто знает. Эти ханурики какие друзья? Деньги на выпивку есть — водой не разольешь, а как выпито — врозь. До весны он здесь вертелся, Руслану, говорят, помогал, а потом пропал, подался куда-то, если б тот был жив, может, и сказал, а сейчас — Сибирь-то вон она, большая. — Ну, а Крапивин Кондратий Никитич вам знаком? — Крапивин? — Зарубин почесал голову. — А он-то как в этой компании? Это ж другого поля ягодка. — Это как — другого? — Да так. Они ж совсем разные. Эти-то хоть, — махнул головой на окно так, словно Нигамаев с Петуховым были там, сидели на врытой рядом с воротами отделения скамеечке, — эти хоть бродяги, да бессребреники, все пропивают, не считаются, кто сколько, а деньги порой попадают им немалые — людей здесь немного, платят хорошо. А Крапивин — кулак. — В голосе участкового сквозила неприязнь. — Деньгу к деньге собирает, не пьет, не курит, все копит, домишко его совсем завалился, того и гляди рухнет, а он на ремонт ни копейки не потратит, как пес живет. Прежде даже в эту конуру жильцов пускал, деньгу гнал — с жильем у нас туго, а народ потихоньку прибывает, да в нее сейчас никто не едет — боятся, что упадет и задавит, а он ничего. Стар совсем, возраст пенсионный, а все таскается, где денег взять можно поболе, а поработать помене — с рыбаками, за шишками, еще куда. Водкой спекулирует — штрафовали несколько раз, он переждет — да снова, ничего с ним не поделаешь; под суд — рука не поднимется, старик ведь, помрет, неровен час, куда ему в колонию... — Говорят, он сейчас где-то с артелью рыбацкой, в рыбцехе можно узнать? — Можно, — кивнул Зарубин. — А можно кой-кого порасспросить. — А жены у них есть? Или другие родственники? — У Крапивина брат двоюродный здесь живет. А жены нет, умерла лет пять назад, а от Петухова ушла давным-давно, как пить стал, вместе с детьми уехала в Россию, там, говорят, снова замуж вышла. — Вы адрес ее и брата Крапивина найти сможете? — Конечно, смогу. Что, и ее разыскивать будете? Миронов пожал плечами. — Господи! Да что же они такое сделали, если вы их так ищете? Миронов кратко рассказал о пропавшем ленинградском геологе, выплывших его документах, таинственных печатях на маршрутных листах. — Так вы думаете, они его ограбили? Или убили? Миронов снова пожал плечами. — Нет, здесь что-то не так. Нигамаев в мае был тут, хотя мог устроиться и не работать, бывает ведь и такое, — размышлял вслух сержант. — Да и Крапивин... шурфы бить не для него, старик! Рыбалка там, шишки — они ж кедры-то пилами валят, не обколачивают — это по нему, а у геолога... Хотя, чего не бывает? Давайте, товарищ майор, лучше сделаем так. Вы в больницу идите да к Валуеву, он там же, в потребсоюзе, летом работает, все равно ведь пойдете? — взгляд умных его глаз стал испытывающе-ироничен. Когда Миронов в ответ кивнул, он довольно хмыкнул и продолжал: — А я пока братом крапивинским займусь, он вам все равно много не скажет, такой же прохиндей, адрес петуховской жены найду, ну и геологом поинтересуюсь, а к вечеру встретимся — ушицей накормлю, а? За день Миронов побывал и в потребсоюзе, и в котельной гаража, где, кроме кооператорских, стояли машины самых разных служб, и в больнице, и даже в морге; поговорил и с кочегаром Валуевым, и с доктором, и с многими другими людьми, но ничего существенного узнать не смог. В больнице не удержался и схватился с Козловым — молодым специалистом высокомерного вида в больших, в пол-лица, притемненных очках, который, как оказалось, был одновременно заместителем главврача, а в конце мая — начале июня, пока тот был в отпуске, исполнял его обязанности. — Что же это вы, — бросил, когда выходил из морга, — похоронить по-человечески не могли? — То есть? — вздернул голову и заблестел очками доктор. — А если бы такое с кем из ваших близких или друзей? — У меня нет таких близких. И друзей таких тоже нет, — он напирал на это — таких. — Да и похороны всяких проходимцев не входят в нашу компетенцию! По-человечески... Да какой же он человек? Вы бы печень его видели, человек! От неожиданного выпада Миронов даже приостановился. — А вы что, сами решаете, кто человек, кто нет? Врач молчал, но смотрел зло и презрительно. Тогда и Миронов решил его не щадить: — А почему вы, Юрий Алексеевич, вскрытие еще больше чем на сутки отложили? Вы же врач, хирург! А тут труп пролежал почти неделю. — Но там было все ясно! Перепил и сгорел. — Так вам это было ясно еще до вскрытия? Вы так легко и быстро определяете причину смерти? Чисто визуально? А почему же вы, уважаемый Юрий Алексеевич, не исследовали желудок и пищевод? Почему не отправили материалы на токсикологическую экспертизу, если не в силах произвести ее самостоятельно? В заключении вашем ни слова нет о вскрытии полостей черепа! Вы вообще делали вскрытие или так, отписались? — Делал, как же. А не сразу, потому что операции были срочные, вскрытие произвел, как положено, груди и живота, про череп не подумал, — в голосе доктора появились заискивающие нотки. — А следователь прокуратуры присутствовал при вскрытии или потом подписался? — Потом... — потупился врач. — Это он предложил, позвонил и сказал, чтоб я вскрывал без него. Вы думаете, смерть была насильственной? Считаете, что его отравили? — Не знаю, не знаю... — пробурчал Миронов. — Надеюсь, что эксгумация подтвердит ваше заключение. — А что, будет эксгумация? — хирург сник совсем, даже очки его огромные перестали поблескивать. — Не исключено. Ушел он не прощаясь. Зарубин тоже ничего утешительного сообщить не мог. Петухов исчез из поселка еще в конце апреля, когда открылась навигация; что касается Крапивина, то он был в артели на Кривом озере в трехстах километрах от поселка: прибывший четыре дня назад за продуктами, видимо больше за водкой, бригадир подтвердил, что старик находится в артели неотлучно с самого начала июня. Добраться до Кривого в ближайшие дни не представлялось возможным — у соседей в Ханты-Мансийском округе разбушевались таежные пожары, и вся авиация была брошена на борьбу с ними: огонь подступал к району буровых скважин. Выслушав новости, Миронов написал и отправил отношения на хирурга Козлова и следователя местной прокуратуры, которому было поручено расследование смерти Нигамаева, так как не терпел столь существенных упущений по службе, зная, чем оборачивается порой чужая небрежность... Потом заказал разговор с Пермью, с управлением.Государственный архив Пермской области. Фонд 218, опись 1, дело 24, лист 168. (Копия) Председателю Чердынской уездной земской управы. Настоящим доводится до Вашего сведения, что в Чердынский уезд командируются представители союзного командования офицеры британского и французского представительства А. Лекрер и Ч. Скотт для ознакомления с экономическим состоянием края, его рудными и другими богатствами. По прибытии вышеуказанных офицеров Вам надлежит обеспечить свободное и незамедлительное их передвижение по территории уезда, особенно же гарантировать срочность и безопасность поездки в Кутайскую и другие вишерские волости. По прибытию означенных представителей Вам надлежит предоставить в их распоряжение чердынского купца Олина Николая Васильевича. 24 февраля 1919 г.
Генерал Гайда
6. Олин Николай Васильевич. 12 февраля 1919 г., г. Пермь.
Пермь была сейчас совсем не той, какой он привык ее видеть. Наверное, и Чердынь стала иной, но там все перемены восемнадцатого совершались на глазах и поэтому были привычнее, менее заметны, чем здесь, в губернском центре, где он не бывал с осени 1917 года. Уже тогда город потерял нарядность — тротуары в кляксах грязных и мокрых листьев давно не подметались, мостовые, как сельские проселки, бугрились конскими шарами, многие магазины были заперты; но все же звенели еще по булыжнику подковы, катились, упруго покачиваясь, экипажи и брички, спешил куда-то по важным и неважным своим делам городской люд: чиновники в вытертых, но опрятных шинелях, солидная публика в шляпах и теплых пальто, бежали гимназисты старших классов в заломленных лихо на фронтовой манер фуражках, вынесли продемонстрировать впервые в этом сезоне надетые меха дамы. Теперь и этого почти не было. Казалось, в городе одни военные. Офицеры, унтера и солдаты. Больше всего солдат. Напротив городского вокзала — всегда чистенького, нарядного, даже кокетливого, а теперь обшарпанного от заплеванного перрона до венчающих крышу башенок, — полурота Тобольского полка долбила мерзлую землю. Солдатики, в основном новобранцы, совсем еще молоденькие ребята, мобилизованные верховным правителем, прыгали, топали сапогами возле огня, толкались, согреваясь извечным деревенским манером; в стороне составленные в пирамиды щетинились штыками винтовки. Извозчиков почти не было. Возле десятка потрепанных саней бурлила, ругаясь и взвизгивая, толпа пассажиров. Николай Васильевич посмотрел, сплюнул и, оставив на вокзале с багажом приказчика, пешком двинулся в город. По дороге встречались тоже в основном солдаты. Поодиночке, парами и небольшими командами все они куда-то спешили, у всех за спинами торчали ружейные стволы, у поясов позвякивали закопченные манерки. Прошла, маршируя, рота. Эти были без оружия и котелков, локтями прижимали замерзшие веники и свертки с исподним. Распаренные солдатские лица блестели самоварным блеском, глаза сверкали, рты широко разевались, выталкивая вместе с клубами белого лошадиного пара старую солдатскую песню:Протокол
судебно-химической экспертизы
Эксперт-криминалист Пермской НИЛСЭ Милов Р. В. произвел экспертизу золотых монет достоинством 10 рублей Санкт-Петербургского монетного двора и склеенного из обломков керамического сосуда. Перед экспертизой были поставлены вопросы: 1. Содержат ли стенки сосуда следы длительного хранения в нем золота? 2. Если в сосуде хранилось золото, то тождественно ли оно представленным монетам? 3. Определить возраст сосуда. Спектральный анализ проб, взятых с внутренней поверхности сосуда, показал отсутствие золота. Представленные на экспертизу золотые монеты лишены благородной патины, образующейся при длительном их хранении, анализ поверхностного слоя показал, что на монетах имеются в большом количестве микрочастицы кожи и следы потовых выделений. Определить возраст сосуда возможным не представляется ввиду отсутствия разработанной методики. Заключение: представленный на экспертизу глиняный сосуд для длительного хранения золота не использовался, золотые монеты до недавнего времени находились в пользовании. Примечание: в результате склейки сосуда из обломков, произведенной с нарушением элементарных приемов осторожности, все следы, пригодные для идентификации, как на внутренней, так и на внешней стенках сосуда оказались уничтоженными. 17. 07. 74Эксперт-криминалист Милов Р. В.
7. Кологривов Виктор Миронович. 17 июля 1974 г., г. Ленинград.
Снова машина несла его по широкому проспекту, но уже не в город, а из города, и не такси, а видавший виды «газик» со спортивным парнем за рулем, выделенным ему Куницыным. Головой на сей раз Виктор тоже не крутил, Петров город не разглядывал. Ай да Ираида Николаевна! Как она его! Да и сам лопухнулся, надо было тогда еще, в первую встречу, настойчивее быть, не пришлось бы потом четыре дня подряд вместе с ребятами подполковника всех знакомых геолога и прекрасной его супруги просеивать, устанавливать, где пребывает сегодня гражданка Малышева. Проанализировав с Куницыным первый день своих поисков в Ленинграде и определив его, Кологривова, ошибки, они наметили план дальнейшей работы. — Пусть они даже ненавидят друг друга, бывает и такое — ненавидят, а живут, все равно какие-то открытки, телеграммы, элементарные сообщения быть должны хотя бы у друзей, так что придется тебе, Виктор Миронович, нащупать почву для контакта, — подвел подполковник итог получасового совещания. — Странно, что она не забеспокоилась, не поинтересовалась даже, почему ты ищешь... Малышев этот неизвестно где, документы его у бандита, может, его уже и в живых-то нет, а ведь у женщин в таких случаях интуиция. А она... Да, еще в институт загляни, полистай его прошлогодние бумаги, должны же быть какие-то старые отчеты, проекты планов, хоть они там и вольные художники. Но заглянуть в институт Кологривову не довелось, не нашлось времени, с головой ушел в поиски прекрасной Ираиды Николаевны. Дома у Малышевых никого на другой день не оказалось, и тогда Виктор поехал к ней на работу. Представившись там случайно заехавшим в Ленинград коллегой мужа, напившись растворимого кофе с домашним тортом, он узнал, что Ираида Николаевна еще две недели назад ушла в очередной отпуск, да к нему старые отгулы присоединила, да пару недель без содержания выпросила, так что в конторе своей появится не раньше чем в конце августа; что событие это было достойно отмечено всем руководимым ею отделом в ближайшем кафе; что ни на юг, ни в Прибалтику в этом году она не собиралась, путевки ни в круиз, ни в турпоездку, ни даже в санаторий у нее также не было, а по случайно брошенным фразам отдел решил, что начальница собралась в деревню... Здесь же, к немалому своему удивлению, Виктор услышал, что весь отдел считает брак Ираиды Николаевны исключительно счастливым, что в Павла Петровича немного влюблены все ее подчиненные, завидуют и ставят его, Викторова приятеля, в пример своим мужьям. Сомневаться в искренности коллег не приходилось — некоторые из них, панибратски называвшие Малышеву Ириночкой или Иркой и проявившие осведомленность в весьма деликатных подробностях ее семейной жизни, были если не подругами, то близкими приятельницами, а уж коли приятельница что-то там увидит постороннему глазу неприметное, то не откажет себе в удовольствии хоть намеком или неброской ироничностью выказать свои наблюдения. Ничего конкретного о нахождении Малышевой узнать не удалось, и Виктору не оставалось ничего другого, как вернуться к ее дому. А так как проектная контора и квартира Малышевых находились если не в противоположных, то все равно в значительно отдаленных друг от друга районах города и ехать нужно было с двумя пересадками — в городе и транспорте он ориентировался еще плохо, — то разъезды эти заняли у него уйму времени, и день уверенно повернул на вторую половину. От соседей Малышевых уже вечером он узнал, что Ираида Николаевна куда-то уехала, что ездит она в это лето часто и что в ее отсутствие квартиру навещает какая-то женщина, видимо, цветы поливает и рыбок в аквариуме кормит, живет она где-то неподалеку и где находится сама хозяйка, сказать может она одна. Поиски неведомой женщины закончились лишь на другой день, после того как Кологривов обошел несколько десятков квартир в ближайших домах и собрал информацию о Татьяне Львовне Кармышевой, оказавшейся школьной еще подругой Ираиды Николаевны. От нее Виктор узнал, что где-то в Лодейнопольском районе у Малышевых в этом году появилась дача, даже не дача, а прекрасный большой дом в деревне с садом и огородом на берегу речки, что свалилось это счастье на них совершенно внезапно: в самом начале лета, когда Павел Петрович был уже в экспедиции, двоюродная тетка Ираиды Николаевны в три дня собралась и уехала на Херсонщину к приболевшей сестре, а там они решили пожить вместе сколько получится. Дом у больной сестры очень большой, живет она в достатке — покойный муж был военным в большом чине, — и тетка решила свой не продавать, а передать в бессрочное пользование племяннице и даже доверенность на нее оформила и выслала. Оказалось, что в Ираиде Николаевне вдруг неожиданно проснулась страстная огородница и рачительная хозяйка, и всякий выходной она незамедлительно уезжала туда, набивая сумки продуктами, химикатами и всякими садово-огородными инструментами, а как в отпуск вышла — совсем переселилась в деревню. Для удобства поездок Малышевы даже машину купили — подержанный, правда, «Жигуленок», но в полном еще порядке, — у знакомых и очень недорого. Кармышева рассказала далее, что позавчера Малышева вернулась в город, собралась прожить здесь дня три-четыре, но к вечеру почему-то спешно собралась и укатила, видно, хозяйство новое спокойно спать не дает. Обнаружилось в информации Кармышевой еще одно любопытное обстоятельство, заслуживавшее внимания: по ее словам выходило, что Павел Петрович в начале июня был в Ленинграде. Второго числа — дату она запомнила точно, в этот день в институте зарплату дают — она забежала к Ирине должок вернуть, а там и хозяин собственной персоной, приезжал в институт на какое-то совещание, всего на пару дней, даже в деревню съездить времени у него не было, Ирка расстроилась... Она так всегда его ждет. Адреса малышевской дачи у Татьяны Львовны не оказалось. Ира все собиралась оставить — мало ли что случится, телеграмму понадобится отбить или еще зачем, — но как-то получилось, что так и не оставила, все в суматохе, запамятовала, видно. Сама она там тоже еще не бывала, подруга объяснила, что повезет тогда, когда устроит все по своему вкусу, да и некогда, у самих хоть не дача, а мичуринский, но и он сколько времени требует. Адрес дачи удалось установить лишь вчера. Двое сотрудников из аппарата Куницына, прикомандированных подполковником в помощь Кологривову, опросили кучу близких и дальних родственников, друзей семьи и просто знакомых, пока не вышли на полумифическую двоюродную тетку, в существовании которой и Виктор, и, как оказалось, сам подполковник изначально сомневались. Родство ее с женой геолога было даже не двоюродным, а еще более далеким — двоюродным оказался ее погибший на фронте муж. Сама она, Анна Трофимовна Кузина, сохранившая и в замужестве, и во вдовстве девичью фамилию, оказалась сиротой, потерявшей в Поволжье, в голоде, родителей да и всех других родственников, кроме погодка-сестры, выросшей вместе с ней в детдоме. Детей своих у нее никогда не было, и к Ире она привязалась еще в детские ее годы, когда болезненную девочку привозили летом на деревенский воздух, хлеб и молоко поправлять подорванное в эвакуации здоровье. Потом поездки эти вошли в правило, и, хотя состояние ее уже не вызывало опасения у врачей, девочка до самого десятого класса ездила на лето к «тете Ане» и была там всегда желанной и дорогой гостьей. Позднее, во время учебы в институте, а особенно после замужества, поездки эти стали все реже. Отдыхали Малышевы обычно осенью, после окончания полевого сезона, на юге, но Кузину Ираида Николаевна обязательно навещала по два-три раза в год, так что щедрый подарок оказался при ближайшем рассмотрении не таким уж неожиданным. Выяснить адрес, имея анкетные данные «тети Ани», было делом нескольких минут. Вот теперь машина, свернув с широкого шоссе на тряский грейдер, и несла Кологривова к гостеприимному дому Анны Трофимовны Кузиной к красивой женщине Ираиде Николаевне, жене неизвестно где обретающегося геолога Павла Петровича Малышева... Газик въехал в поселок, и сержант-водитель обернулся к Кологривову: — Приехали, товарищ лейтенант! Куда теперь, к поссовету? Встречал Кологривова участковый, заранее предупрежденный по телефону о его визите, — плотный, даже толстый старшина лет пятидесяти с широким красным лицом и огромными ладонями. — Понасенко, Михаил Федорович, — пробасил, возвращая удостоверение. — А вы, оказывается, из Перми приехали! — Из Перми. — Эк далеко. — Далеко. — Ага. Так вот, я тут поговорить успел кой с кем, сведения собрать. Рассказывать? — Конечно, рассказывайте. — Так присядем, может, — повел хозяин рукой на старые, но чистые и аккуратно расставленные у стены стулья. Стулья эти, штук шесть или семь, да еще такой же далеко не новый, но тоже приличный на вид диван, письменный стол и стальной шкаф в углу составляли всю меблировку небольшого, а при Понасенко казавшегося и вовсе крохотным кабинетика, полного зелени. Цветы были всюду: стояли на подоконнике и столе, висели на стенах в самодельных замысловато выгнутых из толстой проволоки кашпо, струились густыми толстыми прядями по стенкам шкафа, драпируя казенную его суть, а у окна, в простенке, тянулось кверху деревце с мелкими, на березовые похожими, листьями. Все цветы были в ладных горшочках — никаких консервных банок, жестянок и проржавевших, отслуживших свою прямую службу кастрюль, завернутых стыдливо в пожелтевшую бумагу. Присел и старшина. По годами складывавшейся привычке — за стол, на обычное свое место, и ничего там, под тяжелой его фигурой, не пискнуло. Сидел участковый свободно, распустившись, словно и не на хлипком стуле, а на дубовом пне или колоде, вроде тех, на которых на рынках мясо рубят. Захотелось даже встать и посмотреть — на чем он там сидит. — Так вот, говорят, что Кузина насовсем к сестре своей уехала, — достал Понасенко из нагрудного кармашка сложенный вдвое листок бумаги в клетку. — Вот новый ее адрес. А строение свое и участок оставила родственнице ленинградской... Практически все, о чем рассказал старшина Кологривову, было тому уже известно, и то, что собранное по крохам у малышевских знакомых почти полностью подтверждалось «сведениями» Понасенко, было отрадно, да и нынешний адрес гражданки Кузиной мог еще пригодиться. — Спасибо, — поблагодарил Кологривов участкового, когда тот кончил рассказывать. — А мужик вас интересует? — Какой мужик? — Да тот, что в доме Кузиной живет. — Как это, живет? — Обыкновенно как. — А Малышева что, тоже там? — А то где же, — в голосе участкового шелестела ехидца. — Не знаю, кем он там ей приходится, товарищ лейтенант, только на брата не очень похож. — И давно он... живет? — А как Кузина уехала, так он и объявился. А эта к нему наезжает. — Он что, все время, с мая так и живет? — Ну да. — И не работает нигде? — Не знаю. Странный он, вообще-то, все больше дома сидит, на улицу совсем редко выходит. По вечерам, в основном. У реки порой, говорят, гуляет, на выгоне... Я его сам-то только в июне впервые увидел, потом уже узнал, что он тут с мая. — И это вас не насторожило? Даже документы не проверили? — Да поначалу, как узнал, пошел. А он у окошка сидит, строчит что-то на машинке пишущей, да бойко так, я с полчаса на бревнах под окнами сидел, курил, так он все стучал, почти не прерываясь. Ну, я и ушел, может, он писатель какой, а я к нему за документами... — А для писателей что, у нас законы не писаны? — Как не писаны, товарищ лейтенант, писаны... Только вот два года назад такой же жил все лето — ни на работу, никуда, даже на машинке не стучал, рыбачил да по грибы ходил, ну и сунулся я к нему за документами, а у него, как на грех, их с собой возьми да не окажись, я давай личность устанавливать, все, как положено, ничего лишнего не сделал. Так он кинорежиссером оказался, обиделся на меня, расшумелся, а потом мне еще и начальство всыпало — гляди, говорят, к кому суешься-то! Вот теперь и гляжу... — Какой он? Как хоть выглядит? Приметы? — Да, как писатель и выглядит, с бородой, не поймешь — может, лет тридцать пять, а может, и под пятьдесят. Да я его только раз и видал-то. Кологривов долго молчал. — Ну, что будем делать? — откашлявшись, спросил старшина. — Нужно сначала установить личность писателя, а потом встретиться с Малышевой. Она здесь? — С утра здесь была. И это все? — Все. Только «писателя» устанавливать вам. Меня она знает, мне к ним в дом пока соваться нельзя. Старшина утвердительно кивнул. — У вас найдется повод в дом заглянуть, документы спросить? — Да как не найдется. Удобнее всего — проверка паспортного режима, время сейчас дачное, в каждом, почитай, дворе либо родственники гостят, либо так. А проверки мы каждый год устраиваем, хоть и впустую — кто же будет на пару недель мороку с пропиской затевать? В этом году, кстати, сельсовет этой кампании еще не начинал. Так что все одно к одному. — Ну хорошо. Сейчас и поедем. Дом Кузиной далеко? — На другом краю. — Поедем на машине, там вы мне дом и покажете. — А машина какая? — окна понасенковского кабинетика выходили во двор, и он не видел, как подъезжал Кологривов. — Газик. ГАЗ-69. — Это хорошо, пойдем. А то ведь, бывает, и на «Волгах» приезжают да еще черных, за версту видно — начальство! А газиков у нас и своих полно. Тут только оценил Виктор куницынскую предусмотрительность, а там, в Ленинграде, найдя по номеру старенькую эту машину, даже обиделся в душе, посчитав, что акции его упали окончательно. Дом Кузиной оказался капитальным строением. Не веселеньким обшитым крашеным подтоварником домиком с пропильными фасонисто-кукольными наличниками, какие в великом множестве вытесняют традиционное крестьянское жилье уже не только в среднерусской полосе, но и на Урале, а порой и в Сибири, а внушительных размеров пятистенок из черных бревен с высоко вознесенными над землей оконцами, крытым двором, тяжелыми воротами, украшенными неброским орнаментом в виде округлых лепестков цветка, резанных прямо по толстым плахам. Мимо кузинской избы машина прокатила дальше по пыльной улице, огибая табунки суетливых кур, до следующего перекрестка. Здесь Понасенко, кряхтя, выбрался из тесного ее нутра, одернул мундир, поправил на голове фуражку и зашагал обратно, вниз, а Кологривов на машине параллельной улицей вернулся назад. Понасенко обошел несколько строений, имитируя подворный обход, у Кузиной пробыл пять минут, выйдя из него, снял фуражку, поскреб в затылке и двинулся дальше. Он посетил еще пять домов и только потом завернул за угол, где ждал его в машине Виктор. — Муж это ее, Малышев Павел Петрович, — объявил минуту спустя, забравшись в машину и поерзав, устроиваясь на тесном для него сидении. — Как это — муж? — Да так. Я и документик видел, все точно. — Какой документик? Паспорт? — Да нет, не паспорт, паспорт, говорит, дома, в Ленинграде, лежит. Удостоверение институтское. — Удостоверение? — голос лейтенанта заставил Понасенко оглянуться и пожать плечами. — Ну да. Ленинградский научно-исследовательский геологический институт. № 658. Предъявитель сего тов. Малышев Павел Петрович действительно работает в институте в должности старшего научного сотрудника. 17 апреля 1973 года. Подписи, печати, фотография, продлено — все в порядке! Виктор молчал. Такое же удостоверение Малышева, под тем же № 658, выданное 17 апреля 1973 года и тоже имевшее все необходимые реквизиты, лежало сейчас в сейфе полковника в Перми вместе с другими вещами «геолога» в качестве вещественного доказательства. — А что, что-то не так? — обеспокоенно зашевелился Понасенко. — В том-то и дело, что не так. Что он здесь делает все лето, спрашивали? — Конечно! Отпуск творческий, говорит, получил полугодовой для работы над трудом научным, книгу пишет, вот и живет с мая. — А документ этот, удостоверение, не может быть фальшивым? — Фальшивым? Не-е знаю... А что, может и такое быть? Да вроде все в порядке, солидный документ, в пластик вплавлен. Разве что фотография, может быть, переклеена, это же не паспорт, просто мастичная печать, можно и подделать, глазом не разберешь... Да пойдемте к нему вместе. У них владение не оформлено, я и сказал, что кого-нибудь из поссовета приведу. — А жена? Тьфу ты, Малышева то есть? — Ее дома все равно нет, в магазин уехала, а там сейчас перерыв. Они посидели, выжидая время, и минут через десять пошли к дому. Ворота оказались запертыми изнутри, на стук никто не отзывался. — Давайте я с другой стороны обойду, там тоже выход есть, — предложил участковый. — А вы пока тут подождите. Кологривов кивнул. Понасенко в сторонке, там, где к рубленым хозяйственным постройкам примыкал штакетный заборчик сада, отодвинул незаметную калитку и скрылся внутри. Обратно он выскочил минуту спустя, запыхавшийся и возбужденный. Виктор рванулся навстречу: — Что там? — Такое дело, Виктор Миронович! Дом-то, значит, там на замке, а соседка, — он махнул рукой в сторону ближайшей к кузинской усадьбе, — она там у себя в саду работает, видела, как писатель этот минут десять назад задами к реке с рюкзаком прошел. Никак скрыться собрался? — Куда можно выйти задами? — Да куда угодно! Хоть к лесу, хоть на большак. — Как уехать можно? — На автобусе, — старшина взглянул на часы. — Он уже отошел. Только что! — А еще? — На попутной можно или на электричку уйти, тут леском... — Поехали заавтобусом! До машины бежали. Затем газик неожиданно резво для старого своего тела сорвался с места и, распугивая поросят и кур, вскидывая задом и взвывая форсированным мотором, понесся пыльными улицами села. Водитель, склонившись низко к рулю, короткими точными движениями посылал его то вправо, то влево, огибая выбоины. Рейсовый ЛАЗ настигли километрах в пяти. Прижавшись к кювету с ювелирной точностью, так, что колеса застреляли щебеночными залпами в ромашковый луг, машина накренилась, грозя опрокинуться, но, не снижая скорости, обошла автобус и, вырвавшись метров на сто вперед, взвизгнув тормозами, разом встала поперек дороги. ЛАЗ не успел еще остановиться, когда Понасенко и Кологривов бежали ему навстречу. Шофер смотрел испуганно и выжидающе. Виктор протянул в форточку раскрытое удостоверение и указал глазами на переднюю дверь, возле которой топтался Понасенко. Сбоку видно было, как участковый прошел до конца по полупустому салону, осматриваясь и коротко кивая знакомым, вернулся обратно, задержался у двери, спросив о чем-то водителя, и еще раз обежал салон глазами. Потом он вышел. Виктор махнул рукой, автобус тронулся, а газик послушно сполз с его пути. — Нет, Виктор Миронович, — выдохнул Понасенко. — И шофер его на остановке не видел, на попутки он не садился. Так что, видно, на электричку подался. — Перехватить успеем? — Не знаю, на газике туда не проехать, только на мотоцикле, тропа там в лесу. Давайте-ка к моему дому, я покажу. Мотоцикл Понасенко оказался неожиданно маленьким и стареньким, первых выпусков «Ковровцем», испуганно присевшим под тяжестью старшины. — Что это, у вас и штатного нет? — не выдержал Кологривов, опасаясь, что хрупкая машина не довезет Понасенко. — Как нет, Виктор Миронович, есть, «Урал» с коляской, — кивнул на ворота сарая. — Да на мустанге этом сподручнее там, я на нем на рыбалку езжу! — Ну давайте, я вас у дома Кузиной ждать буду! — Добро! — Понасенко, не распуская ремешка на фуражке, надвинул ее глубоко, так, что края врезались в короткую седую щетину, махнул рукой и отпустил сцепление. Взревевший «мустанг» сорвался с места, и уже через несколько секунд старшина скрылся в клубах густой пыли. У дома Кузиной стояли зеленые «Жигули». Ворота были по-прежнему заперты, но калитка отворена. Обойдя строение, Виктор оказался перед распахнутым задним входом. Крутые ступени привели его в высокие сени, в которых направо и налево были прорублены двери. Он толкнул левую, обитую клетчатой клеенкой. — Можно? Попал в кухню. Справа громоздилась высокая свежерасписанная веселыми многоцветными петухами русская печь. Дальше, у окна, — резной посудный шкафчик и кухонный стол, накрытый светлой льняной скатертью. На лавке, рядом, привалясь друг к другу, стояли две туго набитые хозяйственные сумки и лежала широкополая соломенная шляпа. В проеме легкой переборки виднелся угол комнаты: стол со стопкой бумаг и книг, расчехленная пишущая машинка, старомодный диван с валиками, банки с полевыми ромашками и васильками на окнах. Ираида Николаевна, загорелая, крепкая, еще красивее, чем при первой их встрече, в легком ярком сарафане, стояла возле стола вполоборота к вошедшему. В руках держала темные очки и листок бумаги. Вопрос и присутствие в доме постороннего дошли до нее не сразу. Машинально, не отрывая глаз от бумаги, она ответила приветливо: — Да, да, пожалуйста. Потом повернулась и взглянула. Первое недоумение сменилось пониманием, она еще раз, словно проверяя себя, бросила взгляд на бумагу, сложила вдвое, положила на край стола, шагнула к нему: — А, это опять вы? Чем обязана? Как вы меня разыскали? Виктор достал удостоверение. Ираида Николаевна читала его внимательно, медленно, потом протянула обратно. — Теперь кое-что понятно. Ну, а зачем вы меня все же ищете? — Во-первых, для того, чтобы узнать, где сейчас находится ваш муж, Малышев Павел Петрович. — А во-вторых? Или есть еще в-третьих, в-четвертых? — Об этом потом. Ответьте на первый вопрос. — Я вам уже всё, — она подчеркнула это «всё», — сказала! — Но не может же быть, чтобы он совсем не писал? — Почему не может? — Ну хотя бы открытку, телеграмму. А если заболеет?! — Если заболеет — сообщит. Пока не болеет. Говорила Ираида Николаевна резко, отрывисто, неохотно. Причину Кологривов понять не мог. — А друзья? Может, им пишет? Назовите их. — Я думаю, что коли вы узнали, где меня искать, то и друзей его вам отыскать ничего не стоит. Виктор рассердился. Она обращалась с ним как с мальчишкой. — Друзей ваших, Ираида Николаевна, — медленно произнес он, — мы, безусловно, сами разыщем, кого еще отыскать не успели. Всех разыщем. И человека, который жил здесь и скрылся от нас, — тоже. Но будет проще и нам и вашим друзьям, да и вам, если вы сами их назовете. Меньше расспросов, меньше ненужных разговоров. Малышева заметно сникла. Подумав, назвала несколько имен и адресов, которые Виктор записал. — А теперь во-вторых. Кто тот человек, что живет здесь? — Зачем вам это знать? — Ираида Николаевна! Неужели вы не понимаете, что раз мы за дело взялись, то все это серьезно. Вы ведь даже не поинтересовались, почему мы разыскиваем вашего мужа! А если с ним что-нибудь случилось? Вас это не интересует? Я ведь через полстраны к вам летел! Она на минуту нахмурилась. Но тут же согнала морщины с лица: — Что случилось? А! Ерунда! Ничего с ним случиться не может. — Вы уверены? — Да. — Ну хорошо. Так кто все-таки этот человек? — Я не скажу. Это мой друг, и он здесь совершенно ни при чем. — Он назвался вашим мужем. — Это почти так и есть. — Он назвался Малышевым Павлом Петровичем! В глазах вспыхнули искорки гнева: — Да, мы так договорились. Так проще. — Он показал удостоверение Малышева! — Муж оставил его случайно. — Там фотография вашего... друга. — Нет. Там фотография Павла. Они, правда, несколько похожи, да и фотокарточка старая. А потом борода... — Вы можете отдать мне это удостоверение? Малышева вошла в комнату, порылась в столе и, минуту спустя, вышла обратно. — Его нет. Видимо, он случайно положил в карман. — Какую записку вы читали? В глазах Малышевой — снова искорки. Смех. — Вас и это интересует? Пожалуйста! Она вынесла листок. На нем было написано: «Уехал домой». — Куда это — домой? Вы, конечно, не скажете? — Конечно, нет. У него и так много неприятностей. — Ну, хорошо. Боюсь только, что наша встреча не последняя. Я должен взглянуть на бумаги. — Какие бумаги? — Вон те, — он указал на стол и машинку. — Ах те, ну пожалуйста! Листы бумаги были покрыты чисто научным текстом, перемежавшимся формулами. По геологии, как понял Кологривов. — Что это? Он тоже геолог? — Тоже. Пишет книгу. — Прошу вас никуда не уезжать. — Он встал. — Ого! Это почти арест?! А санкция у вас есть? — Нет. Санкции у меня нет. Но я ее возьму. — Не сомневаюсь! Надеюсь, вы разрешите мне вернуться в Ленинград? Здесь мне делать больше нечего. — Да, пожалуйста. Только будьте дома. — О, непременно! Буду сидеть и ждать вашего визита. Малышева грубила напропалую. Сам он, чувствуя, что снова оставлен в дураках, едва сдерживал злость и автобусную реакцию выпалить ответную грубость. — Проводите меня, пожалуйста, отоприте ворота. Понасенко встретился по дороге. Старшина с кончиков ботинок до околыша фуражки был покрыт ровным слоем белесой пыли. Спрыгнув с успокоенно зафыркавшего «мустанга», доложил: — Не успел. Всего на пару минут и опоздал. Уехал «писатель», кассир опознала — билет до Ленинграда взял. Кологривов махнул рукой.Протокол
экспертизы оружия
Эксперт-криминалист Пермской НИЛСЭ Усанин Ю. И. произвел экспертизу пистолетной гильзы. Перед экспертизой были поставлены вопросы: 1. К какому образцу патронов относится данная гильза? 2. В каком оружии она могла быть использована для стрельбы? 3. Из оружия какого вида, системы, образца выброшена эта гильза? 4. Не выброшена ли гильза из оружия большего калибра? 5. Когда был произведен выстрел? Экспертиза показала, что предъявленная гильза относится к боеприпасам, применяемым в пистолете системы Макарова. Следов применения гильзы в пистолете другой системы нет. Выстрел был произведен из штатного оружия. Химическое исследование порохового нагара гильзы позволяет судить, что выстрел произведен примерно за 30-35 суток до момента представления ее на экспертизу. Гильза имеет четко выраженные характерные индивидуальные особенности, образовавшиеся в результате обжатия в патроннике пистолета, что дает возможность идентифицировать ее в случае обнаружения оружия или других гильз, выброшенных из этого же пистолета. Оружия с аналогичными характеристиками в картотеке УВД не зарегистрировано. 17. 07. 74Эксперт-криминалист Усанин Ю. И.
8. Никитин Евгений Александрович. 18 июля 1974 г.
Наконец-то впереди что-то забрезжило! Шестой день жил он в поселке. Утром из маленькой, над гаражом пристроенной гостиницы — в столовую на завтрак в компании заспанных лейтенантов и прапорщиков, потом — в «контору», где усаживался за выделенный ему стол в комнате с обитой железом дверью и до одури листал толстые и тонкие папки, вмещавшие в себя основные события изломанных жизней обитателей этих мест. После обеда, офицерское общество которого разнообразили молодые и не очень молодые женщины, работавшие по найму на различных канцелярских должностях, — снова стол и папки, папки, папки... Их он просмотрел уже сотни. За папками следовали встречи с некоторыми выделенными им персонажами тех поучительных жизнеописаний. Беседы были разные, как разными были сами приводимые к нему люди: угрюмые и заискивающие, ожесточенные и испуганные. Общим у них была лишь черная или выстиранная до серости одинакового кроя одежда. Они либо молчали, либо, наоборот, говорили слишком много, изливали душу или ловчили, с показным трагизмом расписывая полную свою невиновность; просили — кто закурить, а кто и похлопотать перед начальством, иные, наоборот, предлагали — от аляповатых плексигласовых браслетов и наборных ручек до туманных обещаний взяток. Были, правда, и другие, как принято здесь говорить, просто случайно оступившиеся, оказавшиеся тут по служебному нерадению или должностной халатности и не скатившиеся до серого уровня уголовщины. Но и они при всем искреннем желании помочь не могли пролить свет на интересующие капитана детали местного периода жизни Боева. Работа не была совсем безрезультатна — блокнот его полнился все новыми именами, фамилиями и кличками, но на проверку их весь отдел вполне мог бы ухлопать полгода работы, причем без какой-либо гарантии, что работа эта не окажется мартышкиным трудом. Знали, помнили Боева многие. Мужиком он был легким, шестерил за окурок сигареты, глоток чифиря или даже за так, за одобрительный кивок пахана; обиды сносил молча, никогда не высовывался, неприятностей никому не доставлял. Рассказы его о купеческом золоте тоже помнились, их травили как анекдоты, но всерьез к ним, как и к самому Боеву, здесь никто не относился; мало ли чудесных, как сказка, или леденящих душу ужасом историй хранил лагерный фольклор с тех еще пор, как задавали здесь тон инфантильные в жизни своей бросовой, сентиментально-жестокие воры, домушники и налетчики. Беседы утомляли Никитина еще сильнее, чем однообразные в общем-то папки, и к ужину, снова в сугубо мужской компании, он приходил совершенно разбитый, с больной головой. Вечерами смотрел в клубе старые фильмы либо в гостинице под звуки урчащих внизу моторов играл с подвыпившими командированными офицерами в преферанс да читал взятые в библиотеке книги. Задача у него была одна — выявить в лагерных контактах Боева тот, что повел его в Свердловск, затем в Чердынь, навстречу собственной смерти. Надлежало сделать это в условиях экстремальных, найти ниточку среди бесчисленного множества разнообразных отношений, связывавших большое количество против своей воли собранных воедино людей. Причем сделать это так, чтобы никто из опрашиваемых не понял, кто именно интересует его... Начал с того, что выделил соседей по бараку, работе, затем, листая папки, выбирал земляков, искал похожие судьбы и преступления, вычислял круг, в котором легче устанавливались доверительные контакты, брал на заметку осужденных, проходивших в Свердловске. Устав от бумаг и бесед, ходил порой туда, где люди эти работали или жили, наблюдал, как они пилили, строгали, клеили. До того Никитину не приходилось видеть, как организована жизнь тех, кто попадал сюда и с его помощью; она казалась издали отвлеченной и безликой, хотя он и догадывался, что это не совсем так. Но только здесь понял, что человеческая жизнь, даже строго регламентированная жизнь заключенного, не терпит пустоты и нивелирования. Он поразился тому, что и здесь, как в большом мире, кипели свои страсти, тлели обиды, были свои радости и заботы, свой малодоступный ему мир чувств. И мир этот нереальным и бредовым казался только ему, постороннему и чуждому тут человеку, а для многих из них, обитавших за этой проволокой и заборами, он был единственно реальным... Никитин был уже где-то на середине пути, просмотрел около половины хранящихся в железных шкафах папок, когда внезапно сверкнул лучик надежды. Вернувшись вчера вечером в гостиницу и раскрыв книгу, он обнаружил вместо заложенной им старой газеты записку: «Вызовите Югова». Гадать, как она оказалась здесь, было бесполезно, подозревать в розыгрыше соседей — пожилого майора и щеголеватого капитана из Москвы — основания не было, и, сунув записку в карман, он отправился в клуб, поняв, что почитать ему сегодня не удастся. Утром, еще до завтрака, позвонил дежурному и попросил записать Югова на беседу, а придя в «контору», разыскал его папку. Югов Владимир Васильевич, 1931 года рождения, русский, образование высшее, строитель. Последняя должность перед судом — главный инженер стройуправления. Завышение объемов работ, сверхнормативное расходование остродефицитных материалов, организация их хищения и спекуляция. Явка с повинной. С учетом всех смягчающих обстоятельств — пять лет усиленного режима с конфискацией имущества. Начало срока заключения — 27 марта 1970 года, окончание — 27 марта 1975 года. Осужден 12 сентября 1970 года, доставлен в ОИТК 29 октября 1970 года. Нарушений режима нет, административных взысканий тоже, работает по специальности, к обязанностям относится ответственно, пользуется уважением, оказывает помощь, конфликтов нет, с мая 1973 года переведен на бесконвойное содержание. И самое обнадеживающее — жил в Свердловске и осужден Ленинским районным судом Свердловска. Никитин и сам бы обратил внимание на Югова и встретился бы с ним целиком по своей инициативе, но, судя по положению его папки, не ранее чем в середине следующей недели. Теперь же эта неделя, если повезет, может много значить. Он с нетерпением ждал беседы, ничего практически не зная: кто стоит за запиской, кто пытается организовать эту встречу и для чего... И почерк — он сверил его с юговским из папки — был другим. Но время для еженедельных допросов еще не подошло. С утра пришлось перебирать бумаги и заставлять себя делать это не менее тщательно, чем до сегодняшнего дня, хотя интуиция и не только интуиция, но и что-то более настойчивое и властное, убеждали его в напрасности этого занятия. Потом Никитин беседовал с вызванными еще вчера, выслушал несколько занимательных, но однообразных и утомительных историй, отказался от очередного предложенного браслета и пригрозил развязному верзиле штрафным изолятором, когда наконец в кабинете появился Югов. Вошел один, без конвоя. Высокий, видимо очень сильный мужчина, не здесь привыкавший к физическому труду, с круглой выбритой головой, все на которой — и губы, и нос, и дуги надбровные — было вылеплено крупно, энергично, но в то же время мягко. Такая голова была достойна служить моделью для бюста римского императора или же для обучения составлению словесного портрета. Неновая роба и брюки были опрятны, возможно даже глажены, в разрезе ворота виднелось не застиранное белье, как у большинства других никитинских собеседников, а чистая клетчатая рубаха. В позе, в движениях не было ни суетности, ни наглости. Он был прост и обыден. Даже темная, обычная для обитателей здешних мест пигментация могла малоопытному глазу показаться сильным загаром. — Югов, — не доложил, а представился он, опустив всю требуемую в таких случаях формулу, и замер спокойно у двери, словно не по вызову милицейского капитана, а сам по собственной воле и надобности зашел сюда. Никитин указал на стул, Югов сел. Все варианты допроса Никитин продумал еще вчера, сидя в темном кинозале, и теперь начал ничего не значащей фразой, катнул ее Югову как пробный шар. — Я вызвал вас, Владимир Васильевич, чтобы задать несколько вопросов, не связанных с прошлым вашим делом, — и замолчал, выжидая, натягивая паузу. В глазах Югова блеснули искорки смеха: — Давайте сразу в открытую, гражданин капитан. Вызвали вы меня потому, что получили записку. Я сам хотел с вами встретиться, и что вас интересует, видимо, догадываюсь, так что давайте сначала я, а потом вы спросите, если что-либо останется неясным. Хорошо? Никитин кивнул. — Можно закурить? Никитин подвинул Югову пачку «Опала». — Да нет, спасибо, — в глазах снова мелькнула усмешка. — У меня свои. Он вынул из кармана пачку «Памира», размял сигарету сильными пальцами, прикурил. — Насколько я разобрался, вас интересует Боев. Не удивляйтесь, знаю, что вы спрашиваете не только о нем, но здесь побывало много людей, некоторые из них работают у меня, сопоставить их рассказы было несложно. Не знаю, что он там еще натворил, но впечатление производил вполне безобидное. — Вы знали его? — прервал рассказ Никитин. — Многие здесь знают друг друга, даже если и не хотят. Так вот, около года назад прошлым летом, примерно так же, в конце июля, я застал его с Ханыгой. Говорили они о чем-то серьезном, что на Боева вообще не похоже. Я в конторе проверял документы, они сидели под окном, меня не видели. Говорили с полчаса. Сначала Ханыга расспрашивал Боева о чем-то, тот объяснял, руками размахивал, потом говорил Ханыга, угрожал, провел рукой у горла несколько раз, как ножом или бритвой. За Боевым я наблюдал несколько дней, тот был подавлен. Югов загасил в пепельнице сантиметровый окурок, предварительно прикурив от него другую сигарету. — Может, все это и ерунда, но это было всего за несколько дней до освобождения Ханыги, срок у него вышел. Потом, уже весной, перед освобождением Боева, я их снова видел вместе. На станцию ездил, с кирпичом неувязки были, а у опушки, за поселком, видел, как Боев в машину садился, в «Жигуленок». Удивился — он хоть и бесконвойный, но за территорию уходить нельзя. А он к тому же и трус, режим не нарушит. На станции я задержался, возвращался уже к вечеру, а тут снова тот «Жигуленок» стоит, и в нем — Ханыга. В цивильном, конечно, приоделся: рубашоночка пестренькая, усики, бачки, — этакий жучок-блатнячок, но я его узнал. Вернулся — Боев на месте. А о визите Ханыгином никто ничего не знал, никто, кроме меня, его не заметил. А Боев молчал, поездку не афишировал. Ну, а ностальгия, как вы понимаете, в наших случаях исключается. Значит, Ханыга специально к Боеву приезжал. — А кто это — Ханыга? — Сам по себе почти ничтожество. Фраер, как здесь говорят. Анкетные данные сами найдете, фамилия Королев, зовут Анатолием, земляк мой, из Свердловска. «Королев, — вспомнил Никитин. — Точно, Королев — Ханыга. Кличку забыл, а фамилию помнил. Его папку уже перелистал и сделал все необходимые выписки. Он уже в поле зрения. Королев Анатолий Борисович, 1946-го, послевоенного года рождения, почти ровесник. Свердловчанин. Три года лишения свободы за драку. Отбыл до звонка. Крайне недисциплинирован, агрессивен. Отказы от работы, попытки голодовки. Психика расторможена. Неоднократно наказывался ШИЗО. Одним словом — фрукт». — Но за ним стоят другие, — продолжал Югов. — И, возможно, большие люди. — Что значит большие? — А, — поморщился Югов и снова закурил. — Придется, видно, и это рассказать. Дело вы мое уже полистали, в курсе должны быть... Усмешка на этот раз скользнула не только в глазах, болезненно дернулась щека в короткой гримасе: — Так вот, главным я и был-то всего полгода. А до того — прораб, начальник участка и прочее. Началось, вроде, все с мелочей — приятелю, бывшему однокурснику, помог квартиру отремонтировать, плитку чешскую, фаянс импортный, вы знаете, как это делается... Потом другой позвонил, видно, прослышал, ну и отблагодарил. А потом пошло... В общем-то мелочи, я, вроде, одумался, остановиться решил, а мне говорят: «Хозяин требует!» Послал я этого «хозяина», а ко мне вечером тип какой-то явился и фотографии на стол — копии накладных, по которым я материал получал. Если, говорит, не сделаю, куда надо переправит. Я его с лестницы спустил, а сам все же испугался. Потом на работу звонили, в общем, сдался я, а там уже пошло — поехало... — Кто такой — Хозяин? — Не знаю. Думаю, кто-то наверху. Меня они быстро зацепили: сначала «Хозяин просит», «велел кланяться», а потом — «требует!» Сила у него большая, думаю, карьеру я сделал не без его участия. Какой из меня главный? Прорабом был неплохим. А там был нужен для организации краж в больших размерах, на поток должен был все это поставить... Так вот, о Ханыге. За месяц, наверное, до его разговора с Боевым, он ко мне как-то подошел и привет от Хозяина передал. — Как он сказал, помните точно? — Не забыл. «Хозяин просил передать, что все помнит». — Что это значит? — Видно то, что с повинной я пошел, систему их сломал. — На следствии и суде вы говорили об этом? — Нет. О чем говорить? Хозяина я в глаза не видел да и сомневался, существует ли он вообще. Да кто, кроме меня, виноват? Сам натворил — сам отвечай... Все в одно у меня лишь здесь связалось. — А еще какие-то вести от Хозяина были? Угрозы? — Как же, на воле еще звонили. И жене тоже, она-то ничего не знала. За нее и боялся. Грозили, что увезут ее и... С ума сходил, если она где-нибудь задерживалась. Я же не сразу к вам пошел, сколько метался. Маша из меня все вытянула и отправила виниться. — Сейчас не боитесь? — За нее боюсь. И за детей. А мне что... Я мужик. Но Хозяин этот, если в самом деле он есть, человек страшный. Я ведь не один у них такой. Петров Мишка, прораб, тоже, оказывается, у них был, а когда захотел уйти — избили на улице. Страшно били. Пацаны пьяные ногами топтали — два перелома, сотрясение, полгода в больнице... Милиция, вы уж извините, считала, что хулиганы простые, не нашли никого, а он потом мне сказал — шепнули ему тогда — от Хозяина гостинчик. Потому и боялся за Машу. — А как вы с Хозяином договаривались? Через посредников? — Сначала жучки всякие вертелись, ну вроде тех, что у мебельных да хозяйственных трутся, они передавали. Потом по телефону. Да и то звонили другие, лишь говорили — «от Хозяина». — А деньги? — Деньги на сберкнижку клали. — Понятно. Больше ничего о Хозяине не знаете? — Нет. — Владимир Васильевич, я задам еще несколько вопросов, пусть они вас не обижают. Мне нужно знать. — Спрашивайте. — Почему вы решили ко мне прийти? — Вспомнил Хозяина. Ханыга от него мог приехать. А с ним кончать надо, может, кто мою судьбу не повторит. — Почему не обратились, как положено по уставу, подкинули записку? — Думаете, боюсь? Нет! Здесь своя этика, мне с этими людьми работать, а плохо работать я не люблю. — Каким образом записка оказалась в книге? — На это ответить не могу, не моя тайна. Но ничего криминального тут нет, гарантирую. — Если понадобится, расскажете подробно о всех контактах с людьми Хозяина? — Расскажу. — Югов говорил твердо, смотрел прямо и открыто. — Протокол подпишете? — Подпишу. Когда все было закончено, Никитин встал и протянул Югову руку: — Спасибо. — Что вы, — Югов дернулся болезненно, пожал руку торопливо и неловко. — Может, у вас есть какие-нибудь просьбы? — Нет. — Югов вышел. Через полчаса вся полученная от него информация и данные на Ханыгу-Королева были переданы в Пермь полковнику. Самому Никитину предстояло перелистать оставшиеся папки, а также заняться линией «Югов», поскольку не исключалась дезинформация, попытка увести следствие в сторону.Пермское областное УВД. УГРО. Согласно ориентировке № 8675/282 от 21 июня 1974 года и дополнительной информации от 5 июля сообщаем, что инспектором ОБХСС горотдела Свердловска Кутиным В. Г. был задержан зубной техник Тулов М. В., у которого при обыске был обнаружен золотой песок общим весом 139,2 г и самородок весом 56,62 г. Согласно показаниям Тулова, золото было сдано ему на экспертизу гражданином Филимоновым П. И. с целью определения химического состава и возможности дальнейшего использования — изготовления из песка слитков. Тулову Филимонов сообщил, что золото досталось ему по наследству, но не исключено в будущем поступление его в крупных размерах. Угрожал Тулову расправой, если тот расскажет о золоте. Филимонов Петр Иванович, 1939 года рождения, русский, профессия — автомеханик. В деятельности преступного характера раньше не замечался. У Тулова в прошлом году ставил золотые коронки. В настоящее время Тулов содержится под арестом, за Филимоновым установлено наблюдение. Золото находится на экспертизе в Свердловской НИЛСЭ. 16. 07. 74 УВД Свердловского горисполкома.
Сажин
9. Олин Поликарп Филатьевич. 11 августа 1848 г., г. Чердынь.
Он снова стоял у окна, распахнутого на заколвинские дали, снова упирался невидящим взглядом в синюю громаду Полюд-камня, часто и шумно вдыхал остывающий, сухими травами и хвоей взбодренный воздух... Помыслы уносились в заречный таежный простор, за плавящиеся в вечернем мареве хребты, туда, где сжимают горы петляющую Вишеру-реку и прильнувший к ней Кутай, где исходил он, излазил все островки, овражки и обмыски, где крепко схоронилось от глаз проклятое золото, иссушившее душу... Постарел Поликарп Филатьевич, за пять годков на двадцать лет постарел. Густые темно-русые прежде кудри, вытянувшись и поредев, сивыми прядями висели по сторонам лица, прикрывая дряблую темную кожу худой шеи; истонченная вытершаяся борода сползла со скул, открыв запавшие щеки, синие глаза вылиняли и потухли. Ни желания, ни страсти, ни жадности в них уже не было, даже о золоте думалось равнодушно и отрешенно, с утихшей давней болью в груди. Так и не далось... А сколь трудов, сколь изветов напрасных да ябед принял через него? Никто того не знает, не ведает. Вот он, грех-от смертный, наказание божие, достиг-таки каторжанец беглый, смертию своей достиг, спрятал все в землю, за собой увел. И теперь сам там ждет. Недолго, видно, ждать-то осталось, сгорела дотла на жарком золотом огне душа человеческая. Да и не только душа... Коли не страх, то поди давно бы там уже был, лизал сковороды. «По заслугам аз воздам!» Устал жить Поликарп Филатьевич. Устал надеяться и искать. Ждать и свечки во прощение ставить, молить ночами всевидящего... «Аз воздам!» Пять годков каждое лето самолично снаряжался с работниками — Лазарем и Ленькой — на Кутай. Дорогу целую проторили, становище срубили. Ловлю рыбную откупил на Вишере и по Кутаю, чтоб с толку сбить. Да разве такое утаишь? Прознал все же народец про золото его; загомонили, зашушукались, перьями заскрипели! Сколь ревизоров-то перебывало? И из канцелярии, и из губернии, один даже из Санкт-Питербургу! Нюхали, лазали всюду, питербуржец-то сам пробы брал. Какой от них разор! Экие лапы загребущие! Одно слово — душонки сутяжные, чиновничьи. А и без них лиха немало. Одни откупа рыбные, артели фальшивые во сколь обошлись? Да и от дел отошел совсем, торговлишку забросил. А приказчики разве сладят? И душу християнскую безвинно загубил... «Аз воздам!» А коли б не загубил, отпустил бы тогда Тимоху с богом?! Глядишь, и объявилось бы золотишко. Ведь оно все время рядом. Все ему знать подавало — тут я! А не возьмешь. Где ни копни — всюду блестит, манит, во всякой лопате почти. Да толку-то что? Блестеть блестит, да в руки нейдет. Скрылась Тимохина жила, в землю ушла, заклял ее, видно, каторжанец. Понапрасну кровь пролил... «Аз воздам!» Напротив окна на звоннице Иоанна Богослова брякнули в колокола. Стая ворон снялась с засиженного купола и, каркая, кругом облетела собор, расселась на могилах. Звонили к вечерне. Поликарп Филатьевич скользнул рассеянным взглядом по крыше церкви, звонному ярусу, фигурке оборвыша-мальчонки, сторожева внука, что упоенно и натужно рвал узловатую веревку, раскачивал колокол, налегая худеньким тельцем на ржавые перила. Перекрестившись на узорчатый крест и бормоча, как молитву, «Аз воздам, аз воздам!», отошел к столу. Решение пришло давно. Он знал, что надо остановиться, пока еще не все хозяйство порушено, пока еще можно остановиться, есть еще, что остановить. Жаль, что сын мал — двенадцатый год. Ни рассказать, ни показать... Все ж этим летом, когда пришла мысль остановиться, взял мальца с собой. Ничего не говорил и ничего особо не показывал, но видел — замечает, запоминает, может, удачливей будет. Достанет Тимохино золото, на нем крови нет. А коли не он, то его сын или внук, у кого доспеет ума. Но непременно Олин! Другим золота его не видать! А самому, видно, заказано накрепко. Хорошо бы, конечно, самому рассказать, как подрастет. Да не знаешь, успеешь ли? Под богом ходим, да с таким-то грехом... Которую уже ночь приходит Тимоха. Ничего не говорит, встанет у двери, в углу, весь кровью залитый, и молчит, молчит. Да головой порой вот так кивает. И такой тут ужас — ни крикнуть, ни на помощь позвать... Уж сколько молебнов отслужил, часовню на крови поставил, а он все ходит! И все к нему идет. Ни к Леньке, ни к Лазарю поди не заглядывал, хотя не он же — они били. А он-то и не велел вовсе. Думал, правда, надеялся, когда вослед их посылал, себе в том признаться боялся, но ведь не велел! А и сами работнички волками глядеть стали, может, почуяли, что́ он решил схоронить, что не видать им никакого золота? Дерзки, ох, дерзки... Привыкли в тайге-то на промысле потайном с хозяином накоротке. Хорошо хоть, что и там их таился, вроде и много знают, а толком-то ничего и не видели. Ни чертежу, ни золота. Вот сейчас с делом покончить, а потом и их убрать подале, чтоб не сыскал никто никогда... Окоротить! Достав из шкапа книгу, что прадедом еще была заведена, писали в которую на чистых полях памяти достойное, перевернул тяжелую, медью желтой оправленную доску, перелистал верхние листы до последней записи и, выбрав перо, записал заранее придуманное: «Ключ ко злату под камень спрятал, Коль найти ума достанет, то и злато твое станет». Легли строчки под словами о строительстве брандмауэра, которое начал как раз пять лет назад, перед тем как Тимошке проклятому объявиться. Потом уже не до строительства было. Но теперь ничего, даст бог — окончим. Завтра уж и каменщики придут, кирпич привезен, известь нажжена. Поймет ли сын? Даст бог, поймет. И про камень, и про брандмауэр... Подумав немного, снова окунул Поликарп Филатьевич изгрызенное растрепанное перо в бронзовую чернильницу и приписал ниже: «Прости мя, господи, в грехе смертном». И подписал: «Поликарп Филатьев, сын Олин, лета 1848, августа одиннадцатого дни». Последнее получилось внезапно, как бы даже само собой, и Поликарп Филатьевич подумал погодя, не зачеркнуть ли, не вымарать слова о грехе, но только махнул рукой и, подчиняясь тому же порыву, перелистнул всю книгу до нижней доски. Здесь, на последних, специально вшитых чистых листах, в синодике фамильном, где поименно перечислены были все Олины, умершие за двести почти лет, за именем матери своей, Манефы Карповны, приписал: «Убиенный безвинно Тимофей, — замер на минуту и завершил: — Сычев. Сентября тринадцатого 1843 году». Помолившись и спрятав Библию обратно, спустился в кассу. Там, отперев денежный ящик, достал ларец устюжской работы, окованный черным просечным железом, в котором хранил все, с золотом связанное. Выложил на стол кожаный мешочек с самородками, что еще от Тимохи достались, второй мешочек поменьше, уместивший в свое нутро весь песок, что намыли на Кутае за пять лет, обе холстинки с каторжанскими чертежами, свои пометы на листе бумаги — где какие закопушки рыли и сколь песку с них взяли, грамотку на ловли вишерские. Распахнул кошели и на грамотку развернутую все из них вытряхнул бережно, опасаясь хоть одну золотнику, таким трудом и лихом добытую, наземь обронить. Не шибко получилось — всего-то фунтов пять с небольшим. С Тимохиным вместе... С рыбы-то вишерской, хоть и в убыток, а поди за эти годы не менее выручили. Водил пальцем по бумаге, катал жесткие крупинки и усмехался. Пора... Пора завершать... В дверь стукнули. Прикрыв бумагу суконной тряпицей, которую подкладывал, когда деньги считал, отпер. На пороге стоял Ленька. — В Покчу-то ехать? Взгляд его скользнул по столу и замер на ларце. Его Ленька хорошо знал — сам не раз собственноручно в возок или телегу укладывал, как на Кутай отправлялись, не раз видел, как доставал из него бумаги Поликарп Филатьевич, как прятал обратно, запирал на ключ, который носил всегда рядом с крестом. Приметил и тряпицу, и то, что топорщилось под ней, и высунувшийся уголок кожаного кошеля... — Так как же, запрягать? — Запрягай, запрягай! Да Лазаря возьми. И еще Савелия. — Заметил хозяин взгляд работника. — Да побыстрее поворачивайтесь! Ну?! — Может, завтра лучше, поутречку? Ведь темно уже, а там еще и нагружать надо! — Я те дам поутречку! Ну, давай! И снова сел за стол, слушал, как застучали копыта да загремели шины по плитам. Выглянул, приотворив дверь самую малость, — уносила телега за ворота троих. Усмехнулся. Достал заранее запасенную бросовую корчажку — она третий день как была сюда принесена и стояла, дожидаясь, за ящиком. Ссыпал аккуратно все, до последней песчинки, в кошели, уложил на самое дно, сверху тряпицы Тимохины да свои бумаги — все, что прежде в ларце было. Накрыл корчажку глиняной плошкой, обвязал плотно в несколько слоев холстиной смоленой, над свечами поводил, а когда завершил, преклонил колени. Долго молился, шевелил губами. Во дворе засмеркалось совсем, когда вышел с пеленутой корчажкой за амбары, куда возили сегодня бутовый камень да кирпич на брандмауэр. Спустился в приготовленную на завтра траншею, прошел туда, где смыкалась она со старой, дедом еще строенной стеной, вынул две нижние плиты в фундаменте ее, заранее раскачанные. За ними ниша сухая известковая — войдет туда корчажка и от чужих глаз схоронится... Сидел потом подле каменной стены на бревнах, глядел, как проступают звезды, как срываются они порой и резво катятся вниз, сгорая и унося с собой грешные христианские души. И покой наполнил его, впервые за столько дней и ночей мир снизошел, словно ангел, мимо пролетая, невзначай крылом коснулся. А может и взначай. Как знать... Как ведь жил славно, пока с каторжанцем дорожки не схлестнулись! Ввел во искус, как сатана. А вдруг и послан был сатаной? А коли и сатаной? Есть тогда на нем грех аль нет? Может, и не худое дело сотворил вовсе, а богоугодное? И отчего так полегчало? Что золотишко в землю обратно, откуда и взялось, положил? К диаволу? А как выроют потом? Сын-то... Опять проклятье? Не должно. Тимошкиной крови на нем нет. «Аз воздам!» Вот только самому удержаться, не вырыть обратно по весне да на Кутай боле не налаживаться. А может, и не сюда его, а в воду? Достать обратно да к Колве, к амбарам? Чтоб вовек искусу не было, чтоб не вводил боле во грех нечистый. Возвращался в дом, как стемнело совсем. Благостью налилось сердце, не сосала уже, не жгла пустота в груди. Наоборот даже — легкостью необыкновенной исполнились тело и душа, не шел, летел ровно; и, чудилось, Он тоже радовался за него, и невидимые в темноте ясные глаза мудро и ласково взирали сверху с воздусей небесных...Государственный архив Пермской области. Фонд 76, опись 4, дело 45, лист 273. (Копия) Господину исправнику Управы благочиния. Имею честь донести по делу обнаружения мертваго тела купца Олина Поликарпа Филатьевича нижеследующее: оное тело было найдено, связанное вожжами, в кассе собственного дома купца Олина поутру двенадцатого августа после заутрени. Избитое и истыканное ножом тело лежало на полу в крови и рядом был кистень, который совместно с вожжами препровожден в участок. В кассе украдены все деньги и замок на сундуке, где оные хранились, сломан. Из дворни Олиных пропали неизвестно куда кучер Ленька Фроловых и работник Лазарь Калинин, кои, видимо, и совершили означенное убийство купца Олина и скрылись с похищенными деньгами. Сие обстоятельство подтверждается тем, что по рассказам тех же дворовых людей вожжи взяты из упряжи Леньки Фроловых, а кистень был Калинина.
Августа 13 дня, 1848 годуСтановой пристав А. Н. Гузнищев
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ТЕНЬ

1. Кологривов Виктор Миронович. 19 июля 1974 г., г. Ленинград.
Снова два дня вылетели. Так надеялся раньше закончить, хоть несколько часов по городу побродить, посмотреть, а то стыдно сказать — неделю уже здесь, а ничего и не видел, ребята засмеют. Побродишь тут, когда ничего не ясно. С утра еще подполковник с сюрпризами... Версия его была неожиданна, но заманчива. Он даже Малышеву повесткой вызвал. Та уж сидела на диванчике перед кабинетом Куницына. Вид у нее был не такой бодрый, как при прежних встречах, лицо слегка осунулось, красивые энергичные скулы обрисовались еще резче; сидеть она старалась свободно, даже ногу на ногу забросила, натянув туго край юбки на колено, но в позе были и скованность, и напряжение, и ожидание неприятного. Увидев Кологривова, вскинула и без того большие, а тут вовсе бездонные глаза, в которых копились слезы, тревога и страх. Мгновения этого она ждала, готовилась, но застало оно ее все же внезапно, врасплох. Виктор знал, что сохранить присутствие духа здесь, в милиции, если совесть не совсем чиста, могут очень и очень немногие, как правило, весьма опытные «клиенты», за душами которых накоплено столько, что уж и сами души покрылись коркой безразличия ко всему, в том числе и к собственной судьбе; даже профессиональные актеры, он сам это наблюдал, с трудом изображали равнодушие в этих стенах. Но Ираида Николаевна уже справилась с собой. — О! Так вы уже подполковник! — она не встала, не шевельнулась даже, лишь голос звенел ироничностью. Она грубила ему напропалую, грубила за то, что он успел разглядеть в ней первую растерянность. — Мы снова вынуждены беспокоить вас, Ираида Николаевна, — начал допрос лейтенант, когда Малышева уселась в кресло в кабинете подполковника, — так как вы не хотите нам помочь. Я же говорил, что нам еще придется встретиться, и, если вы по-прежнему будете молчать или уходить от ответов, то еще не раз. — Что я должна вам сказать? Голос Малышевой утратил звонкую иронию, звучал устало и глухо. — Кто жил в вашем доме в деревне? — Я уже говорила. Добавить мне нечего. — И вас не беспокоит, что мы начнем разыскивать этого человека? Расспрашивать о нем у ваших знакомых? А мы вынуждены будем это сделать. — А почему? По какому праву вы будете его разыскивать?! Он совершил что-то плохое, преступное? Да вы же не знаете даже, кто он такой! Или меня в чем-то подозреваете? Малышева разгорячилась, завелась, снова ожила, словно почувствовала неизвестную Кологривову поддержку, апеллировать пыталась не столько к Виктору, безусому, в ее глазах, юнцу, а к сидевшему где-то сбоку, почти за спиной, человеку постарше, видно, самому подполковнику Куницыну, чья фамилия была обозначена в лежавшей в сумочке повестке, даже повернуться к нему попыталась, но новая поза в тяжелом, с высокими подлокотниками, кресле оказалась неудобной, и, сердито поджав губы, она развернулась обратно к Кологривову. — Где ваш муж, Ираида Николаевна? — В поле. В экспедиции. — Подумайте хорошенько, чтобы не оказаться в некрасивом положении, еще раз спрашиваю: где ваш муж? — Я же сказала — в поле! А где сейчас, не знаю. Виктор почувствовал, как снова она напряглась. Понял это и молчавший до того Куницын и, помогая Кологривову, заговорил тихо и ровно: — Ираида Николаевна, вам действительно надо подумать, перед тем как отвечать. Мы вас пригласили официально, и то, что вы сейчас говорите, будет зафиксировано. Виктор Миронович приехал специально встретиться с вами из Перми. А он сотрудник отдела, занимающегося особо опасными преступлениями. И время его весьма ценно. Вы же в третий раз говорите ему неправду, и квалифицируется ваша неправда как дача заведомо ложных показаний и стремление увести следствие в сторону. Сейчас он занят важным делом, и ему нужен ваш муж. Так что думайте. Он снова замолчал, показав глазами — продолжай. Виктор выдержал паузу и, когда она натянулась до предела, а Малышева склонила голову, сжавшись в кресле, сказал так же ровно и обыденно, как и подполковник: — Посудите сами, Ираида Николаевна, — я приезжаю в такую даль, чтобы найти адрес Малышева Павла Петровича, а вас это нисколько не беспокоит. Ладно, при первой встрече вы не знали, не догадывались, кто я такой и откуда, ну а в деревне? Все ведь ясно — милиция ищет мужа. А у вас — никаких эмоций. Затем — все знакомые характеризуют вашу семью как весьма завидную, любящую, а тут такое — неизвестный мужчина... Ну и это ладно — всякое, допустим, бывает. Пойдем дальше. Мы узнаем, что в июне ваш муж был в Ленинграде, причем дважды — в начале месяца и в конце — дома был, а вы об этом ни слова. И в институте не знают. Наши сотрудники, пока я тут с вами неделю бьюсь, весь Северный Урал и Зауралье, все, что значится в задании вашего мужа, перетряхивают, а от него никаких следов — нет и не было. Ни одного человека, который бы видел его там этим летом! Малышева слушала внимательно, приподняв и несколько наклонив голову, как слушаютпорой птицы — недоверчиво и настороженно. — Дальше, мужчина в деревне предъявил участковому удостоверение вашего мужа. Почему оно оказалось там, а не у него в поле? И почему этот мужчина так похож на Павла Петровича? Наш сотрудник уверяет, что фотография была подлинная, а он человек опытный, не первый год на службе, раньше, в войну, в разведке воевал! Наконец, почему этот неизвестный мужчина внезапно скрылся? Вместе с удостоверением, кстати. Так что я еще раз спрашиваю: где сейчас находится ваш муж Малышев Павел Петрович? — В поле, — сразу же, не задумываясь, откликнулась Малышева. Тут вновь не выдержал и вмешался Куницын: — Ну, знаете ли, Ираида Николаевна! Мы ведь с вами серьезно! Неужели вы не отдаете себе отчета, где находитесь? Мы ведь все равно найдем вашего мужа и неизвестного мужчину установим. Все станет ясно, а у вас неприятностей прибавится. — Я правду говорю, — голову Малышева держала прямо, и голос звучал хоть и тихо, но ровно. — В поле Павел. Вчера уехал. — А до того? — Жил в деревне. — Почему? — Писал... — Что писал? — Диссертацию писал. — Диссертацию? — Куницын с Кологривовым переглянулись. — Да. Это я виновата. Будьте добры, дайте, пожалуйста, сигарету. Куницын протянул ей пачку сигарет, зажигалку, подвинул пепельницу, потом снова уселся, но не на прежнее место за ее спиной, а напротив, рядом с Кологривовым. — Подробнее, пожалуйста, Ираида Николаевна. Не совсем понятно, почему диссертация вместо экспедиции. — Ну, у них иногда так делают. Считаются в поле, а сами... отчеты там, статьи... Павел раньше никогда... А в этом году тетка дом оставила, вот я и подумала... Зимой ему все времени не хватает, плановая тематика, прочее... — Понятно, понятно. А в институте об этой практике, что же, выходит, знают? — Не-ет. Не всегда. — Это как — не всегда? — Ну, иногда руководство само предлагает освободить на месяц-другой за счет полевого сезона, в других случаях просто глаза закрывают. — А ему предложили? — Нет, он сам. — Ну и ничего? Никто не догадывается? — Не знаю. Однажды, это когда он в конце июня домой заезжал, материалы какие-то забыл, так тогда в троллейбусе Федорова видел. — Замдиректора по науке? — Да. — А тот заметил вашего мужа? — Не знаю. Павел сказал, что Федоров глядел в другую сторону, в окно, но до конца не уверен. Испугался, в институт сходил, сам финансовый отчет сдал. — А как с заданием? Он же отчитаться должен. — У него с прошлого года задел есть. А потом он собирался осенью там поработать. — Ну, а документы, печати и подписи? Ираида Николаевна при упоминании о документах смутилась, замолчала, склонившись над столиком, долго разминала окурок в пепельнице. Молчали и Куницын с Кологривовым. — У него в Тюмени в геологическом управлении товарищ работает, Коля Сазонов. Он и отметил ему вместе со своими, — проговорила наконец, не подымая головы. — Но если ваш муж в этом году не был в поле, то откуда у него финансовые документы? Наряды откуда, трудовые соглашения? — Чистые бланки, рабочими подписанные, у него еще с того сезона остались. Они в институте все так делают, подписывают на всякий случай. — Хорошо. С этим понятно. — Куницын встал и прошелся по кабинету. — Куда он теперь уехал? — спросил Виктор. — Куда-то в Свердловскую область. Должен письмо сразу же прислать, как определится. — Теперь об его удостоверении. Дело в том, что у нас есть второе такое же. Тоже на Малышева Павла Петровича и под тем же номером. Вы что-нибудь об этом знаете? — Он его потерял. — Как потерял? — Украли. В июле ездил туда, к Сазонову, за документами, в поезде бумажник у него и украли. — Расскажите поподробнее. — Встретил в поезде знакомого — тоже геолога, учились когда-то вместе — Балакова Сережу. Много лет не виделись, вот и пошли в вагон-ресторан, ну и перебрали видимо. Раньше, лет десять назад, он к нам иногда заходил, когда в Ленинграде бывал, а потом работу сменил. А утром хватились — бумажников ни у того, ни у другого. У Павла-то там хоть денег было немного, а у Сережи несколько сотен. — В милицию заявляли? — Нет. Павел боялся, что разбираться начнут, почему не в поле, куда ехал... Надеялся, что документы подбросят, так ведь, говорят, обычно делают, вы, наверное, знаете. — Подбросили? — Только паспорт. Заказным письмом. А удостоверение, видимо, выбросили. Так Павел решил. — А второе у него откуда? — Знакомая сотрудница из отдела кадров сделала. У них с этим строго, без удостоверения в поле нельзя — основной документ, а официально просить дубликат боялся: расспрашивать начнут, объяснительную писать — где да как... Вот она и помогла, сделала другое. Недавно. Он же осенью собирался в поле. Беседа давалась Ираиде Николаевне с большим трудом. Щеки покрылись алыми пятнами, тонкие пальцы мяли мундштук и теребили зажигалку, но говорить она старалась ровно и смотрела прямо на собеседников. — А Балакову документы вернули? — Не знаю... Он должен был написать Павлу, но не написал почему-то. — Он тоже в Ленинград ехал? — В Пермь. Там они и расстались. — Что вы о нем знаете? Где живет, работает? — Учился вместе с Павлом в Горном институте заочно. Работал на Урале, вроде нефтью занимался. Потом какие-то неприятности были, ушел в строители. Там ведь тоже геологи нужны. Сейчас в Свердловске. Больше я ничего не знаю. — Адрес у вас есть? — У Павла. Взял с собой, заехать собирался. — Почему ваш муж так поспешно уехал из деревни? — Испугался... Боялся — в институте узнают, что в поле не поехал. Сначала вы домой заходили — я ему рассказала, он разволновался, потом я в институт той знакомой звонила, она сказала, что какая-то телеграмма была, а какая точно не знает; а затем участковый появился, да еще сказал, что позднее зайдет снова, с работником поссовета, вот он и струхнул, что все известно станет — оштрафуют за неоформленное владение, на работу сообщат. А его могли с осени на зав. отделом, теперешний на пенсию уходит... Виктор взглянул на Куницына. Тот кивнул головой — вроде все. — Ираида Николаевна, посидите пока здесь несколько минут, я запишу нашу беседу и вы подпишете. Хорошо? Малышева кивнула: — Хорошо... А деньги мне куда, вам сдать? — Какие деньги? — Подотчетные. За май и июнь... Те, которые он брал в институте. — Они у вас с собой? — Да... Малышева торопливо достала из сумочки целлофановый пакет с деньгами. — Сколько здесь? — Две тысячи триста пятнадцать рублей. Виктор усмехнулся. Значит, июньскую поездку в Тюмень Павел Петрович отнес за собственный счет. Хоть это хорошо. — Деньги сохраните. Вы их сдадите тому, кто будет заниматься делом вашего мужа. Или в институт сдайте. — А вы разве не им занимаетесь? — В некоторой степени... Но нас интересует другое. А это — компетенция ОБХСС. — Так будет еще дело? — Обязательно. — Но он не виноват. Это я уговорила. Все так делают, все диссертации защищают... Ираида Николаевна на мгновение потеряла лицо, но тут же взяла себя в руки: — Извините, пожалуйста, это вам неинтересно. Промокнула платочком слезинку в углу глаза и снова закурила. Когда протокол был составлен и подписан, а Ираида Николаевна уже выходила из кабинета, Виктор остановил ее: — Подождите еще минутку. Этот человек вам не знаком? — протянул фотографию «геолога». — Так это же и есть Балаков. Сережа Балаков. Дверь за ней тихо, робко даже притворилась. — Как же ты не догадался участковому фото Малышева предъявить? — потягиваясь, поднялся подполковник. — Сколько времени потеряли. Да и не пришлось бы сейчас его разыскивать. Ищи геолога в поле. — Да вот так как-то получилось... Не догадался. В голову такой расклад не пришел. Подумал, что она сама к пропаже его может быть причастна, раз другой мужчина появился.Балаков Сергей Фомич. Родился 14 апреля 1939 года, г. Верхний Тагил Свердловской области. Клички: Геолог, Низкий. Рост 167 см, волосы русые, лицо трапециевидное, нос прямой, глаза серые. Особые приметы: родимое пятно диаметром 0,7 см на правом предплечье, татуировка БСФ и якорь на внешней стороне правой кисти. Вынослив, хорошо тренирован, занимается спортом, мастер спорта по стрельбе.
2. Никитин Евгений Александрович. 22 июля 1974 г., г. Свердловск.
Кличка Хозяин оказалась небезызвестной свердловским коллегам. О нем здесь услыхали впервые лет десять назад или около того, но досье на него появилось лишь в прошлом году. Да и не досье, собственно, а так, сначала тоненькая папочка, заведенная по личной инициативе майора Сорокина, первым обратившего внимание на нагловатую эту кличку. Но, когда майор собрал в одну папочку листочки с выписками из других, самых разных дел, папочка тут же привлекла внимание руководства, и линия Хозяина сверловчанами активно разрабатывалась. Теперь и Никитин полистал любопытную папочку. Первый листочек — по громкому и крупному делу валютчиков середины шестидесятых годов. На одном из первых допросов подследственный Мокрушев Г. П. показал, что ценности и адреса получал от некоего Хозяина через третьи руки, почтой или в тайниках, таким же манером передавал и большую часть выручки, но никогда с ним лично не встречался, в глаза не видел и, кто он такой, не знает. Из приписок следовало, что в дальнейшем подследственный от своих прежних показаний отказался, ничего не сказали о Хозяине и другие, проходившие по делу. Кроме этих выписок, в папке было еще десятка полтора других: крупная спекуляция мехами, выпуск и сбыт левой остродефицитной продукции, комбинации с кооперативными квартирами и автомобилями, хищение стройматериалов в особо крупных размерах (однажды — целый эшелон леса), снова валютные операции и еще кое-что. Были листочки и по компетенции других отделов. Объединяло все эти столь разные дела лишь одно — во всех появлялась, мелькала и снова уныривала в небытие одиозная кличка Хозяин. — Это же сколько дел ты перевернул? — Никитин с Сорокиным сошлись быстро. — Да уж насиделся в архивах, полистал! — Тебе не кажется, что располагать информацией во всех этих областях может далеко не каждый? Они же свою деятельность не афишировали, на малины не ходили. — Полагаешь, кто-нибудь из наших? Никитин пожал плечами. — Мы уже прикидывали. Даже списки составляли — кто мог быть причастным. Мысль такая — информацию Хозяин получал о них еще до того, как они в поле зрения нам попадали, следовательно, прямой утечки быть не могло. Далее, как видишь, кадры идут по разным ведомствам — ОБХСС, УГРО, ГАИ, значит, сведения к Хозяину шли по разным каналам. Такой источник, если, конечно, признать, что он имеет доступ к преступному миру и закрытой информации, лишь один, понял? — Адвокатура? — Точно. Вот ее-то мы сейчас и проверяем потихоньку. И, если сам Хозяин или его человек оттуда, мы его выявим, вопрос времени. — Другие версии есть? — Есть и другие, прорабатываем. План розыскных мероприятий у свердловчан был обширен. Под контроль и наблюдение взяты все проходившие по старым делам, так или иначе связанным с Хозяином. Проверялись по этому поводу и материалы коллегии адвокатов. Кольцо розыска медленно, но уверенно стягивалось вокруг неведомого пока Хозяина. Сорокин был прав, задержание его — вопрос времени. — Ну а кого-нибудь из этих персонажей, — взмахнул Никитин папкой, — я увидеть смогу? Поговорить? — Кого-нибудь, безусловно, найдем. Мы еще один списочек составили — проходившие по делам, связанным с Хозяином, по графам: знавшие о его существовании, предполагавшие и, особо, те, кто, по нашим прикидкам, мог быть с ним в личном контакте. А что касается поговорить — попытайся. Мы много раз старались, но ничего... Может, ты окажешься удачливее. Но надежды в его голосе не было. — Еще какие зацепки есть? Сорокин пожал плечами: — У вас, ты говорил, сделан какой-то фоторобот? — Далек от совершенства! Описывали непрофессионалы да и запомнили плохо. Мы его уже прокручивали. — Он все же достал условный портрет «пижона» из Чердыни. Сорокин посмотрел и снова пожал плечами. — Да... Далек, это уж точно, но все же давай проверим по нашим картотекам. Опознали «пижона» не по управленческому учету, вспомнил его один из сотрудников уголовного розыска: — Похож, вроде, на Зубова. Овал лица, возраст, губы... — но голос был неуверен. — Черт его знает... Эти очки пол-лица закрывают, глаз нет. Да и прическа — ушей не видно. — Кто это Зубов? — Кто его знает, темный! Две судимости — фарцовка и хулиганство. По последней я его и запомнил — нелепая какая-то! Задержали при избиении, пострадавший — ответственный человек из райисполкома. Мотивов, вроде, нет. Зубов уверял, что избил просто так, посмотрел тот косо. Но бил зверски и умело: тот — не помню фамилию, не я делом занимался — не один месяц в больнице провел, а на теле и синяков не было! А может, это и не он... На фотокарточке из поднятого дела Зубов действительно походил на нечеткий графический портрет, составленный в Перми. Оказалось также, что избитый им Сергеев через пять месяцев после того, как вышел из больницы, оказался под следствием и судом за спекуляцию автомашинами, к распределению которых был причастен, и осужден на пять лет, но сразу же по прибытии к месту лишения свободы покончил жизнь самоубийством. Все это настораживало, и в тот же день к вечеру в кабинете начальника розыска Свердловского управления состоялось небольшое совещание. — Значит, так, — подвел ему итог начальник, — уверенности, что Зубов — человек Хозяина, у нас нет. Брать его бесполезно, даже если на очной ставке опознают, инкриминировать нечего. Пальчиков они нигде не оставили — чистенько работают, так что санкцию нам не дадут. Выход один: постоянное наблюдение и анализ связей, вероятно, и выведет к Хозяину. Хотя этого мы можем прождать долго! Еще нужно ехать в лагерь, разобраться — сам ли покончил с собой Сергеев или ему помогли? Но ждать долго не пришлось, на другой же день наблюдения Зубов был засечен на передаче валюты и, после второго совещания в кабинете начальника и консультации с Пермью, при вторичном контакте был арестован. И вот сегодня Никитин уже сидел в тесном тюремном кабинетике и слушал, как следователь прокуратуры, Понышев Раис Николаевич, ведет допрос арестованного Владимира Александровича Зубова по кличке Композитор. — Сколько валюты ты на этот раз успел реализовать? — Не помню, Раис Николаевич. — Опять склероз? — Да нет, рано еще. К чему мне на себя наговаривать. Да и вам хлеб отрабатывать надо. Ищите. — Ну, ну, будем искать. Только ведь, знаешь, чистосердечное признание... — Знаю, Раис Николаевич. Только мне эти льготы ни к чему. На поруки все равно не отпустите, а при том, что мне идет — год туда, год сюда — не столь существенно. Да и как знать, что там дальше будет. Зубов держался спокойно, никакой нервозности, никакого беспокойства в нем не ощущалось, он не задирался, не ерничал, следователя начальником не называл. Было ему тридцать три года, но гибкая спортивная фигура, тонкое лицо, аккуратная короткая прическа делали его моложе еще лет на пять. Одет был Композитор опрятно: джинсы, не вытертые до белизны, как того требовала последняя мода, а скорее наоборот, густого темно-синего цвета без всяких броских фирменных знаков были даже элегантны; тонкая пакистанская рубашка мягких тонов — свежа и почти безупречно ровна, словно в эту комнату, с привинченной к полу мебелью, он не был приведен конвоиром, а зашел сам, случайно, поговорить с хорошими, давно знакомыми людьми. На присутствие постороннего — Никитина — отреагировал так же ровно: лишь вскинул удивленно брови, когда еще с руками за спиной вошел в кабинет, окинул с головы до ног быстрым и цепким взглядом, оценивая, чем грозит ему этот визит; но, усевшись за стол, как будто совершенно перестал обращать внимание на сидевшего молча в стороне Евгения Александровича, словно того тут и не было вовсе. — При задержании у тебя изъяли три тысячи долларов. Так? — Ну, если вы говорите, то, безусловно, так. Могу подписаться. Он не юродствовал, не сердил следователя. Ирония в его голосе была легка и ненавязчива, относилась не столько к следователю, сколько ко всей процедуре допроса и означала, что между ними установился так называемый контакт, но это совсем не значит, что он, Композитор, начнет сейчас колоться «как на духу». — Подпишешься потом. Кому же принадлежит все это богатство? — Странный вопрос. Раз нашли у меня, значит, мне. — А где ты его взял? — Если скажу, что получил в наследство, все равно не поверите. — Почему не поверим. Если докажешь, поверим. — Доказывать — это ваша забота. — Опять за дядю пойдешь? — Почему опять? — Так мы же знаем, за что ты тогда Сергеева избил. — Ну-у, Раис Николаевич, это вы, видно, больше меня знаете. — Эх, Володя, Володя! Ведь сам понимаешь, коли говорю, значит, все трижды проверено. Зубов ничего не ответил и только пожал плечами. — Так, выходит, и не скажешь, кто передал тебе валюту для продажи? А если мы сами найдем? Через клиентов? — Ищите. Если Зубов — тот, из Чердыни, — это большая удача. Одет похоже. Хотя так теперь одевается каждый пятый. Но общий вид аналогичен. Не исключено. Как же его расколоть, если это он? Очная ставка еще когда... — Ну, ладно, давай ближе к сути. Вот показания Шибанова, — Раис Николаевич достал из папки густо исписанный лист и подвинул Зубову. — Шибанов показывает, что все условия сделки: место, время, сумма, цена, — все было заранее обговорено по телефону. Причем голос был не твой. Вот, читай, — подпер в протоколе строку пальцем. — Та тысяча, которую ты принес ему первый раз, изъята. Зубов брать протокол не спешил, а спокойно и даже с любопытством наблюдал за Понышевым. — Так вот, — продолжал тот. — Был у Шибанова и второй разговор с купцом. Понышев достал из портфеля кассетный магнитофон, положил на стол и нажал кнопку. — Вы получили? — голос был густ и тверд. — Да, здрасте, — второй звучал испуганно и заискивающе. — Сколько договаривались? — Да. Магнитофон помолчал, затем, после паузы, как после раздумья, продолжал властным неторопливым голосом, принадлежавшим, без сомнения, пожилому человеку: — У меня к вам предложение. Я дам еще три... и пока без отплаты. Вы привезете мне оттуда несколько вещиц. Они стоят недорого, большая часть суммы останется у вас, можете распоряжаться ею по собственному желанию. Если ничего не привезете, или вернете, или расплатитесь. — А... это... опасно? — голос Шибанова зазвенел. — Не больше, чем то, что вы будете делать для себя. — Можно, я подумаю еще? — Думайте. Ответ дадите человеку, который принесет товар. — А что я должен привезти? — Об этом узнаете перед отлетом. Повторяю: это не опасно, можете вообще ничего не привозить, но тогда — расчет. И не вздумайте финтить! Следователь выключил магнитофон. — Что на это скажешь? — Молодцы! Никитин внимательно наблюдал за ним все время и заметил, как дрогнули, сузились зрачки Композитора, когда зазвучал голос шибановского собеседника. Запись, безусловно, оказалась неприятным сюрпризом. — Ну, молодцы! Детектив целый! Только ведь я там, Раис Николаевич, не был, ничего не знаю. А валюту свою принес. Услышал, что человек нуждается, и принес. А у них, — кивнул на магнитофон, — может, не состоялось? Видно, условия не подошли. — Что ж ты с Шибанова денег не взял? Задержали вас сразу, валюта есть, а платы — нет! — А я в долг. — И часто ты так, в долг? — Бывает. Клиентам доверять надо. Человек человеку брат, слыхали? Вот и я по-братски. Зубов быстро возвращался в прежнее состояние, и Никитин понял, что вступать ему надо прямо сейчас, иначе момент будет упущен. Он сделал условный знак, и Понышев, скользнув по нему равнодушным взглядом, тут же убрал магнитофон, встал и, подойдя к форточке, закурил. — Где вы находились, Зубов, в период с десятого по тринадцатое июня? — вступил Никитин. Спросил тихо, как бы мимоходом. — Когда? — зрачки дрогнули, и голос снова напрягся. — С десятого по тринадцатое июня, — так же, как прежде, спокойно повторил Никитин. — Да я не помню. Мало ли где?! — Может быть, в Чердыни? — В Чердыни? — Зубов переспрашивал, и хотя иронию еще не растерял, но вопросами тянул время, лихорадочно прокручивая ситуацию. Никитин понял, что рассчитал правильно. Композитор принадлежал к тому типу людей, которые никогда не станут отрицать вещей очевидных, дураком и недоумком он не хотел выглядеть не только в своих глазах, но и в глазах тех, кто был по другую сторону. Теперь Зубову важно было знать, что очевидно, а что нет, что известно милиции, а что не известно. — Вас там видели. И неоднократно. Отказываться смешно и бесполезно. Да еще и отпечатки на бампере: вы хоть и утопили машину, но не все следы смыло. Оставили, когда номера меняли, — а потом их грязью прикрыло. Когда машину подняли — она раствориться не успела. Так что думайте. — А что думать? Был, не был — какая разница. Я там валюту не торговал. — Валюту не торговали. А Боев где? — Кто?! — Мы нашли его. И гильзу от пистолета нашли, и стоянку вашу у реки. Так что у тебя не только валюта, а и убийство. Преднамеренное и подготовленное. С твоими судимостями да с валютой этой — дело плохо. И надеяться, что тебя спасут, как ты намекал тут, уже не приходится. Зубов держался молодцом. Позы не изменил, не дрогнул. Слушал Никитина внимательно, слегка лишь побелев кожей на скулах. Искал выход. Никитин не торопил. — А ведь я никого не убивал, — после некоторого молчания, решив что-то про себя, заговорил Зубов медленно, взвешивая слова, — не убивал, гражданин... — Капитан. — Гражданин капитан. Это дело мне не пришьете. — А кто убил? Зубов раздраженно пожал плечами. — Это он? — кивнул Никитин на стол, где раньше лежал магнитофон. — Не знаю, ничего не знаю, — голос был глух и устал, и это «не знаю» следовало понимать как подтверждение. — Кто он? Где его найти?! — Не знаю, не скажу! Ничего не знаю! — Да пойми ты, следствие не может длиться бесконечно. Не найдем второго, пойдешь под суд один. Понял? За убийство! А это тебе... — Э-э... Ваш суд еще когда! Нет, ничего не знаю! — Ну, а если мы его возьмем, скажешь? — Его?! Возьмете?! Да он же — Тень! Понимаете, начальники, Те-ень! И есть, и нет его! Ищите, берите! — Тень, это что, кличка? — моментально от окна включился Понышев. — Не знаю, ничего не знаю, ничего не говорил! — Как Тень? — испугался Никитин. — А Хозяин? — Кому Хозяин, а кому и Тень! Ладно, начальники, — Зубов почти кричал. — Кончай волынку! Веди обратно в камеру, шабаш, ничего не скажу больше, гадом буду! Поймаете — тогда поговорим! Из управления Никитин позвонил в Пермь, доложил обстановку. — Да-а, — протянул полковник в ответ. — В нешуточное дело ввязались. Копайте, давайте, Тень, мы тут тоже посмотрим, подымем старое. Тут еще Геолог, Балаков, всплыл. — Где всплыл? — Да Анискин ваш любимый — Лызин откопал!Протокол осмотра
места происшествия и автомашины
Мною, инспектором ГАИ УВД Пермского облисполкома Носовым П. С., совместно с экспертом-криминалистом Зуевым В. И. произведены осмотр места затопления автомобиля «Жигули» ВАЗ 2103, автотехническая и криминалистическая экспертизы автомобиля. При обследовании места обнаружения автомашины установлено, что автомобиль был затоплен в омуте 3,5 м глубиной на расстоянии 8 м от берега, в 560 м от моста через р. Бисерть. Высота берега от уреза воды в этом месте достигает 2,5 м. Расчет траектории падения машины показывает, что подобное падение могло быть в том случае, если скорость автомобиля в момент отрыва составляла не менее 35-40 км/час. Автомашина находится в хорошем техническом состоянии, тормоза исправны, давление в шинах в пределах допустимых, люфт руля не превышает установленного предела. Повреждения: ударом твердого предмета на приборном щитке автомобиля разбит спидометр, показания счетчика километража уничтожены, помята решетка радиатора с правой стороны, облицовка правого фонаря, расколото стекло правого подфарника. Последние повреждения получены в результате удара автомашины о твердый предмет. Согласно показаниям очевидцев, обнаруживших и извлекших машину из воды (трактористы совхоза «Победа» В. П. Караваев и Н. К. Фотев), все дверцы, крышка багажника и капота были закрыты, опущены стекла передней левой и задней правой дверок. Номерные знаки на машине отсутствовали. Криминалистическая экспертиза выявила на сидении водителя несколько нитей синего цвета, которые направлены на физико-химическую экспертизу. Других пригодных для идентификации следов не обнаружено. 18. 07. 74Инспектор ГАИ УВДкапитан милиции Носов П. С.
3. Лызин Валерий Иванович. 23 июля 1974 г., г. Чердынь.
Колотиловская пуля, правильно завинченный полет которой был прерван, отражен рикошетом, ударила Балакова в правое предплечье в тот самый момент, когда вскидывал он к плечу карабин, чтобы пугнуть неуемного опера, разорвала мышцу с такой страшной силой и болью, что выбила из лодки. Терял сознание или нет, он не знал, может, просто в шоке был, но ясность, мысль вернулись какое-то время спустя, когда река вынесла его в излучину за каньоном. Не захлебнулся и не утонул, видимо, чудом: то ли течение выбросило к берегу, то ли сам инстинктивно выгребался, ничего он не помнил, и, лишь коснувшись ногами дна, спохватился, выбрался на каменистую отмель. Студеная вода замедлила, почти остановила кровотечение, и усилилось оно уже в лесу. Пришлось останавливаться, рвать рубаху и перетягивать тугим жгутом руку. Кость, видимо, задета не была — так, по крайней мере, показалось тогда, но вид разорванных шальной пулей тканей был ужасен, и застонал он не столько от боли, терпимой еще в тот момент, сколько от страха и бессилия. Сориентировавшись, снова попытался бежать, но рука, пламенем горевшая, мешала, рвала приступами нестерпимо острой боли, цеплялась за кусты. Снова пришлось останавливаться и остатками рубахи приматывать ее плотно к телу. Силы стали оставлять, и бежать он больше не мог; подобрав толстый сук, опираясь на него здоровой рукой, постанывая и покачиваясь, брел остаток дня. Шел на север, туда, через водораздел, к Вишере, где искать не должны, где нет ни деревень, ни кордонов, ни другого человеческого жилья. Люди сейчас были всего опасней. Здесь его найдут, это ясно. Живого или мертвого, но найдут. Все дело сейчас во времени, его хоть и мало, но использовать нужно и этот резерв. И использовать до конца. Укрыться. Уйти за пределы области. Место удобное: сотня километров на север — и Коми, сорок на восток через хребет — Свердловская область. Он еще не решил, куда пойдет. Сначала нужно было добраться до Вишеры, а уж оттуда или вверх по ее долине перевалить горы, или дальше на север, ориентируясь по обстоятельствам. Дойти до реки в этот день не удалось. От потери крови, от пережитого кружилась голова и подкашивались ноги. Высмотрев густо присыпанную желтой хвоей воронку, он упал в нее и заснул. Проснулся уже перед рассветом от холода и боли. Плечо горело и стреляло. Сырой промозглый туман жиденькими тонкими перьями, цепляясь за стволы и ветви, тихо плыл низко над землей. Река была где-то недалеко. Выходит, еще вчера он миновал водораздел и, сам того не заметив, вышел в долину Вишеры. Он встал и, чтобы согреться, побежал. Но рана тут же откликнулась острой болью, дыхание перехватило. Пришлось перейти на быстрый, но осторожный шаг. Ходить по тайге он умел. К воде вышел, когда солнце выплыло из-за близких увалов и облило пустынный берег теплом и ярким светом. Дальнейший маршрут не выбирал, а действовал скорее по наитию: оказавшись перед редким в верхнем течении горной реки спокойным плесом и заметив на галечнике у воды несколько сухих кряжей, скатил, охая и едва сознание не теряя, два из них в воду и, усевшись верхом, обхватив крепко ногами, погреб здоровой рукой к другому берегу. Идти вверх по долине, петлять по каменным ее извивам и переваливать через хребет не решился — могло не хватить сил. Да и люди на реке встречаются чаще, чем в тайге. Переправившись, пошел медленнее — здесь его будут искать еще не скоро. Голова снова кружилась, и хотя голода он еще не ощущал — привык к многодневным разгрузочным тренировкам еще со студенческих времен, — силы и кровь нужно было восстанавливать, и целый час он провел на ягоднике. Потом двинул дальше. К избушке вышел на третий день. Она, неприметная и замшелая, с проросшей травой кровлей, дождями выбеленными низкими стенами, до половины присыпанными землей и обложенными дерновиной, распласталась по склону неглубокого овражка, по дну которого журчал быстрый ручей, присела, вжалась в землю, прячась от чужого нескромного взгляда. О том, что где-то рядом таежное жилье, он понял загодя, по нахоженным следам, сломанным и срубленным кустикам, еще по чему-то почти неуловимому; опытом старого полевика угадал, чутьем, которое вырастает исподволь за многие годы бродячей жизни. Поэтому и нашел ее, а иначе бы прошел мимо в десятке шагов, не приметил. Вышел не сразу, а подкравшись, обойдя краем, хотя и понимал, что пуста — ни запаха дыма, ни следов свежих не было, разглядел сперва замотанную ржавой проволокой дверь. Внутри было сыро и затхло. Почти пол-избушки занимали нары, закиданный прелым сеном и осыпавшимся лапником невысокий настил из березовых жердей; в углу у двери глиной обмазанная, кособокая раскоряка с железной плитой и трубой, уходящей в бревенчатый накат потолка; напротив — под единственным в избушке грязным оконцем в три ладони размером — покрытый куском изрезанной фанеры стол из колотых плах. К стене над нарами и столом, под потолком, была пристроена широкая, топором тесанная полка, а на ней — закопченный серый алюминиевый котелок, несколько темных туесов и большая квадратная жестяная коробка. Охапка дров, лежавших возле печи, тронулась белой плесенью. В котелке он нашел два коробка спичек, сточенный нож с деревянной ручкой, белый пластмассовый пенальчик с солью, саморезную ложку, початую пачку чая и несколько кусков комкового сахара. В коробке — с килограмм сухарей и полотняный мешочек с пшенной мукой. В туесах, в таких же мешочках из старого цветастого застиранного ситца обнаружил рисовую крупу, пачку махорки и несколько горстей табака. Под нарами лежал ржавый топор. Становье это никто, видно, кроме хозяев не знал — ни туристы, хоть и редко, но все же забредавшие в эти края, разоряющие из озорства да по непонятной беспричинной злобе такие вот промысловые убежища, ни друзья-охотники, ни геологи. Припасы же оставлены были, наверное, по искренней заботе о заблудшем, оборвавшемся и оголодавшем в тайге человеке, а может, в память об исчезающей древней традиции или в откуп незваному гостю, чтобы не порушил со зла зимний охотничий лагерь. Посидев на порожке и похрустев прелыми сухарями, он осторожно выставил оконце, подпер поленом распахнутую дверь, чтоб продуло, проветрило сквозняком запустелое жилье, сходил за водой, насобирал щепы и хворосту, затопил каменку, пристроив котелок на железном листе. После принялся за поиски лабаза. Оглядев половицы и убедившись, что они не поднимаются, стал искать дальше. Нашел под крышей избушки старые, с вытертым мехом камусные лыжи, рваный брезентовый плащ и латанные многократно, избитые молью, проношенные до сплошных дыр белые валенки-самокаты. С трудом пристроив одной рукой бревенце-лестницу, слазил в чемью. Но там лежали лишь связки распялок да несколько плашек на куницу. Тайник оказался возле самой избушки — под пирамидой сухих жердин, составленных у наружной стены тамбура и прикрывающих дверь от ветра. Разбросав их и сгребя в сторону слой щепы и мусора, он обнаружил плотно подогнанный люк, а под ним — укрепленный срубом амбарец. Оттуда извлек десятка два консервных банок с тушенкой, сгущенкой, рыбой в томате, связки капканов, бензопилу, мотки медной и сталистой проволоки, пару плотницких топоров, большой охотничий нож в деревянных, сыромятным ремнем обмотанных ножнах, двое брюк, куртку, несколько скатанных кусков брезента, большие жестяные банки с остатками круп и вермишели, пакетами супа и наконец то, что искал больше всего, — коробку с аптечкой. Теперь можно было переждать здесь несколько дней. Прожить в избушке пришлось дольше, чем думалось. Поначалу все шло хорошо. Варил густую похлебку, грибницу, кашу, кипятил ароматный чай на травах, собирал и съедал каждый день по котелку ягод и живо чувствовал, как набирает ушедшие с кровью силы. Даже с рукой было ладно: отмочив грязную повязку, обработал рану йодом, растолок несколько таблеток стрептоцида, присыпал и забинтовал туго стерильным индивидуальным пакетом. Боль стала спадать. Дня через два смог пошевелить пальцами. Поисков уже не опасался — далеко ушел: чтобы прочесать тайгу, не хватило бы и дивизии, да и тихо — ни вертолета, ни самолета, даже в отдалении. Привел в порядок одежду: как мог вымочил в ручье и отшоркал «энцефалитку», найденную в лабазе куртку. Экипировка по таежным меркам получилась вполне приличная. Приготовил свои документы, которые запаянными в полиэтилен носил в специально подшитом изнутри кармане. Продумал легенду. Температура подскочила на четвертый день. Сначала подумал, что застудился, обмываясь в ручье, — хоть и приучен был, но сейчас, ослабевший... Напился чаю с малиной, выпил горсть таблеток и лег спать со спокойной душой. Утром снова заныла рука. Менял повязки, толок стрептоцид, сыпал на рану пенициллин — напрасно. Рука начала пухнуть. Пальцы снова потеряли подвижность и чувствительность. Ничем, кроме раны, он больше не занимался. Промывал марганцем, обрабатывал йодом, собирал, какие помнил еще, травы, отварами кропил потемневшую плоть и бинты, делал компрессы. Ничего не помогало. Лихорадило все больше. А когда в нос ударил гнилостный запах, понял: все, пора, надо уходить, или он навсегда останется здесь, на корм куницам и лисам. Через два дня в полуобморочном состоянии вышел к какой-то почти пустой верхнеколвинской деревеньке, откуда на лодке его переправили в ближайший фельдшерский пункт, а оттуда вертолетом санавиации в Чердынь, прямо на хирургический стол, в больницу, где его давно уже ждал Лызин, обзвонивший все сельсоветы и лесоучастки, связавшийся и с геологами, и с рыбаками не только своего района, обложивший скрывавшегося в тайге Геолога густой плотной сетью. И сейчас капитан, успевший за то недолгое время, пока Балаков приходил в себя после операции, отыскать его пристанище в тайге и проследить маршрут от Кутая до становища, восстановить до мельчайших подробностей — сам был когда-то, когда свободного времени было больше, охотником, — отдельные моменты балаковской одиссеи, а где и додумать, понять умом, чутьем, интуицией, как там могло быть; так что не осталось для него в блужданиях раненого ничего тайного, неведомого; получив и изучив информацию по первой балаковской судимости, сидел теперь на стуле подле той самой кровати, на которой немногим ранее лежал Шпрота, и, явно скучая, слушал легенду об одиночном туризме и встрече с осатаневшими браконьерами. — Ну ладно, Балаков, хватит, — оборвал наконец. Зрачки у того дернулись. То, что этот далеко не щеголеватый капитан явно местного производства знает настоящую фамилию, было неприятным сюрпризом. — Ну да, — подтвердил Лызин. — Знаем. И имя, и все другое, что знать положено. — Ну и что тогда? — буркнул Балаков. — Все! Все, что делали на Кутае. Зачем золото мыли? Откуда у вас документы на имя Малышева? И другие тоже, кстати? Все, что связано с вашими работами в наших краях. Балаков молчал. Молчал так же угрюмо и хмуро, как и говорил. Потом, поморщившись, потянулся и взял с тумбочки сигарету. Недорогую. Без фильтра. Лызин зажег спичку. — А ведь вы не курили. На Кутае у вас сигарет не было, и в зимовье табак не тронули. Балаков усмехнулся криво. — Все, значит, разнюхали? Слетали? Быстро... Не курил, а теперь курю. — Ну так я слушаю. — Нечего мне говорить. Захотел и поехал. Турист. — Турист-золотоискатель? — Чего? — Пробы мыли как турист, шурфовали как простой турист, рабочего наняли опять же как турист? — А что, запрещено? Идея появилась, вот и проверял. Закона не нарушал. — Ну а золото? Проверка научных идей одно, а старательство — совсем другое! — Вот вы и докажите, что на этой чертовой реке настоящее золото есть, вам премию дадут. Да не вашу, милицейскую! А то ста-ра-тельство-о! Тьфу! Разговора не получалось. Откровенничать Балаков не собирался. — Но ведь золото у вас нашли. Двести шестнадцать граммов с половиной. Балаков фыркнул: — С половиной! Золото золотниками меряют, капитан! Или миллиграммами до сотого знака. Не там роете, не ваше это золото, старательство не пройдет! Лызин покорно согласился. — Ну не пройдет, так не пройдет. Другое пройдет. Геолог зло размял в банке окурок и тут же потянулся за новой сигаретой. — Ничего у вас не пройдет! Под это золото ни один прокурор санкции не даст. Я его с собой привез. — Ну я и говорю, что коли не золото, так другое. — Что? Что — другое?! Ничего у вас нет, чтобы снова меня повязать! Лызин помолчал, показывая всем своим видом, как заблуждается подследственный. Он намеренно валял ваньку. Он даже для этого почти никогда не надеваемую форму напялил и приперся в ней в больницу на удивление всему городу. И не ошибся. Скоро Балаков заерзал. Уверенность служаки-капитана засверлила его, какое-то время он пытался скрывать беспокойство, яростно докуривая сигарету, потом швырнул ее: — Что другое, спрашиваю? Лызин удовлетворенно хмыкнул и, еще пару секунд помолчав, тихо, лениво далее произнес: — Шпрота. Зачем в напарника стреляли, Балаков? Тяжел он, может не выкарабкаться... А это с прежней судимостью да с золотом может дорого выйти. — Ты чего городишь, капитан! — подскочил на кровати Балаков. — В кого я стрелял?! В Шпроту? Да на кой он мне нужен-то, этот Шпрота?! В лодку я стрелял, капитан, в лодку вашу, будь вы прокляты! — Два раза в лодку, один раз в Казанцева. Карабин твой, пули, гильзы — все у нас. Даже свидетели есть, все есть, не отвертеться. Балаков обмяк. На лбу выступили мелкие блестки пота. Он понял, что капитан не шутит, не блефует. Он лихорадочно снова и снова прокручивал тот день. — Но как же! Я же два раза стрелял... Я же не успел третий, я только этого, вашего, шугнуть хотел, чтобы не хватался за пушку. А он, гад, выстрелил! — Успели, Балаков, успели. Еще бы немножечко левее да пониже, всё, кранты, вышка бы вышла. А в вас стрелял вовсе не тот гад, которого вы шугнуть хотели, а другой. И не в вас, а в мотор. — Если третий, значит, тогда, когда я уже был ранен. Значит, я, падая, нажал. Я не помню этого выстрела. Это случайно... Балаков паниковал. Глаза сузились, рот, жесткий и черный, подобрался, рука нервно забегала по по-сиротски грубому одеялу. — Как же так, боже, как же так! Еще и это! За что?! Лызин резко подался вперед. Этого он и ждал. Маска райотделовского служаки отлетела прочь. Все сейчас было в его руках, все зависело от него. Геолога к допросу он подготовил. — Рассказать! — Что? — не понял Балаков. Он был еще там, в своей беде, во всех бедах, разом на него свалившихся, плохо понимая, где он и что он. — Все рассказать. О Кутае. О Хозяине. О Боеве. О золоте. Все, что знаете. По порядку. Кто послал вас сюда? Хозяин? Балаков морщил лоб, собирая рассыпанные внезапным страхом и безысходностью мысли и волю. — Хозяин? — Ну да, Хозяин! Как видите, мы его знаем. Вас послал на Кутай он? Балаков медленно приходил в себя. — Чего вы от меня хотите? — Раскаяния! Полного раскаяния и понимания преступности ваших действий. И признания, конечно. — Чистосердечное признание... — Не ерничайте! — прикрикнул Лызин. Его переполняли негодование и гнев. Балаков это остро чувствовал. — Я уголовным кодексом не торгую. И помилования вам не обещаю. Ни помилования, ни спасения. Спасти себя можете только вы сами. Только вы! Это, может быть, последний ваш шанс. Последний ваш выбор: или сюда, к нам, или туда, где Хозяин и иже с ним. Но уже навсегда. Навсегда и безвозвратно! Жизни вашей дальнейшей не хватит, чтобы еще раз выбирать. Вы же из рабочей семьи, хорошим геологом были. Ну, решайте! Балаков действительно был из рабочей семьи. Его предки в далеком восемнадцатом столетии возводили в Зауралье заводик, возвели и остались у печей работать. И сколько Балаковых, кто знает, выросло, возмужало и умерло, надорванных тяжким трудом у ненасытных этих печей. Но выросло там, у старых горнов, и то, что назовут позднее царски гордым, аристократическим именем — династия! В такой вот династии и родился Сережка Балаков. И рос в тяжелом, жестком времени и месте, подчиненный его прямым и простым законам, не сошел с круга, не скатился в урки, хотя и шпанил, было время, как и многие его ровесники в рабочих поселках, — сильна была та династия, подхватила, отхлестала по-царски же щедро и поставила к пращурами возведенным печам. Все потом было у него, все, как у других, выращенных такими вот поселками: и ремеслуха, и ШРМ, и печь, и футбольный мяч, что гоняли на избитом козьими копытами загородке-поле, гоняли, отстояв смену у печи, и до столицы порой догоняли. Были и сатиновые шаровары, и модное полупальто с шалевым воротником, и армия, и фото на заводской доске Почета, и заочное отделение института, работа в экспедиции, снова успехи и благодарности, а потом — резко — конец всему. За пьянку и развал был снят начальник партии, а Балаков, как председатель разведкома и старший специалист, получил выговор. Через три месяца он уволился, и пошло — шабашные отряды, коровники, два года заключения, снова шабашки и наконец — Кутай. Все это, кратко, тезисно, но довольно образно, в выражениях и словах себя не стесняя, и изложил Лызин. Балаков слушал молча, угрюмо, но Лызин видел, что слова били в цель, вызывая боль воспоминаний, от которых геолог в новой своей жизни хотел отрешиться и дажегде-то уже успел. — Ну и что? — спросил, когда Лызин кончил. В голосе не было ни обиды, ни злобы. Были усталость и обреченность. — Ну вот и то! Непонятно, где вас качнуло. — Думаете, за рублем погнался? Или обиделся на выговор? Да плевать мне на все выговоры! Меня из очереди на квартиру выбросили, а у нас — двое детей уже было. Вот и ушел, чтобы жену в списках оставили. — Получила? — Комнату. Тогда и пошел на кооператив зарабатывать. — И на всех обиделись? Почему не потребовали, что положено? Доказывать —кишка тонка? Или за вас кто-то другой должен был драться, а вы в сторонке чистоплюйствовать? Вон ведь — вторая судимость будет, и руку ни за понюшку табаку отдали, — похлопал по пустому пижамному рукаву. — Лишняя была рука? Чего вы, рабочий человек, перед дрянью лебезите? Справедливость у него нашли? Налился гневом и Балаков. — Не орите на меня! Рука, капитан, не ваше дело, рукой я сам распорядился! — Сам! Всем ты сам распорядился! Еще раз в тюрьму уйдешь, что с твоей семьей, с детьми будет? Мать едва жива — убьешь! Они уже кричали друг на друга, кричали так, что в дверь испуганно заглянул охранявший палату сержант. Лызин ожег его взглядом, и милиционер захлопнул дверь, едва успев отдернуть голову. Капитан мешковато осел, провел ладонью по лицу и, разрешения не спрашивая, вынул сигарету из балаковской пачки. Закурил. — Ну вот, — сказал немного погодя. — Дури в тебе еще много... Про Хозяина ты мне сразу не скажешь, не понял еще до конца, да и боишься его... Боишься, боишься! — срезал дернувшегося Геолога. — Ну ничего, Хозяина твоего мы и сами, без тебя возьмем, только ты-то, гляди, последний шанс упустишь поквитаться с теми, кто тебя до этой жизни довел. Они, они, а не мы! А что касается первой судимости, то уж коли взялся за гуж, делать надо было с умом, не подмахивать накладные не глядя, тебе могли бы еще и не то подсунуть, пух бы на нарах до сих пор. Подумай-ка, кому было нужно тебя через зону провести, во всей этой дряни вывалять? Нет среди твоих друзей таких? А?! Он снова начал накаляться, но тут же осадил себя. — Ну ладно, думай давай, думай. Время у тебя еще есть. Немного, но есть. — Лызин встал, одернул мундир. — А как надумаешь, ему скажешь, — кивнул на дверь, — меня найдут. — Постойте! — остановил капитана Балаков. — А Казанцев... серьезно? — Серьезно. В Перми, в клинике. Кожу пересаживают. — Кожу? — Ну да, кожу. От пули да от страху в костер он свалился, обгорел. — О-о-о! — простонал Балаков. — Вот так! — подчеркнул Лызин и, уже выходя, бросил: — Времени у вас действительно немного. Хозяин обложен, так что думайте скорее.Центральный государственный архив древних актов. Фонд 248, опись 47, дело 256, лист 372. (Копия) ...Сим извещаю Вас, что по распоряжению Его Превосходительства, Товарища Министра, я выезжал летом сего года в Чердынский уезд Пермской губернии с ревизией по анонимному письму, в коем указывалось, что купец города Чердыни Олин Поликарп Филатьевич завел тайно на реке Вишере прииск золотой и промышляет добычей золота и фальшивой чеканкой монеты. Мною, совместно с Горного Корпуса инженерами Бергом и Вальцевым, были по рекам Вишере и Кутаю произведены изыскания на предмет нахождения самородного золота или золотого песку, совершенно безрезультатные. Нанятые нами рабочие три месяца рыли канавы и мыли породу в самых разных местах сих рек, означенных на прикладываемой карте, но ничего, кроме блеску, найдено не было. Горный инженер Берг, хорошо знающий золотое дело, полагает, что горное строение означенных рек таково, что не располагает отложению золотых песков. Однако же были обнаружены нами в разных местах следы многих перекопок, порою преизрядных в глубину, произведенных будто бы золотоискателями и более всего людьми указанного купца Олина, но оный купец объясняет слухи пустым наговором завистников, желающих опорочить его репутацию. Горные инженеры осмотрели и эти перекопы, но никаких следов золота не сыскали. Следует заключить, что указанное анонимное письмо истины не содержит и сочинено было по зависти. К сему необходимо присовокупить, что ябедничество в Чердынском уезде развито необычайно.
Статский советник департаментагорных и соляных дел Нелюдов
4. Никитин Евгений Александрович. 25 июля 1974 г., г. Пермь.
— Н-да-а... Впечатляет! К нам приехал ревизор. Что такое — ябедничество? — Слухи, сплетни — ябеды, одним словом. Галка сидела в кабинете полковника. Никитин, только что прибывший из Свердловска, застал ее здесь, рассказывающую о своих московских изысканиях. — Добра этого и сейчас, наверное, хватает? — Конечно! Городок-то маленький, все друг друга с пеленок знают, надоели до смерти, с развлечениями не густо, а говорить о чем-то надо, вот и треплют языками. — Понятно... За бумаги спасибо, с прошлым Олиных теперь почти все ясно. Тут, кстати, письмо из Франции пришло, Вилесов переслал, тоже любопытно. Полковник достал большой красивый глянцевитый конверт и бросил на край стола. — Много крови на этом золоте. И Олины убивали, и Олиных тоже... Ну, что у тебя? Докладывай вкратце, мне к начальству, подробнее потом поговорим. — Говори, говори, — перехватил взгляд, брошенный Никитиным на Скворцову. — Галина Петровна с этим розыском совсем нашим человеком стала. Может, к нам перейдете? — подмигнул неожиданно. — Да нет, спасибо, — в тон отозвалась Галина. — Мне своих забот хватает. — А что, подумайте, — неожиданно серьезно продолжил полковник. — Хватка у вас есть, нюх тоже, нам такие люди нужны. Ну, я слушаю, — повернулся к Никитину. — Если в двух словах, то следующее: Композитор, конечно, проговорился неспроста. Явно ниточку дал. Но говорить дальше боится, повторные допросы прошли впустую. Чувствую, возьмем мы этого Хозяина, он заговорит, перекладывать с себя начнет. В Чердыни был, конечно, он. Хоть пока и не сознается до конца, но не дурак, понимает: устроим очную ставку, все станет ясно. — Может, действительно очную ставку? — Думаю, пока ни к чему. Ничего не изменит. Ну, сознается, что в Чердыни был, и все. На этом его не прижать. — Нигамаева не эксгумировали? — Нет пока. Не имеет смысла. Судя по всему, умер от водки, или что они там еще пили. Хозяин к этому, похоже, отношения не имеет. Но если что-то еще выяснится, придется раскапывать. Сам представляешь, какая морока будет с анализами. Никитин это представлял очень даже хорошо. И потому тоже предпочел бы не связываться. — А с Боевым? — Нашли. Почти в пяти километрах ниже. Убит выстрелом в затылок. Видимо, убрали как свидетеля. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Следов никаких, столько времени в воде, что там осталось... — Ну, а что Тень? — С этой кличкой связаны особо крупные хищения и бандналеты послевоенного времени. Сорок седьмой — пятьдесят второй годы. Грабили эшелоны с продуктами, магазины, склады — дерзко, смело. А как тогда продукты охраняли? Вохровцы поезда сопровождали. А его люди убивали глазом не моргнув, десятки трупов. Вышли тогда на них, обложили со всех сторон, разгромили банду, но он остался в тени. Кличка всплыла лишь на следствии, так же, как с Хозяином вышло: проговорились те, кто мало знал, потом и от этого отказались. — Ну а сейчас их не отыскать? Никитин махнул рукой: — Все расстреляны, кто живым был взят. Полковник присвистнул: — Да, масштаб! — Вот, вот. Потом о нем ничего не было слышно. Решили тогда, что или перебазировался он, или с ним старые дружки счеты свели, те, кто, как и он, ускользнули. А он, оказывается, перекрасился. В Хозяина обратился. Свердловчане ищут сейчас старые связи Тени, но это может продлиться долго. У нас он не проходил? Полковник снова помотал седой головой: — Нет. Никто никогда ни о какой Тени не слыхал. — Странно... А у меня кличка сидит в голове, покою не дает. — Глубоко? Ассоциативная память? — В том-то и дело, что не могу понять! Никогда не жаловался, а тут — как провал. Торчит гвоздем — Тень, Тень, а откуда? Впечатление такое, что совсем недавно... — Вот как, — оживился полковник, — интересно! Может, поднять последние дела? — Да я все их до последней страницы вспомнил, нет там нигде ни Тени, ни Хозяина. Что-то другое... — Вспоминай давай, вспоминай! — Вспоминаю. А что у Лызина? — Молодец ваш Лызин. Разговорил Балакова, прямо друзьями стали. — Ну и что? — Да тоже почти ничего. До конца он, конечно, тоже не откровенен, темнит еще, трусит. Но говорит. К Лызину пока лучше не соваться, не мешать. Балаков уверяет, что видел этого Хозяина лишь раз в жизни, получая это вот задание, да и то поздним вечером, на какой-то квартире, видимо, нейтральной, куда его привезли, причем весь разговор происходил в полутьме, света не зажигали. — А до того? Когда они сошлись с этим Хозяином? Не вчера же? — Тут тоже не все ясно. Балаков уверяет, что до того Хозяина в глаза не видал. Но слыхал о нем, знал. Еще со времен заключения. Перед выходом на свободу к нему обратился один из тех, с кем вместе отбывал наказание, тоже свердловчанин, просил передать пакет. Он и передал. — Как передал? Кому? Есть адрес? — В том-то и дело, что ни одного адреса, ни одной фамилии он не называет. Темнит. Говорит, что за пакетом к нему сами пришли. Вполне интеллигентного вида молодой человек. Строитель. Поговорили, пообещал тот с работой помочь, потом позвонил, сказал, куда и к кому обратиться. Работа оказалась выгодной. Шабашная бригада. По договору он пятнадцать процентов фонда зарплаты передавал для Хозяина. Тогда и началось — деньги, дефицит строительный. Интересно, что Хозяин не только брал, но и давал, точнее, доставал порой для Балакова строго фондируемые материалы, причем почти всегда по государственным ценам, а с заказчиков, естественно, лупили семь шкур. — Ну а связь? — Только односторонняя. Время от времени к нему приходили, иногда заранее позвонив, назначали встречи. Однажды он попытался проследить за визитером, но не сумел, потерял. В тот же день по телефону его предупредили, что такая инициатива плохо кончится. — Ну а сейчас? Не может же он сейчас без связи? — Связь есть, но далеко по ней не уйдешь. То же самое общежитие, куда и Боев телеграмму посылал, а человека с такими данными, что в пароле, в общежитии никогда не было. Почту в фойе по алфавиту в кармашки раскладывают, смотрят ее сотни человек. Текст на открытке. Дублируется дважды. Экстренная связь — телеграммой. Адресату брать ее не обязательно. Достаточно пробежать глазами. Наблюдение не установить — табор там, проходной двор. Да и тот, кто текст должен прочесть, может ничего не знать. Может быть, он всего-то и должен — позвонить кому-нибудь и пересказать. — Ну а что он делал на Кутае? Золото искал? — Не только... Хозяин передал ему какой-то рисунок, похожий на неумело снятый абрис, он потерял его, когда из лодки вывалился да по тайге скитался. Нужно было привязать к местности этот абрис, найти отмеченные на нем ориентиры: остров, несколько скальных обнажений — камней, как их там называют, впадающие в Кутай речушки и ручьи. Хозяин предупреждал, что могут встретиться следы давних шурфов или нечто подобное. В этих местах должно быть золото. Задача Балакова, если золото встретится, намыть достаточное для определения количества и прекратить работы. Все замаскировать. Для сравнения, как эталон, ему был дан мешочек с золотым песком и небольшой самородок. Все это, по словам Хозяина, оттуда же. — Ну и... Нашел он золото? — В том-то и дело, что ничего похожего не нашел. — Но я сам видел на лотке! — Это не то золото, что они искали. По словам Балакова, содержание его настолько мало, что любая разработка, и старательская и промышленная, будет нерентабельна. Но знаки часто сопровождают настоящее золото. Я говорил со специалистами, объясняют, что золотоносные слои могут лежать в переотложенном состоянии, разрушенные позднейшими геологическими процессами, образованием Уральских гор например, поэтому найти такое золото очень трудно, но вода, размывая пласты, может выносить в русла ручьев и рек отдельные песчинки. Вот и знаки. Они и сообщают о золоте. Но где оно — далеко или близко, глубоко или нет, много его или мало — неизвестно. — А как считает Балаков? — Сомневается. — Странное золото... Вроде и есть, а нет его! Олины столько лет весь край баламутили, а ревизии ничего найти не могли. — Ревизоров Олины могли и купить. — Генерала? Статский советник — это вроде генерала на гражданской службе? — Бригадир, — подтвердила Галина. — Выше полковника, но ниже генерал-майора. — Ну все равно генерал. — Ну и что, что генерал, — возразил полковник. — Генералу могли и дать по-генеральски. — Все равно странно. И геофизики на Кутае удивились, и Балаков, даже Шпрота — и тот... — Странного, действительно, много. Геологи о знаках на Кутае знают давно. Говорят, даже не знаки, а золото. Невесовое золото, такие у них термины есть. То есть редкое золото, мало его. Но возможность спрятанной россыпи не отрицают. Особенно в верхних течениях притоков. По нашей просьбе туда выехала экспедиция, разберется, даст заключение. Хозяин, не в пример нам, твердо в золото верит. И ищет его. — Прямо как одинокий наследник, — сказала Галина. — Да-а... — протянул полковник. — Усердие, достойное представителей этого клана. Но, насколько нам известно, Олины на сей раз ни при чем. Нет попросту здесь Олиных. — Олины, Олины... — задумчиво повторил Никитин. — А как Балаков нас расшифровал? На камнях? — Не только. Насторожен он был с самого начала. Не нравилось ему это задание. Твои расспросы, незамысловатые, надо сказать, усугубили. Потом уже он проверил тебя на камнях и сумел даже сумку твою как-то ощупать — пистолет обнаружил. Поэтому и лодку сталкивать позвал, увел от стола и оружия. Плохо, одним словом, вы к Кутаю подготовились. — Да, — согласился Никитин. — Ну а что у нас еще, кроме свердловского розыска, есть? Контакты Шпроты? — Какие контакты?! Кто сообщил Хозяину о его существовании? Можно искать до второго пришествия. У обоих круг связей огромен и совершенно неясен. — А если... — начал Никитин и осекся. — Что? — Ну, вы, конечно, и без меня вариант прикидывали: если в Чердыни, у Балакова, засаду? — Думали, конечно, просчитывали. Рано еще. Мы же не знаем, кого, когда и откуда ждать. С каким заданием. Поставим Балакова под удар, расшифруемся. Рано засаду. Мы, конечно, сняли там охрану, перевели в общий корпус. Ждем. Но активизировать рано. — Ну ладно, — полковник взглянул на часы. — Мне пора. Галина и Никитин поднялись. — До свидания, Петр Михайлович. — До свидания, Галя, — он протянул руку и крепко пожал узкую смуглую ладонь. — Подумайте, в самом деле. А ты, — повернулся к капитану, — зайди завтра с утра. Конверт не забудьте, почитайте, любопытно. Роман можно писать. Колоритное семейство! — Значит, с Олиным все? — спросила Галина, укладывая в сумочку бумаги. — С Олиным? Похоже, что все. А ты что? — прищурился полковник на Никитина. — Родимчик напал? — хохотнула Галина. Никитин, сосредоточенно сведя брови, поджав и без того сухие щеки, ссутулившись, уйдя, опрокинувшись внутрь себя, в глубины памяти, с усилием выдирал что-то на поверхность, вытаскивал ту информацию, что сидела, зудела все последние дни, скрывалась в тайных закоулках, торчала оттуда каким-то выпирающим и колючим уголком, и вот теперь уголок этот зацепился за случайно, казалось бы, сказанные слова, полез с натугой наверх, вытаскивая за собой другие связи и ассоциации. Никитин выпрямился и облегченно вздохнул. — Вспомнил, товарищ полковник. Это он! — Кто он? — Младший Олин, тот, что у немцев служил, Тенью был! — Он же погиб! — Не знаю, товарищ полковник, но кличка его там была Тень. Это переводчики где-то напутали, ведь Schattenhaft — это же не призрак, Schatten — это Тень! А призрак — синоним, должен иметь в немецком свое, самостоятельное значение, я не помню какое, но другое. Полковник нажал кнопку селектора: — Русско-немецкий и немецко-русский большие словари. И синонимические. Срочно!Многоуважаемая сударыня Галина Петровна! Извините, пожалуйста, старого человека за подобное к Вам обращение, не истолкуйте вольностью или бестактностью, у Вас, я знаю, принята другая форма, но по вполне понятным причинам я не мог воспользоваться ею. Сразу спешу представиться: я — Олин Владислав Константинович, сын Константина Николаевича, коему Вы адресовали свое письмо. Он, к великому сожалению, не может ответить Вам сам, так как еще в прошлом году почил в православном монастыре города Руана, примиренный со своей совестью и Господом Богом. Я, согласно завещанию покойного отца, унаследовал фирму и вскрыл не предназначавшееся мне письмо, посчитав его за деловое, поскольку других нам из России никогда не приходило. Прочтя его, я понял, какую ошибку допустил, но, посоветовавшись с адвокатом, решил ответить на Ваше письмо, поскольку по рассказам отца хорошо представляю то, что Вас интересует. Делаю это в полной уверенности, что не нарушаю отцовской воли, искренне считая, что если бы он дожил до этого дня, то сам бы ответил на все Ваши вопросы честно и благородно, сняв с души своей тяжкий камень чужого греха. Из Вашего письма, многоуважаемая Галина Петровна, я понял, что Вам известна служба моего отца вольноопределяющимся, а затем офицером русской армии во время германской войны, поэтому рассказ о дальнейших событиях начну с этого момента. Отец уехал с фронта зимой 1918 года, когда солдаты стали покидать позиции и возвращаться домой. Добирался до Чердыни долго и трудно, по дороге болел, лежал в лазарете и вернулся на Урал только осенью. Никаких враждебных новой власти действий он не совершал; наоборот, к революции относился сочувственно, с солдатами у него всегда были хорошие отношения, о чем свидетельствует серебряный портсигар с надписью: «Подпоручику Константину Николаевичу Олину от нижних чинов», хранящийся и поныне в нашей семье в числе наиболее драгоценных реликвий. Тем не менее властями появление его было принято враждебно, отца неоднократно вызывали, допрашивали и однажды даже арестовали, выпустив, впрочем, вскоре за недостатком каких бы то ни было улик. Вот тогда, уже в начале зимы, его отец, а мой дед, Олин Николай Васильевич, увез сына на далекий таежный прииск. Там-то и произошло все то, о чем Вы, сударыня, спрашиваете...
5. Олин Константин Николаевич. 25 ноября 1918 г., р. Кутай.
Лагерь притулился у подножия сопки: две небольшие, на охотничий манер рубленные из сосновых кряжей избушки, третья, хозяйская, поболе, с двускатной кровлей и крыльцом на столбиках, несколько разной величины амбарчиков, разбросанных тут и там на боку крутого склона, у воды, а один, на лиственничных сваях, забрел даже по колено в быструю, а от того редко когда замерзавшую в этом месте реку да и застрял там — в этом промывали породу зимой. Возили ее на лошадях из разных по кутайским берегам мест. Жгли там костры олинские работники, отогревали стылую землю, долбили коваными ломами, ковыряли обушками, едва не ладонями сгребали в мешки и грузили в сани. А на становище два шального вида молодца, ближайшие отцовские подручные Ермил и Прошка, невесть откуда взявшиеся — не было до войны таковых в большом купеческом хозяйстве, — самолично, красными, ровно обваренными руками пересыпали землицу в длинный желоб, с поперечными рейками, по которому весело стучала, сбегая сверху, вода кутайская, холодная, сбивали порой ледок да выбирали редкие желтые крупицы. Жилу искал отец, а она ускользала, пряталась, скрывалась от жадных глаз людских, играла, подбрасывая то тут, то там жаркие песчинки... Дела не было. Всем управлял отец, а в его отсутствие — заплечного вида помощнички. Их боялись не только работники, но и он, боевой офицер, в штыки не раз ходивший, в походе брусиловском замерзавший на галицийских перевалах, — достал из мешка наган, в карман шубы сунул; да и сам отец на них поглядывал порой не без опаски. Отец спешил. «Дурак! — лишь бросил в ответ на вопрос: почему? — Правильно говоришь, скоро войска придут, да только нам-то от того не легше будет! Порядок наводить начнут, о золоте заявлять придется, а там, как знать, как адмирал-то им распорядится. С ним вон англичане да американцы идут за спасибо?» Швырнул в сердцах сапог в угол. «Да и надолго ли адмирал-то?! За «товарищами» вон какая сила! Наши-то и то все почти переметнулись, взлетели, говорить как стали, соколы! И это у нас здесь, в тайге! А по России? Сам же говорил, как у вас там, на фронте, офицериков рвали. Как бы и нам с войсками-то уходить не пришлось. А это что, все кинуть? Нет, врешь! Найти надо и сколь можно забрать. Спешить надо, спешить. Там-то медовыми пряниками никто не встретит». Спешил отец. Затемно еще пинками подымали Ермил с Прошкой старателей, рассовывали по саням и — в работу. Невыспавшиеся, замерзшие людишки в кровь сбивали руки, лоскутьями оставляли кожу на заступах и тяжелых кованых бадейках, глядели угрюмо и зло, но дело делали, деваться некуда, зимней тайгой без лыж не уйдешь. Лыжи Ермил стерег крепко. А золото не шло... Укрывалась, пряталась жила, как жар-птица, не давала ухватить себя за сверкающий драгоценный хвост. ...Эти появились неизвестно откуда. Константин случайно увидел их в окно. Трое. На лошадях. Винтовки за спинами. Они топтались среди стана, оглядывались недоуменно и настороженно. Но без страха глядели. Один — на молодом статном гнедом жеребце, никак с фронта приведенном, — был в солдатской шинели, смушковой шапке под небрежно накинутым башлыком, затянутый туго ремнем с подсумками на поясе, в мехом обшитых бахилах. Второй — в грязной бекеше и валенках, тоже в шапке с башлыком — сидел на невысокой рыжей кобылке. В одежде третьего вовсе не было ничего солдатского, кроме винтовки, но и винтовка для солдата еще не все — мало ли разных людей сейчас по России с ними ходят, а то и в обнимку спят. Но что-то выдавало в нем фронтовика, что-то почти неуловимое: спокойная собранность тела, готового в любую минуту или рвануться прочь или скатиться с крупа лошади и зарыться в снег; внимательный цепкий взгляд, каким скользнул по оконцу, за которым притаился отшатнувшийся Константин, особая, лишь окопникам присущая смуглость, что неподвластна и русской бане. Он казался даже знакомым, но после фронта многие солдатики казались знакомыми. Всадники перебросились не слышными ему словами, сдернули винтовочки и тронулись по склону вниз, к реке, туда, где в амбарчике мыли породу Ермил и Прошка, где горел целый день жаркий костер. Набросив шубу, Константин тоже вышел на волю и, стараясь не показываться из-за сараюшки, что стояла между избой и амбарчиком, пошел следом. Те уже спешились у огня и, присев на корточки, протянули к нему руки; третий, тот, что в зипуне, казавшийся знакомым, успел скрутить папироску и, выкатив уголек, прикуривал с ладони. На распахнутую дверь амбарчика они посматривали изредка, короткими быстрыми взглядами, по таежным обычаям ждали, когда хозяева сами выйдут. Но оружие держали на коленях. Первым в дверях показался Прошка, за ним вышел отец, следом Ермил. В руках у него тоже была винтовка, японская, непонятно, где ее там прятали. Константин не раз бывал внутри, смотрел, как бежит хрустальная вода по сверкающему наледью желобу, стучит по перекладинкам, но никакого оружия не замечал, не догадывался даже, что есть здесь еще какое-то, кроме пары охотничьих ружей да его нагана. Первых слов, сказанных отцом, и ответа приехавших он не слышал, увидел лишь, как отец полез за пазуху, достал платок, размотал его и протянул бумагу человеку в шинели. Тогда решил подойти ближе и вышел из-за сарая. Двое, стоявшие лицом, встретили настороженно, оглядели с головы до ног, посмотрели разом на засунутые в карманы руки. Он достал их. Третий, сидевший спиной, не шевельнулся, но по напрягшимся под вытертым землистым сукном плечам Константин понял, что взгляды товарищей он заметил да и скрип снега услыхал. — Экспедиция, значит, — снова заговорил солдат, возвращая бумаги отцу, — не золото, случаем, ищите? — Да нет, железо, — ответил тот. — А что, здесь и золото есть? — Да болтают, что есть, что будто бы при Петре-царе доставал его здесь купец чердынский. — А... Нет, мы железо, руду. — Ну и руда быть должна, здесь ведь до войны заводы были. — Вот, вот, были! Нас и послали посмотреть, может, снова заводы строить будут. — Да... нужно железо-то... Давно тут стоите? — С осени. Старший хмыкнул неопределенно и, сощурившись от попавшего в глаза дыма, продолжал: — Кто-нибудь сюда заходил? — До ледостава рыбаки бывали, а потом нет. — А с той стороны? — не поднимая глаз, кивнул на темневшие на востоке громады гор. — Остяки, что ли? — Да нет, не остяки... Не слыхали, что ли, Колчак подходит? — Да ну?! — изобразил удивление и испуг отец. — Неужто правда? Так нам как же, уходить, что ли? А?! — Ежели вы от губисполкома посланы, то непременно уходить, — снова хмыкнул тот, что в шинели. Другие молчали. Отец еще говорил с солдатом о дорогах, какими можно уйти до больших снегопадов, о положении в волости, но Константин слушал вполуха. Сидевший на корточках несколько раз по-лошадиному тряхнул головой, и мелькнувший его профиль снова показался знакомым. — Ну, ладно, — закончил солдат, — пора нам. А вы тут смотрите, если что, то вниз уходите, нам сообщите или еще кому, посты там будут. — А вы уже? Может, перекусите? У нас щи сварены, каша. — Благодарствуйте, некогда. Поднялся и тот, третий, в зипуне. Повернувшись, уперся удивленными глазами в Константина, дернулся непроизвольно по вбитой шомполами и веками муштры привычке русского солдата тянуться перед офицером: — Ваш благ...? Осекся тут же, сбросил взгляд в утоптанный снег и, не глядя, разом вскочил в седло. Константин так и не признал его. Да и мало ли таких вот окопников повидал за прошедшие годы. Хотя земляков вроде и не встречал. Ну, а с другой стороны, если и были где земляки, какое им дело до него, белой кости, юного и дурного в собственной храбрости подпоручика? — Кто это? — сунулся Ермил. Не поворачиваясь, Константин пожал плечами. Всадники рысью поднимались по протоптанной по склону дороге. — А он тебя знает? Грубое «тебя» резануло слух, и, снова передернув плечами, Константин процедил сквозь зубы: — Наверное... — Эх ты... — Ермил выругался так погано, что Константин обернулся. Отцовский подручный вскидывал винтовку. Он толчком отбил ствол вниз, но позади щелкнул другой выстрел. Второй отцовский холуй, прислонившись к дверному косяку, спустил курок неведомо откуда взявшейся еще одной винтовки. Сильный, выбивший искры удар отбросил Константина в снег, и, поднявшись, он заметил лишь, как скрылся за углом избы и высоким сугробом один из всадников. Второго, выпавшего из седла, запутавшегося ногой в стремени, лошадь вынесла на целину и, утопая в снегу, натужно тащила к лесу. Третий лежал, раскинув руки, посреди дороги... — Эх!.. Мать вашу, ушел уже! — в крик сорвался Ермил, тряся пегой кустистой бородкой. Константин сшиб его с ног ударом в зубы и, выхватив револьвер, навел на дернувшегося Прошку: — Винтовку брось! Тот послушно выпустил «Арисаку», и, звякнув об обледенелое дерево, она скользнула по стене в снег. Но Ермил уже поднимался из сугроба, сплевывая кровь: — Ладно, хозяин, квиты. Не серчай, что ударил, нельзя иначе, все бы ушли. А это-то спрячь, пригодится еще, — отвел в сторону руку с наганом. И, повернувшись к Прошке, приказал: — Взнуздай-ка беги лошадей. — Что удумал? — спросил отец. — Он куда повернул? Налево, за избу, где ближе укрыться. А ему направо нужно было бы, да там открыто. Вниз-то дорога одна — мимо нас. Горами да тайгой по снегу далеко не уйдешь. — Ну и куда ты? — А ему теперь одна дорога — к староверам. Там, думаю, найдем, не мог я его не задеть, хоть легко, да ранил. А раненому зимой к людям надо. — Ну, с богом! Константин тронулся с места лишь тогда, когда стих глухой стук копыт. Поднимаясь в гору, подошел сначала к лежавшему навзничь. Пуля, ударив в затылок, вышла в глазницу, оставив страшную в пол-лица рану, в которой копилась, густела кровь и темным крученым шнурком сбегала в тающий снег. Отец, семенивший рядом, споткнулся, забормотал сдавленно: «Свят, свят!», начал часто кидать кресты, Константин — руки в карманы — передернул зябко плечами и шагнул дальше, в сугробы. Проваливаясь по пояс, стал продираться ко второму — в землистом, буром, как грязь, старом крестьянском зипуне, — что отцепился все же от стремени. Тот лежал неловко, провалившись головой вниз, выставив наверх растопыренные в серых катанках ноги. Подол зипуна задрался, сбился к груди, обнажив домотканые крестьянские порты, пестрядинную рубаху, пододетую для тепла овчинную безрукавку и полосу темного сухого солдатского тела. Константин обошел его, сунув руки в снег, нащупал плечи и резко дернул вверх, выпрастывая наружу. Потом обмахнул рябое широкоскулое лицо с остекленелыми блекло-голубыми глазами и пшеничными усами и долго вглядывался в него. Оно снова казалось неуловимо знакомым, но ничего конкретного в памяти не будило. Отец ждал у избы. — Этих-то, — кивнул головой на дорогу, — убрать бы. Может, в снег схоронить пока? А? — Твои-то опричники куда поехали? — не отвечая, в упор спросил сын. — Какие еще староверы? — Да деревенька там у них, Махневка, что ли, не помню точно, бегуны. Когда гонения были, они в тайге скрылись, с тех пор и живут, никто о них почти и не знает. — Далеко это? — Верст двадцать. — Дорога есть? — Да какая дорога, — махнул отец рукой, — хотя наши к ним на той неделе за рыбой ездили. Да ты куда?! Но Константин уже шагнул к подъехавшим снизу розвальням, вытолкнул остолбеневшего при виде трупов работника, выбросил в снег мешки с породой и, упав на колени, яростно дернул вожжи. ...Он опоздал... Когда загнанная, роняющая розовую пену кобыла вынесла сани на взгорок перед деревней, он увидел дым. Горела вся деревенька. Разом. Избы, дворы, амбары... Дым, белый, тугой, подталкиваемый снизу языками прозрачно-розового пламени, струился к темнеющему небу ровным, широким потоком. Скатившись с саней у первого же дома, бросился к двери. Огонь метался еще где-то сбоку и сверху по тесовой кровле, резному охлупню, широким колодам окон, только-только подступая сюда, к высокому, на толстом коряжистом пне поднятому крыльцу. Дверь не поддавалась — в широкое толстое витое железное кольцо на кованой личине был туго вбит березовый дрючок, заведенный другим концом за дверную колоду. Обдирая ногти, попытался вырвать его, стал пинать, выбивать каблуком офицерских сапог, но чьи-то сильные руки обхватили, подняли и кинули с высокого крыльца вниз, в мягкий, пушистый снег. Он увидел спускавшегося по ступенькам Ермила. — Гад! Собака! Пес!!! — выбросил Константин, выдергивая из кармана зацепившийся курком наган. — Убью, сволочь! Как пса поганого! — Э-з-э, барин, брось... — Ермил снова обхватил его и вырвал оружие. — Щенок! — в лицо Константину вместе с густым сивушным духом летела слюна. — Чистеньким хочешь быть, незамаранным! Кержаки эти раненого укрыли. Прячут. Ничего, скажут, мне все скажут. Или сгорят все. Уйдет он, и нам одно — уходить. Плакали тогда денежки папенькины, золотишко-то плакало! Нет, шалишь! Сила в нем была неожиданная: Константина обмял, ровно медведь, — не только вырваться, вздохнуть трудно, — вскинул легонько чуть не на плечо и понес к саням. Там, обмотав крепко, до боли, вожжами, бросил на солому, накрыл сверху шубой. — Так-то, — погрозил пальцем, снова обдав сивухой. — Не балуй! И широко зашагал прочь. Остальное Константин видел, как в бреду: мелькающие меж огнями тени, которых оказалось неожиданно много — потом лишь, какое-то время спустя, сообразил, что, кроме Ермила с Прошкой, здесь же были работники, бившие шурфы вверх по Кутаю, — обратную дорогу, возвращение, ночную попойку, тяжелый разговор с отцом. Утром он ушел. Ушел один, тайно, взяв лишь лыжи да немного хлеба. Если бы было оружие, убил бы Ермила с Прошкой, но наган ему не вернули, ружья тоже спрятали.Протокол
трассологической экспертизы
Эксперт-криминалист Пермской НИЛСЭ Сизова Н. А. произвела экспертизу содержимого трех полиэтиленовых пакетов и водочной бутылки. В пакетах оказалось: колпачков пробочных водочных алюминиевых — 27, колпачков винных алюминиевых крашеных — 13, пробок винных полихлорвиниловых — 21, крышек баночных жестяных — 12, монет разного достоинства — 9, обломок алюминиевой ложки — 1, блесны — 3, пуговиц — 4, пряжка железная — 1, предметов разных, определению не поддающихся, — 4. Перед экспертизой были поставлены следующие вопросы: 1. Имеются ли на бутылке следы пальцевых отпечатков? 2. Не являются ли отпечатки пальцев, представленных экспертизе дактилоскопических карт, аналогичными отпечаткам на бутылке? 3. Не имеется ли на бутылке пальцевых отпечатков другого лица или лиц, кроме представленных дактилоскопическими картами? 4. Если имеются отпечатки пальцев другого лица или лиц, поддаются ли они идентификации по картотеке УВД? 5. Имеют ли какие-либо из отпечатков на бутылке аналоги на каких-либо предметах, содержащихся в пакетах? Трассологическая экспертиза показала, что на водочной бутылке имеются пальцевые отпечатки четырех лиц. Три из них идентифицируются по представленным экспертизе дактилоскопическим картам: Данилов Г. Д. — средний и безымянный пальцы правой руки, Боев Г. П. — большой, указательный и средний пальцы левой руки, Зубов В. А. — большой палец правой руки. Идентифицировать пальцевые отпечатки четвертого лица по картотеке УВД не удалось. Отпечаток большого пальца правой руки Боева Г. П. обнаружен на одной из содержащихся в пакете водочных пробок. Остальные представленные на экспертизу предметы аналогичных пальцевых отпечатков не имеют. 27. 07. 74Эксперт-криминалист Сизова Н. А.
6. Никитин Евгений Александрович. 30 июля 1974 г., г. Пермь.
В кабинете шефа был гость. Почти ровесник Никитину, может, года на три-четыре старше, спортивно подтянутый, сидел против начальника на мягком широком стуле свободно, откинувшись на спинку и забросив ногу на ногу. Обернувшись на вошедшего Никитина, обежал его с головы до ног быстрыми серыми глазами, бросил цепкий взгляд в лицо и чему-то улыбнулся. Все это Женька схватил с порога, взвесил и оценил: свободную позу, костюм, дымящуюся в пальцах сигарету, лежавший небрежно поперек приставного стола плоский кейс, несомненно, импортной благородной кожи, фразу, которой минуту назад его вызвал шеф: «Капитан Никитин? Срочно зайдите!» Гость, судя по всему, был заезжим начальством и, возможно, высоким. Повинуясь минутному импульсу, выкатив грудь, вытянулся струной и, едва не щелкнув каблуками, как когда-то, будучи курсантом, выпалил: — Товарищ полковник, капитан милиции Никитин по вашему приказанию прибыл! Но шеф рассмеялся и махнул рукой: — Кончай дурочку валять, иди-ка сюда. Знакомься вот — капитан Колесниченко Виктор Павлович, управление КГБ по Свердловской области, приехал по твоей информации. — Как, уже? — удивился Никитин, пожимая сухую и твердую руку капитана. — Быстро работаете! — Вашими трудами... — Колесниченко снова улыбнулся, и в улыбке его Никитин на сей раз не увидел ничего для себя обидного — приветливая и понимающая улыбка. Добрая. — Вот и прекрасно, — моментально уловил настрой шеф. — Начнем? Колесниченко молча кивнул, подвинул к себе и открыл ключом пижонский свой кейс, оказавшийся сейфом со стальными стенками такой толщины, что Женька проникся к гостю чуть ли не сочувствием. — Сначала об Олине, — произнес негромко и сосредоточенно Колесниченко, достал коричневую кожаную папку, щелкнул медным замочком. — Кое-что нам уже успели сообщить. Эту ориентировку вы знаете, но я могу добавить. Он извлек из папки сколотые скрепкой листки бумаги и протянул шефу. — Олин Александр Николаевич в возрасте восьми лет в тысяча девятьсот двадцатом году был вывезен родителями в Харбин, оттуда в Америку и в двадцать втором году — во Францию. Обучался в закрытом эмигрантском лицее, затем в белогвардейском кадетском корпусе недалеко от Марселя. С двадцать шестого года стал активным членом детско-юношеской белогвардейской группировки, близкой НТС — Народному трудовому союзу, с шестнадцати лет принимал участие в терактах против лиц, порвавших с движением или пожелавших вернуться на Родину. Быстро пошел в гору. «Почему — сначала об Олине? — насторожился Никитин. — А потом о ком?» Но тут же отбросил все лишнее, внимательно слушая. — В двадцать девятом году, когда НТС переживал один из кризисов и многие его ветераны, разочарованные «помощью» правительств Антанты, перешли к пропагандистской работе, Александр Олин вместе с другими молодыми активистами перебазировался в Белград, где находился штаб НТСНП — Народного трудового союза нового поколения, исповедовавшего вооруженную борьбу с нашей страной. Здесь приблизился к центру союза, принимал участие в подготовке и охране конференций и съездов энтээсовцев, посещал лекции по истории и праву в Белградском университете, для чего добился особого разрешения местных властей. Говорил Колесниченко ровно и четко, словно читал. — В тысяча девятьсот тридцать первом году из Югославии переехал в Германию. Официальная версия — обучение в Берлинском университете. Но учебой себя утруждать не стал, сразу же по прибытии установил контакты с функционерами НСДАП. Позднее, уже при фашистском режиме, при получении немецкого гражданства, писал, что разочаровался в эмигрантском движении и, будучи идейным врагом марксизма и Советов, сознательно выбрал партию Гитлера как единственно последовательно антикоммунистическую и верную. Не исключено, что это не совсем так, что он мог быть послан теми же энтээсовцами для установления связи с немецкими нацистами. Вплоть до тридцать третьего года Александр Олин так и оставался числиться иностранным студентом, но услуги новым хозяевам оказывал самые разные, стал членом штурмового отряда, из белоэмигрантского агента при нацистах, наоборот, стал нацистским агентом в НТСНП. После прихода фашистов к власти сменил гражданство, был принят в НСДАП. К этому времени относится первый из известных нам фотоснимков Олина. Колесниченко достал из своей папки две фотографии, одну протянул Никитину, вторую положил на стол перед полковником. Снимок был увеличен с фото малого формата, видимо, наклеенного на какой-то документ — по углу вился рельефный оттиск печати с слабо различимыми готическими буквами и крылом имперского орла. Александр Олин мог сойти за стопроцентного арийца — блондин, с узким вытянутым лицом, высоким лбом и тонким носом. Губы прямые, резко очерченные, уголки слегка опущены вниз. Колесниченко продолжал: — Рассказывать всю его дальнейшую биографию нет сейчас ни времени, ни необходимости. Обозначу лишь важные узловые моменты. С тридцать четвертого по тридцать седьмой Олин все же действительно обучался в Берлинском университете, слушал лекции по праву, философии, истории. Занимался языками. Летом, в период университетских каникул, обучался в полевых лагерях и на базах НСДАП: разведка, террористические акции. С тридцать восьмого года — служба в русском отделе абвера. Больших высот и чинов в гитлеровской разведке Олин не достиг, славы себе не стяжал. Достаточно рядовой службист: специализировался в изготовлении документов, одно время преподавал в разведшколе, при создании РОА был прикомандирован к власовскому штабу, использовался для связи с формированиями ОУН. Несколько раз побывал на нашей территории. Дважды до войны, в тридцать девятом и сороковом годах, разумеется, под чужими документами, в составе коммерческих делегаций, видимо, планировалось его внедрение, и поездки эти имели целью знакомство со страной, но что-то там не склеилось, или сам он по каким-то параметрам не подошел, внедрять его не стали, остался в Германии. Во время войны несколько раз бывал на оккупированных территориях, но в тыл не проникал. Вот фотографии этого периода. За прошедшие с момента предыдущей съемки семь-восемь лет Олин превратился в мужчину. Лицо округлилось и, несмотря на жесткую линию губ, стало мягче. Ощущение это внушали прежде всего небольшие пышные усики и появившиеся на некоторых снимках очки. Снимков было пять, на двух из них он был в форме. Колесниченко выждал, пока полковник с капитаном не пересмотрели все фотографии, и заговорил снова: — Осенью сорок четвертого заброшен для связи с украинскими националистами в одну из головных бандеровских банд. Эта банда лютовала в районе Ковеля, отличалась особой наглостью и зверствами, летом сорок пятого против нее были брошены войска, вся группа была окружена и уничтожена. Схрон, в котором, по словам захваченных в плен бандитов, находился Олин, взорван. Капитан замолчал. — Так он убит? Колесниченко пожал плечами. Никитин с полковником переглянулись. — Вы с этим и приехали? — Да нет. Есть еще кое-что. Но с делом Олина связалось только сейчас, после вашего запроса. Чекист достал из папки еще несколько фотографий, но передавать не стал, а, перетасовав, положил на стол возле себя. — В сферу нашего внимания недавно попал один человек. Поликарпов Вадим Николаевич, 1916 года рождения, уроженец Курской области. В детстве, в младенчестве почти, еще в гражданскую потерял родителей, вырос в детдоме. После седьмого класса пошел работать, потом женился. Жена, тоже почти круглая сирота, выросла у тетки. После свадьбы переехали жить в Брянск, а перед самой войной, в сороковом, — в Гомель, где удалось купить домик. К этому времени в семье было уже двое детей. Призвали его в самом начале войны. Прошел всю. В сорок втором закончил школу младшего офицерского состава, получил офицерское звание, артиллерист. Воевал в составе Волховского, Прибалтийского, Северо-Западного фронтов, в резерве войск Главного командования. Демобилизовался в январе сорокшестого года. Вернулся в Гомель и долго разыскивал пропавшую во время оккупации жену с детьми. Не нашел и летом сорок шестого уехал на Урал, в Свердловск. Заочно окончил юридический институт и до настоящего времени работает адвокатом в Свердловске. Не женат. Колесниченко замолчал. — Ну и... Он встречался с Олиным? Капитан снова пожал плечами. — Ну и что? Обычная судьба. — Вроде и обычная. Но два года назад мы получили информацию, исходящую от врача одного из госпиталей, где периодически лечится или обследуется Поликарпов. Этот старый, опытный доктор, еще с довоенным стажем и фронтом за плечами, обратил внимание на один из его рубцов. Считает, что оперировал немецкий хирург. Сложно все это: различные хирургические школы, направления... Зыбко очень, но мы все же решили проверить. — А как это объясняет Поликарпов? — Мы, разумеется, сами спросить его не могли. По его объяснениям докторам — операция была старая, довоенная, сделанная в одной из районных больниц Брянска — извлекали осколок разорвавшегося газголдерного баллона. Проверить трудно — во время войны все архивы райздравотдела сгорели, так что не исключено, что мог быть в этой больнице хирург-немец. — Еще кто-нибудь его смотрел? — Только в госпитале да на осмотрах в поликлинике. Но в том-то и дело, что определить, кто делал операцию, могут очень немногие хирурги. Асы. Все это нас насторожило, прошлись внимательно по его биографии и нашли несколько не совсем ясных мест. Самое главное — он избегает контактов с прошлым: не ездит на родину и в Белоруссию, не встречается с фронтовиками. В общем-то, и то и другое вполне объяснимо — там он потерял самое близкое, на фронте же был в самом пекле — резерв есть резерв, кидали туда, где сложнее, за три года перехоронил стольких друзей! Но есть еще... разыскали его пионеры из детдома того, несколько писем написали — не ответил. Это уже странно. Мы стали присматриваться к нему внимательнее. Выяснилось, что, несмотря на безупречную репутацию адвоката, живет он явно не по средствам — по два-три месяца в году проводит в Крыму, на Кавказе и в Прибалтике, всюду на дачах, которыми владеют всякие темные личности, держится там полным хозяином. Кроме того, всплыли кооперативные, на подставных лиц оформленные квартиры в Москве, Ленинграде, Таллине. Сначала мы не предполагали, что все это его, там и другие бывают, но недавно нащупали и некоторые связи, для адвоката не самые лучшие. Всех мы, конечно, не знаем, но обнаружили несколько вас интересующих — Зубов, например, Композитор, арестованный вашими свердловскими коллегами. Так что есть все основания предполагать, что Поликарпов и есть разыскиваемый вами Хозяин, он же Тень. — Вот как? И давно вы это знаете? — спокойствие, с которым излагал информацию Колесниченко, ту самую информацию, которую они с трудом великим тянули второй месяц, вздернуло Никитина. Капитан госбезопасности понял и это. — Нет, Евгений Александрович, недавно. Если точнее, то в один клубок все увязалось лишь позавчера, когда в ответ на ваш запрос мы получили информацию из Москвы. До этого Поликарпов был у нас на подозрении, мы подумывали о передаче материалов в ваше ведомство, но тут ваш запрос, данные УБХСС, справки об Олине, вот все и связалось. — При чем тут Олин? — А вот при чем! — Колесниченко веером разбросил на столе фотокарточки, лежавшие до того стопкой возле папки: — Это все Поликарпов! Их было не так-то и много, этих снимков, около десятка, самых разных, от копий темных довоенных фото с изображением стриженного ежом угловатого парня в модной некогда рубашке на шнуровке, до современных портретов респектабельного седоголового мужчины в массивных очках. Они были чем-то похожи, персонажи довоенных и послевоенных снимков, но все же это были разные люди. Особенно это бросалось в глаза при сравнении с немецкими снимками Олина. — М-да... интересно, — пробурчал полковник, раскладывая их перед собой в хронологической последовательности, в два ряда. — Выходит, Поликарпов и есть Олин? Когда же он им стал? — Видимо, в сорок шестом, — ответил чекист. — Дороги их встретились или во время поисков Поликарповым семьи, или же по пути на Урал. Но сюда с документами Поликарпова прибыл Олин. — Какой же ему в этом резон: Олину, купеческому сыну, немецкому разведчику, и на Урал, в глубину страны?! Не шпион же он! Колесниченко снова пожал плечами. Любил он ими пожимать. Но Никитин не сдавался: — Столько лет с войны, да и деятельность его преступная, бандитизм. Не вяжется со шпионажем. — Но ведь это же у вас родилась идея — Тень-Олин, — парировал контрразведчик. — Мы только нашли ей подтверждение. А вы теперь вместо радости — удивляетесь. — Потом посерьезнел: — Неясного здесь, конечно, много. Этим делом уже занимаются наши товарищи на Украине и в Белоруссии, но возможно, что мы узнаем тайну раньше. Полковник собрал снимки, огладил стопку рукой и протянул капитану: — Так что же, готовить дело к передаче? Тот улыбнулся: — Рано. Мы его вместе до конца доведем. Поликарпов последнее время проявляет нервозность, беспокоит его что-то. Кроме того, подходит срок его путевке в средиземноморский круиз. Надо его активизировать, вызвать на действие и взять. У вас, насколько мы знаем, есть канал к нему?УВД Пермского облисполкома
Краткий отчет геологического обследования
золотоносности р. Кутай
Кафедрой геологии и научно-исследовательским сектором горного факультета Пермского политехнического института по заявке УВД в июле 1974 г. было произведено рекогносцировочное обследование бассейна р. Кутай с целью выявления перспектив золотоносности. Разведка производилась методом шлихового опробования с лотковым способом обогащения аллювиальных толщ долины р. Кутай. Всего было сделано 45 проб, в том числе: с русла — 11, косы — 21, борта — 8, террасы — 5. Результаты обследования: пустых проб — 22, единичных знаков — 21, знаков — 2. Весового золота получено не было. Поскольку в настоящее время считается необходимым для формирования аллювиальных россыпей наличие двух непременных условий: 1) вскрытия и достаточной эродированности в процессе рельефообразования коренных источников золота, 2) динамического состояния рельефа, обеспечивающего освобождение и концентрацию золота в аллювии, а аллювиальные отложения Колво-Вишерской впадины, сформированные в эпоху среднего, верхнего плейстоцена и голоцена, не отвечают этим условиям, то результаты опробования являются закономерными и свидетельствуют, что долина р. Кутай, как и долины всех рек Колвинско-Вишерской впадины, промышленного золота не содержат и содержать не могут.Старший научный сотрудник Спирин Л. Н.
3 августа 1974 г.Старший научный сотрудник Болонкин П. Ф.
7. Поликарпов Вадим Николаевич. 6 августа 1974 г., г. Чердынь.
Крашенный вместо позолоты веселой желтой бронзой узорчатый крест Иоанна Богослова, накренясь, легко и плавно плыл в клубящемся темнеющем небе. Собиралась гроза. Тихо и неслышно наползала она сзади, с запада, с камских берегов, на притихший, рассыпавшийся низенькими домиками городок, окружала со всех сторон толпами взвинченных мрачных туч, как несколько столетий до того окружали эти холмы неприятельские орды, застилала просторный небосклон черным рыхлым одеялом. Только впереди, за колвинскими лугами, за далью расстилавшейся перед Чердынью тайги, там, где дыбилась среди зеленого моря громада обычно темного, а теперь высветленного насквозь Полюд-камня, горела, купаясь в искристо-золотых солнечных лучах, полоса чистого неба. Свежевыбеленный невинно-чистый куб старинного храма высветился внутренним светом в предгрозовом сумраке, обрел особую рельефную четкость, стал просторней и выше — тоже, казалось, поплыл белым кораблем несбыточных надежд в сером море людских скорбей и печалей из столетий минувших в века грядущие. Где-то, не справа и не слева, а как-то кругом, пророкотал еще далекий и устало-ленивый гром. Вадим Николаевич, отрешенно стоявший перед храмом, лишь тогда поднял глаза и, повернувшись, заспешил по заросшей травой улочке наверх, к машине. Налетевший внезапно порыв теплого ветра взметнул и тут же рассеял облачко невесомой пыли, щедро устилавшей дорогу, закружил растерянные неряшливыми курами перья, высушенные зноем травинки, невесть откуда взявшиеся клочки выгоревшей бумаги и прочий сор, что извечно копится обочинами дорог, скомкал все в заряд и, словно рассердясь, бросил в одиноко сидящего в машине человека. Вадим Николаевич поднял стекло. Машина была удачной. Взяли ее на этот раз заранее, в Свердловске, занимался Филин, а он толк знает. Видно, и хозяин не новичок в автоделе: приемистый мотор легко вытаскивал машину на подъемах, стремительно разгонял с места. И хозяева в отъезде, хватятся еще когда, все будет кончено. Видно, Филин для себя пас, но без согласия взять боялся. Филин — и тут Филин — успел за сутки перекрасить, нацепить всякой ерунды, страхуется... Что ж, правильно, за угон ему сидеть, Вадим Николаевич тут ни при чем — так, пассажир. В машинах Филин, конечно, мастак. А в остальном? Композитор был бы тут больше к месту. Некстати он сел, некстати... Хотя кто садится кстати? Но тут особенно. Причем ведь на ерунде. Хоть бы узнать, где прокол. И контакт на этот раз никак установить не удается. Ничего, передадут в суд, возможность будет. Неужели все же тот фрайер выдал? Да нет, его бы не отпустили за кордон, а он улетел, в Москве проводили. Теперь надо новый канал искать, барахлит хваленая фирменная аппаратура, а без связи как без рук. Воистину, пришла беда — отворяй ворота. Пора на дно... Солнечный луч, ослепительный и радостный, внезапно ударив в ветровое стекло, рассыпался тысячами веселых слепящих брызг, облил все кругом ярким светом. Поликарпов распахнул дверцу и высунулся. Грозовые тучи, развернувшись над городом, уходили на северо-восток, к Печоре и хребту, дотягивались щупальцами грязных облаков до темневших вдали отрогов, гасили сполохи над почерневшим Полюдом. Сквозь рваную их ткань, как через сито, косо и мощно били вниз на город и тайгу прожекторные снопы солнечного света. Где застрял Филин? Нужно-то увести геолога и доставить сюда, к машине. Был бы Композитор — вмиг бы спроворил. С ним вообще можно было бы сюда не ехать, а так — как знать, чем все обернется, решение самому принимать надо. Трудно стало последнее время, мало ребят вроде Композитора, а без них какая работа? А хороши были: злые, умные, ловкие — не то что громилы послевоенные, жлобы, — все с лету схватывают, в зону, не моргнув глазом, знают — пока цел шеф, вытащит, на ноги поставит. Куда только делись все? На дно, на дно пора... От церкви Иоанна Богослова поднималась группа людей. Человек пятнадцать. У отцовской усадьбы остановились, и вперед вышла невысокая тонкая молодая женщина с указкой в руке. Экскурсия. — Мы с вами, — долетел до машины через дорогу голос, — находимся у усадьбы купцов Олиных, богатейшей династии чердынского купечества, о которых я говорила вам в музее. Старшие Олины контролировали всю пушную торговлю не только по Колве и Вишере, но и на Печоре, содержали магазины по продаже мехов и дичи в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и обеих столицах. Та́к вот! Не графья, не дворяне, купчики — черная кость, а в крепостной России какой край в руках держали, в половину приличного европейского государства. Да и только ли пушнина? Отец рассказывал — рябчиков в Питер обозами отправляли. И хлеб, и соль, и золото — все было! Могучие были предки... Тут только сообразил Вадим Николаевич, что оставил машину у отцовского дома. Почему? Кровь говорит, к гнезду, к пепелищу тянет? Усмехнулся. Вспомнил, как первый раз после войны заехал сюда. Не ностальгия — любопытство привело посмотреть, как, где издавна жили Олины. Сутки трясся в завшивленном вагоне, потом сутки плыл вверх по Вишере на переполненном пароходике, с одышкой и стонами подгребавшем под себя воду стертыми плицами. Город тогда не понравился: голодный, ободранный, в облезшей побелке еще купеческой, обнаженной штукатурки, с разоренными грязными церквями без колоколов на звонницах, а порой и без самих звонниц. Этот с почерневшими крышами, ломаными тротуарами и разбитыми дорогами город совсем не был похож на тот кукольно-чистенький городок, что рисовался в памяти. Фамильное гнездо, занятое под госпиталь, совсем заплевано было, и, потолкавшись по улочкам среди местного люда, одетого большей частью в линялые гимнастерки да родительские салопы, выпив в чайной стакан теплой водки, в тот же день на том же инвалиде-пароходике отправился обратно. Считал, что навсегда, что никогда больше не потянет сюда, на крутые колвинские берега. Но располагает господь, и он тут третий, теперь, действительно, последний раз... Вот ведь, какие фортели выкидывает судьба! Видать, золото кутайское — судьба и крест всех, почитай, Олиных. Прадедовское счастье как ускользало?! Как помнил себя Александр Олин, все разговоры вертелись вокруг таинственного и манящего кутайаского золота. И здесь, в далекой детской Чердыни, и в эмиграции. Даже в войну, когда наезжал Александр к спрятавшемуся от жизни в иночестве «брату Никону», слышал срывающийся шепот об олинском богатстве. Не привечал отец немцев, от фашистов и скрылся в монастыре, но сыну завещал: «Уж коли с ними ты и дойдешь с ними до дому, возьми золото, только сам возьми, для себя, не для них!» Усмехался тогда сын, другое богатство лежало под ногами. Но вот тебе, и оно не минуло! А ведь вспоминал! Сколько раз за все эти годы, на Урале прожитые, с усмешкой, как самому казалось, вспоминал. Или догадывался, что не разминуться им? Как тогда, когда о трепаче этом, что письма писал, сообщили, о купце чердынском и его сокровищах, сердечко-то дернулось?! А! Не зря, не зря столь лет под спудом лежало... Но и тогда решил поиграть с судьбой, не бросился ведь, сломя голову, счастью своему навстречу, как отец когда-то, а проходимца велел к себе доставить, да его и отрядил — поди, мол, поищи сокровища купецкие. Но много с судьбой не наиграешь! Не зря она свела их вместе, проходимца безродного, чей отец и вправду, выходит, на его фамильной земле ямы копал, только догадаться-то не мог, ни он, ни кто другой, даже Че-Ка хваленая, что не клады в ямы Николай Васильевич прятал, а сам клад под стеной каменной искал, только вот не знал, под какой искать-то! Открыла судьба проходимцу свои карты, выдала прадедом горшок схороненный, и золото кутайское, и план-рисунок на тряпице грязной, и письмо покаянное — с ума, видимо, сходил пращур от страха, о боге вспомнил, о «злате неправедном». Спрятал все, схоронил сдуру так, что даже отец отыскать не смог, не будь этого проходимца с рукой его легкой, и, как знать, лежало бы все втуне, ждало другого счастливого часа... А и проходимец решил темнить. Но никому не темнить с ним, с Александром Олиным! И другому часу не быть! Он — последний здесь Олин, и золото все его по праву! — Обратите внимание на планировку усадьбы, — журчал за дорогой тоненький голосок, — по такому типу раньше тут строились почти все купеческие дворы, но позднее большая часть была перестроена, а этот остался без изменений. Господский дом — на углу квартала, рядом с ним другой дом, поменьше и проще, для слуг, домочадцев, родственников разных, а все хозяйственные постройки — конюшни, хлевы, амбары и прочее — внутри двора. Пойдемте со мной, посмотрим на внутреннюю планировку усадьбы. Экскурсовод нырнула в калитку, подвешенную возле ворот на кованых петлях, и голос ее постепенно стих. По одному втянулись во двор и экскурсанты. Вадим Николаевич тоже вышел из машины и подошел к дому. Внутрь заходить не стал, остановился возле ворот так, чтобы и слышать и видеть отсюда, с улицы. — В скупом декоре северных хором, — струился голосок, — и господского дома, и хозяйственных построек, широко использовались народные орнаментальные мотивы... Громыхнуло. Развернувшись еще раз, тучи сплошным фронтом спускались вдоль уже невидимого хребта с севера, подступали к городу, застилали небо сплошным мраком. Двое мужчин с фотоаппаратами колдовали возле, торопливо снимали резьбу на воротах, кирпичные завитки над окнами, ажурные воронки водостоков. Вот она, злая ирония. Пращур строил на века, для будущих поколений Олиных, а теперь туристы щелкают, чтобы крутить слайды охающим от умиления друзьям, а правнук рядом стоит, под чужим именем скрывается. Но ничего, у прадеда были свои хоромы, у правнука — свои. У прадеда свое время, у правнука — свое! Олинский дух неистребим! Олинский? Вадим Николаевич и забыл давно, что он тоже Олин, а не Поликарпов, если б не золото это, так и не вспомнил бы никогда, умер Поликарповым. Тогда, после разгрома банды Зубра, дорога осталась одна. Не сразу он это понял, метался — сначала по лесам, в поисках уцелевших схронов «Белой армии освобождения», созданной перед отступлением коллегами из СС, и таких же, отбившихся одиночек вервольфов-оборотней, проскользнувших сквозь ячейки не туго еще натянутой СМЕРШем сети, потом, не найдя ни того ни другого, — по городам и местечкам Западной Украины, боясь сунуться на возможно уже проваленные и в западни превращенные явки старой агентуры, не веря всегда надежным, в кабинетах родного ведомства изготовленным документам. Понял: нужно отлежаться, затихнуть, затаиться, время выждать. Но не просто это оказалось в близких к границам послевоенных городах: патрули, проверки, облавы... Перебрался в Белоруссию. Под видом вернувшегося из Румынии довоенного эмигранта пристроился в одном из монастырей, где, знал точно, настоятель сотрудничал с его «фирмой» в былые годы, припугнул его и, схоронившись, стал ждать. Потом понял, что и здесь бесполезно отсиживаться — хоть и спрятан монастырь среди болот, окрепшие местные власти стали проявлять все больший интерес к его послушникам и старцам. Уходить тоже, казалось, некуда. Война давно кончилась. В Германии союзные войска, до Франции не добраться, да и там тоже в то время охотились за такими, как он. Путь остался один — подальше от этих опасных мест, на восток, в центр страны, на Урал, или еще дальше, в Сибирь, туда, где можно спрятаться, подозрений не вызывая, среди демобилизованных, эвакуированных, сорванных войной с отчих мест людей. Вот тут-то и встретился ему на Лунинецком вокзале отчаявшийся в поисках и запивший с горя Поликарпов... Так и оказался в Свердловске. Сначала считал — ненадолго. Даже устроился на железную дорогу, в охрану, думая этот канал и использовать, когда уходить время придет. Тут и встретились, попались ему на грабеже дурном, но дерзком те жлобы. Рвань. Дезертиры да бандюги, не лучше, чем у Зубра. Обломал он их быстро. Обломал и приструнил. Тогда впервые и мелькнуло: а стоит ли вообще уходить? Куда? Зачем? С умом всюду прожить можно, а с его выучкой! Потом, когда повернулось здесь все так неожиданно, когда и здесь деньги большой силой стали, и так легко порой шли к тем, кто не слишком обременял себя сомнениями, когда сыпались эти деньги легко и охотно во все прорехи не шибко как скроенной и сшитой экономики, когда большими деньгами затыкать дыры в ней начали — совсем вольно стало: большие и легкие деньги и брать и отбирать легко! — На фамильном гербе Олиных изображен бегущий олень, как и на гербе города... Тучи все плотнее заволакивали небо, прижимали его низко к земле. Один из туристов, нацеливаясь объективом на кованую решетку подвального оконца, то отступая, то приближаясь к дому, пританцовывая бочком, склонился рядом с Поликарповым, буркнув: — Извините. Вадим Николаевич отступил на шаг. — Еще раз извините, ради бога, — сказал тот, выпрямляясь, и спросил: — Хорошо построил предок, Александр Николаевич? Дыхание перехватило. Это был не страх. Вадим Николаевич давно свыкся с мыслью, что все для него может кончиться разом. Располагает-то господь... Хоть и просчитывал многократно каждую операцию, однако сфера деятельности за последние годы так разрослась... Но с этой стороны он удара не ждал. Если Хозяина лично знали сейчас пятеро, если из живущих двое звали его когда-то Тенью, то знать о том, что Вадим Николаевич Поликарпов был Александром Николаевичем Олиным, не мог никто. Ни одна душа! Он быстро справился с собой. Мгновенной растерянности не мог заметить даже этот, с фотоаппаратом. Повернулся медленно и значительно всем корпусом: — Вы мне? — Вам, гражданин Поликарпов. Он махнул рукой, и уазик, стоявший на углу следующего квартала, тут же сорвался с места и помчался к ним. «Турист» достал из кармана удостоверение и представился: — Капитан Колесниченко, комитет государственной безопасности. Второй, постарше, стоял с другой стороны. — Вам придется проехать с нами. — Куда? Куда?! Почему? — еще автоматически, изображая негодование, пытался протестовать он. — А машина? — За машиной присмотрят.Протокол
физико-химической экспертизы
Мною, старшим экспертом-криминалистом ВНИИСЭ, кандидатом химических наук Крыловой К. Н., совместно со старшим научным сотрудником Московского горного института, доктором геолого-минералогических наук Трофимовым В. А., была произведена экспертиза золота. Перед экспертизой были поставлены вопросы: 1. Аналогичен ли физико-химический состав золотого самородка и золотого песка? 2. К какому геологическому региону может быть отнесено представленное на экспертизу золото? 3. Могло ли данное золото быть обнаружено в бассейне р. Вишеры? В результате проведения атомно-абсорбционного и эмиссионно-спектрального анализов образцов представленного на экспертизу золота установлено следующее: по физико-химическим свойствам золото имеет примеси металлов, не характерные для Западного Урала; физико-химический состав самородного золота и песка аналогичен. Определить регион происхождения данного золота без дополнительных исследований не представляется возможным. Таблицы анализов прилагаются.Старший эксперт-криминалист,кандидат химических наук Крылова
1 августа 1974 г.Доктор геолого-минералогических наук,профессор Трофимов
Гром грянул, когда уазик подкатил к дверям райотдела. Клубящаяся, черная, взвихренная туча, обложившая кругом город, заткавшая все видимое пространство набрякшей рыхлой плотью, ударила вдруг в слепой ярости ломаной тысячерукой ветвистой молнией, метнула ее дротиком в теплое и мягкое тело земли, разорвав, раздергав холстину грязного неба на множество опаленных по краям лоскутьев, обвалила раскатистым треском и грохотом небесный свод вниз. Замерло все на несколько тягостных мгновений, оглохло, ослепло под яростным натиском, ухнуло в первозданный мрак и тишину, исполнилось щемящим ожиданием беды и тоски. Но из разорванной тучи хлынули разом на все испуганное внизу веселые и быстрые струи, застучали долгожданным перебором крупных капель по тесу и железу древних кровель, заскользили блестящими лентами к краям скатов, зажурчали взвинченными водоворотами в запевших тонко и высоко трубах, хлынули вспененные на землю и, резвясь и кувыркаясь, покатились тротуарами, улицами, канавами старого города, свиваясь и сплетаясь, превращаясь в ручейки, в ручьи, влагой напитывая иссохшую, истрескавшуюся землю, смывая и унося в мутных своих струях весь накопившийся сор и дрянь. А вскоре снова вспыхнуло солнце. Омытое, как и земля, коснулось ласковыми лучами, пробившимися сквозь редеющую ткань тучи, встревоженной земли, травы, вековых стен, преломилось в каждой сверкающей капельке, заискрилось, засверкало нарядно и празднично, разбрызгивая вокруг тепло и радость. Старая туча, вылившаяся и облегченная, поднялась вверх, освобождая место простору неба и свежему озонному ветерку, качнувшись, стронулась с места и поплыла дальше, на восток, к темной гряде гор, торжественному Полюд-камню. Пройдя долинами Вишеры и Кутая, поднялась в потоках теплого воздуха еще выше, тяжело перевалила через хребет и, набирая снова тяжелую влагу и громовую мощь, поплыла тихо в Зауралье и Сибирь, откуда принес некогда гулящий человек Тимоха Сычев свое грязное, столько бед понаделавшее, невесть где сысканное золото...
ОБ АВТОРЕ
Виктор Александрович Шмыров — историк. Родился в 1946 году в городе Чусовом Пермской области. Закончил Пермский государственный университет. Работал в Чердынском краеведческом музее. Сейчас — преподаватель исторического факультета Пермского педагогического института. Остросюжетная повесть «Тень» — первая книга автора. В ее основе — расследование преступления, уходящего корнями в далекое прошлое.

Последние комментарии
1 час 37 минут назад
1 час 47 минут назад
1 час 52 минут назад
2 часов 12 минут назад
2 часов 21 минут назад
2 часов 42 минут назад