Пропавший чиновник. Загубленная весна. Мёртвый человек [Ханс Шерфиг] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
ХАНС ШЕРФИГ
«Пропавший чиновник»
«Загубленная весна»
«Мёртвый человек»
Отсканировано и обработано: «Библиотеки Прошлого»



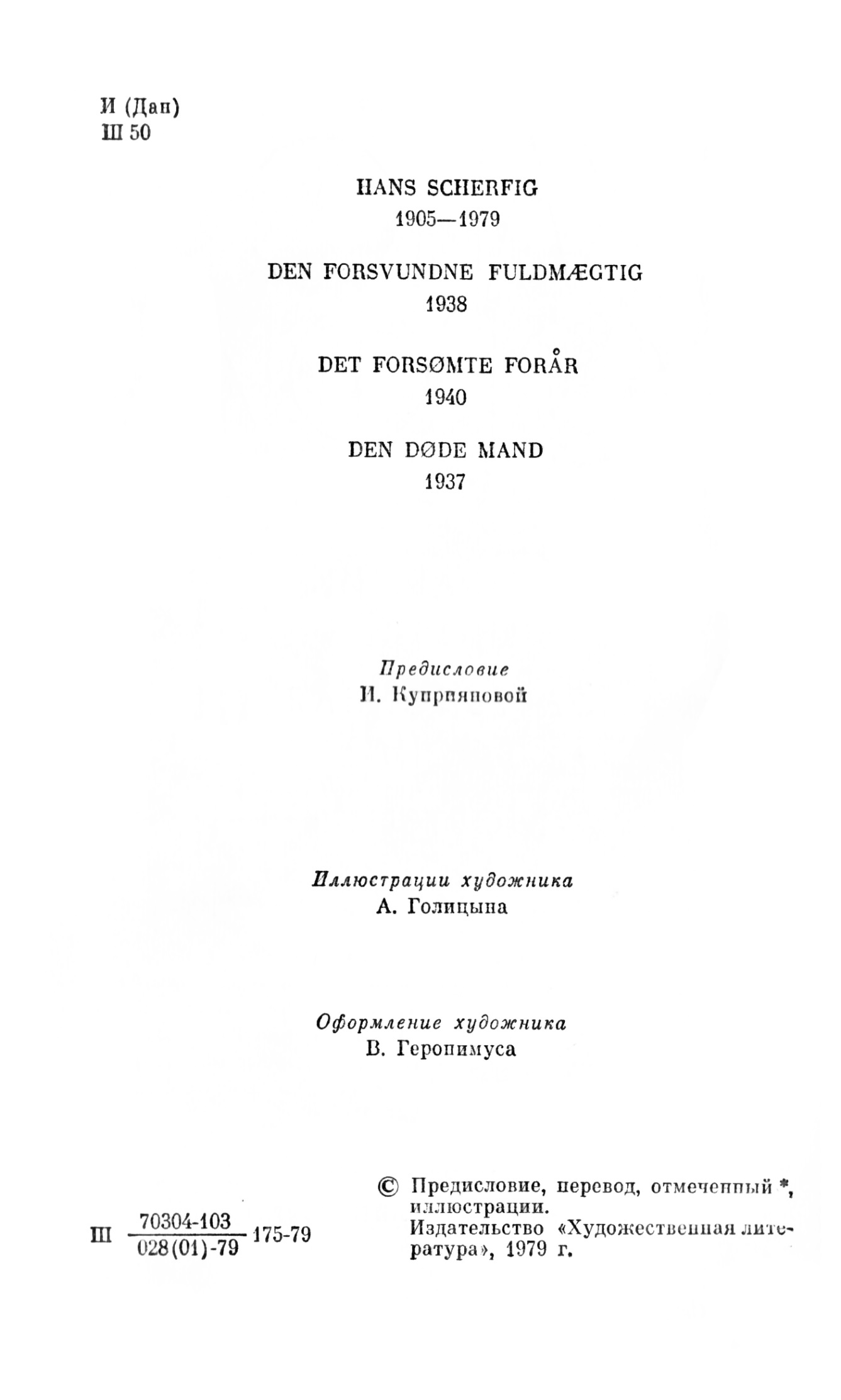
ХАНС ШЕРФИГ И ЕГО КНИГИ
Ханс Шерфиг (1905—1979) — один из наиболее значительных датских прозаиков нашего времени. Общий тираж его книг достиг в настоящее время 700 000 — цифры огромной для страны, отнюдь не претендующей на массовость читательского контингента. Популярность эта тем более драгоценна, что не имеет ничего общего с искусственно раздуваемой сенсационностью, которой нередко окружается на Западе имя того или иного автора «бестселлеров». Писатель-коммунист, Шерфиг никогда не был баловнем официальной критики, на протяжении многих лет его творчество попросту замалчивалось, и лишь сравнительно недавно оно заняло заслуженное место в фундаментальных трудах, освещающих историю датской литературы новейшего времени. Мало того, за последние годы в Дании были опубликованы две монографии, специально посвященные исследованию произведений Шерфига, — факт знаменательный, поскольку подобной чести редко удостаиваются при жизни датские писатели, в особенности те, кто критически воспринимает и изображает общественную действительность своего времени.
***
Ханс Шерфиг родился в 1903 году в Копенгагене, в буржуазной семье. Отец его, директор акционерного общества, придерживался в политике консервативных взглядов, но не пытался навязывать свои убеждения сыну. По воспоминаниям писателя, отец «очень мирно» отнесся к его вступлению в коммунистическую партию, хотя и побаивался, что тот «окажется замешанным во что-нибудь».
Как считал Шерфиг, именно отцу он был обязан интересом и любовью к природе — наряду с искусством, естествознание всегда было подлинным увлечением писателя. Окончив в 1924 году гимназию, Шерфиг собирался посвятить себя зоологии, и хотя она и не стала его основной профессией, позднее он неоднократно обращался к изучению животного мира и даже написал несколько работ о пресноводной фауне.
С детских лет увлекался Шерфиг и живописью. В этой области он достиг признания задолго до того, как стал известен в литературе, — первые картины его появились на выставках уже в 1927 — 1928 годах. И несмотря на то, что в дальнейшем литература заняла главное место в его жизни, с пером и кистью он никогда не расставался. На страницах коммунистической газеты «Ланд ог Фольк» публиковалась серия рисунков Шерфига к его же переложению философского романа Людвига Хольберга «Подземное путешествие Нильса Клима» — классического образца литературы датского Просвещения; нередко он выступал в качестве художника при издании собственных романов и путевых очерков.
Живописные полотна Шерфига чем-то сродни произведениям Анри Руссо. Сочность красок, пристрастие к экзотическим пейзажам и необычность перспективы придают картинам Шерфига сходство с работами примитивистов, однако и в живописи он не отказывался от актуальных политических тем. Так на одной из его картин последних лет изображена Дания среди партнеров по общему рынку — белоснежный пушистый кролик в окружении самых разнообразных хищников, недвусмысленно раскрывших пасти.
По словам Шерфига, мысль стать профессиональным писателем зародилась у него в начале 30-х годов — у Шерфига началась болезнь глаз, и возникло опасение, что от живописи придется отказаться. Однако писать он начал раньше и уже к 1930 году опубликовал несколько очерков в различных газетах и журналах. Литературный дебют Шерфига состоялся в 1937 году, когда он опубликовал повесть «Мертвый человек», сразу же привлекшую внимание читателей к молодому автору. За первым произведением последовали новые — в 1938 году выходит роман «Пропавший чиновник», в 1940 — «Загубленная весна».
9 апреля 1940 года Дания подверглась немецко-фашистской оккупации. Хотя на первых порах оккупационные власти изо всех сил стремились превратить Данию в «образцовый протекторат» и избегали слишком открытого вмешательства во внутренние дела страны, все издательства, журналы и газеты с самого начала находились под строжайшим контролем цензуры. Поэтому нет ничего удивительного в том, что завершенный Шерфигом в 1942 году роман «Идеалисты» впервые предстал перед читателями в переводе на шведский язык: экземпляр рукописи был тайно вывезен в Швецию и там напечатан в 1944 году. (Первое датское издание романа было осуществлено лишь после освобождения страны, в 1945 году.)
Сам писатель был 22 июня 1941 года арестован в числе других коммунистов и помещен в Западную тюрьму в Копенгагене. Со свойственной ему иронией Шерфиг благодарил «прекрасную болезнь глаз» за то, что она, «по всей вероятности, спасла ему жизнь в период оккупации»: наступило резкое ухудшение, и тюремные власти вынуждены были перевести Шерфига в больницу, откуда после операции ему удалось выбраться на свободу.
В послевоенные годы писатель продолжает интенсивную творческую деятельность. Он создает романы «Скорпион» (1953), «Замок Фрюденхольм» (1962) и повесть «Пропавшая обезьяна» (1964), однако больше всего сил отдает публицистике. На протяжении этого периода на страницах газеты «Ланд ог Фольк» печатались сотни статей, хроник, очерков и политических комментариев, вышедших из-под пера Шерфига. Многие из них вошли позднее в регулярно выпускаемые коммунистическим издательством «Ежегодники» Шерфига, но и помимо этого писателем опубликовано более десятка сборников эссе и очерков. Большое место в публицистике Шерфига занимают путевые очерки — увлекательные рассказы о его многочисленных поездках в Советский Союз и другие страны социалистического лагеря.
Произведения Шерфига заслужили широкое признание не только в Дании, но и за ее пределами — в общей сложности его романы и публицистические работы переведены на 22 языка и завоевали популярность у миллионов читателей в самых разных странах.
Незадолго до семидесятилетнего юбилея писателю была вручена высшая литературная награда Дании — премия Датской академии.
***
Советский читатель уже давно знаком с творчеством Шерфига — в русском переводе публиковались повести «Мертвый человек» и «Пропавшая обезьяна», романы «Пропавший чиновник», «Загубленная весна», «Скорпион», «Замок Фрюденхольм», в различных периодических изданиях печатались рассказы и очерки; нередко в советских газетах появлялись статьи, специально написанные для них. На экранах Советского Союза демонстрировался датский фильм, созданный по роману «Пропавший чиновник». Думается, что новая встреча с Шерфигом будет для нашего читателя не менее интересна и полезна, чем прежние.
В настоящее издание включены три первых произведения Шерфига, созданные в конце тридцатых годов. Несмотря на десятилетия, отделяющие нас сегодня от времени написания романов, очень многое в них по-прежнему сохраняет свою актуальность — не случайно именно эти произведения писателя принадлежат к числу наиболее читаемых в Дании в наши дни. Но они представляют и несомненный исторический интерес — автору удалось с необычайной яркостью запечатлеть в них духовный климат предвоенной Дании, показать зарождение тенденций, которые более полно и открыто развились в общественной действительности страны в последующие годы.
В повести «Мертвый человек» объектом безжалостной сатиры Шерфига стало продажное фиглярствующее «искусство», рабски приспосабливающееся к вкусам платежеспособных «потребителей». Центральный герой романа — Хакон Бранд, фигура, вызывающая одновременно смех и отвращение, — становится олицетворением всего того, что видит автор в подобном искусстве. Избрав погоню за успехом в качестве единственного «творческого стимула», Хакон Бранд обрекает себя как художника на неминуемую гибель: его нелепая смерть приобретает в романе символический оттенок, логично завершая собою неуклонную деградацию личности, отрекшейся от собственного «я». Так же символично и мнимое убийство, которое приписывает себе Бранд: хотя злодеяние, о котором идет речь, свершилось лишь в его воображении, он действительно преступник, ибо предал истинное искусство.
Весьма существенно, что фигура Хакона Бранда предстает в романе не как исключительное явление, а как доведенное до крайности выражение определенной и чрезвычайно опасной тенденции, существующей, по мнению автора, в современном буржуазном искусстве. Именно поэтому Шерфиг проводит перед читателем полную вереницу лаконично очерченных «деятелей искусства» — сначала копенгагенских, а затем и тех, что наводняют Париж. Каждый из этих «гениев» озабочен прежде всего тем, чтобы любой ценой привлечь к себе внимание публики и прессы — татуированными ногами, кольцом в носу, эксцентрическим одеянием. Цель всех этих «творческих поисков» одна: как можно выгоднее продать себя и свои произведения.
Двадцать семь лет спустя Шерфиг вновь обратился к теме судьбы искусства в буржуазном обществе. В повести «Пропавшая обезьяна» в острой гротескной форме он показал плачевный финал того процесса, зарождение которого констатировал в «Мертвом человеке»: искусство оказывается во власти международного империалистического концерна, а художника заменяет дрессированная обезьяна.
Нелепо было бы видеть в произведениях Шерфига протест против поисков новых путей в искусстве или отрицание возможности существования подлинного искусства в условиях капиталистического общества — однако подобные обвинения не раз предъявлялись писателю. Отвечая на упреки критиков в связи с выходом повести «Пропавшая обезьяна», Шерфиг писал: «Уже много лет я утверждаю, что искусство, как и наука, по только имеет право, но и обязано экспериментировать». Но при этом он ставит непременное условие — надо уметь видеть разницу «между тем, что служит жизни, и тем, что ведет к смерти, к разрушению». К этому стоит прибавить, что лучшим свидетельством вздорности попыток обвинить Шерфига в косности и консерватизме является его собственное творчество художника.
Герои романа Шерфига «Пропавший чиновник» далеки от мира искусства. Теодор Амстед — типичный представитель средней буржуазии, он живет размеренной, раз и навсегда устоявшейся жизнью и не помышляет о высоких материях. Правда, где-то в глубине души этого исполнительного чиновника и идеального семьянина теплится живой огонек, почти неосознанное чувство протеста против тех узких рамок существования, которые предопределены ему в мире. Именно это становится толчком к «бунту» Амстеда, но попытка вырваться из замкнутого круга условностей и привычек, предписанных ему буржуазной моралью, оказывается наивной и беспомощной. Столкнувшись с реальной действительностью вплотную, Амстед приходит в ужас от жестокости и неразрешимой для него сложности жизни и готов добровольно отказаться даже от тех мизерных рудиментов свободы и самостоятельности, которыми располагал вначале. Горьким сарказмом проникнут финал романа, когда герой обретает свой идеал бытия в тюрьме, где он обеспечен всем необходимым и надежно защищен от всех жизненных невзгод.
Этим романом Шерфиг внес свой вклад в исследование одной из центральных тем литературы тридцатых годов — судьба «маленького человека» и характер роли, отводимой ему в обществе. Подобно многим писателям, интерпретировавшим эту тему, Шерфиг увидел и показал трагедию измельчания и стандартизации личности под воздействием обывательской среды и оружием сатиры боролся против принижения человека, против уничтожения его индивидуальности. В те годы, когда создавался роман, поставленные в нем вопросы обладали особой остротой и актуальностью: над миром все более ощутимо нависала черная тень фашизма, и в этих условиях пассивность, беспомощность и безразличие обывателя из его личной беды перерастали в источник опасности для всего общества.
После «Пропавшего чиновника» Шерфиг вполне закономерно обращается к теме, тесно связанной с кругом вопросов, поднятых в этом романе, — к проблеме воспитания человека в буржуазном обществе. Эта тема также занимала большое место в литературе тридцатых годов, и роман «Загубленная весна» стал одним из самых ярких и интересных ее воплощений.
На этот раз писатель обращается к тому типу произведения, который в датском литературоведении получил наименование «романа о коллективе». В центре внимания автора находится не один, а целая группа персонажей, и исследование их судеб дает основания не для единичных заключений, а для широкого обобщения. Перенося действие из одного временного пласта в другой, Шерфиг получает возможность продемонстрировать и самый процесс воспитания — а точнее, уродующую деформацию, которой подвергается в процессе воспитания человеческая личность, — и результат, к которому это приводит. Читатель может наглядно сопоставить те задатки, которые были первоначально заложены в каждом из учеников одного класса респектабельной гимназии, с убогим и своекорыстным миром интересов и чувств тех «мужчин в расцвете сил», которых общество вырастило и воспитало из этих мальчишек.
В числе персонажей нового романа Шерфига мы встречаем и Теодора Амстеда, и его друга Могенсена, самоубийство которого толкнуло Амстеда на то, чтобы превратиться в «пропавшего чиновника». Но рядом с ними — еще много других людей, судьбы которых не менее трагичны, так же исковерканы тем, что их «весна» была сознательно и планомерно «загублена». «Все они мечтали о чем-то другом, пока бездушная машина не зажала их в свои тиски и не превратила в то, чем они стали теперь. И пока их воспитывали и вразумляли, они не понимали, что над ними творят. Они и сейчас не сознают этого». Эти горькие слова, сказанные Шерфигом от своего имени, — один из чрезвычайно редких случаев, когда писатель открыто выражает свое отношение к изображаемому, тем самым подчеркивая важность этого вывода.
С некоторыми действующими лицами этого романа читатель вновь встречается в романах «Идеалисты» и «Замок Фрюденхольм», где прослеживаются события последних предвоенных лет и периода оккупации. В «Идеалистах» Шерфиг высмеивает и обличает тех интеллигентов-обывателей, которые старались не замечать реальной опасности фашизма и искали панацеи от всех социальных болезней в мистике, оккультизме, вегетарианстве и т. п. В романе «Замок Фрюденхольм» Шерфиг, впервые в датской литературе, воссоздает подлинную картину жизни в оккупированной Дании. Опираясь на исторические документы, собственные воспоминания и рассказы друзей-коммунистов, писатель ведет глубоко правдивое повествование о бесчинствах захватчиков, о соглашательстве политических заправил, о предательстве местных пособников фашистов и о героической борьбе датского Сопротивления, призванного к жизни и возглавленного коммунистической партией.
Особое место в послевоенном творчестве Шерфига занимает роман «Скорпион». Это произведение было создано в годы «холодной войны» по прямому заказу коммунистической партии. В Дании шел в это время скандальный процесс, так называемое «дело Паука», в ходе которого были выявлены такие злоупотребления правительственных чинов, столь постыдная коррупция и тесная связь между воротилами черного рынка и полицией, что результаты расследования были поспешно засекречены. Именно история этого процесса и стала основой сюжета романа «Скорпион», печатавшегося отдельными главами в газете «Ланд ог Фольк».
Поскольку коммунистическая газета в тот период непрестанно подвергалась судебным преследованиям, Шерфиг сделал все возможное, чтобы самые ядовитые разоблачения, заключенные в романе (кстати сказать, основанные на документальном материале), не могли стать поводом для привлечения газеты к суду. Этим объясняется неопределенность места действия (хотя любому читателю-датчанину сразу же ясно, что это — Копенгаген), вымышленные "космополитические» названия улиц и имена героев и т. д. Эта вынужденная мера стала дополнительным сатирическим приемом, так как убедительно свидетельствовала об ущербности хваленой «свободы слова».
Но роман «Скорпион» интересен не только остротой политической сатиры. В нем мы встречаемся с героем, казалось бы, очень близким по своему характеру к персонажам «Пропавшего чиновника» и «Загубленной весны». Скромный школьный учитель Карелиус, законопослушный и мирный обыватель, волею обстоятельств оказывается вовлечен в скандальный процесс и едва не становится жертвой продажного правосудия. В отличие от Амстеда, Карелиус, однако, не воспринимает все происходящее как должное и отнюдь не склонен провести остаток своих дней в тюрьме. Хотя даже и в финале романа он далек от активного протеста, все пережитое рождает в Карелиусе ощущение беспокойства и неясное представление о необходимости каких-то изменений в существующем порядке вещей. «Маленький человек» не остался прежним, он начинает прозревать, он не безнадежен — таков оптимистический вывод, к которому приводит нас автор.
Уже в повести «Мертвый человек» наметились многие особенности, ставшие затем характерными для всех произведений Шерфига в этом жанре. Прежде всего, это композиционный прием «ложного детектива». Во всех романах завязкой сюжета служит таинственное событие — нераскрытое убийство, подозрительное исчезновение, смерть при сомнительных обстоятельствах. И во всех романах автор умело переключает внимание и интерес читателя с детективной линии на истинное содержание произведения. Дочитав роман до конца, мы иногда так и не обнаруживаем разгадки тайны или попросту успеваем утратить к ней интерес. Справедливо замечает один из исследователей творчества Шерфига, что как образцы детективного жанра его романы «никуда не годятся», — писатель и ставил себе иные цели. Вместе с тем загадочные события, открывающие роман, не только призваны увлечь читателя с первых же страниц, но и входят органически в сложный комплекс социальных проблем, составляющих его содержание.
Манера повествования, избранная Шерфигом в первом романе, так же в основном сохраняется в его последующих произведениях. Нарочито бесстрастный тон, почти полное отсутствие комментариев и отступлений, лаконичность описаний и характеристик призваны как бы подчеркнуть объективность авторской позиции: писатель, казалось бы, лишь констатирует происходящее, не высказывая своего отношения к событиям и персонажам. Однако за этой сдержанностью скрывается тонкая ирония и едкий сарказм, сострадание к своим героям или неприязнь к ним. (Особенности стиля Шерфига делают его произведения очень трудными для перевода — при кажущейся простоте и прозрачности почти каждая фраза многозначна и полна скрытого смысла.) Именно эта мнимая объективность авторской позиции позволяет Шерфигу достигать необычайно сильного сатирического эффекта, когда он в повести «Пропавшая обезьяна» включает в текст заумные рассуждения, дословно цитируемые из подлинных работ «теоретиков» модернистского искусства, или в романе «Замок Фрюденхольм» использует материалы прессы и официальные документы периода оккупации, содержание которых явно противоречит истинному положению вещей, изображаемому в книге.
Интересно, что если в «Мертвом человеке» повествование велось от первого лица, и рассказчик отчетливо идентифицировался с автором (в некоторых местах он даже назван по имени), то в дальнейшем Шерфиг полностью отказывается от такого приема. Сознательно «удаляясь» со страниц своих произведений, писатель, однако, не лишает читателя своего присутствия: мы все время испытываем ощущение, что рядом с нами находится умный, наблюдательный, обладающий огромным чувством юмора собеседник, который не желает навязывать нам свои суждения, но предоставляет в наше распоряжение весь материал, необходимый для того, чтобы мы эти суждения вынесли самостоятельно.
Ханс Шерфиг, большой и чрезвычайно оригинальный художник, в творчестве которого нашли достойное продолжение и развитие лучшие традиции реалистической литературы Скандинавии, является ярким примером самоотверженного служения подлинно гуманному и животворному искусству, верности высоким принципам. Вне всякого сомнения его произведениям предстоит еще очень долгая жизнь, и все новые и новые читатели будут пополнять ряды тех, кто относит этого датского писателя к числу своих любимых авторов.
Е. Куприянова


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
В прошлом году, в начале октября, в Копенгагене исчезли два человека. Об их исчезновении сообщили в полицию почти одновременно, с промежутком всего лишь в несколько дней. На первый взгляд между этими двумя людьми не существовало никакой связи.
Один из пропавших, нелюдим и чудак, жил в крайне стесненных обстоятельствах, а другой, почтенный отец семейства и чиновник, был вполне обеспеченный человек. И по образу жизни и по характеру они совершенно не походили друг на друга.
Если тем не менее полиция пыталась связать оба происшествия, то прежде всего потому, что в обоих случаях не было никакой возможности установить их подоплеку. Внимание полиции привлекло и то обстоятельство, что оба пропавших были ровесники. Они родились в одном и том же году. Это, конечно, могло быть простым совпадением, но оказалось, что следствие не зря уделило столько внимания этой незначительной подробности, ибо она пролила некоторый свет на обстоятельства дела.
Во всяком случае, полиции удалось в кратчайший срок выяснить, что одни из пропавших самым чудовищным и необычным способом покончил с собой. Но понадобилось еще некоторое время, чтобы определить, кто именно из двух совершил самоубийство. Только после того, как было найдено предсмертное письмо самоубийцы, удалось опознать труп, обнаруженный на территории Амагерского полигона.
Но полиции стало известно о предсмертном послании лишь через много дней после самоубийства, и виной тому была крайняя приверженность к порядку и неукоснительное соблюдение служебного долга, присущие начальнику одного из отделений военного министерства. Никто, разумеется, не вправе попрекнуть чиновника за приверженность к порядку. Но в данном случае следствие усложнилось и затянулось именно по этой странной причине.
Впрочем, и после того, как было найдено предсмертное письмо самоубийцы, в этом деле оставалось еще много темного и необъяснимого. Почти целый год полиция билась над ним, прежде чем ей удалось до конца распутать его. Обработка крайне скудных данных, на которые опиралось следствие, протекала под покровом полной тайны. Это была высокоответственная и хлопотливая работа: нельзя было допустить, чтобы какая-нибудь, даже самая незначительная деталь ускользнула из поля зрения полиции. Некоторые на первый взгляд совершенно пустяковые сведения, дошедшие до полиции при содействии частных лиц — некоего парикмахера из Северной Зеландии и бывшего учителя одной из столичных школ, — на поверку оказались решающими.
Да, это действительно была одна из самых сложных головоломок, которые когда-либо приходилось решать полиции. А когда решение было найдено, оно вызвало не только сенсацию, но и всеобщее восхищение. И газеты, разумеется, совершенно справедливо отмечали как заслугу полиции, что только в итоге образцовой организации и замечательного взаимодействия между всеми ее отделами стало возможным распутать это необычное в судебной практике дело.
Создание системы единой полицейской службы сыграло в этом случае решающую роль.
Глава 2
Первые сведения были получены полицией от фру Амстед.
Вечером, около восьми часов, она позвонила в полицейское управление. Ее муж, Теодор Амстед, сообщила она, чиновник одного из отделов военного министерства, все еще не явился со службы домой. Обычно же он возвращался точно в двадцать минут шестого. Это был пунктуальный человек. В пять часов он выходил из своего кабинета и покидал красное здание министерства. Чтобы добраться до своей квартиры на Гаммельхольме, ему требовалось ровно двадцать минут. Он шел кратчайшим путем средним размеренным шагом.
При этом он старался ступать непременно посредине каменных тротуарных плит, не задевая швов между ними. Точно так же он придавал какое-то значение тому, чтобы непременно наступать ногой на некоторые из канализационных крышек, встречавшихся на его пути. И если ему случалось по рассеянности забыть об этом, то он мог преспокойно вернуться, чтобы твердо ступить ногой на пропущенную крышку. Как человек долга, он чувствовал угрызения совести, если не выполнял всего, что полагалось.
Только в очень плохую погоду он прибегал к услугам трамвая. Впрочем, это не составляло никакой разницы во времени. Трамвайные линии были расположены так неудобно, что он мог проехать только две остановки. У памятника Нильса Юля он выходил из трамвая и всю остальную дорогу — по улицам Нильс-Юльсгаде и Херлуф-Троллесгаде — шел пешком.
Фру Амстед, разумеется, уже звонила и в министерство. Один из секретарей, задержавшийся на работе, сообщил ей, что господин Амстед отбыл из министерства около двух часов дня. Он получил письмо, которое, по-видимому, сильно взволновало его. Он очень нервничал и, уходя, забыл свой коричневый портфель и палку.
Это сообщение сильно встревожило фру Амстед. Часы шли, и у нее не было другого выхода, как позвонить в полицию.
Муж ее, даже если бы с ним стряслось что-нибудь из ряда вон выходящее, мог бы позвонить по телефону домой. У них никогда не было тайн друг от друга. Их брак был совершенно счастливым. Никому и в голову не пришло бы, что она или муж пойдут куда-нибудь развлекаться в одиночку. Все восемнадцать лет супружества они прожили душа в душу. Фру Амстед даже не представляла себе, кто мог писать ее мужу, и почему письмо адресовано в министерство, а не на Херлуф-Троллесгаде.
О том, чтобы муж ее познакомился с какой-нибудь женщиной и переписывался с нею втайне от жены, не могло быть и речи.
Ей известно все, что касается ее мужа. Ни в жизни, ни в душе, ни в теле его нет ни одной черточки, которая не была бы прекрасно знакома ей или могла бы ускользнуть от ее внимания.
— Так, так! — ответили фру Амстед из полицейского управления. — Теперь дайте нам только время. Если бы ваш муж попал в автомобильную или в какую-нибудь другую катастрофу, мы уже имели бы об этом сведения от санитарного отдела пожарной команды или от скорой помощи. Между тем ни в городские, ни в пригородные больницы не доставлен ни один пострадавший по имени Теодор Амстед. Нет и таких, чье имя не удалось бы установить.
Но это, конечно, не успокоило фру Амстед. За восемнадцать лет ни разу не случилось, чтобы муж явился домой позже чем в двадцать минут шестого. Только однажды он ушел из министерства раньше времени. У него тогда было воспаление надкостницы, и боль вдруг так усилилась, что он не в силах был дольше терпеть. Но, разумеется, и тогда, прежде чем отправиться к зубному врачу, он позвонил домой.
А письмо, которое Теодор Амстед получил по служебному адресу, — это уж нечто совершенно непостижимое. Кто же, во имя всего святого, мог ему писать?
Фру Амстед знала, что шестнадцатилетним гимназистом ее муж был платонически влюблен в какую-то продавщицу из киоска. Фру даже помнила стишки, которые юный Амстед посвятил даме своего сердца.
Вот сидишь ты в узком окошке киоска,
Как вешние грезы, смеются глаза...
На меня же обрушилась дождь и гроза.
Фру Амстед давно уже простила мужу этот грешок юности. Если она когда-либо напоминала ему об этом, то только в шутливой форме, поддразнивая его; в таких случаях он краснел и смущенно улыбался.
Нет. Никаких тайн от жены у него не было. И все происшедшее кажется ей таким непонятным и диким.
Фру Амстед плакала. «Что же могло приключиться с нашим папочкой? Что случилось?» — то и дело повторяла она.
И ее мальчик — тринадцатилетний Лейф — тоже плакал и так стучал зубами, словно его знобило. Это был худой, бледный мальчик с очень светлыми волосами.
Обед давно остыл, и фру Амстед уже не раз подогревала его. На обед были фрикадельки с сельдерейной подливкой. «Нет ничего хуже сельдерейной подливки», — думал Лейф. Всхлипывая, он все же испытывал некоторое удовлетворение от того, что обеденная трапеза с ненавистными фрикадельками и сельдерейной подливкой откладывается на неопределенный срок.
Да и вообще вся обстановка как-то удивительно будоражила и щекотала нервы. В строго отрегулированную и размеренную жизнь ворвалось что-то необычное, потрясающее.
Когда обед, наконец, подали, у матери уже не хватило духу уговаривать сына, чтобы он все съел. Обычно она начинала его пилить:
— Ты никогда не вырастешь большим и сильным, если не съешь всего! Сельдерей с фрикадельками — самая полезная пища! Уж можешь не сомневаться, что Лейф Счастливый всегда начисто съедал свои фрикадельки с сельдерейной подливкой!
Лейф Счастливый, прославленный викинг и мореход, всегда ставился в пример мальчику — когда он плохо ел или когда у него не выходили задачи.
На этот раз, вставая из-за стола, фру Амстед даже не заметила, что на тарелке Лейфа осталось немного сельдерея. Обычно же в семье придавалось огромное значение тому, чтобы впихнуть в глотку юнцу именно эти остывшие комки. Однажды, когда Лейф был еще малышом, он целый вечер продержал во рту одни из таких «остатков». Не будучи в силах проглотить эту снедь, Лейф несколько часов хранил ее за щекой, так что родителей даже встревожило его молчание. Обнаружилась эта проделка в тот самый миг, когда он собирался выплюнуть вязкий ком в носовой платок. Какой тут поднялся отчаянный переполох! В назидание мальчику помянули и Лейфа Счастливого и тех бедных детей, которые были бы наверху блаженства, если бы их кормили так жe вкусно, как Лейфа. А если он и впредь будет вести себя предосудительно, пригрозили ему, то когда-нибудь ему и в самом деле придется голодать. А Лейф решил про себя: как это, должно быть, замечательно! Нет, он совершенно не думал о еде.
В этот вечер даже уроки были забыты. Обычно мать проверяла сына по истории и географии. Арифметику и немецкий язык взял на себя отец.
Немало ожесточенных стычек разыгрывалось ежедневно в квартире на улице Херлуф-Троллесгаде. Зато Лейф шел одним из первых учеников в классе. Это доставалось, конечно, не без слез. В свое время и отец Лейфа принадлежал к числу лучших учеников. И это тоже стоило многих слез. Отец Лейфа посещал ту же самую серую школу на площади Фруе-Пладс, которую окончил его отец. Да, в семье Амстедов были свои традиции...
Фру Амстед то и дело бегала к окну и окидывала взором пустынную и темную Херлуф-Троллесгаде. При этом она старалась особенно бережно обходить ту часть ковра, которая больше всего подверглась износу.
Лил дождь. Непогода так разыгралась, что слышно было, как дребезжит термометр за окном. Издали, с Новой Королевской площади, доносился грохот трамваев. А вдали, в порту, гудели пароходы. В комнате еще попахивало сельдереем. Да и разрисованный линолеум, которым устлана была столовая, тоже сохранял свой собственный запах. «Зато до чего же легко мыть линолеум!» — говаривала обычно фру Амстед.
Большие часы, стоявшие на буфете, тикали громко и ритмично. И когда раздавался их бой, фру Амстед испуганно вздрагивала. Девять! А его все еще нет... Половина десятого, десять. А его все нет...
Глава 3
Лишь несколько дней спустя в полицию дали знать, что еще один человек бесследно исчез.
Некая фру Меллер, проживающая на улице Розенгаде, заявила, что ее жилец Микаэль Могенсен, занимавший в ее квартире чердачную комнату, вот уже три дня и три ночи не показывается домой. Это наводит ее на мысль, что с ним могло приключиться какое-нибудь несчастье.
Могенсен задолжал ей квартирную плату за прошлый месяц — целых пятнадцать крон. И уж раз он сбежал, фру Меллер просит полицию либо разыскать ее жильца, либо разрешить ей покрыть свои убытки за счет продажи оставшихся после него пожитков.
Пятнадцать крон — это, конечно, немалая цена за каморку на чердаке, которую фру Меллер сдавала Микаэлю Могенсену. В этой конуре даже порядочной двери нет; вместо нее — какая-то решетка, сквозь которую из коридора все видно. К тому же в комнате совсем нет мебели. Могенсен спал прямо на полу, на подстилке из старых газет, положив под голову старый черный портфель. В одном углу была навалена большая груда книг, в другом — кипа газет, в третьем — была «кухня», то есть здесь находились примус, опасный для жизни его владельца, сковорода, кастрюля, спирт и керосин.
Могенсен слыл чудаком и пользовался широкой известностью во всем квартале, в особенности у детей. Он носил длинные, давно не стриженные волосы и бороду. На улице он показывался обычно в старом поношенном пальто и со старым черным портфелем под мышкой. Никто имел ни малейшего представления о содержимом могенсеновского портфеля, но всем казалось, что в нем хранится нечто диковинное, необычное.
— И все-таки это тихий и кроткий человек, — сказала фру Меллер. — Он и мухи не обидит!
Фру Меллер утверждала, что Могенсен происходил из хорошей семьи и даже где-то когда-то учился. Но что-то в нем, по-видимому, надломилось, и ничего путного из него не вышло. Он не пил. И за женщинами не волочился. И не только не распутничал, а даже наоборот — жил как настоящий аскет.
Могенсен вечно корпел над какими-то толстыми книгами. Были среди них и книги на иностранных языках, которые фру Меллер не понимала. А как изысканно и культурно он выражал свои мысли! Да, многого достиг бы он в жизни, если бы только захотел. Но, по-видимому, что- то стряслось с ним, вот он и стал таким чудаком.
Все обитатели Розенгаде относились к Могепсену вполне благожелательно. Кто бы ни повстречался ему — он со всеми любезно здоровался, приподнимая шляпу. Эта узкая, короткая улица напоминала провинциальный городишко, где все друг друга знают. Это — маленький, замкнутый мирок. Здешние жители вполне довольствуются своей улицей и только изредка — да и то неохотно — заглядывают в другие части города.
Улица была населена главным образом бедным городским людом, которому не повезло в жизни. Их собственные жизни были разбиты вдребезги, а сами они, будто обломки погибшего корабля, оказались заброшены сюда. И улица эта стала островом мертвых кораблей.
Однако на Розенгаде совершаются также всякие темные и скверные делишки. Как ни узка и ни коротка улица, на ней немало домов, таинственно скрытых на задворках и в закоулках, да и во дворах там достаточно темно.
Здесь есть, например, несколько тайных кабачков, где в неурочный час можно выпить стакан портвейна. Есть тут и злачные места, где случайным парам сдаются койки в два яруса. Вон там живет знахарка, тайно делающая ужасные противозаконные операции. А подальше — некая дама в прорезиненной черной накидке; она живет одна с огромным псом.
Здесь немало проституток всех возрастов. Крашеной блондинке, продающей мороженое в ларьке, уже под шестьдесят. Она помнит времена до официального запрещения проституции. А крошке Майе всего девять лет. Но зарабатывает она больше толстой блондинки. «Какое милое и воспитанное дитя!» — говорят о ней обитатели Розенгаде. Вежливо кланяясь посетителям некоего заведения, она придерживает перед ними парадную дверь. У Майи такие лучистые глаза! Иногда у нее бывают эпилептические припадки.
Могенсен со всеми приветливо здоровался. Он всегда бывал замкнут и нисколько не интересовался жизнью улицы. Это был джентльмен до мозга костей. С достоинством шествовал он по тротуару в своем поношенном пальто, в дырявых башмаках и с загадочным портфелем под мышкой. И всех встречных он торжественно приветствовал, приподнимая старенькую замасленную шляпу. Хоть он и сутулился, был близорук и довольно неопрятен, но зато преисполнен спокойствия и сознания собственного достоинства.
Речь у него была особенная, и в разговоре он употреблял выражения, непонятные фру Меллер и другим обитателям улицы. Но ничего другого о нем безусловно нельзя было сказать.
Вот почему фру Меллер даже и мысли не допускала, чтобы Могенсен мог совершить какое-нибудь противозаконное деяние и после этого скрыться. А что касается пятнадцати крон, которые он остался должен ей за квартиру, то это никоим образом не могло быть причиной исчезновения Могенсена. Ему не раз и прежде случалось просрочить взнос за квартиру, и даже не за один, а за два месяца. И если фру Меллер сообщила в полицию об исчезновении Могенсена, то это вовсе не из-за денег. Нет, она не таковская. Ее нельзя упрекнуть в бесчеловечности. Хотя, конечно, в денежных делах необходим порядок, потому что ведь всем надо жить. А пятнадцать крон — сумма немалая.
Как-то она сказала Могенсену:
— Я знаю, Могенсен, что вы порядочный человек. Вы не захотите меня обжулить. Я ни чуточки не волнуюсь за свои пятнадцать крои.
Могенсен отвечал, что ей, разумеется, нечего волноваться:
— Эта сумма, фру Меллер, будет вам уплачена на будущей неделе.
И если потом они все же немного поссорились, то лишь потому, что у Могенсена вдруг оказалось много денег. А значит, думала фру Меллер, у него не было уже оснований тянуть с уплатой долга. Тем более что Могенсен тратил свои деньги самым легкомысленным и безрассудным образом. Если за один вечер он способен буквально вышвырнуть в окно больше сотни крон, то стыдно не платить вовремя за квартиру. Именно за это фру Меллер и отчитала Могенсена, а он обиделся на нее:
— Очень жаль, фру Меллер, что мы не можем с вами договориться. Я ведь членораздельно заявил вам: на будущей неделе! И вы сами согласились на это. А пока что я намерен тратить свои деньги так, как считаю нужным.
Тем не менее фру Меллер горько сетовала на его безрассудную расточительность, и тогда Могенсен бросил ей в ответ суровые и обидные слова:
— Вы — жалкое существо, фру Меллер! Такой человек, как я, не опустится до того, чтобы пререкаться с вами. Я в высшей степени презираю вас!
Слова эти услышали соседи, раздался смех. А фру Ольсен, торговавшая мороженым, даже закричала:
— Так ее, Могенсен! Крой ее хорошенько!
Подумать только, ей наговорили таких ужасных вещей в ее собственной квартире! Это были последние слова, которые фру Меллер услышала от Могенсена.
На следующее утро он исчез. Странная пирушка, на которую Могенсен потратил столько денег, явилась как бы прощальным ужином.
Глава 4
Десятого октября — на следующий день после того, как фру Амстед сообщила в полицию об исчезновении своего мужа, — на Амагерском полигоне была сделана потрясающая находка.
Солдат, участвовавший в артиллерийских стрельбах на полигоне, обнаружил страшные останки человека, буквально разорванного на куски.
Солдат этот был послан вместе с другими на поиски неразорвавшегося снаряда, который мог представлять большую опасность, если бы па него случайно набрели посторонние лица.
Невдалеке от того места, где Кальвебодская плотина упирается в Амагер, солдат наткнулся на большую яму, словно образовавшуюся в результате взрыва. К своему ужасу, он нашел там клочья одежды и окровавленные человеческие останки, как бы рассеянные во все стороны вокруг воронки.
Об этом немедленно дали знать в полицию, которая принялась вместе с военными специалистами по взрывчатым веществам за самое тщательное расследование.
Удалось установить, что взрыв отличался необычайной силой. А если его никто не услышал и не увидел, то, очевидно, потому, что как раз в это время происходили артиллерийские стрельбы из орудий крупного калибра. Грохот взрыва, очевидно, приняли за орудийный выстрел или разрыв снаряда.
Зрелище, представившееся чиновникам полиции, было так ужасно, что даже вечерние выпуски газет — и те сочли за благо воздержаться от описания подробностей.
Эксперты установили, что пострадавший был весь обложен динамитом; взрывчатка была напихана в карманы, шляпу, ботинки и т. д. Даже во рту у него был динамит.
При данных обстоятельствах и речи не могло быть об опознании трупа. Были подвергнуты тщательному химическому анализу несколько жалких клочков какой-то серой ткани да внимательно изучены остатки карманных часов.
К удивлению полиции, часы не разлетелись вдребезги, а были лишь основательно повреждены, будто их просто швырнули о камень или топтали ногами. Их нашли в нескольких метрах от воронки.
На задней крышке часов даже удалось обнаружить отпечатки пальцев, а кроме того, было точно установлено, что часы остановились на тридцати четырех минутах четвертого. Но для установления личности пострадавшего всех этих деталей, естественно, было еще далеко недостаточно.
Расследование проводилось полицией очень основательно и продуманно. На месте злополучного происшествия вся земля была перекопана и исследована. Со следов ног были изготовлены гипсовые слепки, а остатки динамитной пыли тщательно собраны и сфотографированы. Кусочки пуговиц, монеты, обрывки кожи и так далее были также тщательно собраны и подвергнутыдетальному изучению. В ход были пущены все новейшие методы современной техники.
Прошла почти неделя, прежде чем эти исследования принесли реальные результаты. Что же касается обнаруженных клочков одежды, то удалось установить, что это остатки серой, чистошерстяной, крученной в две нитки ткани английского происхождения. По уцелевшим следам буквенных оттисков на изнанке одного из лоскутьев удалось даже восстановить фабричное клеймо «C. D.», инициалы известной английской текстильной фирмы «Chestertown-Deverill».
По счастливой случайности оказалось, что монопольное право продажи этого превосходного сукна принадлежало лишь одному копенгагенскому портному. И полиция немедленно принялась за изучение списков его клиентов.
В числе постоянных заказчиков этого портного оказался и исчезнувший Теодор Амстед.
Но еще до того, как полиция побывала в доме пропавшего без вести чиновника, и до того, как она успела сравнить отпечатки пальцев на крышке часов с отпечатками, снятыми на квартире и в служебном кабинете Амстеда, в полицейское управление поступили сведения о письме, полученном 14-м отделом военного министерства от пропавшего чиновника.
Это было предсмертное письмо, в котором Теодор Амстед извещал о принятом им роковом решении.
Теперь как будто все разъяснялось. Но, как окажется впоследствии, самоубийство несчастного чиновника все еще оставалось окутано тайной.
Глава 5
Когда в 14-й отдел военного министерства приносили дневной выпуск газеты, то есть ровно в одиннадцать, первым ее раскрывал и прочитывал, с молчаливого согласия остальных, молодой секретарь Хаугорд, отец которого в своевремя состоял секретарем Государственного совета.
Закончив чтение, он передавал газету фрекен Лилиенфельдт, так как ее папаша имел чин полковника, и по положению она занимала место вслед за господином Хаугордом. Переходя из рук в руки, газета по очереди прочитывалась всеми служащими, в соответствии с раз и навсегда заведенным порядком и последовательностью, отвечающей происхождению и чину каждого служащего.
Корреспонденция, прибывшая в 14-й отдел военного министерства, обрабатывалась по специальной инструкции о порядке прохождения писем через отдел. Входящие бумаги были самого разнообразного свойства и содержания. Их вскрывали, регистрировали, размечали условными шифрами, штемпелевали и, наконец, прочитывали по единой, тщательно разработанной системе в строгой и обязательной для всех последовательности.
Среди них были письма, касающиеся обороны страны, и письма, имеющие жизненно важное значение для национальной безопасности. Были письма и менее значительные, например, счет стекольщика за вновь вставленное оконное стекло, которое было разбито порывом ветра по недосмотру одного из чиновников, небрежно закрепившего оконные крючки.
Были там и просто всякие отношения, заявления, просьбы и проекты, которые пересылались начальнику управления или министру обороны. На некоторые письма мог ответить начальник отделения. А были и такие письма, которые полагалось оставлять вовсе без ответа и возвращать отправителю — после того, как на них проставлялись входящие и исходящие номера и делались всякие регистрационные пометки.
В распоряжении чиновников имелся специальный код — целая система условных обозначений и иероглифов, которые начальник наносил красным или синим карандашом. Для посвященных они служили ориентиром, определявшим дальнейшую судьбу письма.
Весь этот сложный механизм объясняет, почему письмо, адресованное в 14-й отдел военного министерства, некоторое время просто лежало без движения, а затем уже подверглось известной процедуре, которой не может избежать ни одно письмо, прежде чем его прочтут и ответят на него.
На следующий день после исчезновения Теодора Амстеда с ранней утренней почтой прибыло письмо, адресованное лично начальнику отделения. Благодаря этому обстоятельству оно попало в руки адресата значительно скорее, чем другие письма, прибывшие вместе с ним. Но вследствие своеобразной и незыблемой системы обработки почты понадобилось все же около недели, чтобы письмо попало к начальнику и было прочитано им.
Не приходится сомневаться, что содержание письма произвело на начальника ошеломляющее впечатление. Голос его звучал хрипло, когда он вызвал Дегерстрема в свой кабинет и предложил ему сесть.
— Случилось нечто... нечто неслыханное и постыдное! Происшествие, которое может запятнать честь нашего отделения и даже всего министерства в целом!
Дегерстрем напряженно слушал.
— Я считаю своим долгом поставить вас в известность об этом. Тем более что, по-моему, такой вещи все равно не скроешь. Господин Амстед умер!
— Умер? Неужели?
Дегерстрем, естественно, прежде всего подумал о том, что, когда начальник отделения достигнет установленного возраста, первым кандидатом на его место будет он, Дегерстрем. В отделении все терпеливо ждут, когда время, наконец, возьмет свое. Только на время и можно рассчитывать, мечтая о продвижении по служебной лестнице.
— Амстед умер постыдным образом. Он покончил с собой. Вот у меня в руках письмо, которое он адресовал лично мне и в котором он пытается изложить причины, толкнувшие его на этот шаг. Он прежде всего уведомляет меня о том, что в отделе его больше не увидят. Ключи от его шкафа и от ящиков письменного стола находятся у него на квартире. А то, что он счел нужным доложить министерству о своем намерении, вызвано особым способом самоубийства, который он избрал: вероятно, не представится ни малейшей возможности опознать его останки. Оп, оказывается, сам взорвал себя на воздух, набив взрывчаткой не только свои карманы, но и шляпу и даже рот...
— Значит, он и есть тот самый, который на Амагерском полигоне...
— Да, именно. Это о нем столько болтают газеты. А теперь и наше отделение будет замешано в это скандальное дело.
— Боже милостивый!
— Да, больше ничего не скажешь!
— Как это ужасно!
— Еще бы!
— А его несчастная семья...
— Да!
— Ужасно!
— Да. Но вы послушайте дальше. Амстед поручает мне известить о происшедшем его супругу и просит сделать это возможно деликатнее. Что касается мотивов его поступка, то он может только сообщить, что его супружеская жизнь тут ни при чем и что вообще никакой любовной подоплеки в этом деле нет. Его самоубийство — лишь результат личной неудовлетворенности своей работой и тем, что его способности не нашла надлежащего применения.
— Что? Неудовлетворенность работой? Работой здесь, в нашем отделении? Но разве возможно, чтобы эта работа кого-нибудь не удовлетворяла?
— Вы правы, это совершенно непостижимо. Никто не подозревал даже, что Амстед недоволен своей работой или хоть в какой-нибудь мере имел основания для недовольства. И все же он пишет в этом — если можно так назвать его — предсмертном послании, что его жизненные запросы не удовлетворены.
— Совершенно непонятно!
— Да.
— Может быть, он спятил?
— Что ж? Пожалуй, есть некоторые основания предполагать, что Амстед совершил этот отчаянный поступок в состоянии психического расстройства.
— Ну, конечно, только так и можно все объяснить. Он просто заболел.
— Но какая тяжелая форма психического заболевания! Очень тяжелая! На меня ложится теперь печальный долг сообщить уголовной полиции о получении письма, Я считаю необходимым сделать это по телефону. Все, что произойдет в дальнейшем, — это уже дело полиции. Увы, нам не приходится рассчитывать на деликатность прессы, что было бы для нас весьма желательно. Боюсь, что все министерство и в первую очередь наше отделение окажутся втянутыми в это трагическое происшествие. Поэтому-то я и считаю своей обязанностью заранее подготовить вас к этому.
— Какая жалость! Ах, какая жалость!
Дегерстрем сделал было вид, что он порывается уйти и поскорее передать потрясающую новость сослуживцам, но начальник задержал его:
— Есть еще одно обстоятельство, которое мне хотелось бы довести до сведения всего личного состава отделения. При создавшемся положении не может быть, естественно, даже и речи о нашем официальном участии в похоронах Амстеда. Если бы кто-либо из чиновников пожелал в той или иной форме отдать дань уважения памяти покойного или выразить соболезнование его осиротевшей семье — в виде венков, цветов или других знаков внимания, — то он может это сделать только в сугубо частном порядке. Отделение как таковое не примет в этом участия. Равным образом в отделении не должны иметь места какие-нибудь денежные сборы или тому подобные мероприятия.
Глава 6
В квартиру фру Амстед позвонил человек в спортивной куртке, с велосипедными зажимами на брюках. Нетрудно было догадаться, что это агент уголовной полиции.
— Прошу прощения, фру! Я, к сожалению, вынужден потревожить вас: расспросить о прискорбном событии...
— Ах, да, конечно. Заходите. Но вы понимаете... я так расстроена. То, что свалилось на нас, — выше человеческих сил. А теперь еще и полиция!..
— Я, разумеется, понимаю, как это тягостно для вас. И постараюсь сократить свой визит, насколько возможно.
Они идут по очень мрачному длинному коридору.
— Садитесь, прошу вас. Пожалуйста, не обращайте внимания на беспорядок. Здесь сегодня не убрано. Пришлось отпустить прислугу, ведь жизнь выбилась из привычной колеи. Ах, это все так тяжело! Если бы я заранее знала, что вы придете... Обещайте мне, пожалуйста, что не будете обращать внимания на этот беспорядок.
— Прошу вас, не беспокойтесь, я ничего не вижу, — сказал сыщик, окидывая пристальным взглядом комнату, в которой царил образцовый порядок.
Обстановка самая старомодная. По-видимому, получена в наследство от родителей Амстеда. Все сорок шесть лег своей жизни Теодор Амстед изо дня в день видел перед собой эти вещи.
Вот маленькая шкатулка из красного дерева. А вот ломберный стол с двумя полированными досками, одна из которых так приподнята, что в ней, как в зеркале, видно двойное отражение саксонских фарфоровых безделушек. Дальше овальный стол с кружевной скатертью и хрустальной вазой посредине. А вот небольшие томики стихов в кожаных переплетах. Наконец, рояль. По датскому обыкновению, он стоит открытый, с разложенными на пульте нотами, будто на нем только что играли...
— Ах, это все так ужасно... ужасно. И как это могло случиться? Ничего не понимаю. Мне все кажется, что это сон, что я вот-вот проснусь, и страшное наваждение рассеется... Мы были так счастливы. Уверяю вас. Мы были по-настоящему счастливы. За восемнадцать лет нашей супружеской жизни мы не расставались ни на один день. Моему мужу и в голову не приходило пойти куда-нибудь без меня... Это и ставит меня в тупик... Уж не заболел ли он? Все это могло произойти только в припадке какого-то внезапного умопомрачения. Как вы думаете? А в полиции того же мнения?
— Разумеется. А вы раньше ничего не замечали за мужем? Может быть, нервы у него расшатались?
— О нет, нет, что вы! Совсем напротив. Он всегда был такой спокойный и уравновешенный. Мы вели очень регулярный образ жизни. И всегда заботились о том, чтобы у нас было хорошо и уютно.
— И даже самое последнее время вы не замечали за ним никаких странностей?
— Никаких решительно. Ну как может вам прийти в голову такая мысль? Если бы вы знали его! Он был всегда такой ровный. Точный и аккуратный. Можно смело сказать, что это был человек привычки. Он не любил перемен. Все у него стояло на своем месте. И у меня тоже. Мы во всем друг с другом соглашались. Ах, какой он был добрый, наш папочка! И всегда такой внимательный ко мне! Как он мог это сделать?! Он поставил меня в ужасное положение! Что скажут наши знакомые? И вообще все, кто узнает? В газетах уже писали об этом. Я теперь не решаюсь взять газету в руки!..
Фру Амстед прикрыла глаза ладонями и разрыдалась. Сыщик вежливо ждал, пока она успокоится.
— Это так непонятно, какое-то безумие! Если бы я только знала, почему... И таким способом!
— Да, все это очень странно. Вот именно поэтому я и пришел сюда. Полиция не может до конца разобраться в этом происшествии. Здесь еще много неясного. У нас фактически пока еще очень мало данных, за которые мы могли бы ухватиться. Вы как будто узнали по разбитым остаткам часы вашего мужа. Костюм, бывший на покойнике, заказан в мастерской у портного Хольма, который обычно шил на вашего мужа. И, наконец, еще письмо. Вы-то вполне убеждены, что письмо написано лично вашим мужем? И что почерк — его собственный?
— Да, разумеется. Письмо написано им. И почерк его. Изящный, четкий почерк. Кто же еще мог написать это письмо? Или вы думаете, что письмо мог написать кто-нибудь другой? Может быть, в полиции полагают, что это вовсе не мой муж покончил свою жизнь таким... таким ужасным способом?
— На этот счет, к сожалению, не остается никаких сомнений. Уж кто-кто, а вы-то должны знать его почерк. Да и нетрудно сравнить это письмо с другими. Какая кому может быть выгода от подложного письма? Странно только, что он не называет подлинных мотивов своего поступка. А догадаться об этих мотивах просто невозможно.
— Да, но... А не кажется ли вам, что какая-то доля сомнения все-таки остается? Вы же понимаете... я уже делаю все необходимые приготовления. Уже и объявление в газеты дано — коротенькое, скромное, какое и ему самому бы понравилось. Да еще нужно столько всяких дел переделать! Приходится и о трауре подумать, о траурном платье. Вы ведь знаете, чего это все стоит, когда умирает близкий человек. Так было, когда умер мой свекр...
Через приоткрытую дверь сыщик заглянул в столовую. То была продолговатая, чуть срезанная наискось комната. Единственное окно находилось в самом углу, и света в нее проникало немного. Можно было разглядеть темные панели и дубовый буфет. На обеденном столе — швейная машина, а рядом какая-то черная ткань. На одном из стульев висело несколько платьев.
Госпожа Амстед уловила взгляд сыщика.
— Ах, вот видите! Вы уж извините за этот беспорядок. Когда вы позвонили, я как раз шила. Спарывала отделку с некоторых платьев, их нужно отдать покрасить. С минуту на минуту я жду посыльного, я даже думала, что он как раз и звонит. Платья я перекрашиваю в черное. А все-таки скажите: неужели нет никаких сомнений в том... что тот... ну, словом, который погиб... мой муж?
Она схватила сыщика за руку.
— Вы должны мне сказать. Вы обязаны сказать. Можно ли допустить, что он вовсе не умер? Может быть, он просто потерял память и где-нибудь скитается? Или мало ли что еще могло случиться? А вдруг на полигоне погиб кто-то другой? Или, может быть, муж мой не убивал себя? Вдруг это кто-нибудь другой его... Может быть, его убили?
Глава 7
Сыщик мягко высвободил свою руку.
— Да нет, что вы, фру! Я этого не думаю. Мне только кажется, что в этом деле еще много невыясненного. Нам так и не удалось раскрыть ни мотивов, ни причины. Поэтому нужно, чтобы вы рассказали мне все, что знаете. Ничего не скрывайте. Будьте спокойны и целиком положитесь на нас. Что бы вы ни доверили нам, все останется строго между нами.
— Ну, что же вы хотите знать? Что я вам должна рассказать?
— Не беспокойтесь, пожалуйста, если я стану спрашивать вас прямо, без обиняков. И будьте, прошу вас, совершенно откровенны. Действительно ли вы уверены, что у вашего мужа не было... каких-нибудь знакомств на стороне? Не возникали ли у вас когда-нибудь подозрения на этот счет?
Фру Амстед посмотрела на него в упор.
— И вы хотите, чтобы я спокойно выслушивала подобные вопросы? Чтобы я терпела их? Здесь, в моем доме? В его доме?
— Вы напрасно так реагируете на это, фру. Я вынужден задавать эти вопросы. Я должен знать все. В наших интересах выяснить все обстоятельства дела. Ведь в министерство пришло письмо. Оно прибыло туда как раз перед уходом вашего супруга и явно поразило его.
— Я могу сказать вам только одно: для моего мужа не существовало никого, кроме меня. Меня и Лейфа. И нашего дома. В этом была вся его жизнь.
— И вы не имеете никаких представлений о том, кто мог бы написать в министерство это письмо?
— Ни малейшего. Мне это абсолютно непонятно. Никогда в жизни он ничего не скрывал от меня. Что бы с ним ни случалось, он всегда делился со мной.
— И в то же время совершенно очевидно, что между таинственным письмом и отчаянным поступком вашего мужа должна существовать какая-то связь. Для нас было бы весьма важно узнать что-нибудь о содержании пресловутого письма или об его отправителе. Неужели же у вас нет никаких предположений? Может быть, вы все-таки подумаете об этом?
— Нет, мне не о чем думать. Для меня это сплошная загадка. Я часто мысленно возвращаюсь к письму. Оно мучает меня и днем и ночью. И все-таки я не могу себе представить, кто же писал Теодору. Не могу...
— В каком положении находились денежные дела вашего мужа? Не было ли у него каких-нибудь затруднений?
— Мой муж не принадлежал к числу людей, которые влезают в долги. Все его дела были в полном порядке.
— Застраховал ли он свою жизнь?
— Да. А почему вы об этом спрашиваете? Конечно, застраховал. К счастью он вовремя позаботился о том, чтобы обеспечить нас. О, он был так предусмотрителен во всем. Меня, признаться, очень встревожила мысль, что при... создавшемся положении страховая сумма, того и гляди, нам не будет выплачена. Я очень внимательно ознакомилась с правилами. Там все так запутано. Но наш юрисконсульт сказал, что со страховкой все в порядке. Ах, наш юрисконсульт такой прекрасный человек. Они с мужем вместе учились в университете. Может быть, вы знаете его? Это асессор окружного суда Лунд-Йенсен.
— Нет, я с ним не знаком. А страховой полис при вас?
— Да. Вон в той хрустальной вазе. Вот он. Пожалуйста, можете посмотреть, если вам угодно.
Сыщик стал внимательно рассматривать документ.
— И мне тоже кажется, что полис в порядке. Сумма немалая. Но страховка давняя, значит для получения страховой премии как будто нет никаких препятствий.
— Вот и я так думаю. Муж застраховался сейчас же после нашей свадьбы. И мы всегда тщательно следили за тем, чтобы все было как следует. Мало ли что может случиться. И теперь я вижу, как хорошо, что мы позаботились о будущем. Недоставало только, чтобы, после того как мы столько лет добросовестно выплачивали наши взносы, полис вдруг признали бы недействительным! Именно теперь, когда мы можем, наконец, воспользоваться нашими деньгами!
— Когда вы поженились?
— Восемнадцать лет тому назад. В тот же год, когда Теодор сдал экзамены и получил должность.
— А дети есть у вас? Сколько?
— У нас один Лейф. Бедный, маленький Лейф. Я отправила его на несколько дней к моей сестре, жене доктора Мертеля. По-моему, ему лучше быть подальше от дома, пока тут творятся такие дела. Иначе он мог бы здесь такого наслушаться. Он, конечно, знает, что наш папочка умер. Но лучше от него скрыть, как все это произошло. До поры до времени, разумеется!.. Все равно рано или поздно он все узнает... Ах, разве можно так огорчать людей, которых любишь!..
— Родители вашего мужа живы?
— Нет. Они умерли.
— Есть ли у него братья или сестры?
— Нет. Он — единственный сын. Совсем, как Лейф.
— А не было ли душевнобольных среди родных вашего мужа?
Глава 8
Фру Амстед откинулась на спинку стула. Закрыв лицо ладонями, она как бы углубилась в размышления по этому поводу. Наконец она отрицательно покачала головой.
— Душевнобольных? О нет! Как это могло прийти вам в голову? Душевнобольные в семействе Амстедов! Как вы можете задавать такие вопросы?
— Психические заболевания случаются даже в лучших домах.
— Да, но в семье моего мужа их никогда не было. Никогда! Отец мужа был такой изысканный, благородный человек. Изысканный и любезный. Как и мой муж, он тоже служил в министерстве и дослужился до начальника отделения. А мать мужа — какая это была энергичная женщина! Она сама вела все хозяйство и целиком посвятила себя семье. Сына она прямо-таки боготворила. Нет, нет! Никогда я не слышала, чтобы в этой семье были какие-нибудь... какие-нибудь ненормальности. Дядя моего мужа был асессором верховного суда. Другой дядя — пастором. Один из Амстедов был даже начальником департамента. Это кузен моего свекра. А брат матери моего мужа — генерал Масен. Нет, вся семья состояла из вполне здоровых и способных людей.
— Не проявлял ли ваш муж последнее время какой-нибудь особой озабоченности?
— Нет. Он, как и всегда, был целиком поглощен своей работой в министерстве. Он был такой добросовестный. Он и дома часто засиживался над своими министерскими делами. Я не очень разбираюсь в этом, но знаю все же, что он очень любил свою работу и с головой уходил в нее. Никогда я не слышала от него, чтобы он был недоволен ею, чтобы у него были какие-либо неприятности в министерстве. Поэтому я не понимаю, как он мог написать в своем письме, будто его деятельность не удовлетворяла его. Я никогда не представляла себе, чтобы у него были какие-нибудь другие интересы. Все его родственники — тоже чиновники. Правда, в самой ранней юности, еще ребенком, он как будто мечтал стать поэтом, ученым или еще чем-то в этом роде. Но я никогда не слышала от него жалоб на избранную им карьеру, для которой он как бы создан... Но больше всего он дорожил своей семьей. Он очень любил свой домашний очаг. Лейфу он помогал готовить уроки — в особенности по математике и немецкому языку. Лейф у нас — единственный. Нам очень хотелось, чтобы он преуспел в жизни. Занятия не всегда легко даются Лейфу. Может быть, это происходит потому, что он всегда витает мыслями в облаках. Возможно, что у него слишком богатая фантазия. Ну, да это пройдет. Вот и директор школы того же мнения. «У многих детей, — говорит он, — воображение действительно слишком развито. Но это проходит, и ребенок выравнивается». Иногда, правда, муж все же немного беспокоился за него. Теперь детям так много приходится учить в школе — гораздо больше, чем в свое время нам. А если хочешь преуспеть в жизни, то надо выбиваться в первые ряды. Кроме того, если твой отец и дед — дельные люди, то одно это уже к чему-то обязывает. Мы всегда внушали это Лейфу. «Лейф, — говорили мы сыну, — помни, что имя Амстед — это уже само по себе обязательство!» Особенно приходилось напоминать ему об этом по четвергам, когда нужно было решать задачи. Мы собирались в столовой и вместе начинали воздействовать на Лейфа. Лейф плакал. Я тоже, бывало, вот-вот разревусь. Муж бранил его, и так мы бились над сыном до позднего вечера. И говорили ему всегда: «Почему это ты вечно тянешь с уроками до самой последней минуты? В твоем распоряжении целая неделя, а ты непременно дотягиваешь до четверга...» Но это все, конечно, мелочь. В сущности школьные дела Лейфа вовсе не так уж плохи. В прошлом году он вышел на четвертое место в классе. Молодец, правда?
— Ну, конечно...
— Недавно директор школы как-то сказал моему мужу: «Ваш Лейф — малый с головой!» И мы гордимся этим.
— Были ли у вашего мужа какие-нибудь особые интересы, кроме его работы в министерстве?
— Нет. Семья была для него всем. Ах, да, пожалуй, еще марки. У него было собрано свыше шести тысяч марок. Самых различных, разумеется. Он обменивал их у своих коллег по министерству, выписывал филателистический журнал и переписывался с коллекционерами Швейцарии и Голландии. Это его очень занимало. Свои альбомы он заполнял не только простыми марками. Его особенно интересовали четырехблочные экземпляры. Ну, вы, верно, знаете, когда склеено вместе четыре марки. А потом, конечно, его интересовали экземпляры с опечатками, с водяными знаками и тому подобные марки... Он садился за свой письменный стол и начинал орудовать лупами, пинцетами, зубцеизмерителями или как это еще там называется. Это отнимало у него немало времени и денег. Но что же тут особенного, раз ему это нравилось. Ведь правда? Сама я, конечно, ничего в этом не смыслю. Это чисто мужское занятие. Но я не возражала против его страсти к маркам. Другие мужчины развлекаются на стороне, верно? И я была рада, что увлечение мужа еще крепче привязывает его к дому.
— Естественно! А не припомните ли вы, чем еще интересовался господин Амстед, что занимало его?
— Нет... Впрочем, да! Он много читал. Прежде всего, конечно, газеты. Ну и книги, из тех, что нельзя не знать. Всякие там новинки. А иногда он читал какие-то толстые труды, взятые из библиотек. Скорее всего эти книги связаны были с его работой в министерстве. Во всяком случае, в них шла речь о военных вопросах, о Наполеоне, о военной технике и тому подобном. Некоторые из этих книг еще до сих пор лежат вон там, на его письменном столе. Я совершенно забыла, что их нужно сдать. Столько, знаете, всяких дел надо успеть переделать. Боюсь, что срок сдачи уже давно прошел. Но тогда это я виновата. Сам Теодор всегда был необычайно аккуратен в подобного рода делах.
— Так, так. А теперь мне придется заглянуть в бумаги вашего мужа. Вы, надеюсь, понимаете. Все останется в полном порядке. Можете быть совершенно спокойны на этот счет. Мы всегда храним в тайне все, что нам приходится увидеть во время обыска. Но в создавшейся обстановке мы должны попытаться найти хоть какие-нибудь данные, хотя бы намек, по которому мы могли бы распутать это дело.
— Пожалуйста. Вот комната мужа. — Фру Амстед открыла дверь в кабинет. — Я, конечно, не вправе запрещать что-нибудь полиции. Но, уверяю вас, что вполне достаточно было бы расспросить меня обо всем, что вас интересует. У моего мужа не было от меня никаких секретов. Абсолютно никаких. В его ящиках нет ничего такого, чего бы я не знала. Никогда он не получал ни одного письма, которого не показал бы мне. Не было в его жизни таких событий, которыми он не поделился бы со мной. Наша совместная жизнь так не похожа была на жизнь других людей! Хотите верьте, хотите нет, но друг для друга мы были всем. Решительно всем!
Сыщик тем временем вошел в кабинет и окинул его беглым взглядом. Фру Амстед сдунула несколько соринок с письменного стола.
— Уж не взыщите, что здесь не топлено. Сегодня даже уборки не было. Если бы я знала, что вы придете... Обычно у нас так заведено, что к одиннадцати часам утра вся уборка по дому закончена. Ну, а теперь, разумеется, все идет кувырком. Мне очень жаль, что вы застаете дом в таком виде. Ведь полиция может бог знает что подумать о нас. Не могу простить себе, что я отпустила прислугу.
— Не беспокойтесь, фру. У вас здесь образцовый порядок. А главное — это, право же, не имеет ровно никакого значения. Открывал ли кто-нибудь после смерти вашего мужа его письменный стол?
— Нет. Здесь все лежит в том виде, как он оставил. Мне пока некогда думать о наведении порядка. Ах, мне так не хочется трогать вещи, которые принадлежали мужу! Я все оставила здесь так, как было при нем.
— Ну, это просто замечательно!
Сыщик перелистал несколько толстых книг, лежавших на письменном столе. Он пробежал взглядом заглавия и выразительно покачал головой.
— Гм, да; вот, значит, какими вопросами он занимался последнее время: Герман Койле «Uber die praktische Verwendung des Nitro-Gelatines»1, Джеймс Браттфилд «About Dynamit»2, Бэкман «Die Explosivstoffe»3...
Глава 9
Мебель в кабинете была цвета мореного дуба. Стояли здесь и глубокие кожаные кресла и курительные столики с медными пепельницами и спичечными коробками в специальных футлярах. Стены были выдержаны в коричневых, а гардины в темно-коричневых тонах, так что в комнате царил полумрак.
— Вот берлога моего мужа, — сказала фру Амстед. — По вечерам, когда Лейф заканчивал уроки и его укладывали спать, Теодор удобно располагался здесь с какой-нибудь хорошей книгой.
На письменном столе стояла фотография фру Амстед с Лейфом. Господин Амстед мог лицезреть свою семью даже в часы, когда жена с сыном временно находились в разных с ним комнатах. Такая же фотографическая карточка красовалась и на его столе в 14-м отделе министерства.
— Он должен был постоянно ощущать нас рядом с собой. Его мысли всегда были с нами.
Сыщик приступил к осмотру письменного стола. Делал он это быстро и методично. Было ясно, что он привык к подобного рода работе и беспорядка после себя не оставит. Фру Амстед действительно нечего было беспокоиться.
На бюваре с кожаными тисненными углами лежал лист исписанной бумаги. Сыщик без труда узнал четкий и изящный почерк господина Амстеда. Это, по-видимому, было последнее, что он написал при жизни. А может быть, предсмертное письмо было написано позже?
Полицейский быстро пробежал эту бумагу. Увы, она нисколько не помогла ему разгадать причину смерти господина Амстеда.
«...причем командование подчеркивает, что перенесение счетов с одного бюджетного года на другой не должно иметь места, ибо ассигнования на каждый бюджетный год следует исчислять таким образом, чтобы они соответствовали расходам по содержанию аэростатного парка сухопутных сил, тем более что речь здесь идет о значительных суммах. Эти суммы сами по себе могут оказать влияние на развертывание необходимых мероприятий, которые ориентировочно могут быть проведены по аэростатному парку сухопутных сил в будущем бюджетном году, поскольку необходимо неукоснительно соблюдать ныне действующие правила о запрещении перерасходования ассигнованных средств».
Очевидно, это была служебная инструкция, над составлением которой господин Амстед трудился на досуге. И в этом-то и заключалась работа, которой, по мнению своей супруги, покойный так страстно увлекался.
В маленькой записной книжке значились личные расходы господина Амстеда. В том числе:
Проезд трамваем со службы 20 эре
Вечерняя газета 10 эре
Пачка сигарет 1 крона
Цветы 10 эре
Все свидетельствовало о любви к порядку.
В одном из ящиков оказались расписки об уплате за квартиру, налоговые квитанции, счета на газ и электричество и другие денежные документы. Были здесь и лотерейные билеты — один целый и три четвертных. Здесь же лежали и полисы страхования от пожара и грабежа, от несчастного случая, а также предписанного законом страхования прислуги и прачки. Но почему же тогда полис страхования жизни оказался в хрустальной вазе, в столовой? Как случилось, что столь аккуратный человек не хранил этот полис в ящике с прочими документами? Может быть, фру Амстед переложила полис в вазу? Возможно, конечно, что, как только ей стало известно о смерти мужа, она первым делом подумала о страховке.
В небольшой шкатулке с несколькими отделениями лежали почтовые марки, пачка открыток, почтовая бумага и конверты. Здесь же — сургуч, факсимиле и не использованные с прошлого года поздравительные рождественские открытки.
На столе — металлическая чернильница, маленький медный флагшток, бронзовое пресс-папье, оловянная пепельница, серебряный ящик для сигар и медная ступенчатая подставка для ручек. Лежала здесь и небольшая засушенная собачья лапка, оправленная серебром. Некогда это была правая передняя лапка живой таксы, которую она протягивала, если ее просили «дай лапку». Такса эта принадлежала родителям Теодора, когда сам он был еще ребенком. Его так огорчила смерть собаки, что отец распорядился засушить лапку и насадить на нее наконечник, чтобы хоть как-то утешить сына. Теперь ею сметали с бювара пыль и крошки от ластика.
А вот и календарь, где отмечены дни, когда Амстед играл в бридж. Здесь же и членские билеты разных обществ. Возле них — коробочка с визитными карточками, кнопками, скрепками, грифелями для карандашей, ластиками и перочистками.
Рядом — пресс-папье, выточенное в форме маленького снаряда, и разрезной нож в виде миниатюрной сабли. Однако, если не считать снарядообразного пресс-папье и трудов о взрывчатых веществах, ни на самом столе, ни внутри его не оказалось ни одной вещи, которая бы направляла мысль в сторону смерти и уничтожения или проливала бы свет на подоплеку эксцентричного самоубийства Амстеда.
Наконец, очередь дошла до стенного шкафа. Здесь оказалась коллекция почтовых марок, а рядом — каталоги и другие филателистические принадлежности. Здесь же были спрятаны: чековая книжка на четыреста пятьдесят крон, сберегательная книжка на две тысячи четыреста крон и школьная сберегательная книжка на имя Лейфа на двести шестьдесят семь крон и семьдесят пять эре. Эту сумму, по-видимому, составляли деньги, получаемые Лейфом в награду за хорошие отметки.
— Когда Лейф станет студентом, эти деньги пригодятся ему, — сказала фру Амстед. — Мы приучаем его копить деньги. Лучше откладывать их на книжку, чем выбрасывать на леденцы, лакрицу и тому подобную ерунду. И если Лейф пообещает не курить до двадцати лет, то получит от отца целых сто крон.
Кроме того, в шкафу лежали всякие свидетельства: о крещении и оспопрививании, о конфирмации, о браке и т. д. и т. п. Здесь же оказались зачетные книжки Амстеда, его университетский диплом и другие важные почетные бумаги, как, например, личная благодарность начальника отделения за внимание, оказанное ему в связи с его шестидесятилетием.
Здесь же лежали аккуратно перевязанные ленточкой старые письма. Это были письма от фру Амстед, написанные во время отпусков, когда волей-неволей им приходилось расстаться на несколько дней. Письма содержали подробные отчеты о здоровье и поведении Лейфа. Однако в них не было ни малейшего намека на семейный разлад или иные обстоятельства, которые могли бы толкнуть человека на самоубийство.
Были здесь фотографии в коробках и фотографии в альбомах. А среди них — старые портреты, изображающие отпрысков семейства Амстедов, любительские снимки, сделанные во время праздников и загородных прогулок, снимки Лейфа в первые годы жизни, фотографии его школьных лет, наклеенные на толстый картон. А вот целый класс с ненавистным учителем в центре, — и как только фотограф умудрился разместить всех перед объективом! Вот студенческая группа: вся компания в белых студенческих шапочках и с белыми гвоздиками в петлицах.
Здесь можно было найти и старые ценные сувениры и незначительные памятки. Вот иллюстрированные открытки с видами Куллена, Дюббэль Банке и Грейсдаля близ Вайле. Лакированный деревянный башмачок с приветом из Гиммельбьерге. Камень необычной формы. Маленький кусочек янтаря. Вещи, которых никто никогда не трогал и не доставал; их клали в этот шкаф, и там они оставались уже раз и навсегда.
Рядом с фотографиями лежало несколько газетных вырезок. Вот, например, некролог, посвященный старому Амстеду — начальнику отделения Вальдемару Амстеду. Судя по некрологу, это был и прекрасный человек и прекрасный чиновник. А вот еще вырезки об отце Теодора Амстеда. Маленькие заметки о награждении орденами, о семидесятилетнем юбилее и о новогоднем бале. С похвальной почтительностью сын вырезал эти заметки из газет и сохранил их для потомства. Зато Лейфу было что почитать о своем дедушке. О самом Теодоре Амстеде теперь, разумеется, можно было бы собрать гораздо более объемистый газетный материал, но вряд ли стоило бы его хранить. Такие высказывания никому не делают чести.
Следовало бы отметить еще одну вырезку — статью, посвященную начальнику Амстеда — Херлуфу Омфельдту, возглавлявшему одно из отделений 14-го отдела военного министерства. Эта статья была написана по случаю его шестидесятилетия. Тут же был и портрет этого выдающегося деятеля. Но кто же это решился пририсовать юбиляру чернилами бороду и очки? Может быть, это сделал Лейф или еще какой-нибудь ребенок? А может быть, кто-нибудь из взрослых по рассеянности? Сыщик внимательно присмотрелся к этой газетной вырезке. Через весь текст красивым и четким почерком было выведено: бандит, бандит, бандит... Изящный почерк, несомненно, принадлежал Теодору Амстеду. Слова эти он, вероятно, написал машинально. Покойный явно недолюбливал своего начальника.
Порядок ни в чем не был нарушен. Сыщик провел свой обыск методически и с профессиональной аккуратностью. Ящик за ящиком. Потом шкафы и комоды. Не был забыт и платяной шкаф. Висевшая в нем серая пара оказалась сшита из того отличного английского сукна фирмы «Chestertown-Deverill», сбыт которого был исключительно предоставлен портному Хольму. Сыщик захватил с этого костюма пару пуговиц, чтобы сравнить их с пуговицами, найденными на полигоне. Он тщательно срисовал также на бумагу отпечаток обуви покойного.
Отметив что-то в своей записной книжке, сыщик откашлялся и многозначительно покачал головой, хотя ничего из ряда вон выходящего он как будто не обнаружил. Ему так и не удалось найти доказательств в подкрепление одной интересной теории, которую вполне самостоятельно и всесторонне обосновал наш молодой криминалист.
Глава 10
Красный дом на Слотсхольмене — весьма примечательный уголок. Внешний вид этого здания решительно ничем не выдает его подлинного назначения. Нет на нем ни надписей, ни вывесок, по которым можно было бы судить о том, что происходит за его стенами.
Это почтенное, старинное здание теперь соединено с рядом других строений как давнего, так и более позднего происхождения, первоначально сооруженных для самых разнообразных целей. Все это образует целый городок, погруженный в тишину и окутанный тайной. Какая-то мирная обитель в самом сердце Копенгагена. Маленький, тихий, уединенный городок, затерянный посреди большого города.
Бесчисленные стаи голубей ютятся на его крышах и карнизах. А в определенные часы, когда некий старый господин выходит во двор с мешком гороха, голуби тучей взмывают вверх, и когда он умрет или уйдет в отставку по старости, голуби все равно будут еще много дней слетаться сюда в установленный час. Только спустя некоторое время они поймут, что больше не дождутся гороха.
А потом другие люди тоже будут кормить голубей, но только уже в другие часы. Поколения людей приходят и уходят, а голуби будут по-прежнему жить, и процветать, и загрязнять красное здание своими экскрементами.
В этом здании разместилось правительство Дании. Здесь — ее жизненный нерв. Отсюда действуют силы, направляющие жизнь всей страны. Здесь живет само государство.
На фасаде дома, обращенного в сторону Христианборгского дворца, висит табличка с надписью: «Ночной звонок в генеральный ш т а б». В случае если мир будет нарушен в неприсутственные часы, достаточно нажать на кнопку этого звонка, чтобы поставить армию под ружье.
Эта табличка — единственная во всем здании. Здесь множество подъездов и дверей и нет ни одной надписи или дощечки, поясняющей, куда ведут эти двери. Нет здесь ни указателей помещений, ни стрелок или металлических рук, указывающих нужное направление, нет ничего, что позволило бы разобраться в этом лабиринте коридоров, дворов, лестниц и переходов.
Здесь, по-видимому, нет ни привратников, ни часовых, ни сторожей. Каждый может без труда проникнуть в правительственное здание, и важнейшие государственные тайны находятся под защитой одного лишь английского замка.
Внутри здания царит мертвая тишина. Из-за многочисленных дверей не доносится ни звука, не слышно ни стрекота пишущих машин, ни скрипа стульев, ни людских голосов.
По зданию одиноко бродит какой-то человек. Он идет по длинным коридорам, медленно поднимается по многочисленным лестницам, вглядывается в закрытые двери. Иногда он вдруг застывает на месте и напряженно вслушивается.
Человек этот одет в спортивную куртку, на брюках у него — велосипедные зажимы. Это — сыщик, который никак не может разыскать нужный ему отдел. Его послали сюда произвести дознание по делу о самоубийстве господина Амстеда. И вот сейчас он тратит время на бессмысленные поиски. В какое дурацкое положение он попал! Ну и посмеялись бы над ним в полицейском управлении, если бы увидели его сейчас!
Вдруг он слышит, как приоткрывается дверь. По коридору медленно движется человек. Он идет прямо навстречу сыщику. Первое живое существо, которое встретилось ему в этом здании.
— Простите, пожалуйста! Где находится четырнадцатый отдел военного министерства?
Человек застывает на месте. На нем альпаговый пиджак. Очевидно, он работает в этом здании. На мгновенье его изумительно пустые глаза останавливаются на сыщике, и вот он уже снова медленно идет по коридору.
— Я спрашиваю, где четырнадцатый отдел военного министерства?
Никакого ответа. Человек продолжает двигаться, не оглядываясь. Сыщик провожает его долгим взглядом.
Потом возобновляет поиски. Стучится во все двери, но никто не откликается. Сыщик с надеждой всматривается в длинный коридор, но он пуст.
Вот открывается другая дверь, и из комнаты выходит другой чиновник.
— Не скажете ли вы мне, где находится четырнадцатый отдел военного министерства?
— Алло! Эй, послушайте! Где четырнадцатый отдел военного министерства?
Чиновник исчезает за дверью по другую сторону коридора и плотно прикрывает ее.
Просто кошмар какой-то. Можно подумать, что перед нами Одиссей, спустившийся в царство теней.
Сыщик как угорелый мечется но заколдованному зданию. Он уже совсем пал духом.
Но вот снова кто-то появляется в конце коридора. На этот раз — женщина. В руках у нее ведро и швабра. Это, конечно, уборщица. Сыщик громко окликает ее:
— Вы не знаете, где находится военное министерство? Мне нужен четырнадцатый отдел.
На этот раз ему ответили.
— Военное министерство? Это наверху, на самом верху. Вам придется пройти по коридору налево, третья дверь справа.
— Спасибо! Большое спасибо! Как это любезно с вашей стороны!
Благодарно взглянув па уборщицу, сыщик устремляется вперед.
На его стук никто не откликается. Тогда он толкает дверь и попадает в очень длинное помещение, разделенное перегородками на кабины, похожие на стойла.
В первом стойле за письменным столом сидит некто, устремивший неподвижный взор прямо перед собой. Должно быть, это дежурный. На черном шнуре у него висит старомодное пенсне в золотой оправе. Он носит высокий стоячий воротничок, а на руках у него незакрепленные крахмальные манжеты, низко свисающие из-под рукавов.
— Здравствуйте! Это четырнадцатый отдел военного министерства?
Молчание.
— Я из полиции. Мне приказано произвести дознание по делу о самоубийстве одного из ваших служащих!
Молчание.
— Алло! Вы слышите? Я из полиции.
Ни слова в ответ.
И вдруг сыщик замечает, что его собеседник спит. Да, спит с открытыми глазами, сидя за письменным столом. Нужны долгие годы практики, чтобы овладеть этим искусством.
Сыщик подходит к следующему стойлу. Сидящий здесь чиновник положил руки на стол и опустил на них голову, так что лица его вовсе не видно. Он тоже спит, но только в более естественной позе.
В третьем стойле чиновник откинулся на спинку стула, а ноги водрузил на стол. Но он не спит и даже читает книгу. Острый глаз сыщика сразу же установил: «Остров сокровищ» Стивенсона.
— Это четырнадцатый отдел военного министерства?
— Да. Что вам угодно?
Чиновник положил книгу и недовольно посмотрел на сыщика. Это был сын секретаря Государственного совета.
— Я из полиции. Мне нужны кое-какие сведения о служащем Амстеде.
— В таком случае вам лучше всего побеседовать с начальником отделения. Я не уполномочен разговаривать по поводу этой истории. Пройдите вон в ту дверь...
И сын секретаря Государственного совета снова вернулся к чтению увлекательного романа Стивенсона.
Глава 11
Начальник отделения сидел в своем кабинете и разрабатывал циркуляр о правилах внутреннего распорядка в отделении. Такие циркуляры он составлял время от времени, передавая их затем через дверь в общую комнату. Затем циркуляр обходил всех чиновников, причем каждый собственноручно расписывался на бумаге в знак того, что он прочел инструкцию и принял к сведению содержащиеся в ней указания.
По окончании этой процедуры циркуляр снова возвращался к начальнику через ту же дверь. Затем на нем проставляли дату, ставили штемпель, литер, входящий, исходящий и регистрационные номера, после чего подлинник документа вместе с копией сдавался в архив. Здесь его бережно хранили, дабы грядущие поколения и через несколько столетий могли бы в любой момент ознакомиться с правилами внутреннего распорядка в отделении 14-го отдела военного министерства, которые время от времени составлял начальник отделения для своих подчиненных.
Разработка циркуляра заняла у начальника большую часть первой половины дня. Предварительно он написал несколько проектов и черновиков, а в настоящий момент занимался перепиской начисто уже готового документа.
«...На прошлой неделе в верхнем этаже здания на стороне, выходящей окнами на улицу Слотхольмсгаде, открытое окно не было закреплено крючком, вследствие чего оно оказалось разбито. Насколько мне известно, подобное явление уже имело место по крайней мере один раз, и в результате стекло в вышеупомянутой раме разбилось вдребезги от сильного порыва ветра, причем осколки его попали не только на тротуар, но и на мостовую. Будучи глубоко убежден в том, что служащие отдела преисполнены решимости ревностно соблюдать все необходимые меры предосторожности и неукоснительно выполнять соответствующие предписания и инструкции в тех случаях, когда они считают целесообразным оставлять окна открытыми, — я вынужден тем не менее напомнить, что не только 14-й отдел военного министерства несет материальную ответственность за каждое разбитое стекло, но при создавшихся условиях и все министерство в целом также может быть поставлено перед необходимостью взять на себя материальное возмещение за ущерб и повреждения, нанесенные случайным прохожим и транспорту при падении осколков разбитого стекла, а заодно указать и на необходимость строго соблюдать действующие предписания полиции в отношении открытых окон, выходящих в сторону дорог, площадей и улиц.
Херлуф Омфельдт»
Начальника отделения не слишком обрадовал визит представителя полиции.
— Я полагал, что сделал все от меня зависящее, сообщив по телефону в полицейское управление о полученном мною от господина Амстеда письме, в котором он доводит до моего сведения о предпринятом им необычайном и прискорбном самоубийстве. Одновременно мною было препровождено по почте в полицию и самое письмо — заказным почтовым отправлением. Не думаю, чтобы паше отделение могло предоставить в распоряжение полиции какие-нибудь дополнительные сведения, которые пролили бы свет на это печальное событие.
— И все-таки разрешите мне задать вам несколько вопросов. Как могло случиться, что письмо Амстеда, написанное и отправленное в день его самоубийства, было прочтено с таким запозданием?
— Это следует отнести за счет порядка прохождения корреспонденции в нашем отделении. Обычно бумаги проходят еще более долгий путь, чем это письмо. Если же мне все-таки удалось ознакомиться с содержанием письма господина Амстеда раньше обычного, то это объясняется тем, что письмо было адресовано лично мне, а это дало мне право предполагать, что и по содержанию оно носит чисто личный характер, как это в действительности и оказалось.
— Но ведь в последний день своего прихода на службу сам Амстед тоже как будто получил письмо. Это случилось именно в день его самоубийства. По данным, которыми располагает полиция, письмо пришло около двух часов дня, и непосредственно вслед за этим Амстед ушел из министерства. Установлено далее, что полученное письмо явно взволновало господина Амстеда. Есть поэтому все основания предполагать, что получение письма так или иначе связано с его решением лишить себя жизни.
— Пожалуй. Основания для такого предположения действительно имеются.
— А подвергалось ли это письмо обычной канцелярской обработке? Я спрашиваю об этом потому, что для нас важно установить — сколько времени прошло между отправкой письма н вручением его Амстеду.
— Судя по тому, что мне удалось выяснить, письмо было доставлено господину Амстеду, по-видимому, посыльным из киоска. Значит, письмо это не входило в общую почту, прибывшую в этот день в министерство, и, следовательно, не подверглось обычной канцелярской обработке, а было непосредственно передано посыльным в руки господина Амстеда. Значит, между отправкой и доставкой письма никак не могло пройти много времени.
— Очень вам благодарен. Это очень важные сведения. А теперь, господин начальник, позвольте спросить, нет ли у кого-либо в министерстве каких-нибудь предположений относительно причин, толкнувших господина Амстеда на этот отчаянный шаг?
— Нет. Мы ничего не знаем о побуждениях господина Амстеда.
— Что думаете вы лично о господине Амстеде? Не замечали вы за ним каких-нибудь признаков нервозности, неуравновешенности? Изменился ли он как-нибудь за последнее время?
— Нет. Нисколько. Господин Амстед всегда отличался спокойным нравом и выдержкой.
— А его отношения с сослуживцами? Его любили?
— Да. Решительно все любили и уважали.
— Не было ли у господина Амстеда каких-нибудь затруднений? По работе, например?
— Нет. Абсолютно никаких. Господин Амстед никогда не давал ни малейшего повода для недовольства его работой. Он был старателен и безупречен во всех отношениях. Человек порядка, энергичный, надежный. Словом, исполнительный и прекрасный чиновник.
— А что вы лично думаете о нем?
— Лично я всегда был самого высокого мнения о господине Амстеде. Я испытывал большое уважение к нему и его супруге. По торжественным дням они неизменно бывали у меня. По-моему, оба они исключительно приятные люди.
— Между вами не возникало никаких трений?
— Нет. Никогда. Я не могу припомнить ни одного случая, когда бы господин Амстед подал хоть малейший повод для недовольства им.
— А с товарищами по работе у него были хорошие отношения?
— Да. Насколько я могу судить, самые прекрасные.
— И ни у кого не возникло никаких предположений или подозрений насчет причин самоубийства?
— Нет. Это загадка для всех нас. По-моему, причиной может быть только внезапное заболевание. Возможно, это помешательство.
Не много удалось почерпнуть сыщику в 14-м отделе военного министерства. Не больше он добился и от других сотрудников отделения. Никто из коллег господина Амстеда не мог что-нибудь добавить к уже сказанному начальником отделения.
— Мы даже и за последнее время не замечали в поведении господина Амстеда ничего особенного. Он был всегда старателен и уравновешен. Никто нз нас ничего плохого сказать о нем не может, — отметил секретарь Хаугорд.
— Господин Амстед был очень внимателен и предупредителен. Настоящий джентльмен. Способный и культурный человек! — сказала фрекен Лилиенфельдт.
Господин Амстед ни с кем не ссорился, никому не завидовал, ни к кому не питал вражды. Словом, ни намека на то, что покойный мог вызвать у кого-нибудь в министерстве гнев или досаду.
В коричневом портфеле, который он в тот роковой день оставил в министерстве, не оказалось ничего, кроме утреннего выпуска газеты от 9 октября и маленькой пачки сигарет. Ни в ящике письменного стола, ни в шкафу не нашлось ничего, имеющего отношение к катастрофе. Там лежали исключительно деловые бумаги.
Собственную чашку господина Амстеда, фотографию его жены и сына предполагалось отослать вдове вместе с тростью и портфелем.
Единственное ценное сведение, которое удалось получить сыщику в красном доме, заключалось в том, что письмо, взволновавшее господина Амстеда и, очевидно, вызвавшее его поспешный уход, доставил ему посыльный из киоска.
Разыскать киоск, из которого было отправлено письмо, оказалось для полиции сравнительно легким делом. Это был киоск на Новой Королевской площади. Здесь полиции представили собственноручную расписку господина Амстеда в получении письма.
Киоскерша, дежурившая в тот знаменательный день, даже вспомнила, кто доставил письмо. Его принес маленький мальчик.
Это, конечно, мало прибавило к тому, что уже было известно. Ясно было, что не мальчик же являлся отправителем письма. По приметам он никак не походил на Лейфа. К тому же Лейф в это время был в школе. По-видимому, мальчик, сыгравший роль посыльного, случайно попался отправителю, который и поручил ему за известное вознаграждение доставить письмо в киоск, не желая быть узнанным.
Но кто же все-таки этот отправитель?
У молодого полицейского чиновника возникли на этот счет свои соображения. Но пока это были только догадки, которые он, естественно, предпочел до поры до времени не сообщать в полицейское управление.
Глава 12
Побывал сыщик и на улице Розенгаде, чтобы расспросить фру Меллер об ее жильце — исчезнувшем Микаэле Могенсене.
— М-да, что же можно сказать о нем? — произнесла фру Меллер. — Странный был субъект. По-своему он, пожалуй, умнее многих других. Он читал тьму книг на разных языках. Когда-то он, наверное, был студентом, учился в университете. Но в голове у него как будто не все было в порядке.
В таком же духе высказался и владелец бара, когда его спросили, не знал ли он Микаэля Могенсена.
— Могенсен? Человек он был не плохой. Благородный человек. Только у него как будто не все дома...
— Не все дома?
— Ну, да. То есть, я хотел сказать, что у него ум за разум заходит. Он говорил такие чудные вещи. Заглянул он как-то к нам в погребок купить газету и говорит: «Я хотел бы достать «Таймс». Есть у вас «Таймс»?» — «Нет, говорю, этой газеты у меня нет. А не устроит ли вас, господин Могснсен, «Афтенбладет»?» — «Пожалуй, если у вас нет ничего другого. Но английские газеты гораздо лучше датских. Содержательнее. И не так много внимания уделяют этому дурацкому спорту. А кому он нужен!» — «Так вы не любите спорта, господин Могенсен?» — «Да, — отвечает он, — не люблю и считаю его весьма вредным. Есть, правда, и привлекательные виды спорта. Взять, например, полеты на воздушном шаре. Я бы с удовольствием занялся воздухоплаванием, если бы это не было связано со значительными затратами. Но, к сожалению, обзаведение всем необходимым для таких полетов — чертовски дорогая штука». Ну, как это вам понравится? Могенсен — на воздушном шаре! Здорово, не правда ли?
— Много ли покупал Могенсен пива или других напитков в вашем баре?
— Он никогда ничего не брал. Это случилось только раз, перед самым его исчезновением. Чего он только не накупил в тот вечер! Пиво, водку, портвейн — целые батареи. А потом он устроил попойку в своей комнате, которую снимал у фру Меллер. Обычно же Могенсен покупал у меня только газеты. Он и не курил совсем. А как вы полагаете, что могло с ним приключиться? Вы думаете, это он взорвался на воздух на полигоне?
Ему не ответили. Полиция не гадает на кофейной гуще.
Фру Меллер показала сыщику комнату, которую снимал у нее Могенсен. Все в ней осталось в том виде, в каком оставил ее злополучный жилец.
— Да, здесь тесновато! — сказал сыщик.
— Тесновато? Что вы хотите этим сказать? Это за пятнадцать-то крон, которые он даже не уплатил мне! А за его свинский образ жизни я не в ответе. Он ни за что не позволял убирать здесь. Однажды, когда я как-то пришла вымыть пол, Могенсен заявил: «Запрещаю вам, фру Меллер, самовольно вмешиваться в мою частную жизнь. Свою страсть к уборке вы можете удовлетворять сколько угодно у себя внизу. Я же попрошу оставить меня раз и навсегда в покое».
— Здесь даже и настоящей двери нет. Сквозь это решето любому постороннему все видно! — заметил сыщик.
— А вы что же хотите — за пятнадцать крон жить в роскоши?
— Что вы, что вы, конечно, нет. А мебели у него никакой не было? Где он спал?
— Комнату он снял без мебели. Я здесь ничего не трогала и не хочу за это отвечать. Могенсен спал на полу и подстилал под себя газеты. Портфель служил ему подушкой. Когда я поднималась с кухонной лампой на чердак, я не раз видела, что он так лежит. Через дверные щели все видно.
Полицейский чиновник обвел взглядом помещение. Одного унылого вида этой конуры достаточно было, чтобы навести на мысль о самоубийстве. Потолок нависал так низко, что здесь даже при желании нельзя было бы повеситься.
— Ну, знаете, вон тот угол с примусом выглядит прямо-таки угрожающе в пожарном отношении. Вы не соблюдаете установленных правил.
— Я за это не отвечаю. Я его предупреждала. «Если эта дрянь взорвется, — говорила я ему, — вы весь дом спалите». Но в комнате напротив дело обстоит еще похуже. Там спят ребята Ольсенов, и на ночь родители дают им с собой зажженную керосиновую лампу, так как дети боятся спать в темноте. Вот это действительно беззаконие. Сотни раз я повторяла это фру Ольсен. А что проку? «Ах, сойдет и так! — отвечает она. — Ведь еще ничего страшного не случилось!» — «Но когда-нибудь может случиться!» — говорю я ей.
— Могенсен сам готовил себе еду?
— Нет, только кипятил чай. Он без конца пил чай. Чудо, что он не испортил себе желудок.
— Где он столовался?
— Чаще всего на улице Клеркегаде. В общедоступной столовой. Но он постоянно жаловался, что в пище, которой там кормят, совершенно нет витаминов. Гораздо больше он любил бывать в одном хорошем кафе в центре города. Называется оно «Фидус».
— Ну, это кафе я знаю!
— Не понимаю только: как он мог позволять себе такую роскошь? Для меня всегда было загадкой: на какие средства он жил? Он не пользовался никакими видами вспомоществования. И я никогда не слышала, чтобы он где-нибудь служил. Но иногда у него водились довольно значительные суммы.
— Здесь нет никакого платья. Что же, уходя, он взял с собой какой-нибудь багаж?
— Нет. У Могенсена не было ничего, кроме того, что он носил на себе.
— Да, но было ли у него... ну, скажем, белье?
— Нет, не было. Я же вам сказала, что не прикасалась к его вещам. Как только Могенсен снашивал носки, — он попросту выбрасывал их. Не носил он также и верхних рубашек. Время от времени он покупал себе целлулоидный или бумажный воротничок. Носил, пока не порвется, и потом выбрасывал.
Сыщик порылся в огромной груде газет. В ней действительно попалось несколько разрозненных номеров «Таймса». В самом низу оказалось несколько годовых комплектов журнала «Луи де Мулэн Ревю».
Сыщик посмотрел также и книги, сваленные в одном из углов. Чего только не было в библиотеке Могенсена! Сверху лежал труд полковника Бека о Наполеоне. Под ним — несколько выпусков Рокамболя. Стихи Шелли. «Три мушкетера». Детективный роман Жана Тюлипа по-французски. «Пять недель на воздушном шаре» Жюля Верна. «Библия анархиста». Третий том «Истории Англии» Голдсмита. Наконец, несколько книг, взятых из Королевской библиотеки: Мак Хувенс «About aerolit»4, Койле «Nitro-Gelatine»5. И толстый том Бэкмана «Die Explosivstoffe».
Значит, Микаэль Могенсен тоже интересовался взрывчатыми веществами.
Глава 13
Газеты уделяли значительно меньше внимания исчезновению Микаэля Могенсена, чем Амстеда.
Но ведь Могенсен — тоже человек. И поэтому полиция была обязана заниматься его исчезновением столько же, сколько исчезновением чиновника из военного министерства. Да и кто знает, может быть, между этими двумя происшествиями тау или иначе была какая-то внутренняя связь!
Вещи в каморке Могенсена были так же тщательно перерыты и осмотрены, как и бумаги господина Амстеда. Каждую старую газету вертели и перевертывали на все лады. Книги перелистали одну за другой в поисках каких-нибудь пометок или записей.
Могенсен не умел сохранять свои вещи в таком порядке, как Амстед. У него не было стенных шкафов для всякого рода бумаг и сувениров. Не было у него и выдвижных ящиков для хранения страховых полисов, выигрышных билетов и чековых книжек. Не было платяных шкафов, вероятно потому, что единственное его платье, кстати довольно поношенное, всегда было на нем.
Жилет и какой-то старый целлулоидный воротничок — вот и все, что полиции удалось обнаружить в комнате Могенсена. Жилет был очень грязный. Сыщик взял его двумя пальцами и осмотрел карманы. Но там было пусто. Зато оказалось, что он сшит из уже знакомой нам серой шерстяной ткани, крученной в две нитки.
— Это жилет от костюма, который носил Могенсен?
— Да, — ответила фру Меллер. — Он ходил именно в таком сером костюме. И еще в длинном потрепанном пальто.
И вот при ближайшем рассмотрении выяснилось, что оставленный Могенсеном грязный жилет сшит из высококачественного сукна той самой английской фирмы, чья продукция распространяется в Дании через портного Хольма. Это знаменательно!
Однако портной Хольм не знает Могенсена. Могенсена нет в числе его заказчиков. В его картотеке вообще нет никакого Могенсена. Сукно фирмы «Chestertown-Deverill» не так уж дешево. Такой материал — не по карману бедняку вроде Могенсена.
Впрочем, Могенсен мог купить и подержанный костюм. Или получить его в подарок.
У фру Амстед справились, был ли среди знакомых ее мужа некто по фамилии Могенсен?
— Нет, — сказала вдова Амстеда. — Я никогда не слыхала такой фамилии.
Ну, значит, и муж ее не знал этого человека. Ведь у мужа не было от нее никаких секретов. И он не заводил знакомств на стороне. В этом госпожа Амстед совершенно уверена.
Однако ей не известно, что в одном из шкафов ее мужа среди старых сувениров есть и фотография Могенсена.
Правда, она знает, что там лежит фотография нескольких школьных товарищей Амстеда. Она наклеена на толстый белый картон; группа мальчуганов, снятых на фоне старой липы во дворе школы, окружила учителя. И фру Амстед знает, что хорошенький мальчик в верхнем ряду справа — ее супруг. Что же касается Могенсена, то, став взрослым, он начал носить бороду и усы. И поэтому самый наблюдательный сыщик и даже собственная жена не могли бы признать его в мальчугане, который, точно морская сирена, разлегся на переднем плане. На нем матросский костюм и белые носки. Премилый и прехорошенький мальчик. Только смотрит он немного растерянно — верно потому, что фотограф заставил его принять эту идиотскую позу. Он такой чистенький, с гладко причесанными волосами. Ни малейшего сходства с грязным и бородатым чудаком с Розенгаде! А между тем это он.
Немало прошло времени, прежде чем полиции удалось установить, что Теодор Амстед и Микаэль Могенсен — школьные товарищи. Собственно, это выяснилось благодаря случайному телефонному звонку одного старого учителя, который узнал об их исчезновении из газет.
Однако некоторые обстоятельства сразу же обратили на себя внимание полиции. Например, интерес обоих пропавших без вести к книгам о взрывчатых веществах. Или старый жилет из прекрасного сукна фирмы «Chestertown-Deverill», которому отдавал предпочтение и господин Амстед.
Нелегко оказалось разыскать и допросить участников последней пирушки, устроенной Микаэлем Могенсеном в квартире фру Меллер. Почти все они были не в ладах с полицией, и их редко случалось застать дома. Но даже когда это случалось, склонить их на откровенность было довольно трудно. Многим из них уже не раз доводилось беседовать с полицией, и они всегда умели увильнуть от прямого ответа.
Сыщику удалось поговорить с грузчиком, известным на весь квартал пьяницей Петером Солдатом. Но и от него было трудно добиться толку. Фру Ольсен, продавщица мороженого, могла лишь сообщить о стычке Могенсена с фру Меллер. По ее словам, здесь было что послушать! Один грузчик, работавший поденно в порту на разгрузке гашеной извести, утверждал, что Могенсен бывал пьян. Этот грузчик, не раз ходивший в далекие рейсы и понимавший по-английски, рассказал, что в состоянии опьянения Могенсен предпочтительно пользовался английским языком — к величайшему огорчению фру Меллер, гораздо менее его способной к языкам. «I am the last humanist in Europe! — постоянно твердил он. — One of the noblest figures in our history will die with me!»6
Уж не означают ли эти загадочные слова, что Могенсен готовился к смерти?
Глава 14
Ввиду странных обстоятельств, при которых скончался ее супруг, фру Амстед решила похоронить его самым скромным образом. Об этом указывалось и в извещении о смерти.
При этих обстоятельствах нелегко было найти подходящие слова и для самого извещения. Раньше она думала, что, если ее муж умрет, в извещении о смерти непременно будут слова: «Мирно почил вечным сном». Но в данном случае эта формулировка явно не годилась.
Она перебрала немало штампованных образцов, прежде чем составила, наконец, удовлетворительный текст.
Мой возлюбленный супруг и нежный отец
нашего маленького сына, служащий военного министерства
ТЕОДОР АМСТЕД
безвременно и внезапно скончался.
Погребение состоится в узком семейном кругу.
Мой возлюбленный супруг и нежный отец
нашего маленького сына, служащий военного министерства
ТЕОДОР АМСТЕД
безвременно и внезапно скончался.
Погребение состоится в узком семейном кругу.
Как только институт судебной медицины закончил исследование останков покойного и выдал их вдове, гроб был поставлен в часовню на кладбище. А на квартиру покойного явился представитель магазина похоронных принадлежностей, чтобы узнать о распоряжениях, которые фру Амстед пожелает сделать насчет похорон.
Человек этот был небольшого роста, щуплый, в черных перчатках, с грустно-участливым выражением лица. Фру Амстед он очень понравился. Она видела, что он понимает ее горе и готов сделать все возможное, чтобы снять с нее бремя лишних забот.
— Мне хотелось бы, чтобы прощание с покойным прошло в самом-самом узком кругу: Лейф, я и ближайшие родственники.
— Да, да, разумеется. Я понимаю. А как насчет отпевания? Ведь мы и песнопения поставляем. Какие псалмы вы пожелали бы услышать?
— О псалмах я еще как-то совсем не думала. А что полагается в таких случаях?.. Да, пожалуй, следовало бы взять вот этот: «Пока не закатится солнце, кто знает, как кончится день». Как он называется?
— «Блажен еси».
— Вот-вот, этот самый. А потом еще: «С дальней колокольни благовест несется». Этот псалом очень красивый, его пели на похоронах моего отца. Он уже, так сказать, стал фамильной традицией. Да и супругу моему он очень правился.
— Да, это мило. Позвольте, я запишу: «С дальней колокольни благовест несется»... Еще какой?
— А этого разве недостаточно?
— Полагается обычно не меньше трех. Так принято. Какого мнения фру насчет «О, как прекрасна земля!»? Он исполняется при выносе гроба. Его охотно берут.
— Что ж, под конец это не плохо. Но трех псалмов, по-моему, хватит. Это так торжественно. Ему самому бы понравилось.
— А насчет хора как? Ведь надо же кому-то петь. Десять голосов стоят тридцать крон. Можно, конечно, обойтись и меньшим количеством. Возьмите два голоса, идут всего за семь крон.
— Ну, а нельзя ли что-нибудь среднее?
— Извольте. Шесть голосов за двадцать крон или восемь за двадцать пять.
— Пожалуй, мы остановимся на восьми.
— Превосходно. Значит, восемь голосов! А как со светильниками?
— Светильниками?
— Ну да. Рядовые похороны рассчитаны на два светильника у гроба. Но гораздо солиднее выглядят четыре: по светильнику у каждого угла. Цена каждого добавочного светильника — три кроны.
— Хорошо. Дайте мне в таком случае два добавочных. А два, значит, оплачиваются по общему счету?
— Ну конечно. Затем — боковое освещение. Боковое освещение в часовне стоит восемь крон. Так вам понадобится боковое освещение?
— А без этого нельзя обойтись?
— В часовне ведь очень мрачно.
— Ну, что ж. Если так лучше, то пусть будет и боковое освещение. Восемь крон не делают погоды!
— С боковым освещением гораздо уютнее, уверяю вас! Ну, а как насчет деревьев?
— Каких еще деревьев?
— Лавровых. Они обойдутся вам полторы кроны за штуку. В оплату обычных похорон деревья не входят.
— Лавровые деревья... Это такие... в кадках, да? Как те, что стоят у входа в рестораны?
— Не совсем такие. Наши будут повыше. Они скорее похожи на кипарисы. Сколько торжественности они придают! Например, три с каждой стороны — всего шесть штук.
— Хорошо. Давайте ваши деревья! Что еще?
— А дорожку выложить?
— Какую дорожку?
— Пол часовни устлан дорожкой. Это обойдется вам в четыре кроны. В противном случае ее уберут.
— Если другие оставляют дорожку, пусть и у нас так будет. Теперь, надеюсь, все?
— Остаются сущие пустяки, фру. Нужны еще носильщики.
— А разве не друзья выносят гроб?
— Конечно. Но они несут только до выхода из часовни. А по ту сторону двери ждут носильщики. От часовни до могилы — довольно длинный путь. Фру может сама ознакомиться с правилами. Они предусматривают использование носильщиков. А если гроб двойной, требуется не менее восьми человек. Фру может прочитать это собственными глазами, вот здесь все написано. Каждый носильщик стоит десять крон.
— Ну что ж, если иначе нельзя... Значит, нужно непременно восемь человек?
— Так принято, фру.
— Ах, боже мой, так много...
— Далее, украшение гроба. Сколько фру предполагает истратить на цветы?
— Цветы уже заказаны. Я договорилась с цветочным магазином.
— Так, прекрасно. Значит, никаких украшений. Хотя, конечно, мы могли бы выполнить это наилучшим образом.
— Но я уже заказала!
— Понятно. Я собственно для того, чтобы вы имели это в виду... для следующего раза.
Распорядитель похорон заглянул в свои записи и занялся подсчетом. Очевидно, результат удовлетворил его, и он нашел, что все в порядке. Сунув свои бумаги в карман, он поднялся, держа шляпу в руке.
— Ну вот, теперь как будто все. До свиданья, фру! Все будет исполнено наилучшим образом, вы останетесь довольны. Сами увидите, что все будет честь честью. Меня вы застанете уже в часовне. Я прибуду вовремя, займусь венками и все дальнейшие распоряжения беру на себя. Венки мы крестообразно располагаем впереди гроба. Вам решительно не придется ни о чем беспокоиться, фру. Все пойдет как по маслу.
Распорядитель похорон оказался очень обязательным и тактичным человеком. В часовне он появился за двадцать минут до погребения — в цилиндре и черных перчатках. Время от времени он заглядывал в бумажку, которая была у него в руках, и пробегал ее глазами.
Он тщательно разложил крестом уже доставленные венки и продолжал принимать новые, которые все еще продолжали прибывать.
Много венков было от родственников и друзей.
От сослуживцев Амстеда по военному министерству тоже поступили цветы. Отделение министерства «как таковое» не имело возможности принять официальное участие в похоронах. Но «в совершенно частном порядке» сослуживцы тем не менее прислали красивые венки и букеты. Даже от самого начальника отделения пришли цветы, — это несказанно тронуло фру Амстед.
Дегерстрем, у которого теперь были все шансы занять пост начальника отделения — как только нынешний начальник достигнет предельного возраста, — явился на похороны собственной персоной. Он питал чувство расположения и признательности к покойному и крепко пожал руку его вдове. Явилась и фрекен Лилиенфельдт, служившая в одном отделении с Амстедом. Она считала, что похороны — величественное зрелище. У нее была чувствительная душа, она всегда принимала близко к сердцу чужое горе. Фрекен плакала навзрыд.
Несмотря на высказанное вдовой пожелание, чтобы похороны прошли тихо и незаметно, одна из газет все же прислала в часовню репортера.
«Вчера, — писала газета, — состоялось погребение господина Амстеда, ужасная смерть которого на Амагерском полигоне так взволновала общественное мнение и произвела на всех такое потрясающее впечатление. В этот холодный осенний день в кладбищенской часовне у гроба покойного собрались провожающие. Их было немного. Фру Амстед была в глубоком трауре; рядом с ней — ее тринадцатилетний сын Лейф. Сюда пришли только родные и ближайшие друзья покойного. На скамьях обширной часовни, у гроба, сидело лишь несколько человек, но все были охвачены чувством глубокой скорби.
Пастор гарнизонной церкви Ольсен говорил красиво и проникновенно, взяв за основу текст псалма «Пока не закатится солнце, кто знает, как кончится день» — «Не судите, — сказал пастор, — да не судимы будете!» Никто не знает, что чувствовало сердце этого человека в последние горькие часы его жизни. Но мы все хорошо знаем, что он был заботливым мужем и нежным отцом...
Затем хор пропел прекрасный псалом «С дальней колокольни благовест несется». «И ушел он, как осенью солнце уходит!» — прозвучали последние слова. Можно ли было выбрать что-либо более отвечающее настроению всех присутствующих?
Под звуки гимна «О, как прекрасна земля!» друзья покойного понесли гроб из часовни. Некоторым показалось, что он необычайно легок...
Три первые комка земли, брошенные пастором, гулко ударились о гроб, почти пустой.
Слезы вдовы упали на траву...»
Глава 15
Фру Амстед продолжала жить на улице Херлуф-Троллесгаде.
— Я делаю это ради Лейфа. Лейф и я — мы хотим сохранить наше прежнее жилище. Пусть все остается так, как было раньше и как нравилось ему. Лейф не должен забывать своего дорогого папочку.
И если теперь Лейф отказывался доесть какое-нибудь блюдо, ему предлагали подумать, как отнесся бы к этому отец.
— Что сказал бы, по-твоему, наш папочка, знай он, что у тебя опять остались на краях тарелки недоеденные куски?
И Лейф, весь в слезах, страдая от угрызений совести, кое-как проглатывал остывшие фрикадельки с остатками сельдерея.
Так же обстояло дело и с уроками: с сочинениями по-немецки, а по четвергам — с задачами по математике.
— Подумай о своем отце, Лейф, — говорила фру Амстед. — Подумай о том, что он сказал бы. По-твоему, он был бы рад, если бы узнал, что ты по-прежнему откладываешь все на последний день?
Дух покойного по-прежнему жил в доме на улице Херлуф-Троллесгаде: с его смертью здесь не произошло больших перемен.
Теперь его личность, можно сказать, пользовалась здесь даже большим авторитетом, чем при жизни. Возросло вместе с тем и его влияние в доме. То и дело слышалось:
— А что сказал бы об этом папа?
Или:
— Нет, этого папа не одобрил бы!
Или еще:
— Знаешь, это обрадовало бы папу!
Раньше, если Лейф собирался что-нибудь натворить, фру Амстед всегда заявляла:
— Нет! Папа говорит, что этого делать нельзя! Правда? — громко вопрошала она мужа, сидевшего в кабинете.
— Конечно, нельзя! — отвечал господин Амстед, даже не зная, о чем идет речь.
То же самое происходило и теперь. Только звучало это так:
— Папочка наверняка сказал бы «нет»!
Что же касается Теодора Амстеда, то вопрос о том, жив он или умер, не имел решающего значения. Сидел ли он собственной персоной в кресле или на ломберном столе стояла только его фотография — это не составляло существенной разницы.
Свою семью он обеспечивал и после смерти. Ежемесячно фру Амстед получала за него пенсию. Господин Амстед всю жизнь стремился к этой цели — добиться пенсии. Еще в колыбели он знал, что в жизни ему предстоит достигнуть положения, которое дало бы ему право на получение пенсии по достижении шестидесятипятилетнего возраста. Пенсия составляла, так сказать, смысл его существования. И вот теперь жене его регулярно выплачивали определенную сумму, хотя он умер всего сорока шести лет от роду.
Впрочем, он позаботился о своей семье и другими способами. Фру Амстед получила некую и далеко не малую сумму от страховой компании. Он застраховал свою жизнь вскоре после женитьбы, когда закончил юридический факультет университета. Значит, не зря он застраховался. Это пошло на пользу его семье.
— Как бы теперь это его порадовало! — говорила фру Амстед.
Фру Амстед и Лейфу не приходилось думать о куске хлеба. Они были хорошо обеспечены. Да еще в запасе у них было четыре шанса на внезапное и неожиданное обогащение.
Господин Амстед оставил после себя четыре лотерейных билета — один целый и три по четверти. Все годы супружества он самым тщательным образом возобновлял их. На одни из них однажды выпал выигрыш в тридцать крон. Однако не исключена была возможность получить когда-нибудь главный выигрыш в двести сорок тысяч крон.
Собственно говоря, всего билетов было пять. Но один из них исчез вместе с господином Амстедом.
Фру Амстед повсюду искала его. То был половинный билет, полученный Теодором от его родителей. Билет этот еще ни разу не выигрывал и, наверное, скоро должен был бы выиграть какую-нибудь крупную сумму. И вдруг — пропал. Оставленные четыре билета лежали аккуратно сложенные в ящике письменного стола, а пятого — как не бывало. А он-то и был самым любимым в семье. Может быть, именно за упорство, с которым он отказывался выиграть.
Возможно, что в тот роковой день Амстед положил его в карман, и он исчез вместе с ним. Но зачем ему было таскать билет с собой? Это так непохоже на него. Зачем было отделять этот билет от остальных четырех? Теперь возникала еще одна загадка, которую предстояло разрешить.
Коллекция марок оставалась в стенном шкафу, рядом с письменным столом. Там же лежали принадлежности, которыми Теодор Амстед пользовался, когда разбирал и наклеивал марки. Вот толстый швейцарский каталог, а рядом с ним — пинцет, лупа, зубцеизмеритель, определитель водяных знаков и полоски для наклейки марок.
Лейф с вожделением поглядывал на эти сокровища. Ему очень хотелось продолжать работу отца. Но пока здесь ничего нельзя трогать.
— Когда вырастешь, все это будет твое. И тогда ты продолжишь дело отца. К тому времени марки приобретут еще большую ценность. Но пока не притрагивайся ни к чему. Подумай только, что сказал бы папа, если бы увидел, что ты роешься здесь? Его марки... То, что ему было милее всего в жизни! Нет, нет, Лейф! Больше ни слова об этом! Отец никогда бы тебе этого не разрешил.
Лейф и фру Амстед, вся в черном, регулярно бывали на кладбище. А когда приходили туда, беспомощно топтались на месте, не зная, что им собственно нужно делать. Нельзя же было сразу повернуть назад. Просто так зайти на кладбище, побродить взад и вперед по дорожкам и тотчас уйти...
Поэтому они стояли и зябли на холодном осеннем ветру. Могилу еще никто не приводил в порядок. Многочисленные венки лежали прямо на желтой глинистой земле. Лишь позже могилу можно будет по-настоящему убрать.
— Вот когда могилу приведут в надлежащий вид, мы уже будем тщательно ухаживать за ней! — говорила фру Амстед. — Мы будем поливать цветы и рвать сорную траву. Папочкина могила всегда будет нарядной, красивой.
Лейфу холодно. Он с содроганием думает о гробе, засыпанном желтой землей. И мысли его переносятся к гробам, которые он видел в витринах магазинов похоронных принадлежностей. Белые гробы, с мягкой обивкой внутри и подушкой. Они стоят открытые и будто приглашают — ложись!
Думал он и о том, как странно умер его отец и как мало могло от него уцелеть.
Матери казалось, что у Лейфа слишком развитая фантазия. А от этого делаешься рассеянным. Если ребенок думает слишком о многом, он, естественно, не может сосредоточиться на уроках. Между тем это ведь очень важно. Впрочем, директор школы сказал, что все это не так уж страшно. У многих детей богатая фантазия, и они думают сразу о многом. Но со временем выравниваются. Об этом заботится школа. Никаких оснований для тревоги нет. Пройдет. Так всегда бывает...
Может быть, думает Лейф, у его отца тоже когда-то была богатая фантазия или что-нибудь в этом роде. Но потом все это прошло. И все же он так странно умер. Нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы додуматься до этого.
Лейф размышляет. Он не может говорить об этом с матерью. Она ведь убеждена, что он ничего не знает о случившемся. А может быть, она и сейчас так думает?
— Никогда не забывай о своем отце, Лейф! Когда ты вырастешь, ты должен стать таким же, каким был он. Таким же аккуратным, деятельным, честным. Слышишь?
Лейф утвердительно кивает.
— А если кто-нибудь вздумает говорить плохое о твоем отце, не верь. Не верь ни единому слову!
Из ворот кладбища они вышли на улицу Капельвей, где все магазины торгуют только цветами или гробами. В цветочных магазинах можно получить напрокат маленькие лопатки и грабли. А в магазинах похоронных принадлежностей стоят открытые гробы. Белые, с мягкой обивкой и такие манящие: хоть ложись в них!
Только на углу Нерреброгаде помещается магазин с несколько иным ассортиментом товаров. Это очень занимательный магазин: здесь продаются гармоники, музыкальные шкатулки и другие музыкальные инструменты. Но Лейфу кажется, что сейчас неудобно останавливаться здесь и любоваться этими вещами. Ведь на обратном пути с кладбища подобает иметь грустный вид.
Пошел дождь, и ветер треплет на фру Амстед ее черную траурную вуаль. Нелегко ей справиться сразу с зонтиком и свуалью.
— Пора уже привести могилу в порядок. Завтра я зайду в кладбищенскую контору и договорюсь об этом. А потом мы закажем надгробную плиту. Красивую, но скромную — какая понравилась бы и папе.
По ту сторону моста королевы Луизы они зашли в кондитерскую и купили к вечернему чаю два рожка и две булочки с марципанами.
— Папочка всегда так любил их...
Глава 16
Дух Теодора Амстеда все еще живет.
И живет он не только в доме на Херлуф-Троллесгаде, не только в квартире, где на полированном столе стоит его фотография в кожаной рамке и укоризненно смотрит на Лейфа. И Лейфа начинают мучить угрызения совести, когда он встречает взгляд отца.
Дело вовсе не в том, что у отца такой суровый вид. Глядя в объектив фотоаппарата, Теодор Амстед скорее испытывал растерянность, ибо лицо его освещали яркие лучи рефлекторов, обозначив на нем резкие тени.
Лоб его перерезан двумя скорбными складками. Глаза бледные и немного усталые. Губы улыбаются чуть-чуть смущенно, впрочем, их трудно рассмотреть, так как тоненькие английские усики благодаря искусственному освещению отбрасывают на них тень.
Покойный Амстед все еще живет одною жизнью со своей семьей. Сейчас он даже как будто пользуется еще большим авторитетом, чем раньше. Он выносит постановления, принимает меры, решает спорные вопросы. Стоя в своей кожаной рамке, он окидывает взглядом комнату и участвует во всем происходящем.
Дух Теодора Амстеда жив. И живет он куда более самостоятельной жизнью, чем можно себе представить. И в этой связи произойдут еще странные и неслыханные вещи.
Познанием этих удивительных и замечательных вещей фру Амстед целиком обязана одной незнакомой или во всяком случае почти незнакомой даме, с которой семья Амстед много лет тому назад случайно встретилась на одном из курортов. Впоследствии они не поддерживали друг с другом никаких отношений. Кратковременное летнее знакомство. Тем не менее фру Амстед хорошо ее запомнила.
Дама эта — писательница. Очень своеобразная и очень интересная особа с черными волосами, зелеными серьгами и какой-то необыкновенной бахромой на рукавах. Звали ее Сильвия Друссе.
— Как это мило с вашей стороны, фру Друссе, что вы пожелали разделить с нами наше одиночество. Что вы, что вы, я сразу же узнала вас! Отлично вас помню, хотя все это было так давно! И каким теперь кажется далеким! В ту пору весь мир казался иным... И подумать только, как это вы вспомнили о нас?
— Друзья познаются в беде!
Фру Друссе простерла руки и обняла фру Амстед за плечи.
— Милая, милая вы моя, какое же тяжелое горе вас постигло! О, как я понимаю вас! Только тот, кто сам потерял любимого, может понять горечь подобной утраты.
Фру Амстед разрыдалась. Фру Друссе довела ее до кресла и усадила. И сразу повела себя как настоящая хозяйка.
— Плачьте, плачьте! Вволю выплакаться — большое облегчение. Уж можете мне поверить, я-то хорошо знаю, что такое слезы!
Фру Амстед всхлипнула.
— Ах, как у вас тут мило! И неужели эта маленькая трудолюбивая женщина сама ведет хозяйство?
— У меня есть помощница — молодая девушка. Надо же и о Лейфе позаботиться...
— Разумеется! Ах, я хорошо помню то время, когда и мой сын был малышом. Сколько забот! А ведь я еще и писала. Приходилось решительно все делать самой. Матери на все нужно найти время... Теперь мой сын уже взрослый. Он уехал в Америку. Я так редко получаю от него весточку. Как только дети вырастают и улетают из родного гнезда, они тут же забывают, чем была для них мать. Когда-нибудь и вы узнаете это, милая фру Амстед.
— О, Лейф такой ласковый. Он унаследовал от отца его нежное, любящее сердце.
— Ах, да, его зовут Лейф! Очень хорошо помню его. Как он, бывало, рылся в песочке со своей лопаткой и ведерком! Ах, какой там был чудесный пляж! Для детской фантазии это целый мир! Огромный, блистательный мир!
И фру Друссе так патетически всплеснула руками, что бахрома на рукавах взметнулась вверх.
— Я отлично помню и вас, и вашего мужа, и Лейфа. Во всем пансионе только вы один и были подлинно культурными людьми. В такие места съезжается столько черни! У этих людишек нет ничего, кроме их маленького отпуска, и целый год они отказывают себе решительно во всем, лишь бы хоть одну недельку поиграть в богатых туристов. Ах, тщеславие, тщеславие!
— Да, да. Я тоже припоминаю, что в этом пансионе мало было приличной публики. Именно поэтому нас и потянуло друг к другу, фру Друссе. Ах, это так трогательно, что вы вспомнили о нас и пришли нас проведать!
— Стоит ли говорить об этом, милейшая фру Амстед? Нет большего счастья, чем жить для своего ближнего! Чем больше человек забывает о себе самом, тем ближе он к тому состоянию, которое принято называть счастьем. Эту истину подсказал мне мой жизненный опыт.
Фру Друссе взяла руку фру Амстед и стала ее гладить. Наступила пауза. Фру Друссе некоторое время обозревала комнату.
— Вон та гортензия очень мила. Вы, конечно, знаете, что воду надо наливать только в тарелку? Гортензия любит влагу, но никоим образом не следует лить воду прямо в вазон. Только в тарелку.
В журнале «Домашнее чтение» писательница фру Друссе ведала «почтовым ящиком читателя». Поэтому она знала и как ухаживать за комнатными цветами, и как бороться с молью, и как избавляться от угрей, и как выводить пятна, и как определять характер по почерку.
На столе она заметила начатое рукоделье, которое фру Амстед отложила в сторону, когда раздался звонок.
— Ах, можно посмотреть? Неужели, милочка, вы сами это вышиваете? Как мило! Вы вышиваете гладью цветными нитками? Какая чудесная расцветка! Я бесконечно люблю яркие цвета. Они так много говорят душе! Да и очень влияют на наше самочувствие. Цветом можно даже пользоваться, как лечебным средством.
— Неужели это действительно так?
— Конечно. Об этом знали еще в древности. Вообще предки наши знали гораздо больше, чем мы. Наша хваленая наука воображает, что уже все постигла! Тоже наука! Где уж ей! Нет, вот древним многое было открыто. Египетская мудрость. Мистика Востока. Атлантида. О, у неба и земли гораздо больше тайн, чем представляет себе наука!
— Да, да, вы правы. А теперь позвольте мне приготовить для вас чашку чая, фру Друссе. Не возражаете?
— Большое спасибо. По совести говоря, чашка горячего чая пришлась бы теперь очень кстати. Я очень люблю чай. Но только уж я помогу вам, милая фру Амстед!
— Да нет, что вы, фру Друссе! Вы уж посидите.
— Ну, если вы так решительно настаиваете... Но я, знаете, как-то не привыкла, чтобы за мною ухаживали.
На столе появилось ванильное печенье, крендельки.
— До чего же вкусно! Вы это сами пекли? О, вы непременно должны дать мне рецепт, фру Амстед!
— Нет, я это не сама пекла. Но печенье совсем как домашнее. Я покупаю его в кондитерской у фру Каренс, на Бредгаде. По-моему, у них там все очень вкусно.
— Пальчики оближешь!
И фру Друссе накинулась на печенье с завидным аппетитом.
— А я была уверена, что вы сами испекли это печенье. Вы ведь из тех домовитых хозяюшек, которые целыми днями не выходят из своих маленьких кухонь, варят, жарят и начищают там все до блеска. А какой превосходный чай! Сразу видно, что по этой части вы знаток. Воду надо наливать сразу, как только она закипит ключом. А некоторые дают ей слишком долго кипеть. Или забывают сначала подогреть чайник для заварки.
— Я, признаться, обожаю хороший чай. В молодости мне пришлось пожить в Лондоне. Там я научилась заваривать чай по всем правилам. Англичане ведь никогда не пользуются чайным ситечком.
— О, конечно, никогда!
Фру Друссе это было также известно.
— Муж, тот охотнее пил кофе. В особенности — в первые годы. Потом и он привык к чаю. Вот только насчет кофе мы с ним все время спорили. Вообще же наши вкусы полностью совпадали.
— Да, я заметила это еще в то лето. «Какой необыкновенно гармоничный брак! — говорила я себе. — Между этими двумя людьми существует та духовная близость, которая обусловливает гармонию и то, что мы называем счастьем».
— Вот именно. Ведь, бывало, стоит мне только предложить что-нибудь мужу, как оказывается, что он уже и сам об этом думал. Или попросишь мужа о чем-нибудь, а он уже исполнил мое желание. Мы как будто читали мысли друг друга.
— Вот-вот. Это и есть духовная близость между двумя людьми. Я всегда думала, что между вами и вашим мужем была именно эта близость. Ну вот, теперь я могу открыть вам один секрет: это-то и привело меня к вам.
— Вот как? Я что-то плохо понимаю вас, фру Друссе!
— У меня есть для вас сообщение!
Глава 17
— Сообщение?
— Да!
Фру Друссе выдержала продолжительную паузу. Она полузакрыла глаза и как бы всматривалась в нечто весьма отдаленное, нечто скрытое от взора других, непосвященных.
— Известна ли вам книга о Раймонде, фру Амстед?
— Нет. Что это за книга?
— Она называется «Раймонд живет». Автором ее является великий английский ученый сэр Оливер Лодж. Он пишет о своем сыне. О своем единственном сыне, погибшем на войне... Сэр Оливер Лодж получил знамение, что сын его жив... Что он живет в ином мире. В мире, во многом похожем на наш земной, но только более чистом. Более богатом и более прекрасном... И, что самое главное, сэру Оливеру удалось установить связь с сыном. Он получает от сына сообщения. Они обмениваются мыслями. Они даже разговаривают друг с другом...
— Мне, знаете, даже жутко стало, фру Друссе!
— Ах, что вы, дорогая моя! В этом нет ничего жуткого! Разве жутко узнать, что наши близкие продолжают жить? Разве жутко беседовать с теми, кого мы любим?.. Нет, нет, что вы!
— Я никогда не слышала раньше о подобных вещах. Все это так странно.
— Вы не должны забывать, что сэр Оливер — ученый, что он настроен критически и скептически... Но факты убедили его. И целью его жизни стало приобщить других людей к сделанному им открытию. Его заслуга в том, что он помог человечеству избавиться от страха смерти.
— Я бы с удовольствием прочитала эту книгу.
— Я принесла ее вам. Вы должны немедленно прочитать ее. Ах, вот это действительно книга — такая увлекательная, богатая мыслями, умная! Ни с какой другой ее и сравнить нельзя.
— Я буду рада прочесть ее. Как это любезно с вашей стороны принести ее мне.
— О, вы полюбите эту книгу! В ней все так правдиво и убедительно! Помните, что ее автор — ученый. Все, что он описывает, подверглось тщательному научному исследованию.
— Так вы и вправду верите, что мертвые продолжают жить? Не в том смысле, как учит религия, а в прямом... И способны слышать, о чем мы говорим и что мы делаем?
— Я не верю, я знаю! Я сама это испытала! Я беседовала с так называемыми «покойниками», как сейчас с вами!
— Поразительно, фру Друссе!
С фотографии на них поглядывал Теодор Амстед. На лбу его проступали две скорбные складки. И он улыбался.
— Подумайте только, фру Друссе, пока вы все это рассказывали, у меня действительно появилось такое ощущение, будто Теодор здесь, в этой комнате, с нами, то есть со мной и Лейфом. Нечто подобное я уже не раз испытывала. И это так странно...
Постепенно комнату окутали сумерки. Фру Друссе сидела неподвижно, держа свою приятельницу за руку. Обращаясь к фру Амстед, она говорила очень тихо. Размеренно и тихо.
Какой новый и таинственный мир открывался перед фру Амстед! О таких вещах она раньше и не слыхивала. Жизнь в каких-то совершенно новых сферах, жизнь, столь не похожая на земную и все же во многом сходная с ней. Там, в этой другой сфере, например, растут цветы. И цветы эти благоухают. При посредстве медиума так называемые «живые», населяющие нашу землю, обретают способность воспринимать это благоухание. Однажды фру Друссе сама явственно ощутила аромат ландыша и фиалки. И было это в середине зимы, когда цветов этих и в помине нет.
Поразительно, что фру Друссе все это испытала сама. У нее был один друг — молодой человек, художник, скончавшийся на чужбине. И теперь она с ним частенько беседовала. Он рассказывал ей о жизни в другой сфере, помогал ей, давал советы.
Кроме того, фру Друссе беседовала и со своим мужем. На бренной земле покойный господин Друссе был актером. И он продолжал заниматься своим искусством в другой сфере. В потустороннем мире тоже, оказывается, существуют театры. Но они совершенно не похожи на земные. Там театральное представление является своего рода богослужением. Впрочем, исполняются там и пьесы крупных земных писателей. В потустороннем мире господин Друссе выступал во всех тех ролях классического репертуара, которые он, кстати сказать, никак не мог получить на земле.
Все это было так необычно и удивительно!
Этот визит имел для фру Амстед большое значение. Он в известной степени предопределил всю ее последующую жизнь. Он дал ей направление и наполнил таким содержанием, о каком фру Амстед даже и не мечтала.
Глава 18
Небольшая группа мужчин и женщин собралась на вилле в Вальбю.
Мысли этих людей были заняты совсем иным миром, чем наш, и совсем иной жизнью, чем наше земное существование. Друг друга они называли «братьями» и «сестрами», а виллу, где происходили их собрания, «храмом Соломона».
Внешностью они ничем не отличались от других людей. И одеты были в обычное платье, шляпы и плащи. Труды и заработки их принадлежали земле. Среди них можно было увидеть и типографа, и коммивояжера, и продавщицу мороженого. Они зарабатывали себе на жизнь, вносили плату за квартиру и переваривали пищу — как и все прочие смертные. Зато помыслы их были обращены к беспредельным просторам вселенной, а ум был занят решением загадок бытия. Души их витали в сферах, недоступных смертным.
Фру Амстед слегка смущалась и робела среди этих братьев и сестер, которых она совершенно не знала. Как только вспыхивала красная лампа, дававшая знать о начале сеанса, фру Амстед тесно прижималась к фру Друссе. А фру Друссе брала ее за руку и шептала:
— Не бойтесь, не бойтесь, милая сестричка! Только постарайтесь как следует сосредоточиться!
Но, увы, фру Амстед не совсем понимала, на чем ей собственно нужно было сосредоточиться.
Удивительные дела творились в храме Соломона. Специально сконструированный трехногий стол служил материальным орудием, через посредство которого изъяснялись духи. Тихо звучала фисгармония. Музыка нужна была не только потому, что она приятна духам, но еще и потому, что это приводило медиума в то состояние транса, при котором его материальная оболочка временно становилась вместилищем иных субстанций. Медиума звали Ольсен. Этот рослый, красивый молодой человек, несколько вялый и женственный, после спиритического сеанса казался совершенно обессиленным, а братья и сестры всячески старались привести его в чувство.
Больше всех этим связующим звеном с незримым миром духов пользовалась фру Друссе. Некоторые из сестер даже упрекали ее за это. С какой это стати все она да она? А когда же наступит их черед?
Такие перепалки можно услышать у телефонной будки, когда кто-нибудь выводит из терпения ожидающих, слишком долго занимая телефон.
Однако нельзя было не признать, что именно спиритические опыты, в которых участвовала фру Друссе, привлекали к себе наибольший интерес.
Она обладала особым даром с необычайной легкостью вступать в общение с покойным молодым художником, с которым у нее установились весьма близкие отношения еще на земле.
— Это ты, Хакон? — спрашивала она приглушенным шепотом.
И ножка стола, предназначенная для утвердительных ответов, отстукивала:
— Да.
— Как ты поживаешь?
— Х-о-р-о-ш-о! — отстукивала ножка стола; при этом один из братьев прилежно записывал буквы.
Таким образом можно было вести самые продолжительные беседы. Иногда эти беседы принимали такой сугубо интимный характер, что кое-кто из сестер начинал роптать. А однажды дело дошло даже до того, что председатель кружка, типограф Дамаскус, вынужден был призвать Хакона к порядку.
Но, что любопытнее всего, во время беседы с одним духом мог явиться еще и другой и мешать завязавшемуся разговору.
Бывало, стоило Хакону отстучать свое «да», как другой дух отбарабанивал на ножке для отрицательных ответов «нет». Иногда поднималась форменная перебранка, что тяжело отражалось на медиуме. Можно было подумать, что духи разрывают его тело на части — каждый тянет его в свою сторону. Ольсен так стенал и метался, что у окружающих сердце разрывалось от жалости.
Сначала даже возникло предположение, что все это шалости некоего духа-шутника, одного из тех, которые имеют обыкновение вторгаться в спиритические сеансы, стараясь мешать поступлению сообщений от других, более серьезных духов. Но, как выяснилось на поверку, эту роль взял на себя не кто иной, как покойный муж фру Друссе, который не мог не вставить свое веское слово.
— Да подождите же, подождите! — кричал Дамаскус. — Пусть каждый говорит по очереди!
Но обуздать господина Друссе не было никакой возможности.
Пробовали было произвести опыт с другим столом, большим по размеру, однако и на этот раз оба духа дали знать о себе сразу, в один голос. По словам фру Друссе, муж ее, еще в бытность свою на земле, постоянно проявлял неразумную ревность. Втайне она лелеяла надежду, что после его смерти все изменится. В особенности теперь, когда речь идет о чисто платонических отношениях. Но ничего подобного. Дух господина Друссе совершенно переставал владеть собой. А Хакон, натура чрезвычайно импульсивная, не оставался перед ним в долгу и отвечал злобной бранью.
Как-то случилось, что большой стол сразу затопал двумя ножками. Деревянные ножки так затрещали, что даже страшно стало — как бы они не сломались. Порою движения стола приобретали такой бурный характер, что братьям и сестрам, образовавшим замкнутую цепь и поддерживавшим таким образом связь с потусторонним миром, нелегко было уследить за ним. Стол прямо-таки метался по комнате.
— Да! Да! — выстукивал Хакон.
— Нет! Нет! Нет! — гремел господин Друссе.
Это не только утомляло, но и очень действовало на нервы. Братьям и сестрам приходилось поминутно вскакивать с места, и, чтобы поспеть за столом, они вприпрыжку носились по комнате, обливаясь потом. Это было очень тяжкое испытание.
Во время одной из таких отчаянных стычек между обоими духами-соперниками стол так резко повернулся, что чуть не сбил с ног всех участников сеанса. Он метался но комнате, все время ударяясь о дверь. По предложению одного из братьев дверь открыли, и стол влетел в соседнюю комнату, где с шумом и грохотом стал биться о стены и мебель. Вспотевшим и задыхающимся спиритам пришлось следовать за взбесившимся столом.
— О господи! О господи! — взывала фру Друссе. — Они убьют друг друга! Они оба такие темпераментные мужчины, такие пылкие и необузданные! О, они убьют друг друга!
— Ну, уж этого они никак не могут сделать, даже если бы захотели! — успокоительно заметил Дамаскус.
— Ах, вот точно так они поступали и когда жили на земле! У обоих такой крутой нрав! На редкость необузданные и горячие натуры! Не знаю, чем все это кончится!
Но стол метался и бесновался до тех пор, пока окончательно не развалился на куски. Первой сломалась та ножка, которая выстукивала «нет» за господина Друссе.
Смертельно усталый медиум потерял сознание. Была минута, когда даже начали опасаться за его жизнь, — так долго он не приходил в себя.
На время спиритические сеансы пришлось прервать, а на фру Друссе возложена была обязанность призвать своего супруга к порядку. В противном случае пришлось бы отказаться от всяких попыток общения с потусторонним миром.
Глава 19
Фру Амстед не сразу удалось установить непосредственную связь с мужем.
— Так уж водится, — утешали ее. — Нужно время, пока духи обживутся в другой сфере. Но есть духи, которые принимают вновь прибывших на свое попечение. Нечто вроде духов-опекунов и духов-гидов. Через них-то и удастся получить информацию о тех, кто недавно перешел в лучший мир...
Духа-опекуна, приставленного к Теодору Амстеду, звали Гельмут Цэгерер. При жизни он состоял профессором Грацкого университета и, по-видимому, был талантливый и культурный человек. Теодор Амстед попал в хорошие руки.
— Добрый вечер, господин профессор! — сказал Дамаскус после того, как Ольсен впал в транс и установил связь. — Как там поживает наш друг Теодор Амстед?
— Х-о-р-о-ш-о! — отстучала ножка.
— У него все в порядке! — передал Дамаскус фру Амстед.
— Скажи ему, что с нами сидит его жена, — попросил Дамаскус профессора Цэгерера.
Ножка пробила:
— Да.
— Он уже знает об этом?
— Да!
— Может ли он сам явиться сюда?
— Нет!
— Значит, еще не сейчас? Когда же?
— П-о-п-о-з-ж-е!
— Большое спасибо, господин профессор! Вдова Теодора Амстеда хотела бы задать несколько вопросов. Можно?
— Да!
— Хорошо ему там? — тихо спросила фру Амстед.
— Да!
Тут фру Амстед вдруг показалось, что ей больше не о чем спрашивать: ни один вопрос не приходил на ум. Профессор из Граца, видимо, потерял терпение и удалился.
Но мало-помалу вдова приобретала спиритическую сноровку, и, наконец, наступил момент, когда к ней явился сам Теодор. Сначала проведен был пробный вызов, чтобы проверить, действительно ли это Амстед, а не какой-нибудь дух-шутник. Его спрашивали о вещах, которые могли быть известны только одному Амстеду — и никому другому. Ответы оказались удовлетворительными.
Дух Амстеда смог довольно точно сказать, сколько сигарет оставалось в известной ему коробке. Он знал номер их дома на улице Херлуф-Троллесгаде. И ножка стола ударила сорок шесть раз в ответ на вопрос — сколько же лет прожил Амстед на земле.
— Почему ты это сделал? — спросила фру Амстед дрожащим голосом.
На сей раз стол промолчал. Очевидно, на этот вопрос еще нельзя было отвечать. Зато Амстед охотно поделился кое-какими сведениями о чисто бытовых условиях жизни в духовной сфере. Там, где он теперь пребывал, было очень мило, куда лучше, чем на земле. Настолько лучше, что даже вообразить себе трудно.
— А питаешься ты там прилично?
— Нет!
— Духи совсем не едят. Им это не нужно! — разъяснил кто-то из присутствующих.
— А как с одеждой?
— Пусть сестра ставит вопросы точнее, — перебил ее председатель кружка.
— Носите вы одежду?
— Да!
— Какую?
— Б-е-л-у-ю!
— Как ты там проводишь время? Есть ли у тебя какие-нибудь определенные занятия?
— Нет!
— Так уж водится, — прокомментировал Дамаскус. — Проходит некоторое время, прежде чем духи получают работу — в соответствии со своими способностями. Им надо ведь освоиться с обстановкой в иной сфере.
На вопрос: «Кто автор письма, полученного тобою в адрес министерства?» — ответа не последовало.
— Постарайтесь задавать такие вопросы, на которые можно ответить простым «да» или «нет», — сказал Дамаскус.
— Письмо это написано женщиной?
— Нет!
— Может быть, его писал мужчина?
— Да!
Ответ этот очень успокоил фру Амстед, ибо этот вопрос все время мучил ее. Ей было известно, что духи не лгут. Да и муж не стал бы обманывать ее. Вновь обретенное чувство уверенности в своем муже доставило ей некоторое удовлетворение.
Фру Амстед так и не сблизилась с другими братьями и сестрами — членами спиритического кружка. Быть может, это объяснялось социальными различиями. А она не обладала способностью писательницы фру Друссе легко приспосабливаться к любому сорту людей.
Только с медиумом у нее установились очень сердечные отношения. Между фру Амстед и юным, кротким красавцем Ольсеном возникла взаимная симпатия, которую можно было объяснить родством душ и единством мысли. Для фру Амстед Ольсен был единственным звеном, связывающим ее с мужем, мужем, для которого она была всем и который жил под ее непосредственным влиянием.
Глава 20
Немало людей занималось делом господина Амстеда.
Но и пропавший Микаэль Могенсен не был предан забвению. Его судьба тоже интересовала многих.
Правда, нигде не стояла его фотография в кожаной рамке. Не было у него отпрысков, которым надлежало расти и развиваться по его образу и подобию. Не было и кружка, где братья и сестры встречались бы при свете красной лампы и вызывали бы его дух с того света.
Не осталось у него близких, которые интересовались бы его судьбой или были бы связаны с ним такими крепкими родственными узами, чтобы оплакивать его. Он был совершенно одинок в мире.
Но стоит человеку исчезнуть, как люди начинают проявлять к нему больше внимания, чем к любому живому собрату. Оказывается, он обязан был, как и все прочие, регистрироваться, состоять на учете у военных властей, извещать полицию о перемене места жительства и своевременно платить налоги. А раз он исчез — общество в свою очередь обязано разыскивать его. И в случае его смерти государство должно установить ее причину. По крайней мере в этом отношении между богатыми и бедными нет никакой разницы.
Пока человек жив — он сам решает, что он будет есть, будет ли он вообще сегодня есть и хватит ли ему его заработка на покупку еды. Но стоит ему умереть, как на сцену выступает государство, которое требует, чтобы непременно была установлена причина смерти и выдано соответствующее свидетельство о смерти. А если человек исчез, весь аппарат сыскной полиции приводится в движение, чтобы найти пропавшего, — совершенно независимо от того, богат он или беден, знаменит или никому не известен.
Вокруг нас живут тысячи людей, которые никогда не бывают сыты, у которых нет сколько-нибудь приличной одежды и нет крова над головой. Пока эти бездомные не совершат какого-нибудь проступка, государству нет до них никакого дела. Но стоит только кому-нибудь из них выклянчить у прохожего четвертак на ночлежку, как появляется полицейский автомобиль, и его отправляют в тюрьму.
Прокурор возбуждает против него дело, адвокат защищает его, судья выносит ему приговор, тюремщики стерегут его. Одним словом, возмездие за преступление обходится государству не дешево.
Человеку предоставлено право свободно умирать с голоду. Но если он бросится в море и утонет — государство не пожалеет никаких средств, чтобы разыскать его труп. Полиция и спасательные команды, водолазы и летчики — все будет пущено в ход, в этом случае власти пойдут на любые затраты.
Ни власти, ни общество не забыли о Микаэле Могенсене. Полиция усердно разыскивала его. Много народу занималось его делом, на него работал весь громоздкий и дорогостоящий государственный аппарат.
У полиции не было никаких достоверных данных, которые могли бы навести ее на след. Но некоторые обстоятельства все же заставляли предполагать, что между исчезновением Микаэля Могенсена и трагической гибелью господина Амстеда существует какая-то связь.
В могенсеновской каморке было найдено несколько толстых книг. Книг о динамите и других взрывчатых веществах. Такие же книги изучал и Амстед в последние дни своей жизни.
Была найдена н ткань фирмы «Chestertown-Deverill», — серая, чистошерстяная, крученная в две нитки, — из которой шили себе костюмы и преуспевающий Теодор Амстед и бедняк Могенсен.
В общем, накопилось много мелочей, которые не укрылись от бдительного ока полиции.
Здесь можно указать, например, на карманные часы, почему-то не обратившиеся в пыль и прах в результате ужасного взрыва.
Можно указать и на некое таинственное письмо, адресованное в 14-й отдел военного министерства и весьма заинтересовавшее полицию, которой очень хотелось разыскать отправителя.
А лотерейный билет, необъяснимым образом исчезнувший из ящика письменного стола, где он постоянно хранился?
А крупная денежная сумма, которую вечно нуждающийся Могенсен неожиданно растранжирил в последний вечер перед своим исчезновением на случайных гостей?
У полиции были все основания продолжать расследование, не предавая дела огласке. Во всей этой истории с исчезновением Могенсена и гибелью Амстеда оставалось еще много неясного.
Материал накапливался по крупинкам. Эти крупинки терпеливо складывались вместе, как при решении головоломок, когда из отдельных частей нужно составить общую картину.
На это требовалось время. Решение этой головоломки не было плодом гениальной интуиции одного детектива — оно было найдено благодаря систематическим и организованным усилиям всего аппарата.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 21
На шоссе выехал мужчина в фордике. Ему навстречу шли две молодые девушки-туристки, в коротких штанах и в носочках на хорошеньких ножках. Девушки приветливо помахали мужчине в фордике.
Но этим они несказанно разъярили его.
Уж не думают ли эти девчонки, что он растает от их приветствия? Или они воображают, что польстили ему?
Он так раскипятился, что даже остановил машину и, обернувшись в сторону удалявшихся девушек, язвительно бросил им вдогонку:
— Эй, вы! Куклы! Какого черта вы там размахались? Думаете — не устою перед вами? Убирайтесь-ка лучше восвояси да оденьтесь лучше, дуры!
Он не знает, что бы еще такое сказать. Лицо его искажается гримасой, а голос срывается.
Девушки с недоумением оглядываются. Потом заливаются смехом и продолжают свой путь.
Вот что бывает, когда город сталкивается с деревней…
Мужчину в автомобиле зовут Мартин Хагехольм, Беспокойная он душа. Пенсионер да к тому же еще и обладатель наследства. Жить бы ему спокойно в свое удовольствие. Так нет же: носит его всюду нелегкая, всюду сует свой нос — и хлопот у него полон рот. Лицо у Хагехольма багровое. А стоит ему выйти из себя, и оно становится совершенно синим.
Девушки вывели его из себя. Он громко разговаривает сам с собой, отплевывается и время от времени с таким неистовством налегает на рычаги, что машина несется по шоссе какими-то чудовищными скачками.
Красивые здесь места. Луга и болота, нивы и большое озеро. Высокие, поросшие вереском холмы сменяет лес, поднявшийся из зыбучих носков. А дальше белые дюны и синее море.
Несколько в стороне, там, где в почве много суглинка,
лежат крупные хутора. Это крепкие хозяйства, где все в полном порядке. Их владельцы — солидные люди, они своевременно рассчитываются по ссудам и налогам. Только одному из них приходится туго.
— Не расплатиться ему в срок! — говорит о нем сосед.
— Хи-хи! Придется ему убраться отсюда. А хутор пойдет с молотка!
Соседи ухмыляются и потирают руки.
— Поделом ему, так ему и надо!
В сущности ему не хватает пустяка, чтобы расплатиться с долгами. И все же придется расстаться с хутором.
Хуторяне водят знакомства только друг с другом. По воскресеньям хозяева поочередно приглашают друг друга на чашку кофе с невероятным количеством пирожков. Жены являются в шляпках и перчатках, едят белый хлеб ножом и вилкой, далеко оттопыривая при этом мизинец. Они очень чувствительны и начинают визжать, когда с крыши террасы на скатерть падает какая-нибудь маленькая зеленая гусеница. Ай-ай!
Впрочем, есть среди них человек, которого они у себя не принимают. Он пришлый. Он появился здесь только в 1901 году. С ним можно и поздороваться и поболтать. Но приглашать к себе на чашку кофе — не годится. Ведь он — пришлый.
Дальше идут середняки и хусмены7. Они живут на песках и в заболоченных низинах. Они трудятся, не разгибая спины от зари и до зари. Но для того чтобы свести концы с концами, им приходится работать зимой хоть за две кроны в день у богатых хуторян, а летом за чуть большую сумму у дачников.
Но и между этими людьми есть кое-какие различия. Один из них — лентяй, который к тому же еще и пьет. В воскресенье он, случается, выпивает одну, а то и две кружки пива. Этакая свинья! Его зовут Андерс с болота. Типичный обитатель дома призрения. Из тех, которые, не церемонясь, требуют помощи от общины. Позор, конечно, что подобный субъект затесался в эти места.
Потом идут арендаторы. Они арендуют участки, хозяева которых живут в Копенгагене. Столичным жителям не хочется портить прекрасный вид, открывающийся из окон их дач. Ведь каждому приятно в дни отпуска насладиться зрелищем настоящей деревни и полей! И арендаторы зря жалуются, что соломенные крыши протекают, а глиняные стены отдают кислятиной и затхлостью. Зато до чего же они живописны — эти старинные, покосившиеся домики!
Немало контрастов можно наблюдать в здешних местах. Множество разновидностей человеческой породы. Множество крохотных общественных ячеек, существующих независимо одна от другой. Маленькие обособленные мирки, поместившиеся на одной квадратной миле...
Есть здесь и рыбацкий поселок; рыбаки сдают на лето свои жилища копенгагенцам. Они недолюбливают своих дачников: мужчины шныряют повсюду в одних трусах, а женщины — с голой спиной, и только знай себе купаются да загорают, как будто все помешались на этом. Впрочем, на то они и горожане! Только бы заработать на них как следует!
Волнолом занесло песком. Никто в поселке уже не рыбачит. Зато здесь выросли гостиница для курортников, пансионаты и дома отдыха. В стороне от дороги расположен некий «Исторический кабачок» с соломенной крышей, старинными фонарями, надписями на балках и красивыми свинцовыми рамами. «Не забудьте посетить «Исторический кабачок»!» — написано на рекламных щитах, плакатах и дорожных указателях.
Есть здесь, конечно, и колония художников, обитатели которой воспроизводят на холсте красоты местного пейзажа и всякие достопримечательности. Все это — известные даровитые художники, повсюду рыскающие в собственных автомобилях с мольбертами и красками в поисках подходящих сюжетов. Прислуга таскает за ними палитры и держит кисти.
Ремесленники группируются вокруг духовной миссии. Они живут очень сплоченно и образуют свой замкнутый кружок. Собираются они в доме, принадлежащем миссии, распевают псалмы и пьют невероятно много кофе. Люди они с достатком и проявляют трогательное единодушие, когда устанавливают на рынке цены за свои изделия.
Наконец, надо учесть еще лагерь молодых безработных. Это — тоже маленький, независимый мирок, отгороженный от всего остального мира. Безработные остаются здесь только в зимние месяцы. Летом, ввиду наплыва дачников, их предпочитают удалить отсюда. Безработные ведь плохо одеты, н, того и гляди, кто-нибудь из дачников насмерть перепугается, столкнувшись в лесу с этаким оборванцем.
Да и сами крестьяне не очень-то благоволят к безработным. Нечего им здесь околачиваться и переводить драгоценное время. Работают они всего по нескольку часов в день. Все остальное время посвящают занятиям и спорту. И за это государство кормит и поит их, обеспечивает жильем да еще выдает им деньги на карманные расходы!
А на хуторах не хватает рабочих рук. Батраку предлагают уже целых пятьсот крон и четыре выходных дня в году — да и то еще не всякий соглашается. Безработные, видите ли, предпочитают увиливать от работы и получать пособие по безработице. Разве может так дальше продолжаться? Где взять деньги?
Немало есть вопросов, которые ждут своего решения. Немало возникает всяких споров и разногласий. Мартин Хагехольм несется по шоссе. Ему знакомы все эти маленькие домишки и их обитатели: ведь он был когда-то почтальоном и теперь в курсе всех их дел. И надо сказать, он никогда не стесняется похвастать своей осведомленностью. В такой глуши люди знают друг о друге всю подноготную. Здесь не слишком огорчаются, если у соседа бывают какие-нибудь неприятности, ибо ничего особенного все равно случиться не может, и все же умы находят себе пищу, а языки — тему для разговоров.
Сюда-то и прибыл однажды никому не известный человек. Таинственная и загадочная личность. И появился-то он осенью, когда дачники уже давно разъехались.
По-видимому, он рассчитывал навсегда поселиться в этих краях.
Появление этого пришельца сразу же вызвало всеобщий интерес и недоверие. Никто ничего толком не мог сказать о нем, но чувствовалось, что здесь что-то неладно.
Так оно в действительности и оказалось.
Глава 22
Он явился сюда в один ясный осенний день.
Со станции он пришел пешком. Чисто выбритый субъект в очках и в светлом плаще. Деревенские жители с любопытством разглядывали его. Он любезно здоровался со всеми и снимал шляпу. Но никто не отвечал на его приветствия. Его только провожали взглядами. В этих краях к чужим относятся без особого расположения. Да и какое можно чувствовать расположение к человеку, из которого ты собираешься выжать побольше денег?
Незнакомец зашел в магазин купить коробку сигарет. Расплачиваясь, он вынул крупную кредитку, которой лавочник не смог разменять.
— Простите, но, к сожалению, мельче у меня нет! — сказал приезжий.
Лавочнику пришлось бежать напротив, к булочнику, чтобы разменять бумажку. Ясно было, что у этого господина куча денег. Тем более что в его бумажнике была и иностранная валюта.
— Как все изменилось в этих краях! — произнес приезжий. — Да и не удивительно, конечно. Ведь уже более тридцати лет прошло с тех пор, как я в последний раз был здесь. Я так долго прожил за границей. В Америке!
Затем он поинтересовался, где живет Йенс Йенсен.
— Йенс Йенсен? Да идите все прямо, никуда не сворачивая. Прямо по дороге. Он живет за околицей, там, где начинаются холмы. Длинный белый дом, с голубым дощатым забором. У входа прибит почтовый ящик.
Жители селения следили за ним из окон своих домов.
— Кто это там идет? — спрашивали они друг у друга.
А жена колодезника даже вышла на дорогу и уставилась ему вслед.
Из нескольких дворов выбежали с лаем собаки. Человек в очках отступил и перешел на другую сторону шоссе.
«Надо будет непременно купить себе палку, — подумал он. — Палка понадобится мне в первую очередь».
Из леса пахло хвоей, грибами н землей. С моря веяло водорослями и солью. А с полей доносился острый аммиачный запах удобрений.
По одну сторону дороги тянулись холмы, поросшие вереском, а позади них начинался лес. По другую сторону далеко раскинулись просторы полей и заболоченные низины.
Между холмами были разбросаны маленькие, крытые соломой домики. И они казались еще более деревенскими, чем обычные деревенские хижины. Их строили так, чтобы они не оскорбляли глаз, не больше. Своим видом они очень соответствовали окружающему пейзажу. Можно было подумать, что их специально запроектировали для этих одиноких холмов. Вокруг них не было пи садов, ни заборов, и участки отделялись один от другого лишь межевыми знаками.
По другую сторону дороги были разбросаны отдельные хутора — самые настоящие хутора, владельцы которых обрабатывают землю и постоянно жалуются на трудные времена. Окна их домов украшены белыми занавесями, а на подоконниках стоит герань в красивых цветочных горшках. Здесь немало настоящих садов с клумбами и флагштоками. И ни одной надписи, гласящей, что нельзя ходить по газонам.
Навстречу пришельцу движется автомобиль. Это первый автомобиль, который он встречает здесь. Вот машина останавливается, из нее высовывается человек с багровым лицом и начинает с любопытством разглядывать незнакомца. В машине у него охотничья собака и ружье. Он смотрит упорно и невозмутимо. Вот он что-то кричит — так, что незнакомец нервно поворачивается в его сторону.
— Простите, вы, кажется, что-то сказали? Я не разобрал!
— Да это я не вам! Я разговариваю с собакой.
Человек в машине раскатисто смеется и хлопает собаку по морде.
— Ну, ну, спокойно! Сидеть!
Он дает газ и едет дальше.
Жилище Йенса Йенсена легко найти. Перед ним маленький живописный палисадник и голубая изгородь. На воротах висит красный почтовый ящик. Незнакомец останавливается у дома и медленно осматривается по сторонам. Может, и здесь есть собаки, которые бросятся на него, как только он откроет калитку? Полная тишина, не слышно ни звука.
Йенс Йенсен увидел посетителя в окно. И не вышел. Пусть пришелец немножко подождет. А тот уже открыл калитку и снова тщательно закрыл ее за собой. Потом осторожно постучал в дверь. Стук пришлось повторить несколько раз. В ответ раздалось:
— Здравствуйте! Не вы ли господин Йенс Йенсен?
— Я.
— Меня зовут Джонсон, Герберт Джонсон. Мы говорили с вами по телефону.
— Так. Значит, это вы? Вы хотите сиять у меня комнату? А я и не думал, что вы так быстро пожалуете. Я не знаю, может быть помещение еще не приведено в порядок...
— А я так понял, что тотчас же могу переехать. Ведь вы говорили...
— Да мне и в голову не приходило, что вы так быстро нагрянете. А где же ваш багаж? Вы, значит, хотите сразу же остаться здесь?
— Это бы очень устроило меня. Чемоданы мои прибудут позже. Они остались пока в Копенгагене. Для меня крайне важно поселиться немедля.
— Вот уж н не знаю, возможно ли это сейчас. Придется мне прежде потолковать об этом с дочерью. Она приведет в порядок ваши комнаты. Карен! Ка-а-рен! Послушай, как по-твоему, может господин немедленно переехать?
— Как — сразу?
— Да. Он так хочет.
— Но надо же хоть немного убрать.
— Ну, что ж, я могу еще немного пройтись — часок или что-нибудь в этом роде...
— Вот это было бы хорошо. А то что за удовольствие присутствовать при уборке?
— Ну, что ж, я пойду, если так. До свидания.
— Постойте... одну минутку. Давайте сначала договоримся насчет платы. Так уж заведено. Я хотел бы, чтобы вы сразу же уплатили мне за полгода вперед. Такой уж у нас порядок. Я и по телефону предупреждал об этом. Надо сказать, что уже до вас кое-кто побывал здесь и хотел снять эти комнаты. Но так как вы явились первым...
— Пожалуйста! Уплатить вам деньги сейчас?
— Конечно. Всегда лучше сразу же с этим разделаться. Итак, ровно триста пятьдесят крон.
— Прошу вас.
Незнакомец извлек из кармана бумажник. Йенс Йенсен смотрит во все глаза на толстую пачку кредитных билетов. Среди них есть и долларовые бумажки. Они высовываются как бы невзначай. Это выглядит успокоительно и солидно.
— Благодарю. Вот это прекрасно. Сейчас же напишу вам расписку. Для порядка. Ваша фамилия Джонсон, так ведь?
— Герберт Джонсон.
— Так, так. А вот и расписка. К вашему приходу Карен все приведет в полный порядок.
Глава 23
Вечера стоят тихие. Только вдалеке едва слышатся чьи-то слабые голоса. С моря доносится стук моторной лодки. Где-то лает собака, должно быть далеко, за много километров отсюда.
А темень какая! Абсолютный мрак. Стоит погасить лампу — и ни единый, даже тончайший луч света не проникает сюда через маленькие оконца.
Мистер Герберт Джонсон лежит на кровати, под толстой периной. От перины пахнет землей. Все постельное белье пропитано затхлостью.
Некоторые затруднения возникли из-за простынь. Простыни не входили в счет платы за квартиру. Как, впрочем, и перины. Но здесь нет магазинов, где можно было бы приобрести простыни, и Карен пришлось на время дать жильцу свои. Сделала она это без особого энтузиазма.
Под периной ужасно душно. И она так туго набита, что ее не сразу подоткнешь под себя. Перина плохо греет тело мистера Джонсона, н оно мерзнет то в одном, то в другом месте. Пытаясь защититься от холода, проникающего под перину, он плотнее натягивает ее на себя и тут же начинает задыхаться от жары. Мокрый от пота, он в то же время жестоко страдает от холода.
Тишина такая, что слышно, как шуршат по обоям длинноногие пауки. Где-то скребется мышь. Тихо потрескивает от старости мебель. За обоями шелест и шорох — это, по-видимому, осыпается не то песок, не то штукатурка. В тишине все эти слабые шорохи становятся отчетливо слышны, и поэтому кажется, что комната наполнена всевозможными звуками.
Если бы еще целы были его карманные часы, — думает мистер Джонсон, — их тиканье звучало бы здесь, как рокот мотора. Но у него уже нет часов. Ему не удалось сохранить их.
Мистер Джонсон все еще воюет с периной. Никак ему с ней не сладить. А мысли его вертятся вокруг удивительных вещей, к которым сам он уже как будто не имеет отношения. Но теперь Джонсон не волен решать, о чем ему думать. Мысли мелькают в лихорадочном бреду.
Ему как будто надо что-то сделать. Он еще не справился с каким-то заданием. А это очень важно и срочно. Но он никак не может сосредоточиться. Вот какая-то красная тетрадь для сочинений, которую он должен исписать от корки до корки. А вот желтая. Кроме того, есть еще и синяя. Ему придется написать еще уйму других сочинении, чтобы стать одним из первых учеников в школе. Сочинения на английском н немецком языках. И на датском. Но только вот о чем писать? Он никак не может вспомнить тему. Это ужасно! Ведь сочинение нужно написать именно сейчас. И еще задачу по математике надо решить. Построение прямоугольного треугольника по гипотенузе. Итак, нам известно, что сумма квадратов катетов равна... Что за несусветная чепуха! Это все перина виновата в том, что у него ум за разум заходит.
«Я лежу в кровати, — думает Джонсон, — в одном из домов деревни. В другой части дома спит Йенс Йенсен. И Карен спит. Она разделась и тоже укрылась периной. Какая она из себя, интересно? Тело у нее, конечно, белое. Никогда в жизни она не принимала солнечных ванн. И все же она здоровая и сильная, и у нее красивые, крепкие ноги.А лицо, как на грех, довольно кислое».
Вот бы узнать, который теперь час? Но у него больше нет часов. Его хорошие старые часы пропали. А сколько лет они прослужили. Верой и правдой! Еще со времени конфирмации. Тикали и в жилетном кармане и на ночном столике. А теперь их больше нет. Ничего не поделаешь! Этого требовали обстоятельства. Ха-ха! Сложившиеся обстоятельства!
Почему сердце бьется так сильно? Может быть, это лихорадка? Нужно пощупать пульс! Но и для этого нужны часы. А сердце знай себе стучит да стучит. А может быть, он заболел? Может быть, слишком много пережил за последние дни? Вот так, пожалуй, и помрешь в этом ужасном доме, где все пропахло плесенью. Помрешь как раз в тот момент, когда собрался начать новую жизнь! Начать, ха-ха! Начать! Да что тут начинать? Меня зовут Джонсон, Герберт Джонсон. Я уже не молодой человек. Прожил много лет в Америке!
А вот и длинная-предлинная плотина, через которую надо перебраться. Какая она бесконечно длинная! Он идет между двумя водными пространствами, идет из одной страны в другую. Но нужно во что бы то ни стало перейти на ту сторону. Очень нужно. Сзади стреляют. Стреляют из пушек, с того берега. Скорее! Надо бежать. А еще так далеко, так далеко! Впрочем, бежать больше нет сил. Одолевает отчаянная усталость, какая-то слабость и изнеможение — ноги подкашиваются. Он опускается на колени. А подняться нет сил. Но нужно, нужно превозмочь себя. Он должен перейти плотину. Должен.
Под плотиной — шлюзы. Большие, замечательные шлюзы с воротами и подъемными механизмами. Вода течет из одного моря в другое. Она течет, и пенится, и бурлит. Бурлят и бурлит...
Глава 24
Человек, разъезжающий на фордике, — беспокойное существо. Он мог бы ничего не делать. Ведь он получает пенсию. Да еще наследство ему досталось. И все же он без конца возится с какими-то делами. Бегает и бегает повсюду... Где бы что ни случилось — он тут как тут.
— Здравствуй, Йенс! Что это за чудище ты поселил у себя? Столичная штучка?
— Да нет! Скорее какой-то американский фрукт. Только недавно вернулся из-за океана.
— А что он собой представляет?
— Толком я, сказать правду, и сам не знаю. Но деньги у него водятся. И не торгуется. Кошелек у него туго набит. Есть и американские деньги.
— А чего его занесло в наши края?
— Я и сам хорошенько не знаю. Странно, конечно, что он решил поселиться именно здесь. Хотя где-нибудь человеку надо же осесть. А в наших краях он бывал в детстве. Он говорит, что эти места ему знакомы.
— Во всяком случае, не на охоту же он к нам приехал?
— Да вряд ли. У него и ружья-то с собой нет. Да и вообще вещей не бог весть сколько. По его словам, багаж прибудет позже.
— Так уж ты смотри предупреди его: пусть не вздумает стрелять в местах, где я охочусь. Не то ему придется иметь дело со мной. А я-то уж сумею проучить этого молодчика! Пусть только посмеет залезть на мой охотничий участок...
Хагехольм совершенно вышел из себя. Он стиснул кулаки, а лицо его еще больше побагровело.
— Я передам ему, — спокойно заметил Йенсен. — Но не думаю, чтобы он был охотником.
— Пусть только сунется! С такой публикой я не церемонюсь. Уж я ему покажу, где раки зимуют! Пусть только попробует стрелять на моей земле!
— Я передам ему.
— Чего он здесь не видел? Налетают сюда эти копенгагенцы, а наш брат терпи полгода дороговизну. Неужели нам даже зимой нет от них покоя? Одному богу известно, что у этакого на уме. Да знает ли он сам толком, чего хочет?
— Кто его ведает. Мне мало чего удалось у него выудить.
— Да, дела творятся... Люди с ума посходили. Слышал ты наипоследнейшую новость об Андерсе?
— Что? Об Андерсе с болота? Нет. А что такое?
— Да он, понимаешь, написал министру социального обеспечения.
— Быть не может! Вот дурень! Откуда ты знаешь?
— От почтальона. Он даже и письмо мне показал. На нем было ясно написано: «Министру социального обеспечения».
— Да? Ты все еще поддерживаешь старые связи с почтой? Хи-хи-хи!
— А ведь ничего путного из этого не выйдет. Подумать только: самому министру писать!
— Пусть пишет кому угодно. А от здешней общины ему не получить ни гроша пособия! Хватит нам неприятностей с ним.
— Вот кто действительно спятил!
— Уж не знаю, что с ним происходит! Но пока я сижу в общинном совете или в комитете, ему не на что рассчитывать. Можешь быть спокоен!
— О, ты у нас на этот счет мастак! Вот так же было, когда я состоял в кассе взаимопомощи. Тогда рыбаки потребовали, чтобы им тоже выдавали пособие по безработице. Как будто правильно, а? Но у меня этот номер не прошел.
— Знаю, знаю. Ты уже рассказывал об этом не раз.
— Я сказал: нет! Вот они я обжаловали мое решение в министерство. Оттуда мне прислали бумагу, в которой потребовали, чтобы я «мотивировал свой отказ»...
— Так, так. Ты рассказывал мне об этом.
— Я же ответил: не понимаю, как рыбаки могут быть безработными, пока для них открыто море.
— Здорово!
— Как тебе это нравится: «пока для них открыто море!» Хи-хи-хи! Неплохо сказано, правда?
— Ну, разумеется. А теперь я пошел. Мне еще кое-какие дела нужно справить.
— Да и мне нужно торопиться. Собираюсь вершу на речке ставить. Гляди, какой я себе большой замок заказал, уж он-то выдержит. А если кто вздумает ломать его, то это уже будет явная кража со взломом.
— Да разве кто-нибудь покушается на твоих угрей, Мартин?
— А кто его знает? Ведь завелись у нас на болоте такие лодыри, как Андерс. Угадаешь разве, что он замышляет? Но пусть поостережется. Пусть попробует залезть ко мне в вершу — я его засажу за кражу со взломом.
— Гм! Уж кто-кто, а ты в этом деле знаешь толк, Мартин! Ты у нас дока!
— Хи-хи-хи! С этой братией держи ухо востро! Ну, прощай!
Фордик запыхтел и тронулся с места. Йенс Йенсен проводил его глазами.
— И беспокойная же душа этот Хагехольм!
Глава 25
Середняк Йенс Йенсен — человек положительный. Из числа тех, что пользуются доверием всей общины. Потому-то на него и возложен целый ряд общественных обязанностей.
Он — член приходского совета. И комитета по распределению пособий. Больничной кассой заведует тоже он. В легкомыслии его не упрекнешь. Общественными деньгами он не швыряется. И вокруг пальца его никому обвести не удастся.
Вот из низины, с песков приплелась какая-то старуха. Она больна подагрой, все у нее ноет и болит, и даже доктор ничем не может помочь ей. Уж совсем собралась было она к знахарке — к той, что в Гурре живет, или к другой — в Стенлэсе. Но доктор высказал предположение, что ей, пожалуй, следовало бы попробовать светолечение, компрессы или что-нибудь еще. Получить все это можно в больнице, а заплатит за лечение больничная касса.
— Что такое? — говорит Йенс Йенсеп. — Светолечение тебе нужно, Эмма? Так это ведь дорогая штука!
— Да, но... я думаю, что заплатит больничная касса. Да и доктор того же мнения.
— Ах, вот оно что... Значит, оба вы так думаете? Зато я не очень-то в этом уверен. Но мы, разумеется, охотно поставим этот вопрос на обсуждение. А там видно будет. Приходи-ка через недельку, Эмма!
Старушка горячо поблагодарила его и снова поплелась восвояси. Она понятия не имеет о законах, относящихся к больничным кассам, и ей невдомек, что такие вопросы нет надобности обсуждать. Но когда она приходит в следующий раз, заведующий объявляет ей:
— Отказано! Не соглашаются. Что делать, один в поле не воин, Эмма! Не разрешили. Так что уж постарайся как-нибудь обойтись без светолечения. Протянешь и так!
Отчеты больничной кассы с благоприятным балансом производят хорошее впечатление. У Йенса Йенсена нет никакой личной выгоды экономить кассовые средства. Но крестьяне выбирают в приходской совет только таких людей, которые знают, как обращаться с общественными деньгами, и умеют их попридержать. К Йенсу Йенсену крестьяне относятся с доверием.
В кассу обращаются многие. И хорошо, когда есть человек, который умеет их осадить.
Приходят к Йенсену и те, кто домогается пособий из средств на социальное обеспечение.
— Значит, ты хочешь стать обузой для прихода? Этого я от тебя не ожидал! Неужели тебе не совестно?
— Но позволь, получать пособие — тут нет ничего зазорного. Это не то, что вспомоществование по бедности!
— Одно и то же! Как ни верти и ни финти, а пособие есть пособие! И неужто тебе в самом деле не совестно обращаться с этим к общине? Счастье еще, что твои родители не дожили до этого. Они бы сквозь землю провалились от стыда.
Многих Йенсен доводит до того, что они сами отказываются от своих недостойных притязаний. Но попадаются и скандалисты, упрямцы, на зубок затвердившие законы и знающие их, пожалуй, лучше чиновников. Порой они пишут в округ и жалуются на то, что им отказано в пособии.
Но Йенс Йенсен знает, как заткнуть им рот: он предлагает им работу. Ведь не станут же они увиливать от работы? Или, может быть, они потому не хотят ничего делать, что им сподручнее вымогать пособие?
— Пожалуйста! Вот вам работа: заготовляйте щебень. На морском берегу нет недостатка в камне!
Это хоть кого заставит понять, что, пожалуй, нет смысла стучаться в двери комитета по распределению пособий.
Андерс с болота — упрямейший из упрямых. От него трудно отделаться. Он не только назойлив, но и, должно быть, немного не в своем уме.
Ему тоже предложили заготавливать щебень. И некоторое время он сидел на берегу, дробил булыжник и старался набить кубический метр щебня в день. Но это у него никак не получалось. И вот он пришел, сдал инструмент и заявил, что эта работа ему не по вкусу.
Очень просто: он отлынивает. Но община не собирается поддерживать такого молодчика. Что ж, если этот барин не желает работать, так н не надо. Но пусть помнит, что есть такое учреждение, которое называется «работный дом»!
Домашнее хозяйство у Йенса Йенсена ведет дочка. У нее все так и горит в руках.
Они редко разговаривают друг с другом. Это тихая семья. По вечерам Йенс Йенсен сидит за столом с трубкой во рту и приводит в порядок бухгалтерские книги или пишет протоколы. А Карен ложится спать рано или сидит тут же молча. Если новый жилец искал в здешних краях уединения и покоя, то в доме Йенса Йенсена он бесспорно обрел его: шума и ссор здесь почти не бывает.
При жизни жены Йенсена дело обстояло иначе. Тогда здесь не было тишины и спокойствия. От ссор и брани шум стоял на всю округу.
Но жена, по божьей воле, померла. Это было лучшее, что она могла придумать. Йенс Йенсен неважно обращался со своей женой.
Жена колодезника могла бы порассказать немало удивительных и жутких вещей о супружеской жизни Йенсенов. Она ведь жила с ними дверь в дверь, и вся их жизнь протекала у нее на глазах.
Если Йенс Йенсен теперь так молчалив и серьезен, то отчасти это объясняется тем, что у него не совсем чиста совесть.
Глава 26
По утрам на полях еще лежит иней. Но дни стоят ясные, и чуть только выглянет солнышко, как становится тепло.
Выходя, Герберт Джонсон тщательно закрывает за собой голубую садовую калитку. Потом он ненадолго останавливается, устремляя взор вдаль, по ту сторону болота. Глубоко вздыхая, он набирает в легкие здоровый, чистый воздух. Ему хорошо.
Он еще никому не рассказывал, чем он занимался там, в Америке. Но с первого взгляда на него становится ясно, что он во всяком случае не был фермером или кем-нибудь в этом же роде. Жизнь его скорее протекала в царстве чернил и промокательной бумаги, картотек и архивной пыли.
Вдалеке по болоту пробежал заяц. Мистер Джонсон проводил его глазами, пока тот не исчез из виду. Но зайцу нечего бояться Джонсона. Он вовсе не охотник и никогда ни в кого не стрелял. О нарушении чьих-либо охотничьих прав он и не помышляет. Мартин Хагехольм может спать совершенно спокойно. Герберт Джонсон вовсе не браконьер. Вряд ли он подаст какой-либо повод к ссоре. У него такой миролюбивый вид. Если он и преступник, то по его внешности этого во всяком случае не видно.
Джонсон идет по шоссе, твердо постукивая новой тростью. Кругом ни души. Даже ни одной собаки не видно. Дома разбросаны здесь на большом расстоянии друг от друга.
Свернув на узкую песчаную тропинку, он поднимается на холм.
Отсюда открывается восхитительный вид. По одну сторону — лес, простирающийся до самого моря. По другую — равнина, а дальше — трясина, испещренная окнами воды, торфяные разработки и ручей. А за ними — поля, пашни, крохотные белые домики и хутора. Озеро с удивительной свинцово-серой поверхностью. Еще дальше — леса и холмы.
Перед Джонсоном раскинулась огромная географическая карта с церквами и мельницами и крошечными коровами. Шоссе вытянулось, как узкая белая лента. Он даже узнает тот маленький автомобиль, что так быстро катится там, по этой ленте. Это, конечно, Хагехольм: беспокойная душа снова куда-то несется.
Изредка еще попадаются цветущие кустики вереска. Немножко синих колокольчиков и мелкие, желтые бессмертники, уцелевшие от ночных заморозков.
Джонсон нагибается, срывает несколько цветков и вдыхает их аромат. У них такой замечательный терпкий запах!
И вдруг он слышит чей-то гневный голос и испуганно втягивает голову в плечи.
— Эй, эй! Алло! Какого черта вы здесь делаете? Это — частное владение! С какой стати вы рвете мои цветы?
Внезапно выплывает фигура мужчины в сером пальто. Он обозлен, вне себя от гнева и кричит так, как никогда не позволил бы себе кричать в другое время. Он человек благовоспитанный, ибо получил прекрасное образование, окончил школу и общается с культурными людьми.
Если бы он встретился с мистером Джонсоном где-нибудь в обществе, он был бы, конечно, изысканно любезен и обходителен. Но здесь, среди степей и холмов, он начисто забыл о европейской цивилизации. Он орет и ругается. Машет сжатыми кулаками, как будто вот-вот полезет в драку. И все оттого, что кто-то посягнул на его собственность!
— Вы что, не видели таблички с надписью? А ну-ка, немедленно убирайтесь отсюда! Этакая наглость, черт побери!
— Очень прошу извинить меня! Я не заметил никаких надписей. К тому же я полагал, что это полевые цветы и их можно рвать.
— Полевые? Да, разумеется, это полевые цветы. И все равно их никто не смеет обрывать. Это — мои цветы. И мой участок. Я ухлопал уйму денег на то, чтобы установить таблички, а какие-то злоумышленники приходят и уносят их. За один только последний год я потратил на таблички свыше двухсот крон, а они исчезают одна за другой!
— Прошу простить меня. Я тотчас же уйду. Я в самом деле не видел никаких табличек.
— Вы что ж, живете где-нибудь поблизости?
Голос разгневанного господина звучит как будто помягче.
— Да. Я поселился у Йенса Йенсена, в белом доме, вон там внизу.
— Ах, так... Ну, в таком случае я не возражаю против того, чтобы вы прогуливались здесь. Раз вы здесь поселились, то, конечно, если хотите, можете пользоваться этой тропинкой. Против этого я не возражаю. Но я не позволю, чтобы здесь шатались все эти копенгагенцы, воскресные гости. И пусть они не трогают моих цветов, уж за этим я послежу!
Теперь он был уже настроен вполне дружелюбно, снова вернувшись в лоно цивилизации.
— Да. Здесь наверху у нас очень красиво. Что за благодатный край! Я сам большую часть года живу здесь. Вон в том красном доме. Доктор Эйегод, — представился он.
— Джонсон.
Оба любезно раскланялись.
— Вы, конечно, можете приходить сюда в любое время, когда вам заблагорассудится. Я только очень болею за мои цветочки. А по воскресным дням сюда устремляются целые полчища. Вы ведь понимаете, как это может бесить!
— Да-да. Конечно. Я вас очень хорошо понимаю!
Оба собеседника приветливо приподняли шляпы, и каждый пошел своей дорогой.
Доктор Эйегод — не единственный копенгагенец, живущий здесь почти круглый год. Все эти маленькие крестьянские домики, рассыпанные между холмами, принадлежат копенгагенцам. Люди это образованные и известные. Они — большие поклонники красоты, умеют ценить природу и потому так усердно следят за тем, чтобы простой люд не портил им пейзажа. Некоторые из них — художники, из тех, что вечно рисуют одни и те же сюжеты: холмы, деревья, летние ночи и туман над болотами...
Домики их кажутся еще более деревенскими, чем дома крестьян. Они крыты соломой, что предписывается уставом общества, занимающегося продажей местных земельных участков.
Обитатели этих домиков не какие-нибудь дикари или вандалы, вторгшиеся в сельский пейзаж. Они считают своим долгом сохранять эти холмы в их первобытном состоянии. Здесь запрещается разводить сады и ставить заборы: пусть вереск, трава и песчанка растут как им заблагорассудится. Исконно-датский ландшафт в сочетании с хорошо разросшимися здесь австрийской горной сосной, немецкой пихтой и сибирским кедром должен остаться неприкосновенным. Защита природы осуществлялась тут в добровольном порядке еще задолго до создания общества защиты зеленых насаждений.
Но нетронутой природой и навеваемым ею миром могут наслаждаться только владельцы земельных участков. Холмы и горные сосны они охраняют для себя, и только для себя. Вот откуда берутся надписи: «Частное владение! Частное владение! Частное владение!» И еще: «Входа нет!» Или: «Вход воспрещается!» Даже по дорогам, что пролегают между холмами, могут ходить лишь владельцы участков.
Только одну-единственную, узкую, живописно извивающуюся, каменистую тропинку страстные ревнители природы предоставили в распоряжение случайных туристов и «воскресных гостей», налетающих сюда из столицы, то есть тех жалких людишек, которые встречаются с природой только раз в неделю и поэтому не доросли до ее понимания. Большие щиты возвещают, что холмы являются частной собственностью, и «землевладельцы только из любезности предоставляют туристам право пользования этой тропой». Однако сворачивать с нее в сторону воспрещается. «Следите за дорожными знаками! Путь к вершине холма!» И сквозь строй угрожающих и запретительных надписей посетитель выходит к так называемой «обзорной скамье». Благодаря любезности землевладельцев туристы получают возможность бесплатно полюбоваться миром с высоты птичьего полета.
Герберт Джонсон добрался до каменистой тропы туристов. По ней он возвращается на шоссе. Несколько обескураженный, он быстро шагает по мелкому гравию. Он уже больше не задерживается, не смотрит по сторонам, не старается наполнить легкие воздухом и не вслушивается в голоса природы. Грудь его стеснена каким-то необычайно гнетущим чувством.
Герберт Джонсон — человек порядка. Из тех, кто уважает законы. Во всяком случае, все нутро его требует их соблюдения, и он неизменно подчиняется этому требованию, куда бы ни забросили его обстоятельства.
Он осторожно шагает по тропинке, стараясь не наступить на вереск или песчанку.
Глава 27
Погода переменилась. Идет дождь, и у голубого дощатого забора блестят лужи. В печной трубе бушует ветер; гудят телефонные провода. Плохая погода для дачников.
Герберт Джонсон ходит взад и вперед по своим маленьким, низким комнатам. Как здесь мрачно, какие скучные коричневые обои... Нет на них ни цветов, ни узоров, на которые так занятно смотреть по утрам, лежа в постели. Это новые модные обои с китайскими прямоугольниками, купленные в кооперативе.
Посреди одной из комнат висит медная лампа. Даже в это время года на ее завитушках и на стеклянных висюльках сидят мухи. В комнате стоят продавленные кресла в чехлах и плюшевый диван. Стены увешаны фамильными фотографиями Йенсенов, снявшихся по случаю каких-либо торжеств. Вот увеличенный и ретушированный портрет покойной жены Йенсена; она безмятежно улыбается, будто вся жизнь ее была устлана розами. А вот и фотография самого Йенсена в солдатском мундире; она вставлена в рамку, выпиленную из дерева.
На овальном, столике — зеленая фарфоровая ваза с двумя каменными яблоками.
В маленькой кухне стоит примус, купленный самим Джонсоном, но Джонсона берет оторопь всякий раз, когда приходится зажигать его. Это опасный прибор. В технике мистер Джонсон явно не силен. Вряд ли он занимался техникой в Америке.
Утром и вечером Джонсон сам кипятит себе чай. Кроме того, у него есть жестяной ящик для хлеба и фаянсовая масленка. Сыр он держит в бумаге. Днем приходит Карен, она готовит ему обед. За особую плату. Она же убирает комнаты.
Тем не менее что ни день возникают новые трудности, которых Джонсон не предвидел. Неприспособленный он к жизни человек.
Что, например, делать с воротничками, когда они становятся несвежими? А рубашки? Ведь здесь некому приготовить ему чистую рубашку.
Когда он был ребенком, носки и белье давала ему мать. Потом, когда он окончил университет, это делала жена.
— Вот, я положила тебе на кровать рубашку. Надень ее, — говорила она.
За сорок шесть лет он привык к этим заботам. В школе и университете он не научился самостоятельности. И если бы даже и побывал в Америке, то не стал бы менее беспомощен в практической жизни, чем сейчас.
Да, ни разу еще он не почистил себе обуви, не постелил постели. Ни разу не зажарил себе яичницу. Мать следила, чтобы он брал с собой в школу чистый носовой платок. А жена, когда он уходил на службу, кричала ему вдогонку:
— Ты не забыл носовой платок?
Теперь все его платки грязны до черноты, ему даже самому противно смотреть на них. Но кто их постирает? Прачечных здесь нет. А если бы они и были, кто же снесет туда белье? Как это устроить? Никогда ему еще не приходилось решать таких сложных задач.
Джонсон зябнет. В железной печке завывает ветер. Кажется, что за печной заслонкой ревет олень. А дров и кокса нет. Где все это достать?
Дрова можно купить в лесу, на кубические метры, — говорит Йенс Йенсен. Но их нужно распилить и расколоть. Кто это сделает? У Йенса Йенсена во дворе громадные штабеля дров. Если бы Герберту Джонсону и удалось купить в лесу дрова и нанять человека, который согласился бы распилить и наколоть их, то где же их поместить? Ведь у него нет места для дров. Когда он обращается с такими вопросами к Йенсу Йенсену, тот неохотно отвечает, что ему-де это не известно, да и не его это дело.
Не слишком он любезен, Йенс Йенсен. Угрюм, мрачен и всегда чем-то озабочен.
В конце концов дрова можно купить в деревне — у лавочника. Или на лесопильном заводе. Йенсу Йенсену непонятна беспомощность Джонсона.
Но не так-то легко заниматься хозяйством человеку, который не привык к этому. Нелегко устраивать свою жизнь, если это всегда делали за тебя другие, если ты целых двенадцать лет ходил в школу, где учителя говорили тебе, что делать, что учить, что знать, что думать, если тебе никогда не представляли права выбора и если с тобой постоянно происходило только то, что было заранее намечено.
Школьное обучение не прекращается после сдачи выпускных экзаменов. Сейчас же начинаются новые испытания. Надо снова засесть за книгу, слушать, повторять. Словом, надо овладевать наукой, то есть уметь пересказывать чужие мысли. А когда последний экзамен, наконец, сдан, ты попадаешь в контору или же в министерство, где тоже твердо установлено, что тебе делать, говорить, писать.
Нелегко быть самостоятельным, когда сорок шесть лет подряд все решали за тебя другие.
Джонсон слишком долго был школьником. Почти всю свою жизнь. Ему прививали такие понятия, как долг, дисциплина, порядок и аккуратность. Он находился сначала под опекой родителей и учителей, потом жены и начальника отделения. Его воспитывали, учили, гнули и шлифовали так, как это было желательно другим. Вся его жизнь была не жизнью, а подготовкой к чему-то иному. Чуть ли не со дня рождения он знал, что самая важная задача в жизни — изыскание путей для получения пенсии, выдаваемой по достижении шестидесятипятилетнего возраста. Никогда ничего не делалось для настоящего. Все для будущего. Слишком долго Джонсон был школьником.
Теперь он знает, что utor, fruor и potior, а также vescor требуют творительного падежа и что после si, nisi, пе и пит предпочтительно употребление quis вместо aliquis. Есть у него кое-какие познания и по части синусов и косинусов прилежащих и противолежащих углов. Он знает великое множество всяких юридических параграфов и имеет представление о статистике. Но все эти знания он усвоил не из любознательности. Соотношения между синусами, битва при Павии в 1525 году и обычное право отнюдь не возбуждали в нем любопытства. И если он считал необходимым все это заучивать, то не из жажды знания, а потому что так было заведено и потому что иначе ничего не добьешься. Это был его долг, его домашнее задание и подготовка к тому, чтобы со временем получить пенсию.
Герберт Джонсон ходит взад и вперед по своим комнаткам. Он выглядывает в окно, смотрит на дождь и немножко зябнет.
Чего ради он здесь очутился? Что намерен делать? Он приехал сюда по своей воле. Впервые в жизни он принял решение на свой собственный риск и страх.
На этот шаг его толкнули разные обстоятельства. Он не бунтарь, совсем нет. Но где-то глубоко, глубоко, в самых сокровенных тайниках его души, еще сохранились какие-то жизненные силы, стремление самому распоряжаться своей судьбой, сохранилась смутная жажда свободы.
И если его желание осуществилось, то лишь случайно. Зато теперь он очутился в положении, последствия которого трудно предугадать. Теперь одно звено влечет за собой другое.
И вот он здесь, вдали от дома. Мистер Джонсон из Америки.
Глава 28
Ноябрь. Месяц, когда в Дании проводится перепись населения. Каждый из жителей должен ответить на ряд вопросов. Для других это пустяк, но мистер Герберт Джонсон из Америки испуганно вздрагивает, когда Йенс Йенсен приносит ему анкету и просит заполнить ее тщательно и разборчивым почерком.
Новое осложнение, от которого у Джонсона сильно забилось сердце.
Приходится просить у хозяина разрешения воспользоваться его ручкой и чернилами. У самого Джонсона нет письменных принадлежностей. Он никому не пишет писем. Когда он принимается заполнять отдельные графы, рука у него дрожит, и почерк кажется искаженным, неестественным.
Долго раздумывает Джонсон, прежде чем вспоминает год своего рождения. Женат он, холост или вдов? Немало проходит времени, пока он, наконец, решает, как ему ответить. Сколько у него детей? Разумеется, детей у него нет.
Номер воинского билета? Достаточно написать: от военной службы освобожден. Местожительство в ноябре прошлого года? Небраска!
У других все это идет легко, как по маслу, но Джонсон побледнел и тяжело дышит. Теперь надо еще запомнить все написанное. Для следующего раза. Пожалуй, следовало бы сделать даже копию.
Он нервничает, расстроен и чувствует себя больным. В общем, получается так, словно сорокашестилетнему школьнику впервые приходится списывать у товарища сочинение или подчищать отметки в дневнике. Он еще никогда не занимался этим, а начинать слишком поздно. Он слишком долго ждал. Уж раз решил сделаться прогульщиком, не ходить в школу, так нечего было ждать до сорока шести лет.
Год и день рождения! (Пишите отчетливо!)
Год и день рождения? Ему сорок шесть лет. Значит, уже взрослый? А ведь еще так недавно он ходил в школу, в старое серое здание на площади Фриепладс. У дверей дежурил учитель, подстерегая опоздавших. По утрам торжественно пели: «Радостно взираем на день благословенный...» Ученики стояли в битком набитом зале. Пахло мокрой одеждой, бутербродами и ваксой. Все боялись первого и третьего уроков — свирепого математика и садиста-француза.
Всю дорогу в школу мальчик бежал, чтобы не опоздать. А когда приходила весна, когда кусты в Королевском саду покрывались нежной зеленью, благоухали лужайки, цвели деревья, свистели скворцы, у него являлось искушение не пойти в школу. И на бегу он думал о зеленых лугах, нивах и лесах. Он думал о людях, которые делают то, что хотят, и выбирают в жизни то направление, какое им нравится. Но он никогда не останавливался и бежал в школу, бросаясь прямо в ее пасть. Ему хотелось прогулять. Но он никогда не прогуливал.
А теперь он все-таки на это решился. Но не слишком ли поздно становиться прогульщиком в сорок шесть лет?
День и год рождения? Занятие?
Чего ради они интересуются его занятиями? Он просто вернулся из Америки и хочет пожить в этой местности. Он намерен жить на деньги, заработанные в Америке. Значит, он рантье.
Занятие: рантье.
Женат, холост, вдов?
Тут и думать нечего. Разумеется, холост. Ведь никогда в жизни он не влюблялся. Будучи гимназистом, он раз увлекся продавщицей из киоска. Но то было ребячество. Нет, он не женат. Вспоминается ему, правда, одна дама, которая, если можно так выразиться, заменила ему мать и распоряжалась его особой, точно так же как и всем в доме. Она следила за тем, чтобы у него всегда было свежее белье, осматривала и вычищала его карманы, заказывала для него завтрак кухарке: «Яйцо всмятку, два ломтя белого хлеба и один ржаного. Ничего другого он не ест». «Вот твой портфель, а вот чистый носовой платок. Не забудь его дома. Ну, а теперь иди, а то опоздаешь на службу». Или: «Обед на столе. Садись, все остынет. Вот еще кусочек мяса, ешь».
Он пишет: «Не женат».
Количество детей моложе пятнадцати лет?
У него нет детей. Не женат — так какие же дети? Мистер Джонсон долго протирает очки грязным носовым платком. Он не привык носить очки. Впрочем, невелика польза от этих очков. Обыкновенное оконное стекло. Но лицо от них меняется до неузнаваемости.
Он перечитывает анкету. Затем машет ею в воздухе, чтобы просохли чернила. Всю жизнь у него было под рукой пресс-папье. А теперь нет даже кусочка промокательной бумаги.
К бланку приложен большой конверт. Мистер Джонсон складывает бумагу, сует ее в конверт и тщательно запечатывает. Уж не воображает ли он, что может сохранить написанное втайне от Йенса Йенсена? Он забыл, вероятно, что Йенс Йенсен — официальное лицо, что он сидит в общинном совете и несет ответственность за правильное заполнение бланков переписи населения.
Джонсон выходит через низкую голубую калитку и сдает конверт в соседний дом: «Вот пожалуйста; кажется, все в полном порядке».
Глава 29
Где-то в отдалении, на болотах, трещат выстрелы. Слышатся они и совсем поблизости — в лесу. Охотники во всей округе вышли на охоту и стреляют. Теперь смотри в оба — как бы чужие не забрались в твои владения. Жители усердно строчат жалобы, уличая друг друга в браконьерстве.
Велосипедный мастер проходит мимо дома Йенсена со своим ружьем и старой маленькой собакой. Проезжает в своем фордике и Хагехольм — в полном охотничьем снаряжении, с ягдташем, биноклем и пером на шляпе. Увидев велосипедного мастера, он останавливает машину, опускает стекло и орет на всю улицу:
— Посмей только сунуться на мой участок, — шкуру спущу!
А велосипедный мастер, вне себя от ярости, грозит ему кулаком и кричит:
— А если я застану тебя на своем, — застрелю на месте! Теперь ты предупрежден!
Хагехольм едет дальше. А велосипедный мастер, полный достоинства, шествует со своим ружьем и старой собакой.
Хагехольм — хороший охотник. У него есть деньги, и он может арендовать для охоты лучший участок в округе. Немало зайцев привозит он домой в своем фордике. А бывает — и косулю. Разумеется, он не в состоянии поглотить всю эту дичь. А заправскому охотнику не полагается продавать свою добычу. Но, с другой стороны, Хагехольм не любитель делать подарки. И вот, после того как всех этих зайцев и косуль освежевали, их рубят на части, варят и консервируют. У Йоханны осенью забот полон рот. Она заготовляет впрок дичь и солит зайцев. Она хозяйничает у Хагехольма более сорока лет, служила у него еще при жизни его жены. Они спят вдвоем на белой лакированной двуспальной кровати, но соседи так и не знают толком, согревают они лишь друг друга или ведут свинскую и распутную жизнь. Над кроватью висит коврик, на котором вышито: «Х р и с т о с в о с к р е с!»
Когда Хагехольм вышел в отставку, он купил себе дом, или, как он выражается, виллу. Хорошенький домик, в современном стиле, из серых цементных плит, с красной крышей и с красными полосами на стенах. Хагехольм ухлопал на свою виллу немало денег. У ворот он поставил два четырехгранных столба, украшенных шарами. В центре круглого газона перед домом он водрузил флагшток с позолоченной стеклянной шишкой на конце. Летом он сдает первый этаж своего дома копенгагенцам и таким образом покрывает расходы по налогам и другим платежам за целый год.
Хагехольм полон сил и энергии. На дворе у него кролики, а в фруктовом саду за домом — ульи. Его курятник — образцовое сооружение, которым восхищаются все соседи. У него есть охотничьи собаки; он их владыка. Он же владычествует и над толстухой Йоханной, которой командует словно целым полком новобранцев. Некогда он был унтер-офицером. Потом служил в полиции. Когда его уволили оттуда, он стал почтальоном.
О его кратковременном пребывании в полиции соседи рассказывают разное. Ясно, однако, что уволили его оттуда не за доблести. Он действовал, по-видимому, слишком круто. И перестарался. Но что хуже всего, он и по сию пору сохранил повадки полицейского.
Поговаривали также, что, будучи почтальоном, он заглядывал в письма, которые ему полагалось разносить. Письмо или местную газету он вручал адресату торжественно, точно благодетельствуя его. А если случалось ему вручать кому-нибудь посылку или денежный перевод, можно было подумать, что это явился с подарками дед- мороз.
Зато если он приходил с повесткой о денежном взыскании, то держал себя так, словно он сам был оскорбленным кредитором.
— Смотри же, чтоб было уплачено! — строго наказывал он. — Извещение три дня еще пролежит на почте. Так изволь в этот срок все отрегулировать!
В бытность свою почтальоном он узнал всю подноготную о жителях деревни. И теперь чувствовал себя вправе вмешиваться в дела, которые отнюдь его не касались. В деревне его недолюбливали.
— Слишком нахально он сует нос в чужие дела, — говорили о нем. — Хватит с него своих. Со своей покойницей-женой он не слишком-то хорошо обращался. Что уж тут говорить! Вспомнить хотя бы, как он получил наследство! Нет, пусть лучше за собой следит.
Не по душе Хагехольму жить пенсионером. Он купил себе машину и теперь по нескольку раз на день совершает поездки по своему привычному маршруту. Он возится с кроликами, пчелами и собаками, охотится, ставит верши на угрей. То и дело ссорится и судится с кем-нибудь. На это тоже уходят силы и время.
Запасы он делает такие, будто поселку грозит осада или неурожай. На дворе у него огромные штабеля дров. Они искусно и тщательно уложены под навесом. Покатая крыша снабжена стоком для дождевой воды. Топлива хватит на годы, а хозяин все подновляет запасы, — как только подвернется случай купить дров по дешевке.
Хагехольму не страшен ни мороз, ни голод. Его подвал битком набит съестными припасами. Овощи и коренья хранятся в ящиках с песком. На полках стоят банки со всякими сиропами и вареньем. Здесь есть банки уже десятилетней давности. Но каждую осень Йоханна готовит новые соленья и маринады, так что запасы непрерывно растут. Есть здесь маринованные и соленые огурцы, пикули, свекла, — и все это во избежание порчи каждый год приходится переваривать. Есть маринованные бобы, горох, морковь, цветная капуста и спаржа. Есть копченый заяц, косуля, дичь. Тут же стоят банки со свинымикотлетами и банки с жареными цыплятами. Птичий двор у Хагехольма кишмя кишит цыплятами, но время от времени их режут, жарят и кладут в герметически закрытые банки. Уже много лет Хагехольм не пробовал свежего мяса. Если он и Йоханна едят цыплят, то только прошлогодних.
Ненасытная и странная мания накопления. Подвал похож на какую-то кунсткамеру с анатомическими препаратами в спирту. Всех гостей непременно водят туда, чтоб они вдоволь нагляделись на эту коллекцию. И все ахают и изумляются.
— Да, по части солений и копчений моя Йоханна великий мастер, — говорит Хагехольм. — Истинный клад. — И он так крепко щиплет ее за бок, что она кривит рот и просит его вести себя поприличнее.
Точно директор музея, он важно обходит подвал и осматривает свои заготовки. Яблочное желе хорошо сохранилось. И свиные ножки тоже еще совсем свеженькие. Это от той самой свиньи, которую мы зарезали, еще когда дочка была жива. Да, хорошо, когда дома кое-что припасено!
Если в банках сверху образуется плесень, их отставляют в сторону — надо переварить. Это дело Йоханны.
Хагехольм обходит владения и любовно озирает накопленные богатства. А Йоханна, толстая, с маленькими бегающими глазками, напоминает стража, охраняющего сокровища музея.
— В этом году надо сварить побольше ежевики, — говорит она. — И повидло из слив, пока не ударили морозы.
Странная это пара, и интересы у них — странные. Одни бог знает, какие у них отношения.
Глава 30
— Вам бы следовало переехать ко мне! У меня квартира куда лучше, чем у Йенса Йенсена. Электрическое освещение и все прочее. И не намного дороже. Кроме того, мой дом — в самом центре!
Стоя на шоссе, Хагехольм и Джонсон разговорились. Джонсон вышел погулять. В руках у него трость, воротник пальто поднят до самых ушей. Моросит дождик, дует ветер; когда стоишь и разговариваешь, холод пробирает до костей.
— Сколько вы платите Йенсену за квартиру?
— Семьсот в год.
— Семьсот? Вы подумайте! Слишком уж дорого за такую конуру. Низкие, сырые комнатки. И никаких удобств. У меня бы вы платили тысячу. Эту сумму я беру с других за одно только лето. Но если бы нашелся солидный обходительный жилец, который намерен здесь надолго поселиться, если это надежный, почтенный человек, то, пожалуйста, пусть живет за эти деньги хоть целый год. Это, скажу вам, дешевле пареной репы. До лавки, до вокзала, до всего — рукой подать. Электричество. Если хотите пользоваться телефоном — милости прошу, он к вашим услугам.
— Да, но... Теперь ведь я живу у Йенса Йенсена. Неудобно же съезжать до срока. Да ведь я и доволен.
— Конечно, конечно... Я говорю на случай, если вы захотите переменить квартиру. Подумайте об этом спокойненько. Послушайте, у вас нет охоты теперь же посмотреть мой дом? Вы не торопитесь? Влезайте в машину, прошу вас!
Герберт Джонсон — одинокий человек. Он ничего не имеет против того, чтобы познакомиться с местными жителями. Хагехольм упрашивает так сердечно... К тому же Джонсон привык делать то, что ему говорят.
— Вы не подвинетесь немножко? Я положу тут большой мешок.
— Извольте. Что это у вас там?
— Сахарный песок. Двести фунтов. На ближайшее время мы обеспечены, хи-хи-хи! По радио вчера передавали, что сахар подорожает. Так лучше вовремя сделать запасец. Ведь понадобится для варенья. Сахар же не портится.
Машина сворачивает к воротам, проезжает между двух цементных столбов, увенчанных шарами, и останавливается у дверей дома. Хагехольм дает резкий гудок и кричит:
— Йоханна! Йоханна! Куда ты девалась? У нас гости!
Выходит толстуха Йоханна. На ней белый передник. Ее маленькие глазки беспокойно бегают, будто она боится, что незнакомцу о ней что-то известно и он видит ее насквозь.
— Это американец, жилец Йенса Йенсена, — кричит Хагехольм из машины.
— Добрый день! Как тут у вас хорошо! — говорит Герберт Джонсон и протягивает руку. Йоханна нерешительно подает свою. Она совсем как неживая, словно кусок мяса, можно подумать, что она омертвела.
— Ваш муж непременно хочет показать мне свой дом.
Йоханна моргает и корчит гримасу, но не произносит ни слова.
— Это моя экономка! — говорит Хагехольм. — Моя жена умерла. Да, в один прекрасный день остаешься одиноким. Она умерла почти тридцать лет тому назад.
— Так, так... Да. — Герберт Джонсон старается придать своему лицу участливое выражение.
— Да, да, остаешься одиноким! — вздыхает Хагехольм. — Хорошо еще, что есть вот она! — Хагехольм обнимает Йоханну и похлопывает ее по заду.
— Да ну тебя, оставь, — говорит она. — В уме ли ты!
— Хи-хи-хи! Садитесь же, господин Джонсон! Будьте как дома. Йоханна принесет нам по чашке кофе.
— Прошу вас, не беспокойтесь обо мне.
— Какое же беспокойство, — говорит Йоханна. — Ведь мы все равно будем пить кофе. Только на этот раз не в кухне, а здесь. Вот и вся разница.
На стол постлана чистая скатерть. Йоханна приносит серебряную сахарницу с щипцами, серебряный молочник и домашнее печенье, приготовленное из муки, воды и маргарина.
— Такое печенье почти ничего не стоит, — говорит Хагехольм. — И хорошо сохраняется. Берите, пожалуйста! Оно очень вкусное.
— Спасибо. О да, просто тает во рту.
На стене висит увеличенная фотография покойной жены Хагехольма. Она, как две капли воды, похожа на покойную жену Йенса Йенсена. Вероятно, потому, что портрет увеличивал один и тот же фотограф. Рядом висит еще и другая фотография — молодая девушка с необычайно широким лицом.
— Это моя дочь, — говорит Хагехольм. — Да, тоже покойница. Умерла пять лет назад. Жизнь теряет смысл, когда все близкие покидают нас. У нее было хорошее место — у одного оптовика в Копенгагене. Затем она приехала к нам в деревню — захотелось ей замуж. И вот однажды выходит она погулять. По дороге срывает колосок и сует в рот. И что же? Заболевает столбняком — и конец. Вот оно как бывает! На колосе сидела бацилла. Нет, никто не знает дня, когда солнце закатится навсегда... Но как говорил наш старый пастор: «Странно, почему прежде времени умирают лучшие!» Да, да... Так-то...
— Как это грустно, — произносит Герберт Джонсон, напряженно глядя на фотографию. — Такая еще молодая...
— Да, — говорит Хагехольм. — Печально быть одиноким.
А Йоханна стирает слезу краешком фартука.
Несколько минут царит унылое молчание. Джонсон делает отчаянную попытку проглотить дешевое и непортящееся печенье Йоханны. Но у него не хватает слюны и приходится отхлебнуть глоток жидкого кофе.
На стене висят вышитые крестом и вставленные в рамку изречения из Библии. Должно быть, рукоделие дочери. И тут же рога косули, чучела птиц и другие охотничьи трофеи. Рядом с радиоприемником лежат Библия и Книга псалмов. На подоконнике расставлены вазоны с восковыми красными и белыми тюльпанами. На пианино — безделушки, фарфоровый сапожок и прочее.
— Вы играете? — спросил Джонсон у Йоханны.
— Нет, нет, — ответила она. — На пианино играла дочь Хагехольма.
Джонсон снова затронул больное место.
— Нет. Да я и не разрешил бы прикоснуться к инструменту, — мрачно сказал Хагехольм. — Не так давно здесь у нас была в гостях молодая девушка, которой захотелось поиграть на пианино. Но я сказал: «Стоп! Этого инструмента никто не должен касаться. Руки, игравшие на этих клавишах, уже мертвы. Так пусть же отныне не дотрагивается до них ничья рука».
Опять на несколько минут воцарилось торжественное молчание.
— Видите ли, — заговорил, наконец, Хагехольм, — когда моя дочь умерла, я хотел продать пианино. Но мне давали за него только двадцать пять крон. «Нет, — сказал я. — Нет! Пусть уж лучше остается здесь».
— И ты хорошо сделал, что не продал его за такую цену, — говорит Йоханна. А Хагехольм повторяет, точно читая по книге, что руки, касавшиеся этих клавишей, уже мертвы. И ни одна человеческая рука не дотронется до них, пока он жив. Когда его не станет, — ну, тогда решать будут другие. И Хагехольм мрачно поглядывает на Джонсона, словно подозревая, что тот намерен играть на пианино его дочери.
Это дом доброго христианина. По стенам развешаны мудрые изречения. На столике лежат Библия и Книга псалмов. Хагехольм никогда не богохульствует, как бы он ни вышел из себя. Но он наверстывает упущенное, пересыпая свою речь неприличными словами. Когда Йоханна убирает со стола, он без всякого перехода начинает рассказывать анекдот о Фридрихе VII и крестьянине, у которого разболелся живот. Он неистово и оглушительно хохочет, а Джонсон вежливо улыбается.
Герберт Джонсон готовился к тому, что Хагехольм будет расспрашивать его об Америке и тому подобных вещах. Но ему незачем беспокоиться. Хагехольм все время говорит сам. Он рассказывает какие-то непонятные истории одну за другой. Затем начинаются пошлые анекдоты времен солдатчины. Им нет конца.
Джонсон хочет взглянуть на часы, но у него больше нет часов.
— Гм, уже, вероятно, поздно. Мне пора домой!
— Да вы же собирались посмотреть дом. Йоханна! Иди-ка покажи американцу дом.
Глава 31
Мистер Джонсон не находит слов, так ему нравится дом Хагехольма. Беда только в том, что он живет теперь у Йенса Йенсена и снял квартиру на год. Но по истечении этого срока он, пожалуй...
— Боже сохрани, — говорит Хагехольм. — Делайте как хотите. Я только советую вам: не слишком доверяйте Йенсу Йенсену. Он, видите ли, может сыграть с вами коварную шутку... Не такой вам хозяин нужен.
Хагехольм не хочет сказать о Йенсене ничего дурного, но ведь лучше, если вас предупредили.
Джонсону показывают решительно все, даже запасы в подвале, курятник и дрова.
— Да, у вас великолепная усадьба, — говорит Герберт Джонсон.
— Пожалуй, что так. Да, неплохая. Но к чему это все? Остался один как перст. Те, с кем хотелось бы все это делить, лежат на кладбище.
Мистер Джонсон что-то сочувственно бормочет.
Потом они уселись в гостиной, и Хагехольм предлагает гостю сигару — нечто выдающееся, редкостное. Все выпивают по стаканчику вина домашнего изготовления, отдающего вазелином. Толстуха Йоханна уходит на кухню. Хозяин и гость рассматривают увеличенную фотографию жены Хагехольма, вставленную в овальную золоченую рамку.
— Да, покойница была хороша собой, — говорит Хагехольм. — Но красота недолговечна. У нее не все было в порядке. Да, не все. — Хагехольм наклоняется к гостю и многозначительно говорит: — Если женщина не хочет иметь детей, значит у нее не все в порядке. Это противоестественно.
Хагехольм тяжело вздыхает. Не часто представляется ему случай отвести душу. Вот он и разоткровенничался с чужаком-американцем. Заговорил о своем браке, о невзгодах. И о том, как случилось, что он унаследовал деньги и купил дом и все прочее. Ведь на пенсию почтового чиновника не очень-то развернешься.
Жена его происходила из зажиточной семьи: у отца был хутор и тысяч сто наличными. Ей-богу, прекрасная партия! Но отец терпеть не мог почтальона. Он из кожи лез вон, чтобы расстроить брак молодых людей. И в своем завещании отказал имущество и деньги не Хагехольму и не дочери, а только ее детям.
Он ведь хорошо знал, что дочь его страдает женскими болезнями и не хочет иметь детей. «Да, у нее не все было в порядке», — говорит хозяин.
Хагехольм, однако, не сдался. Нет, уж он позаботился, чтобы жена забеременела. Но роды были тяжелые. Ведь все это происходило еще в ту пору, когда не было ни машин, ни прочего и доктор тащился издалека на лошади. Жили они тогда на дальней окраине поселка. И железную дорогу у них еще не провели. Совсем на отшибе они жили, — да, плохо тогда здесь было...
Вот ребенок и погиб. Пришлось разрезать его на куски и вынимать по частям.
Что же оставалось, как не попытать счастья вторично, хотя жена и слышать об этом не хотела. Ведь у нее не все было в порядке, и она боялась забеременеть. Но куда бы это нас завело, если бы женщины отказались рожать детей?
Второй раз получилось удачнее. На свет родилась девочка, она осталась жива и получила после дедушки наследство. Жена-то, правда, умерла после родов. Славная она была женщина, в этом ей отказать нельзя. Но хворая. Истеричка и тому подобное. У нее не все было в порядке.
Ну, а под конец умерла и дочь. От столбняка. Как раз незадолго до свадьбы. Вот Хагехольм и заполучил денежки. Если бы старик об этом узнал, хи-хи-хи!
И Хагехольм толкнул своего гостя в бок.
Но тут он снова вспомнил о своем горе и глубоко вздохнул. Что же касается пианино, то никогда его не коснется чужая рука. А те руки, что играли на нем, уже мертвы...
Глава 32
Герберт Джонсон приехал без багажа. И ему не хватает многих вещей, без которых трудно обойтись. А в деревенской лавке их не достанешь.
Например, галоши и зонтик! И теплые фуфайки. Он еще никогда не жил зимой в деревне и не знал, что там бывает так холодно.
Ему нужно съездить в ближайший городок. Туда рукой подать, и Герберт Джонсон уже однажды побывал там, когда ехал в поселок. Между прочим, он зашел там в парикмахерскую и сбрил свои усики.
Это было глупо, необдуманно. Если хочешь избавиться от усов, скажем, по той причине, что желаешь изменить свою наружность, — не сбривай их в маленьком городке, где ты сразу обращаешь на себя внимание и где долго помнят необычного клиента. Впоследствии это еще повредит Джонсону.
А теперь мистер Джонсон снова отправился в город за покупками.
Между рыбацким поселком и городом проложена узкоколейка. Небольшой поезд, гудя, ползет по невысоким холмам и тащится дальше через большой лес. Летом — это настоящий поезд, состоящий из нескольких вагонов, а зимой здесь ходит один-единственный моторный вагон — вернее, какой-то кургузый вагончик.
Все знают машиниста, да и пассажиры, входя, здороваются друг с другом и осведомляются, куда кто едет. В число пассажиров — дама с маленьким мальчиком. Малышу надо сделать свои дела.
Есть здесь уборная? — спрашивает дама.
— Нет, в вагоне нет уборной, но я могу остановить поезд, — говорит машинист и замедляет ход. — Или, может быть, тут слишком голое место? Тогда доедем вон до того кустарника.
Дама слезает, сажает ребенка, а потом возвращается, и «экспресс» продолжает свой путь.
Здесь очень уютно. И было еще уютнее, когда ходил крошечный паровичок. Его топили торфом.
Зато теперь увеличилась скорость. И это очень хорошо. А все же машинист с грустью вспоминает о своем паровозе.
— Тогда было лучше, — говорит он. — Паровоз — это тебе не моторный вагон.
— А чем он лучше.
— Как же! Паровоз — это же все-таки паровоз.
Против этого трудно что-нибудь возразить.
Кроме того, в город ходит еще и автобус. Это наиболее приятный вид транспорта. Автобус проезжает через лежащие по пути села и подвозит каждого пассажира к домику, где он живет. Здесь все друг друга знают.
— Здравствуй, Эмма, — говорит шофер. — Опять собралась к детям?
— Здравствуй, Нильс. Что слышно в общинном совете?
Вот на улице стоит человек и знаком останавливает машину.
— Послушай, Гаральд, — говорит он водителю. — Не можешь ты захватить с собой эту мраморную доску? Нужно только поставить ее за кладбищенской оградой, напротив лавки.
— Отчего же, можно!
Шофер берет с собой доску, а у кладбищенской ограды машина останавливается, Гаральд поднимает мраморное надгробие и осторожно ставит по ту сторону ограды.
По четвергам и воскресеньям автобус перевозит особенно много пассажиров. Большая часть их устремляется к знахарке. Она, правда, принимает каждый день, но по воскресеньям и четвергам бывает особенно благоприятное расположение звезд. Надо же напустить немного мистического тумана. Но вообще она удивительная женщина, эта знахарка. При подагре, ишиасе, нервных заболеваниях, ломоте и тяжести в суставах самое верное дело пойти к ней. Даже скептики, которые ни во что не верят, в нее уверовали. У докторов тьма учености, но народ больше верит этой знахарке и ее мазям.
И посещают ее не какие-нибудь простаки, а просвещеннейшие мужи во всей округе, члены общинного совета, люди с практическим живым умом. Йенс Йенсен, если прихварывает, тоже обращается к знахарке. А ведь он заведует больничной кассой.
В автобусе говорят о политике. Дальше так продолжаться не может! Куда мы катимся? А где взять деньги? Безработные, те думают, что их можно без конца держать на пособии. Но если людей приучают бездельничать, из этого ничего хорошего выйти не может.
— Скоро уже батрака нельзя будет найти, — говорят хуторяне.
— Да и кто в состоянии платить им столько, сколько они требуют!
— В довершение всего подавай им отпуск. Вот до чего обнаглели! Разве в наше время было такое?
Шофер вмешивается в спор и говорит, что отпуск — хорошая штука. Чего ради они ноют? Как посмотришь, что делается на свете, так видишь, что в других местах гораздо хуже.
В машине обсуждают и вопросы международной политики.
— Да, японцев прижмут как следует, — говорит шофер. — К тому же великие державы начеку, они смотрят в оба. Что думают об этом в Америке?
Американца, жильца Йенса Йенсена, расспрашивают насчет политической обстановки. Но он может повторить лишь то, что говорят все другие: обстановка неважная. Оп не читает газет и не знает, что происходит на белом свете.
Американец хочет сделать кое-какие покупки в городе. Но затем ему приходит в голову, что он с таким же успехом мог бы съездить в Копенгаген. Ведь времени у него достаточно и спешить некуда. Все же это безумная затея. Другие могут ездить куда им вздумается. Но для него было бы разумнее сидеть смирно и не подвергать себя такому риску.
В Копенгагене он тоже совершает необдуманные и рискованные поступки. Чистая случайность, что все сходит благополучно. Он мог бы попасть в катастрофически трудное положение. И все из-за нелепой идеи. Какого-то мгновенного безумия. Этот человек вдруг ощущает неодолимое желание побывать на кладбище, то есть именно там, где ему ни в коем случае не следует показываться.
Глава 33
Оттепель, идет снег. На улицах Нерреброгаде и Капельвей мокро и грязно, но на кладбище снег еще кое-где лежит.
Какой-то человек одиноко бродит по дорожкам и что-то ищет, оставляя на снегу большие следы от галош. Мохнатая шапка нахлобучена на голову по самые уши, воротник поднят, лица почти не видно. Незнакомец носит большие очки и опирается на простую дубовую палку.
Он как-то странно, опасливо озирается, что-то ищет. Кладбищенский сторож обратил на него внимание и подозрительно следит за ним. Кто он? Уж не ворует ли цветы? В это время года цветов, правда, на могилах немного, но стоят они дорого.
Сторож медленно идет за странным посетителем.
Человек в мохнатой шапке оглядывается. Он недолюбливает, видно, полицейских, сторожей и им подобных. Вот незнакомец пошел быстрее, стараясь скрыться из виду. Но и сторож прибавил шагу.
Человек свернул па узенькую боковую дорожку. Он бесцельно бродит среди могил; можно подумать, что он попал в лабиринт и никак не найдет выхода. На узких белых дорожках его галоши оставляют большие мокрые следы.
— Алло! Вы что-то ищете? Не помочь ли вам?
Услышав голос сторожа, незнакомец вздрагивает.
— Нет, спасибо... А впрочем... Видите ли, я ищу могилу. Могилу моего знакомого. Сослуживца. Я знаю, что он похоронен здесь, на кладбище, но не могу найти могилы. Его фамилия Амстед. Он покончил с собой.
— А, тот, который взорвал себя на воздух! Он похоронен на новом участке. Я провожу вас. Пожалуйста!
На новом участке голо и неуютно. Многие могилы сплошь покрыты засохшими венками, они еще не приведены в порядок. Их утрамбуют, когда земля немного осядет.
— Вон там он лежит! Видите новый камень?
— Большое спасибо!
— Не за что, сударь...
Сторож дотрагивается до шапки и удаляется. Нет, это не кладбищенский вор. Маленьким свежим тюльпанам, лежащим в снегу на могилах, не угрожает опасность.
Герберт Джонсон созерцает надгробие. Это простой камень. Скромно и красиво. «Теодор А м с т е д» — написано на камне. А внизу одно слово: «М и р».
— Почему именно «М и р»? Почему ей пришло в голову именно это слово?
Могила убрана еловыми ветвями. Кончики их выглядывают из-под рыхлого снега. По ту сторону кладбищенской стены раздаются звонки трамваев, велосипедов, гудки машин.
А здесь пустынно, безлюдно.
Человек вдруг почувствовал холод, несмотря на пальто, галоши и теплую шапку. Какая тоска... Странное чувство — стоять у собственной могилы. Чувство отчаянного одиночества. «М и р» — написано на камне... «М и р»...
Теодор Амстед недоволен распоряжениями своей вдовы. Прежде он никогда не был недоволен ею. Но слово «М и р» его ужасно раздражает.
Он думает о прошлом. Каких-нибудь два месяца прошло с тех пор, как его похоронили. И вот уже на могиле — камень. И все покрыто еловыми ветвями. Он невольно вспоминает заметку о своем погребении, прочитанную в какой-то газете. Это было такое странное ощущение. «Он ушел — как осенью солнце уходит...» Почему репортеру вспомнилась именно эта строчка псалма? И почему на камне написано именно «М ир»?
Пока он жил, он никогда никого не осуждал. А теперь, после своей смерти, он всем недоволен. В сущности «М и р» — просто и хорошо. Он знает, как звучит в ее устах это слово. Он почти слышит звук ее голоса.
Амстед испуганно оглядывается. А вдруг она придет. Вдруг ей вздумается возложить на могилу маленькие тюльпаны с зеленью и остролистом. На могилу Микаэля Могенсена. Этого чудака Могенсена, которому он дарил свои обноски. Это был его школьный товарищ и друг. Он прекрасно учился. И оба они считались лучшими учениками. Ну, эти далеко пойдут, — говорили о них.
По, по-видимому, быть в школе лучшим учеником еще ничего не значит. Вот он стоит, как призрак, у собственной могилы. Внезапно к горлу подступает тошнота. Ему вспоминается отвратительная картина, которую он увидел на полигоне... «Теодор Амстед... М и р...»
Ему хотелось начать жизнь заново. А теперь он не может оторваться от могилы и надгробного камня. От собственной могилы. Могилы его школьного товарища.
Стемнело. И вдруг раздались удары колокола. Гулкие, неистовые. Это сигнал: кладбище закрывают.
Он бежит. И оставляет новые черные следы на заснеженных тропках. Устремляется к выходу — как будто за ним гонятся призраки.
На улице Нерреброгаде то и дело раздаются звонки трамваев. Проносятся освещенные вагоны. Вновь падает снег. В витринах тоже белеет снег — из ваты. Они разубраны, как полагается под рождество, между елочными игрушками прячутся гномы. В лавке гробовщика тоже празднично убранная витрина. Гномов здесь, правда, нет, но гробы украшены еловыми ветвями. Они стоят открытые, уютные. Остается только лечь и вытянуться во весь рост.
Снег падает крупными мокрыми хлопьями. На асфальте сыро и грязно. На углу стоит человек, продающий елки. А вот солдат Армии спасения: помогите беднякам!
Дети продают фигурки людей, дергающие руками и ногами, и бумажные розы.
Все это так странно. И сам он так странно безучастен ко всему. На улицах толпы людей, но у него с ними нет ничего общего. Он — вне целого. Он только кладбищенский призрак.
Ему очень холодно. Кажется, он простудился. Он покупает себе в кондитерской маленькие лакричные лепешки от кашля. Все это он проделывает, как во сне. Подобное ощущение, наверное, испытывает пьяный.
На вокзале Нэррепорт он садится в поезд. В вагоне светло, тепло и уютно. Ему кажется, что он возвращается к жизни. Будто только что пробудился от сна.
Лишь теперь он чувствует, что проголодался. Ведь он весь день ничего не ел. В кармане у него несколько сигарет. Есть и спички.
Он усаживается поудобнее, прислонившись к стене, и закуривает. Герберт Джонсон возвращается в поселок. Он побывал в городе. Это была глупая и бессмысленная поездка. Но теперь он все-таки возвращается.
Глава 34
За городом снег уже не тает. Настоящая рождественская погода.
Лес чудесно преобразился. Герберт Джонсон отправляется на прогулку в галошах и с палкой. Он первый ступает по свежему снегу. Здесь можно видеть только следы животных. Зайцы прыгают, как кенгуру, а лисица волочит за собою хвост и оставляет широкий след на спегу.
Если повезет, можно увидеть и самое лису. На ней нарядная рыжая шубка; притаившись, она издали наблюдает за одиноким прохожим.
По лесу, до самого берега моря, вытянулись просеки. Их перерезают другие. С вершины холма можно далеко проследить такую поперечную просеку. Она тянется, должно быть, на несколько миль. Один бог знает, где она кончается. Надо когда-нибудь пройти по этой просеке, чтобы узнать, куда она ведет. Скажем, воспою, когда дни станут длиннее.
Чем ближе к берегу, тем мельче становятся деревья. У самого берега они уже совсем кривые и стелются ветвями по земле. Но держатся и живут, несмотря на песок, соль и ветер.
Странный вид придает снег дюнам и берегу. Снежный покров нельзя отличить от морской пены.
Большие чайки кружат над берегом. Кроме них не видно ни одного живого существа.
Поближе к рыбацкому поселку на берегу лежит несколько лодок. Снег белеет па якорях, бакенах и рыбацкой снасти. В купальнях пусто и холодно.
В отдалении видна большая площадка, отведенная под машинный парк местной общины. Сейчас здесь нет ни одной машины. Несколько мужчин сидят и дробят камни, позади них вырастает гора щебня; он никому не нужен. Это люди, которым предоставил работу общинный совет. Люди, хлопотавшие у Йенса Йенсена о пособии. Нельзя же выдавать им деньги так просто, даром.
Сам Йенс Йенсен изредка заглядывает сюда; он подкатывает на велосипеде, чтобы посмотреть, как идет работа. Не особенно приятно сидеть здесь, но это и не должно быть приятно. А если щебень сейчас не находит себе применения, то ведь кто знает, может он и понадобится в будущем. Да и для безработных это все-таки занятие.
Только упрямец Андерс с болота отказался дробить камень. По его словам, такой труд ему не по силам. Андерса скрючило от ревматизма, а ему нужно пройти целую милю до места работы.
— Что ж, его дело, — говорит Йенс Йенсен. — Раз средства ему позволяют отказаться от предложенной работы... мы не настаиваем.
Герберт Джонсон несколько раз говорил с Андерсом. Это безобидный человек, хотя и со странностями. У него жена и трое хорошеньких ребятишек, он любит поиграть с ними, делает для них лодочки и мельницы. Но этим не проживешь. Конечно, дробить камень не такое уж прибыльное занятие. Ведь это работа сдельная, и хворый, отощавший от голода человек не много на ней заработает. Но с чего это он отощал? Ведь Йенс Йенсен как-то велел булочнику отослать ему два больших каравая ржаного хлеба за счет общины. Может, Андерс привык к лучшей пище и предпочел бы жареного гуся? Смутьян он и уже доставил немало неприятностей Йенсу Йенсену и общине. Пора положить этому конец.
Герберт Джонсон может легко разнообразить свои уединенные прогулки. К его услугам и лес, и пляж, и болото, и шоссе. Он может отправиться на станцию н смотреть сколько душе угодно на прибывающий поезд. Может любоваться романтическими развалинами, с увядшей зеленью, белой калиткой, флагштоком, скамьями, корзинами для бумаги и правилами для посетителей.
Может он, наконец, посидеть в «Историческом кабачке» и выпить там кофе. Никто не знает истории этого кабачка, но он манит своими окнами с маленькими разноцветными стеклами, обведенными свинцовой полоской, манит размалеванными стенами и старинными изречениями на фасаде. Внутри — бревенчатые потолки, уют и камин с цементной стенкой, разрисованной под кирпичную.
Джонсону здесь хорошо, уютно. За стойкой хорошенькая девушка. Приветливо улыбаясь, она заговаривает о погоде и осведомляется, где он гулял. Она гораздо приветливее, чем Карен Йенса Йенсена.
Герберт Джонсон приходил бы сюда чаще, если бы здесь вечно не торчал некий остряк. Этот поставщик острот ест и пьет при кабачке даром, но зато развлекает посетителей. Как только входит новый человек, остряк подлетает к нему и начинает сыпать без передышки остротами и смешными анекдотами. Это гордость кабачка, по профессии он писатель, написал множество детских книжек и знает все на свете. Он скор на выдумку, на веселую шутку.
Но Герберту Джонсону он действует на нервы. Этот нелюдим не выносит остроумия в таких лошадиных дозах. Нет, уж лучше обойтись без кофе в «Историческом кабачке», хотя ему здесь нравится, да и девушка за стойкой приглянулась.
Ее зовут Алиса. Герберт часто вспоминает об этой очаровательной особе. Руки у нее округлые, она носит платье с короткими рукавами и белый фартучек. А какие веселые у нее глазки, и как мило она смеется...
Глава 35
Герберт Джонсон никогда не получает писем. На всем белом свете нет человека, который писал бы ему. Он как бы вне общества. Даже из Америки он не получил ни одного письма.
Почтальон и Йенс Йенсен часто толкуют об этом между собой. Тут какая-то загадка. Даже на рождество он не получил ничего — ну, хотя бы одну какую ни на есть открытку. Не может же быть, чтобы он ни с кем не знался. Где это слыхано, чтобы человек жил один как перст, без друзей, без родных?
Да и вообще непонятный субъект этот мистер Джонсон. Посмотришь — мирный, безобидный человек. Но он что-то слишком вежлив. Со всяким встречным и поперечным здоровается, снимает шляпу. Тут что-то неладно. И откуда у него так много денег? Кто его знает, что он натворил в Америке.
Такого же мнения жена колодезника. В первый же день, увидев его па шоссе, она почуяла в нем что-то жуткое, подозрительное. Она ни разу не разговаривала с ним и все же готова поклясться, что он убил человека и прячется от полиции. И она не делает тайны из своей догадки, а рассказывает о ней всем и каждому.
Да и Хагехольм в конце концов заподозрил, что с американцем не все ладно. Он высказал свою мысль Йенсу Йенсену:
— Ведь он же не ходит в церковь! Даже на рождество! Ну, а раз безбожник — значит, пропащая душа!
Он, Хагехольм, не может понять, как это Йенс Йенсен допускает, чтобы у него жил такой человек.
Герберт Джонсон не читает газет. Он не знает, что творится на белом свете. А происходят большие, важные события, о которых он даже понятия не имеет. В Королевском театре начали новый сезон, а он не знает, ни что ставится, ни что говорит критика об этих постановках. Люди едут за границу и возвращаются домой, какой-то актер отправился на остров Борнхольм, несколько режиссеров справили свой юбилей, а Джонсон понятия об этом не имеет, ибо не заглядывает в газету.
Раз в месяц он получает по почте маленькую местную газетку, но что в ней вычитаешь? Ничего, кроме объявлений о племенном скоте и яйцах под наседку, да еще стихи о временах года или творце. А всего чаще — заметки вроде следующих:
«Внимание! Если Йеспер Нильсен еще раз обругает мою жену, он будет привлечен к ответственности!»
Или же:
«Если собака Петера Андерсена опять заберется на принадлежащий мне участок, она будет застрелена без всякой пощады».
У Джонсона нет радио, которое бы держало его в курсе происходящих в мире событий, а также сообщало о подробностях жизни королевской семьи.
Но громкоговоритель Йенса Йенсена орет так оглушительно, что мистер Джонсон волей-неволей слушает через стенку сообщения со всего мира: «Слангерупская железная дорога перевезла вчера четыре тысячи двести пассажиров...», «В соревнованиях по плаванию среди женщин на дистанции 300 метров во Фридериксбергском бассейне Ранхильд Вегер установила новый национальный рекорд и плавании на спине со временем...», «Его величество король вчера прибыл в Слагельсе. Он был в превосходном настроении и приветствовал бургомистра, солдатские общества и союз стрелков, встречавших его с развернутыми знаменами...», «В Хольстебро скончался бывший владелец гостиницы Расмуссен в возрасте восьмидесяти двух лет...»
Известия о событиях всемирно-исторического значения проникают к Джонсону через стены, оклеенные затейливыми китайскими обоями: «...Хаддерсфилд выиграл вчера у Кембриджа со счетом 4:3», «Соревнования по боксу в Хермоде собрали большое количество зрителей. По всех весовых категориях бои проходили остро и интересно. В полусреднем весе Оге Нильсен выиграл по очкам у Свена Асмудсена. В наилегчайшем весе...»
Благословен господь за изобретение радио. «Кронпринц с супругой сегодня посетил выставку сыров в Форуме на острове Фюн... А теперь послушайте беседу с председателем датского союза борцов...»
Герберт Джонсон по вечерам сидит в продавленном плюшевом кресле. Горит керосиновая лампа с медными украшениями и матовыми стеклянными висюльками. За окнами стоит темная ночь, от ветра гудят телефонные провода, шумят плакучие ивы. Джонсон подбрасывает в печь дрова, недавно купленные им на лесопильном заводе. Он стал довольно умелым истопником, хотя и не учился этому делу в школе.
А через стену громкоговоритель доносит до него одно за другим сообщения о том, что творится на белом свете.
Впрочем, его это мало интересует. Сообщения эти заполняют комнату, но на него не производят особого впечатления. Однако в один прекрасный день он узнает нечто, сильно заинтересовавшее его. Он вскакивает с кресла и напряженно вслушивается. Он прикладывает ухо к стене и слушает, слушает... «У всех еще свежо в памяти ужасное самоубийство, происшедшее в октябре прошлого года на Амагерском полигоне, когда чиновник Теодор Амстед взорвал себя на воздух с помощью динамита. Одновременно с Теодором Амстедом исчез сорокашестилетний Микаэль Могенсен, проживавший на улице Розенгаде. Продолжая следствие по этому делу, полиция пришла к выводу, что оба эти человека были знакомы друг с другом и что существует связь между одновременным исчезновением того и другого. Согласно показаниям бывшего учителя гимназии Г. Шефа, Теодор Амстед и Микаэль Могенсен были однокашниками. Далее, полиция установила, что между ними были какие-то отношения, которые поддерживались вплоть до трагической смерти Теодора Амстеда и исчезновения Могенсена. Полиция допускает возможность преступления. На запрос редакции последних известий полицейский комиссар Таге Хадерслев мог лишь заявить, что полиция работает не покладая рук и надеется добиться успеха. Тому, кто может что-либо сообщить об исчезновении Могенсена, которого в последний раз видели в его квартире на улице Розенгаде в октябре месяце, полиция обещает награду в размере пятисот крон.
Приметы Микаэля Могенсена следующие...»
Глава 36
Уже несколько дней стоит трескучий мороз. Из окон сильно дует, и у Герберта Джонсона зябнут ноги. Догорают дрова в печке, но в маленькой комнате по-прежнему холодно. А по ночам у Джонсона зуб на зуб не попадает. Ему даже кажется, что простыни и тяжелая перина заиндевели.
С юго-востока подул колючий ветер. Пошел снег. Джонсон стоит у окна и с интересом следит за тем, как быстро портится погода. Задула настоящая вьюга. Кружится снег, его намело столько, что все канавы занесены. На дороге выросли волнистые сугробы.
Джонсон смотрит на покрытую снегом улицу с каким- то удивительно радостным чувством. В детстве он очень любил метели. Он стоял по вечерам у окна и смотрел, как танцуют снежинки в небольшом круге света от газового фонаря. Как чудесно преображается улица, когда снега наметает столько, что даже трамваи останавливаются.
Собственно, его очень мало трогает, идет снег или нет. Ему уже сорок шесть лет, и прошли те времена, когда он играл в снежки и катался на санках. Какое дело ему до снега? И тем не менее он смотрит на пего с радостью и жадно следит за снежным вихрем. Он с удовлетворением отмечает, что снег падает все гуще, метель бушует все сильнее. На дорогах растут сугробы. И если так будет продолжаться, то движение по дороге застопорится.
Впрочем, в это время года вообще трудно говорить о каком-нибудь движении. Мимо дома Йенса Йенсена проезжают всего-навсего две машины — булочника и мясника. Правда, есть еще «сырный фургон», желтый автомобиль с добродушным шофером. Он развозит сыр, колбасу и печеночный паштет. Наконец, существует фордик Хагехольма, этого беспокойного духа.
Здесь нет трамваев, для которых заносы служили бы помехой. Но легковой автомобиль легко может застрять. На узкоколейке тоже придется остановить движение, а то как бы поезд не завяз в снегу. Мистер Джонсон жалеет, что не сможет уехать с вечерним поездом.
На следующее утро всюду намело высокие сугробы. Кругом стоят застрявшие в снегу машины. Радио Йенса Йенсена сообщает, что все поезда стали, а на дорогах нет проезда. Такого снегопада старожилы не упомнят. Это еще хуже, чем в 1897 году.
На шоссе орудуют лопатами рабочие, молодые парни в резиновых сапогах и с трубками во рту. К большому неудовольствию Йенса Йенсена, они затеяли какую-то игру, дурачатся, бросают друг в друга снежками, а работа мало двигается вперед.
Вот и произошел несчастный случай. А разве может быть иначе, когда молодежь разыграется и начнет дурить? Тут уж добра не жди. Одному из рабочих, еще совсем юноше, ударом лопаты раздробило три пальца. Три пальца правой руки. Теперь он на всю жизнь калека. Ну, да пусть сам на себя пеняет. Вперед наука,— больше он, пожалуй, уж не станет дурака валять.
А потом дело обернулось еще серьезнее. Оказалось, что пострадавшего ударил лопатой сын садовника. А садовник — заклятый враг Йенса Йенсена. Поэтому Йенс Йенсен подробно допрашивает всех свидетелей происшествия. Наконец-то нашелся повод поприжать садовника.
Очевидно, несчастье случилось во время игры, и парни сами во всем виноваты. А отвечать за нанесенное увечье должен сын садовника. Будь это непреднамеренный удар, то выплачивать компенсацию пришлось бы общине. Это хорошо знали оба парня, вот они и сговорились показывать, будто все произошло непреднамеренно. Да, дело серьезное. Йенсу Йенсену все ясно. Он торжественно снимает телефонную трубку и сообщает в полицию, что, насколько можно судить, ей придется иметь дело с дачей ложных показаний перед судом. В лучшем случае возмещение убытков должно быть возложено на сына садовника, а не на общину. И пусть уж полиция сама решает, что предпринять против молодых людей, давших ложные показания.
На суровом лице Йенса Йенсена проступает улыбка. Он даже оживляется, когда рассказывает эту историю Хагехольму. Тот хлопает себя по ляжкам и хихикает. Хи-хи-хи! Поделом им! Он садится в свой фордик и несется по очищенной от снега дороге, чтобы раструбить новость по всей округе.
В лесу лежат высокие сугробы. Пытаясь пробраться через них, Герберт Джонсон то и дело глубоко проваливается в снег. Отягченные снегом ветви низко склоняются к земле. Здесь красиво, как в сказке.
Холмы тоже покрыты снегом и напоминают Альпы, Швейцарию и Норвегию. По воскресеньям сюда приезжают горожане и ходят здесь на лыжах. Молодые девушки в спортивных брюках единым духом съезжают с гор и несутся через белый лес.
Людям, живущим на холмах, не нравится, что человек оскверняет девственную природу. Они зло и неприветливо озирают скользящих на лыжах девушек, которые зачем-то вторгаются в их уединенный уголок. Они радуются, увидев в роще лисицу. Лисица природы не оскверняет. Не то что люди, чуждые природе. И вот эти горные тролли вылезают из-под соломенных крыш своих хижин, грозят пришельцам и громко вопрошают:
— Вы что, не видите надписи? Читать не умеете? «Частное владение!»
На следующий день в лесах между холмами опять царит мир. Городские девушки сидят в своих конторах. Никто не нарушает покоя троллей. Они остаются наедине с лисицами, со снегом и со всей природой.
Глава 37
Перед домом Йенса Йенсена останавливается автомобиль.
Мистер Герберт Джонсон взирает на него с беспокойством. В нем есть что-то казенное. От всего, что пахнет начальством, Джонсона бросает в дрожь. Хоть он и кандидат юридических наук, но страшится карающей десницы закона.
Радиоприемник Йенса Йенсена донес до него обрывки последних известий, которые отравили ему жизнь, внесли и нее тревогу и страх.
Из автомобиля вышло начальство. А несколько человек, облаченных в полицейскую форму, осталось в машине. Мистеру Джонсону показалось, что земля уходит у него из-под ног.
Но зря у него так сильно застучало сердце. Пусть себе бьется спокойно. Охотятся не за ним. Пока что не за ним.
Охотятся за Андерсом с болота. Да и можно ли было ожидать, что от его письма к министру будет какой-нибудь толк? Результат был лишь тот, что у членов общинного совета лопнуло терпение. Ему ведь предлагали работу: «Пожалуйста, камня у нас хватит, дробите сколько хотите!» А ему, видите ли, непременно подавай пособие, ему хочется жить на иждивении общины. Этот молодчик из тех, которые стыда незнают.
Что касается дома Андерса, то надо сказать, что он уж слишком обветшал и непригоден для жилья. Нельзя же взять на себя ответственность за его троих детей и позволять им жить в доме, где протекает крыша. Да и проценты за дом он не вносит — вот уже три срока пропустил. Всему есть предел.
Несколько машин одна за другой едут по узкой дороге вниз к болоту, где живет Андерс. Первая машина — с полицейскими. За ними следует Йенс Йенсен, председатель общинного совета и члены комитета по социальному обеспечению. А Хагехольм, беспокойная душа, уже прослышал об этом деле и тоже катит вслед за другими к болоту. Он сидит в автомобиле, что-то выкрикивает и командует, как будто он-то и возглавляет всю экспедицию.
У дома Андерса играют дети. Перед ними стоит маленькая ветряная мельница, крылья которой гудят на ветру. Андерс весьма искусно мастерит такие игрушки для детей.
Детишки с любопытством глядят на машины. Да и сам Андерс с удивлением озирает этот караван. В руке у него нож, он как раз собирался что-то вырезать. Какую-то деталь для усовершенствования работы мельницы. Специальное приспособление для спуска и подъема мешков. Вроде блока — совсем как в настоящей мельнице.
— У него в руках нож, — закричал Йенс Йенсен. — Берегись!
— Берегись! — подхватывает староста. И один из полицейских обезоруживает опасного человека.
Дети испуганно озираются по сторонам. Из дома выходит жена Андерса. Да, мало радости быть начальством и следить за выполнением воли закона. Но все идет своим чередом. И чем скорее все это кончится, тем меньше причинит страданий.
И вот Андерса увозят в работный дом.
Он, конечно, не бог весть какой преступник. Ни для кого не опасен. Но он лодырь, отказался дробить щебень. Вообще упрямец он и немало неприятностей причинил Йенсу Йенсену и всей общине.
Что касается дальнейшей судьбы Андерса, это всецело зависит от его поведения. Если он будет хорошо себя вести, будет трудолюбив и послушен, то, быть может, ему удастся заслужить благоволение инспектора. Инспектор работного дома имеет право через определенное время ходатайствовать об освобождении Андерса.
Маленькая мельница гудит на ветру перед пустым домом. А Хагехольм завел мотор и укатил, чтобы рассказать эту новость каждому встречному.
— В руках у него был нож! И один бог ведает, что произошло бы, если бы я этого не увидел и не предупредил всех!
Заботу о жене Андерса и о детях возьмет на себя община. Комиссия по охране детей уже давно интересуется этими ребятами. А Йенс Йенсен входит в состав этой комиссии, и уж он все устроит. Двое старших будут отданы в хорошие семьи, к добрым христианам, которые, разумеется, хорошо воспитают их и научат уму-разуму.
А младший ребенок останется с матерью. Им община предоставит комнату. Йенс Йенсен собственноручно выписывает ордер своему приятелю-лавочнику: жена Андерса может забрать у него на десять крон продуктов. В конце концов они же не звери. Во всяком случае, закон охраняет каждого отдельного члена общества. Ну, а там посмотрим, будет ли эта женщина тоже бездельничать, или же покорно возьмется за ту работу, которую ей предоставят за «установленную в данной местности плату».
Глава 38
Многое приводит в страх и трепет одинокого человека, поселившегося у Йенса Йенсена.
Это не только машины с полицейскими. Это не только анкеты переписи населения и извещения об уплате налогов. И не только радиоприемник Йенса Йенсена. На него нагоняет страх и многое другое.
Например, пачка банкнот: она все тает и тает. Это лотерейный выигрыш, и не может же его хватить на веки вечные. А что потом? Правда, пачка еще довольно объемиста. Но что будет, скажем, через десять лет?
Теперь у него нет никакой уверенности в будущем. Теперь уже нет пенсии, сулившей успокоение от всех тревог. И само будущее перестало быть чем-то определенным и незыблемым.
Мучительное это состояние для человека, у которого дела всегда были в полном порядке и даже уплачены вперед взносы в кассу похоронного общества.
Ему хотелось испытать, что такое свобода. Но не так-то просто самому распоряжаться своей свободой. Тому, кто всегда тащился на буксире, трудно сразу пуститься в самостоятельное плавание по жизни.
Все вокруг стало зыбким. Всюду подстерегает опасность. Что с ним будет, если он заболеет? А что, если кто-нибудь взломает дверь и украдет его пачку денег? Если на него нападут? Или убьют?
По ночам он лежит без сна и прислушивается к шарканью шагов, доносящихся с улицы. Иногда кричат совы, мяукают кошки, словно плачут маленькие дети. Ночной мрак полон звуков и ужасов.
Ему казалось, что он любит природу. Но в природе не все так хорошо, как ему внушали в школе. Природа — это не только чудесное озеро Фуресэ, солнечные закаты и светло-зеленые ветви буков.
Лисица прокрадывается в курятник Йенса Йенсена и лютует там с чудовищной жестокостью. Кошка играет с мышью, у которой она уже отгрызли одну лапку, и бедняжка может теперь бегать только по кругу. Осы-наездники вгрызаются в живую личинку. В болоте, в лесу, в поле — везде царят безграничная жестокость и смерть.
Природа — не та кроткая мать, которую воспевают в стихах, преподносимых датским школьникам. И жизнь в деревне не та, какой она казалась ему, когда он приезжал сюда на каникулы.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля!
Сенo погрузили и несемся
вскачь.
Так обычно пели в гимназии в конце учебного года.
Жизнь в деревне не имеет ничего общего с теми представлениями, какие сложились на этот счет у Джонсона в городе. «Бог создал поля и леса, а город создали люди», — говорилось в одном английском стихотворении, которое он заучил в школе. Воображению Джонсона рисовались «тенистые дубравы, принявшие под свою сень усталого путника».
Но деревня — это и домишки, в которых никогда не открываются окна. Это сырость, бедность, подагра, согбенная спина. Это резиновые сапоги, больные суставы и вздувшиеся вены. Это копченая селедка и шкварки семь раз в неделю, недостаток витаминов и язва желудка.
Как живописны эти домики с их соломенными крышами, цветущими изгородями, кустами бузины и приветливыми окошками! А за этими окошками — люди, полные ненависти друг к другу. И их не очень печалит, если с соседом приключится беда.
На окнах — герань и хорошенькие белые занавески. И все-таки в низеньких комнатах мрачно, неуютно. Здесь творятся какие-то странные, темные дела. Как это случилось, что жена Йенса Йенсена умерла? А жена Хагехольма? О разводах здесь не слышно и в помине. Но зато слышишь какие-то загадочные намеки. «Может быть, оно и к лучшему, что жена его умерла. Неважно он относился к бедняжке!»
На морском берегу сидят на корточках люди и дробят камень. Они его раскалывают и дробят, а позади них накапливаются огромные груды щебня. С моря дует холодный и сырой ветер. Среди рабочих кое-кто кашляет и харкает кровью. А иногда у того или другого молоток срывается и ударяет по руке. Что и говорить, от такой работы не поздоровится. Впрочем, кому какое дело до их здоровья.
Здесь все непохоже на тот пляж, где Герберт Джонсон еще ребенком копался в песке под неусыпным наблюдением няньки. С Каттегата наползает липкий морской туман, и Джонсон мерзнет, несмотря на теплое зимнее пальто.
Пусто и тихо в рыбацком поселке. Рыбаки сидят в своих домиках. Лавка, торговавшая купальными шапочками и костюмами, а также резиновыми игрушками, теперь закрыта. Ларек заколочен. На крыше павильона, где продавали мороженое, лежит снег. Синие, красные, зеленые ижелтые купальни сиротливо стоят на холодном берегу. А внизу у самого моря, возле стоянки машин, согнувшись в три погибели, сидят промокшие до нитки люди и дробят камень в облаке густого тумана.
Темнеет рано. В домиках зажигаются огни. Многие волей-неволей ложатся спать — приходится беречь керосин. Но есть и такие, у которых ярко горят электрические лампочки, так что свет их освещает даже дорогу.
Кое-кто включает приемник, чтобы послушать лекцию, старинную датскую музыку, народные танцы и романсы. Приятно сидеть дома, отгородившись от всего остального мира.
Но на шоссе — тьма кромешная. Случается, что какая-нибудь женщина подвергается на дороге нападению. Раздается отчаянный вопль. Люди в домах подходят к окнам, но разглядеть ничего нельзя. Все окутывает сплошной мрак.
Еще раз-другой слышится вскрик. И снова становится тихо. В домах завешивают окна и поворачивают в замке ключ. Ведь там на дороге, по-видимому, произошло несчастье. Может быть, убили человека. Ай! Ай! Даже выговорить страшно! Лучше всего хорошенько запереться. Оно вернее и безопаснее.
На следующий день передают друг другу подробности нападения на девушку. Что же, сама виновата. Зачем ее нелегкая понесла на улицу вечером, в половине девятого? Вероятно, захотелось на танцульку, в кабачок? Слишком уж ей нравилось то, что называется мужским обаянием. Нет, нет, от таких девиц подальше. И совершенно незачем впутываться в подобного рода дела. Своя рубашка ближе к телу.
Однажды в феврале случилось, что человек, живший по ту сторону болота, шел по льду и попал в торфяную яму. Он отправился нарезать камыша для крыши. Лед был недостаточно крепок и сломался. Человек свалился в воду и стал звать на помощь. На шоссе в это время как раз появился прохожий; он услышал его крики и кинулся домой за лестницей.
Времени он зря не терял и бежал изо всех сил, как велел ему долг. Но когда он вернулся с лестницей, человека на поверхности уже не было. Он утонул.
Быть может, следовало бы сделать попытку спасти его без лестницы. Но это, разумеется, опасно. А своя рубашка ближе к телу.
Герберт Джонсон сидит, наблюдая за тем, чтобы медная лампа с висюльками не коптила. Сидит он за овальным столом. Белая скатерть и ваза с каменными яблоками сдвинуты в сторону. На столе он раскладывает пасьянс. Да, духовные запросы всегда занимали не слишком много места в его жизни. Он получил обычное классическое образование, о чем свидетельствует его университетский диплом. Он изучал старонорвежский язык, войны Цезаря с галлами, Эленшлегера, планиметрию и всеобщую историю. Потом он занялся юриспруденцией, политической экономией и статистикой. Но для подлинно духовной жизни у него никогда не оставалось времени.
В доме на улице Херлуф-Троллесгаде есть коллекция почтовых марок. Когда-то он интересовался главным образом этой коллекцией. Но она уже для него недосягаема. Теперь он владеет лишь маленькой коробочкой с премиальными марками, выдаваемыми при покупке кофе, и с рекламными картинками. Ими он и занимается. Кроме того, раскладывает пасьянсы. Если сходится — это хорошее предзнаменование. А не сходится — тоже ничего страшного. Можно ведь попробовать еще раз.
Глава 39
В один прекрасный день погода переменилась. Все еще холодно, но ветер какой-то особенный. Глубоко вдыхая воздух, испытываешь блаженное ощущение.
Начинается весна.
В воздухе веют новые, слабые ароматы, которые были незаметны зимой. Да и земля стала другая, от нее тоже исходят новые запахи. Возникли звуки, которых раньше не было слышно. Оживленно чирикают на крыше воробьи. Над полями заливаются жаворонки. А однажды днем даже запел скворец. Всего несколько нот, похожих на свист, но от этого свиста на душе стало и сладко и грустно.
Герберт Джонсон нашел на краю дороги первый желтенький цветок — мать-и-мачеху. Он растроган и всовывает стебелек в петлицу зимнего пальто. Он испытывает радостное и благодарное чувство. Продолжая свой путь, Джонсон напевает и весело размахивает палкой.
Но вот солнце скрылось за облаками, и заметно похолодало. Джонсон уже не напевает, его охватывает глубокая печаль.
Это первый весенний день.
Йенс Йенсен большой пессимист. Он озабоченно наблюдает за тем, что происходит в природе. Плохо, когда весна наступает так рано. Еще будут заморозки. Нет, хорошего не жди. Сады от этого только пострадают.
По ночам еще подмораживает, но поля уже покрываются зеленью. «А солнце-то греет все сильнее», — говорят люди. То идет дождь, то град, но весна так или иначе вступает в свои права. Внизу, на болоте, кричат чибисы. По ночам слышно, как перекликаются перелетные птицы.
Воздух весь насыщен беспокойством. А Хагехольм самое беспокойное существо на свете. Он целый день хлопочет и делает несколько дел зараз. Красит свой деревянный забор, с грохотом забивает гвозди. Как одержимый копается в огороде. Он просто голову потерял.
Толстухе Йоханне тоже приказано заняться садом и огородом, и Хагехольм то и дело покрикивает на нее.
Он всегда и во всем забегает вперед. Этот нетерпеливый человек посеял горох на месяц раньше, чем все остальные жители деревни. Горох взошел, но заморозки погубили его, он весь почернел. Пришлось все начинать сначала. Беспокойная душа этот Хагехольм.
Но весна все-таки вступает в свои права. Приходит время, когда и другие начинают вскапывать огороды, сеять и сажать.
Показались первые подснежники. И еще какие-то маленькие голубые цветочки.
Герберт Джонсон с интересом наблюдает за тем, что делается в огороде Йенса Йенсена. При этом ему вспоминается некая могила на копенгагенском кладбище. Там тоже идет возня, тоже началась прополка сорняков. По всей вероятности, высаживают в грунт горшки с длинноногими желтыми нарциссами. По одному горшку справа и слева от надгробной плиты.
Карен тоже работает в огороде. Когда она стоит нагнувшись над грядкой, на нее приятно смотреть. Со спины не видно ее кислого лица. Герберт Джонсон отмечает про себя, что она крепко сбита и хорошо сложена, что у нее округлые икры. Приятно, должно быть, обнять это упругое тело. Но он не из тех людей, что легко вспыхивают при одном взгляде на женщину. Да к тому же он знает, что Йенс Йенсен зорко охраняет добродетель своей дочери.
Йенс Йенсен человек серьезный. Он враг всякого легкомыслия и разнузданности. Его возмущает поведение голубей, особенно заигрывания самцов. А когда они начинают бесноваться и неистовствовать — просто смотреть на них тошно. Йенса Йенсена прямо зло берет. Он бросает в голубей чем попало и хлопает в ладоши. Нельзя же так вести себя! Что за зрелище для Карен! Ведь оно может вызвать у девушки всякие неподобающие чувства. В особенности когда в доме живет такой субъект, как этот американец. Кто его знает, что за блажь может прийти ему в голову. Уж он там, у индейцев, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. Но пусть только посмеет выкинуть какую-нибудь штуку. Ему живо вправят мозги.
И Йенс Йенсен бросает угрюмый взгляд в сторону комнаты своего жильца.
Глава 40
Весна не смягчила сердца обывателей.
Они по-прежнему доносят друг на друга в полицию по самым разнообразным поводам и без повода и требуют кары, возмездия.
Ведь законы на то и писаны, чтобы их соблюдать. Иначе какой в них толк?
Некоторые собаки, например, бегают без присмотра, а ведь по закону хозяева обязаны неусыпно надзирать за ними. Пока еще никакой особой беды не приключилось. Но мало ли что может произойти? А вдруг такая дворняга выбежит на дорогу и погонится за велосипедистом!
— Да, это непорядок, — отвечает по телефону полицейский, выслушав жалобу.
У лесничего есть пес, весь в подпалинах. Однажды он нанес ночной визит черной суке колодезника. Ну, что это будет за потомство? И вот уже повод затеять тяжбу и требовать возмещения убытков. Ведь кому-кому, а лесничему должно быть ведомо, что он не имеет права позволять своему псу шляться где попало.
— Мы это дело расследуем, — говорит полицейский.
Некоторым людям не на что жить, и чтобы прокормить себя, они стреляют дичь вопреки закону об охоте. На них тоже доносят.
— Возмутительно! — говорит полиция.
Хагехольм — большой ревнитель законности и порядка и усердно строчит доносы. В беседе с полицейским он сказал, что противозаконной охотой на болоте занимается не кто иной, как велосипедный мастер, кстати, его заклятый враг. Но раз прямых улик нет, полиция ничего не может поделать с велосипедным мастером.
А тот избрал весьма своеобразную форму мести. Улучив часок, когда Хагехольм в сопровождении Йоханны уезжает на кладбище, он забирается к нему в сад и справляет там на свежевыкрашенной белой садовой мебели малую и большую нужду. Подобного свинства еще свет не видел! Разумеется, на него пишется донос, но полиция без прямых улик ничего не может предпринять.
— Да, это непорядок! — соглашается полицейский.
Дважды в неделю Мартин Хагехольм ездит на маленькое кладбище, расположенное в лесу. Здесь похоронены его жена и дочь. Он вырывает сорную траву, посыпает могилу морским песком. А металлические цепи протирает тряпочкой.
На кладбище Хагехольм всегда берет с собой Йоханну. Никому не известно, о чем она думает, украшая могилу фру Хагехольм. Она ничего не говорит, только шевелит губами да мигает маленькими глазками.
Жених дочери Хагехольма вскоре женился — меньше чем через год после смерти его дражайшей невесты. На такого человека, как он, особенного впечатления эта смерть не могла произвести. И все-таки иногда он приходит на кладбище и возлагает на могилу цветы.
Но Хагехольму это не нравится. Он хватает цветы и зашвыривает их подальше.
— Они увяли, — говорит он, если бывший жених его дочери протестует, и тут же добавляет: — Да ведь у тебя теперь другая жена, хватит с тебя.
Между ними начинается горячая перепалка.
— Это моя могила! — говорит Хагехольм. — Я купил ее уже тогда, когда скончалась жена. Я за ней ухаживал, поставил надгробную плиту, обнес металлическими цепями.
— Но гроб мой! — утверждает зять. И если ему не позволят возлагать на могилу цветы, он выкопает гроб и перенесет его в другую могилу.
Однако у Хагехольма есть важный козырь. Его дочь умерла от столбняка. Кто знает, не может ли труп, похороненный в этой могиле, стать источником заразы? Ведь говорят, что бациллы столбняка сохраняют силу девять лет.
И Хагехольм звонит санитарному врачу и просит его разъяснить: возможно ли получить разрешение властей на извлечение из могилы трупа, который, вероятно, все еще является заразным?
Санитарный врач полагает, что это невозможно.
— Нет, пусть лежит. Зачем его выкапывать?
Хагехольм победил.
Герберт Джонсон человек миролюбивый. Ему не с кем ссориться, да и не из-за чего. Но он узнает обо всем, что происходит вокруг, и все примечает.
У его хозяина тоже неприятности. Йенс Йенсен — человек солидный, человек долга. Но и он подвергается нападкам и обвинениям. В деревне, например, все думали, что Андерс надежно запрятан в работный дом и больше не сможет кляузничать.
Но Андерс тоже почуял весну и, естественно, размышляет о том, как ему вырваться на волю. Он знает, что если человек совершил преступление, его судят, ему дают защитника, дают право апеллировать в высшую инстанцию. И все это должно происходить в условиях широкой гласности.
А ведь Андерс не преступник. Он лишь отказался дробить щебень для общины, считая, что эта работа слишком плохо оплачивается. И вот его засадили на неопределенное время.
Единственное, что ему разрешили, это написать письмо в округ с изложением своего дела. Андерс не мастер писать, но жалобу он кое-как сочинил. Чиновник, получивший это жалкое послание, отсылает его с запросом Йенсу Йенсену.
Пришлось Йенсу Йенсену отписываться. Он тоже не большой мастер по этой части и приходит в ярость. Когда же Андерс оставит его в покое! Ему понадобилось немало времени, чтобы написать письмо, но зато уж из этого документа ясно видно, что Андерс — лодырь и пьяница, что он не в состоянии выполнять свои обязанности кормильца семьи. Чиновник с трудом разбирает написанное, но соглашается с тем, что с Андерсом поступили по всей справедливости.
Теперь Андерсу предоставляется право снова взяться за перо и обратиться в министерство социального обеспечения. Между тем куда полезнее было бы заслужить благоволение инспектора работного дома, который сам решает, когда ему отпустить того или иного заключенного.
Дурное настроение Йенса Йенсена отражается на его постояльце. Он установил, что обои в одном месте порвались. За это придется платить. Крашеный пол тоже испорчен, и виноват в этом жилец. Мистер Джонсон все бегает взад и вперед по комнате — вот и добегался: вся краска слезла. Йенс Йенсен не может допустить, чтобы так портили его дом. Если мистер Герберт Джонсон собирается остаться у Йенсена, пусть отремонтирует пол. Приближается лето, и за жильцами дело не станет. Йенсену нет дела до того, каким образом Джонсон отремонтирует жилище. Джонсон взрослый и еще достаточно крепкий человек; он не развалится, если и сам покрасит пол. Впрочем, можно и рабочих нанять. Да и Карен могла бы это сделать за известную мзду.
И пол покрасили. Разорванные обои тоже удалось подклеить. Теперь Герберт Джонсон может остаться у Йенсена и наслаждаться своей новой жизнью.
Глава 41
Жилец Йенса Йенсена вдруг стал заниматься какими-то непонятными и таинственными делами.
Его поведение возбудило всеобщее любопытство. Все стараются отгадать, что замышляет американец. Всю зиму он решительно ничего не делал. Он так по-дурацки тратил время, что смотреть было тошно. И вдруг его охватила необыкновенная жажда деятельности.
Вот он возвращается домой из магазина, неся объемистые пакеты. Разворачивает их с таинственным видом. В них — большие банки, которые он расставляет на подоконнике. Йенс Йенсен и Карен с удивлением следят за этой непонятной возней.
Герберт Джонсон купил небольшую рыболовную сетку с деревянной ручкой. Стал ходить с ней на болото или к речке. Немного времени прошло, а Хагехольм уж тут как тут, будто проверяет свое рыбное хозяйство. Он, видите ли, должен поставить Джонсона в известность, что право рыбной ловли в этой части реки принадлежит исключительно ему, Хагехольму. Что же касается других участков, то об этом надо спросить у их владельцев. А щуки, водящиеся в торфяных ямах или в болотах, тоже принадлежат хозяевам участков. Но, как оказывается, Герберт Джонсон не рыбу собирается ловить и ничьих прав собственности не нарушает. Он ловит своей сеткой только саламандр, головастиков и водяных жуков. Против этого никто не возражает: ни Хагехольм, ни прочие.
— Только бы вы не трогали мальков, — говорит Хагехольм.
В банках Джонсон устраивает аквариумы. Он кладет в них водяные растения, песок, гравий. Туда же сажает улиток, они поднимаются и опускаются вдоль стеклянной стенки и очищают ее от водорослей. В банки он помещает личинки стрекоз и водяных пауков — все, что попадает в его сетку. Здесь и странные существа, покрытые тончайшими волосками и шипами, и существа, вечно лежащие на спине, и личинки в самых странных оболочках, и водяные жуки, и полипы.
Оказывается, американец — вроде как бы естествоиспытатель. Оттого, должно быть, и безбожник; оттого я в церковь не ходит. Надо только удивляться, что такой человек, как Йенс Йенсен, мирится с подобным жильцом. Впрочем, если кто хорошо платит... Тут уже никто не устоит. Ну, и Йенс Йенсен в том числе.
Герберт Джонсон тихонько сидит и наблюдает за своими зверушками. Аквариум — его давнишняя мечта, и наконец-то она сбылась; он очень увлекается этой затеей.
Еще в детстве ему хотелось иметь аквариум, но мать запрещала ему и думать о таких вещах. От них только грязь и беспорядок. Уж лучше ему сосредоточиться на домашних заданиях. Когда он стал взрослым и у него появилась возможность завести себе аквариум, этому воспротивилась жена: «Что за занятие для взрослого человека? Только грязь разводить! Да еще и пахнет плохо!»
Ребенком он ежегодно получал в подарок рыболовные принадлежности. Но ловить рыбу ему запрещали. В пруду можно утонуть, в канавах и лужах — перепачкаться. Ловить рыбу разрешалось только на пляже, то есть как раз там, где ничего не поймаешь.
И вот его желание исполнилось. Ему теперь сорок шесть, почти сорок семь лет. Да, все это пришло к нему слишком поздно.
Джонсон тихонько сидит и наблюдает за всем, что происходит в его стеклянных банках.
Тут есть существа, которые лежат, притаившись, на дне и протягивают за добычей щупальцы, похожие на сложные хватательные аппараты. Да, все эти твари пожирают друг друга. Они так высасывают свою жертву, что остается одна лишь оболочка. Они разрывают на куски и калечат друг друга так, что даже смотреть страшно. Водяные пауки поднимаются и ныряют, как маленькие серебряные капли. Если мимо них проплывает рачок, они оплетают его паутиной и высасывают. Кто посильнее, пожирает того, кто послабее. А совсем маленькие и слабенькие в свою очередь пожирают тех, которые так малы, что едва видимы простым глазом.
Герберт Джонсон смотрит, и ему становится жутко. Любитель природы с ужасом взирает на природу.
Каждый день он приносит домой новую добычу: водяных клопов и дафний. Он весь охвачен охотничьей лихорадкой. Весна очень сильно действует на этого одинокого человека.
А весна уже окончательно вошла в свои права.
Кругом кипит жизнь. В саду у Йенса Йенсена поселился соловей. Вечером, когда он начинает петь, ему отвечают соловьи с болота. И ночь наполняется звуками. Многое совершается в саду и на болоте.
Ночи стоят необычайно светлые. Туманы стелются низко, и болото начинает походить на море.
Слышится то свист, то пыхтенье, то визг. Ежи хрюкают в любовном томлении, преследуя друг друга. В болоте шумят лягушки. В воздухе звенит так, будто щелкают тысячи кастаньет. Вскрикивают дикие гуси. Клохчут водяные курочки. Повсюду что-то копошится, шуршит.
Вечерами Герберт Джонсон прислушивается ко всем этим звукам. Он стоит у голубой калитки и смотрит вдаль на белое болото, в котором так энергично проявляется жизненная сила. Комары звенят над головой и сосут кровь.
Соловьи и лягушки задают такие концерты, что он не может уснуть. Задолго до восхода солнца принимается куковать, как одержимая, кукушка. Она сидит в кустах, и ее «ку-ку» проникает через окна спальни. Она уже напророчила Джонсону сотни лет жизни.
В это время года все живое теряет голову.
Но и люди не очень благоразумны.
Мартин Хагехольм, этот ревнитель закона и нравственности, — большой специалист по части выслеживания влюбленных парочек. Он появляется словно из-под земли и разгоняет их: «Противно смотреть, как они ведут себя!»
С вершины холма он смотрит в бинокль, затем подкрадывается и застигает их на месте преступления.
— Сообщите ваши фамилии и адреса, — запальчиво кричит он. Если это не местные жители, они с перепугу принимают его за представителя полиции. И он торжественно заносит их фамилии в книжечку.
— Вы записаны! Вы еще обо мне услышите! — мрачно говорит он.
Дома Хагехольм рассказывает Йоханне про непристойности, которые он видел.
— Представь только себе. Она была на нем. Нынче все в мире шиворот-навыворот! Хи-хи-хи!
— Да, у людей как будто мозги набекрень, — вторит ему Йоханна. — И нисколечки им не стыдно!
Рот ее судорожно кривится, будто она хочет еще что- то сказать.
Казалось бы, вокруг тишь да гладь, а между тем здесь творятся такие дела, что глазам своим не веришь.
Почему, спрашивается, фургон сыроваренного завода часами простаивает на опушке леса? Как вы думаете, чем в это время занимается шофер?
Хагехольм располагает на этот счет самыми исчерпывающими сведениями. Оказывается, в машине расположилась с шофером молодая дама, снявшая дачу на одном из холмов. Вот они каковы, эти копенгагенские дамочки.
Но ведь это непорядок, нельзя же спокойно смотреть на подобное безобразие! Хагехольм снимает телефонную трубку и звонит сыровару в город. Пусть знает хозяин, чем занимается его шофер в лесу.
И все-таки, несмотря на возмущение и негодование местных жителей, фургон по-прежнему каждый день подолгу стоит на опушке леса. Должно быть, в городе к этому относятся безразлично, и шофер, этот распутник, может делать все, что ему заблагорассудится.
Глава 42
Становится жарко. Люди жалуются на засуху.
— Этак может случиться неурожай! Свекла не растет, да и хлеба не колосятся! Такого старожилы не упомнят!
Герберту Джонсону уже не приходится думать о топливе. Теперь его донимают мухи. Но он догадался подвесить липкую ленту к лампе. И теперь гордится своей изобретательностью и практическим складом ума.
Улитки в его аквариумах кладут яйца. Водяные пауки произвели на свет детенышей и тут же сожрали их. В банках кишмя кишит всякая живность, и тоже происходят страшные вещи.
По воскресеньям копенгагенцы начинают выезжать за город. Владельцы домов, расположенных на холмах, заново покрасили дощечки с объявлениями о сдаче комнат. Из вереска выползают гадюки. Они лежат на тропинках и греются на солнцепеке. Покровители природы смотрят на них с нежностью.
В это время года жителям деревни обычно навязывают детей из Копенгагена на время каникул. Особенно трудно устроить в деревне на лето мальчика.
Йенс Йенсен не хочет взять даже и девочку. С него хватит и Карен. Она здоровая и крепкая и уж как-нибудь справится с работой по дому. Чего ради брать в дом лишнего едока?
Другое дело Хагехольм, — Йоханна стара и уже не так проворна, как в былые времена. Он выписывает из города на лето девочку. Но, конечно, из старших классов. Йоханна все откладывает большую стирку до ее приезда. И генеральную уборку тоже. Наступает время, когда надо заниматься вареньями и соленьями. Да, у «каникулярной дочки» Хагехольма в работе недостатка не будет.
Мимо дома, по дороге, все чаще проносятся автомобили. Теперь это уже не только машины булочника, мясника, сыровара и беспокойного Хагехольма. Проезжают и огородники со свежей редиской, и торговцы щетками, и горожане в поисках дачи.
Начинается дачный сезон.
В умывальной губке Джонсона поселились уховертки. Пауки опускают с потолка длинные нити прямо над кроватью и ползают по ним вниз и вверх. К липкой ленте пристали мухи и жужжат, жужжат, пока не умирают.
Настает пора экзаменов. Джонсон сдал на своем веку столько экзаменов, что они засели у него в крови. Поэтому наступление весны для него всегда сопровождается каким-то гнетущим ощущением. Весна — это зубрежка, повторение пройденного. А первые летние дни — это уже сами экзамены. В школе, в университете — все то же ощущение. Сияние солнца, тепло, цветущая сирень в парках — это означает экзамены и страх. Так было с семи лет и до двадцати пяти. Сколько похищенных весен! Потом экзамены Лейфа. И снова все то же: страх, занятия, зубрежка. Лето и экзаменационная горячка — эти два понятия сливаются в неразложимое целое.
Под пуховиками Йенса Йенсена жарко. На улице душно, чувствуется приближение грозы. Пока слышны еще только отдаленные раскаты грома. Что-то должно произойти. Быть может, на этот раз буря пронесется мимо. Но рано или поздно катастрофа все равно разразится. Герберт Джонсон это знает.
Каждый вечер он слушает последние известия по радио. Он приникает ухом к коричневым обоям: не говорят ли чего о чиновнике Амстеде, о страшном самоубийстве на Амагерском полигоне и об исчезновении некоего чудака с Розенгаде.
Прошло уже немало времени с тех пор, как по радио сообщили об этих происшествиях. Но полиция все еще ведет следствие. И здесь возможны всякие неприятные неожиданности. Джонсону трудно заснуть. Да и слишком светло по ночам. В низких комнатах жарко и душно.
Иногда он встает часа в четыре утра, приводит в порядок свои аквариумы и раскладывает первые пасьянсы.
Как-то ранним утром по дороге шла девушка. Интересная молодая особа. Но волосы у нее растрепаны, платье — в беспорядке. Ее стошнило, и она с трудом передвигает ноги. Йенс Йенсен тоже встал ни свет ни заря. Он хорошо знает девушку, это официантка из «Исторического кабачка». Верно, идет с какой-нибудь пирушки. Парни, должно быть, подпоили девушку и натешились ею вдоволь.
Она останавливается у голубой калитки и прислоняется к ней.
— Послушайте, Йенсен. Но разрешите ли воспользоваться вашим телефоном? Мне бы только позвонить хозяину. Не могу дальше идти.
— Мой телефон не для таковских...
— Не позвоните ли вы сами в таком случае? Прошу вас, передайте Оле, чтобы он приехал на машине и забрал меня.
— Даже не подумаю затруднять себя для такой, как ты...
— Но я ведь уплачу...
— А ну-ка, убирайся подобру-поздорову. И живее! Прочь от моей калитки! Не желаю, чтобы такая дрянь стояла у моего забора. Могу лишь сказать тебе, что твой трактир вон в том направлении. Всего-то каких-нибудь четыре километра. Ничего, доползешь!
И девушка, пошатываясь, исчезает в сиянии раннего летнего утра.
Герберт Джонсон видел ее из окна и слышал весь разговор. Он ведь знает ее. Она так мило улыбалась ему, когда он заходил в «Исторический кабачок» выпить после обеда кофе. Ее зовут Алиса.
Джонсону очень хочется предложить Алисе войти и немного отдохнуть. Он дал бы ей лекарство от головной боли и чашку кофе. Да и за машину уплатил бы.
Но он не смеет — боится Йенса Йенсена. Лишиться расположения хозяина слишком для него рискованно.
Нет, он не способен к самостоятельным действиям, не способен к бунту.
Глава 43
Наступило лето, каникулярная пора. В деревне открылись пансионаты и гостиница. Рыбаки перебираются в пристройки, а комнаты сдают копенгагенцам.
— Ваши голубчики уже приехали? — спрашивает жена рыбака у своей соседки.
— Нет, они явятся не раньше субботы.
На полках у торговцев появляются новые товары. Теперь нужно заработать деньги, на которые придется жить целый год.
По деревне снуют загорелые молодые люди. Мужчины в желтых и синих спортивных куртках, хорошенькие девушки с голыми коричневыми от солнца спинами и в пестрых платочках. Пожилые люди носят очки-консервы, панамы и зонты от солнца. Рыбаки стоят в сторонке, прислонившись к дому или к лодке, и плюют вслед чужакам.
Девушка, принятая Хагехольмом на каникулы, усердно выколачивает зеленые плюшевые кресла, которые перед тем выставляют в сад. Перины и матрацы тоже надо выколотить, а зимние вещи вычистить щеткой. Все должно сверкать и блестеть, а лестницу промоют с мылом. Но девушка попалась рослая, дюжая; ничего, работа ей пойдет на пользу.
На берегу идет обычная пляжная жизнь, слышатся вскрики, плеск воды. Дачники лежат на дюнах и жарятся на солнце.
Светло-зеленая прозрачная вода зовет и манит. Герберт Джонсон решил обзавестись купальным костюмом. Почему бы и ему не купаться, не наслаждаться жизнью, раз уж он тут поселился?
Он походил по берегу и возвращается лесом домой. Здесь на песчаной дороге почти не видно пешеходов. В лесу душно и тепло. Пахнет смолой и хвойными иглами. Мухи, комары, слепни роем кружатся вокруг головы Джонсона. Приходится все время отгонять их носовым платком.
Лес — большой, дремучий. В нем можно заблудиться. Есть здесь сосновые заповедники, вереск и открытые песчаные поляны. Но есть и прохладные тенистые местечки, поросшие высокой мягкой травой. Есть кусты можжевельника, — они напоминают маленькие кипарисы. И белоствольные березы, и нелепо-зеленые лиственницы. А подальше — темный, прохладный буковый лес.
Здесь повсюду проложены длинные, прямые, как стрела, просеки. Некоторые тянутся ровной линией через весь лес. С какого-нибудь холма можно проследить такую просеку на целые мили. Один бог ведает, где она кончается. Нужно как-нибудь пройти до самого конца, чтобы увидеть, куда же она ведет.
Герберт Джонсон уже раньше питал такое намерение. Но из этого ничего не вышло. Да никогда и не выйдет.
Он возвращается лесом домой по той самой тропинке, которой ему разрешил пользоваться доктор Эйегод.
Перед домом Йенсена — несколько автомобилей. Один из них — фордик Хагехольма, владелец его стоит на дороге вместе с другими мужчинами.
— Вот он, — кричит Хагехольм, указывая на Герберта Джонсона. — Берегитесь! Это он.
— Здравствуйте, Теодор Амстед! — говорит один из этих людей. На нем непромокаемая куртка, на штанах велосипедные зажимы. — Так вот вы, значит, где скрываетесь!
— Осторожнее! — кричит Хагехольм. — Примите же меры, чтобы он не удрал.
— Никуда он не удерет! — говорит один из полицейских. Схватив Теодора Амстеда за рукав, он крепко держит его.
Арестованный озирается по сторонам.
Он бросает взгляд на голубой дощатый забор, видит Хагехольма, Йенсена, Карен и каких-то незнакомцев.
Все это как сон, как будто происходит это не с ним, а с кем-то другим, а его совсем не касается.
На окне стоит несколько банок, а в них водоросли, улитки и злые водяные насекомые. Кто-нибудь, вероятно, позаботится об аквариумах.
Теодор Амстед не противится естественному ходу событий. Он привык к тому, что инициативу берут в свои руки другие, привык находиться под опекой.
Полицейский вталкивает его в машину. Хлопает дверца, заводится мотор.
Хагехольм качает головой.
Не умеют даже как следует арестовать человека! Да он мог бы сто раз удрать. Почему у них не было с собой наручников?
Лицо у Хагехольма даже посинело от волнения. Он отправляется в город к тюрьме — узнать что-нибудь новенькое.
Если он понадобится как свидетель, — что ж, пожалуйста, он всегда готов служить.
Быть может, за поимку преступника назначена награда. И Хагехольм намерен заявить на нее претензию. Ведь он всегда считал, что с американцем что-то неладно. Разве не говорил он этого Йенсену и прочим? И если назначена награда...
Хагехольм мчится по шоссе на своем фордике. Беспокойная он душа!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 44
В квартире Амстеда на улице Херлуф-Троллесгаде сидит молодой человек.
Стройный и смазливый молодой человек. Он сидит в кабинете, в кожаном кресле, за турецким курительным столиком. Но не курит. Не выносит табачного дыма. Спиртных напитков он тоже избегает. Алкоголь может погубить тот особый дар, которым он наделен.
Это Эйнер Ольсен, медиум, посредник между фру Амстед и ее покойным мужем.
В квартире все осталось, как было. На лакированном ломберном столике стоит портрет Теодора Амстеда в кожаной рамке. Амстед чуть-чуть смущенно оглядывает комнату. На лбу у него две глубокие скорбные складки.
В кабинете царит полумрак, какой бывает во время спиритических сеансов. Желтовато-коричневый пергаментный абажур с отделкой из парчи и шелковой бахромой затеняет лампу. Освещенная этими бронзово-желтыми отблесками, фру Амстед выглядит совсем молодой.
Они сидят в «берлоге» Теодора Амстеда и беседуют о жизни и смерти, которая на самом деле есть не смерть, а лишь изменение состояния, переход в другой мир.
Фру Друссе, поэтесса, в свое время принесла фру Амстед весть из мира духовного. Но фру Друссе уже не бывает на улице Херлуф-Троллесгаде. Эти две дамы теперь не узнают друг друга. Их теплая дружба перешла в ожесточенную вражду.
Разлад у них начался с чисто религиозных вопросов. А затем прибавилось и еще кое-что. Пропасть, разделяющая их, глубока и непреодолима.
Фру Амстед, правда, уверовала в спиритизм, но не вступила в такие тесные и сердечные отношения с братьями и сестрами по общине, как фру Друссе, и не открыла им свою душу.
Присутствуя на спиритических сеансах, фру Амстед научилась пользоваться тем остроумным духовным механизмом, который устанавливает связь между потусторонним миром и теми, кто еще живет на земле.
Но она не регулярно посещает храм, не является ревностным участником богослужений, не возносит вместе со всей общиной молитв. Она не вербует новых братьев и сестер. И не оказывает кружку верующих той материальной поддержки, которой можно было ожидать от такой состоятельной особы.
— У нее лишь чисто эгоистический интерес к спиритизму, — говорит фру Друссе. — Она все еще проникнута земным высокомерием. Нет, она не из тех сестер, которые самозабвенно служат нашему делу. Ее душа черства и предана мирской суете.
Это суровые слова. Но за ними последовали еще более оскорбительные упреки и обвинения, которые фру Друссе высказала в присутствии владельца типографии Дамаскуса и самой фру Амстед; о примирении между двумя приятельницами уже не могло быть и речи.
В кружке не было ни одного человека, который усомнился бы в правдивости сообщений, получаемых фру Амстед от мужа через медиума. Но фру Друссе энергично возражала против того, чтобы один только молодой Ольсен все время являлся посредником между мужем и женой. Почему бы духу Теодора Амстеда не посылать сообщения жене через другого медиума, например через весьма способную Майю?
Несомненно, именно Ольсен настроен на тот духовный лад, на который реагирует фру Амстед. Но разве справедливо, чтобы одна сестра так широко использовала в своих целях способности медиума? Развеэто не злоупотребление силами, которые должны служить благу всей общины, а не отдельным частным интересам?
— Мы, медиумы, — несчастные люди, — говорит Эйнер Ольсен. — Мы так восприимчивы, так сверхчувствительны! Это такое особенное, ни с чем не сравнимое чувство, когда в твое тело вселяется чужой дух. Собственная твоя душа становится бесприютной и трепещет от страха: удастся ли ей вернуться в свое обиталище? Одолевает усталость... Бесконечная слабость...
— Неужели транс отнимает у вас так много сил? — тихо спрашивает фру Амстед и с материнской лаской гладит его светлые волосы. — Бедный мальчик! Вы устали?
— Сейчас я не так уж устал. Ведь у нас с вами полный душевный контакт. Но в нашем кружке!.. Ах, там часто бывает тяжело. Как мучительно сознавать, что рядом сидит человек, настроенный к тебе враждебно. Когда цепь духа не замкнута... Знали бы люди, как осторожно надо обходиться со своими мыслями! А если два духа хотят одновременно вселиться в мое тело, как было тогда в храме!.. Когда, помните, стол развалился на куски... Мне угрожала большая опасность. Я уже и не надеялся, что моя душа вернется в тело. Это было что-то страшное. Ведь, казалось бы, перешедшие в потусторонний мир очищены, свободны от плотских вожделений. Но, к сожалению, многие, слишком многие остаются такими же, какими они были на земле. Я иногда просыпаюсь по ночам и дрожу от страха перед этим Хаконом и этим Друссе, которые еще не достигли чистоты н ясности, всего того, что является предпосылкой жизни в духовной сфере. Я чувствую, что это не любовь, а греховное вожделение, что в мое тело вселяются нечистые желания и помыслы... и они оскверняют его. О, если бы вы знали, как это ужасно!..
— Бедный мой мальчик, мне жаль вас! Это, должно быть, очень тяжело!.. Но здесь вам лучше, не правда ли?
— Конечно! Здесь все иное... Здесь есть родственный мне дух, который хочет перейти в мое тело. В вашем доме царит гармония. Инструменты настроены на один тон. И я, так сказать, остаюсь самим собой.
— Теперь вы не устали?
— Нет, только чуть-чуть. Мне хотелось бы немного посидеть и отдохнуть... Здесь все дышит миром...
— Может быть, вам чего-нибудь хочется? Чаю? Или еще чего-нибудь?
— О нет, спасибо, спасибо... Мое тело получило все, в чем оно нуждается. Ах, как это освежает! Организм мой так истощен, что потребность в материальной пище у меня сильнее, чем у других людей. Но здесь эта пища была предоставлена мне в изобилии. Это укрепляет. Вы превосходно готовите, фру Амстед!
— В самом деле? Очень рада. Да я и старалась.
В столовой бьют часы. Медленно и торжественно. Одиннадцать ударов.
— Поздно уже. Но здесь так хорошо. Такой мир... От этого легко на душе...
— Отдыхайте, отдыхайте. Сколько хотите. Будьте как дома. Я вам бесконечно обязана. Вам и ему...
— Вы никогда не думаете о будущем, фру Амстед? — Он берет ее руку в свою и рассматривает линии ладони.
— Не знаю. Разве вы умеете предсказывать будущее?
— Я мог бы многое сказать вам... Вы будете опять счастливы. Уже здесь, на земле. Очень, очень счастливы. Вы переплывете через большую воду. И будете любить. Чистой незапятнанной любовью...
Он подается вперед и впивается глазами в ее руку, испещренную тонкими линиями. В комнате так тихо...
И вдруг их словно поражает удар тока. В тишину врывается резкий пронзительный звонок; оба испуганно вздрагивают.
Фру Амстед поднимается и идет к телефону.
— Что бы это могло быть? В такой поздний час? О, мне прямо жутко... Только бы с Лейфом ничего не случилось... Я так беспокоюсь за него с тех пор, как он в интернате... Ах, не следовало бы разлучаться матери с ребенком, но при таких обстоятельствах это необходимо... Да, да... Алло! Кто? Что вы говорите! Полиция?
Ольсен с тревогой посматривает на фру Амстед. Он поднимается и из скромности переходит в другую комнату. Но прислушивается внимательно и настороженно.
— Жив? Я это знаю. Конечно, он жив. Ведь смерти нет. Что вы говорите? Мой муж? В Северной Зеландии? Арестован в Северной Зеландии?.. Жил под чужим именем? Но... Но... Да что ж это такое?.. Боже мой, что вы такое говорите? Ах, помогите мне... Ольсен! Ольсен!.. Вы слышите?.. Помогите... Случилось нечто ужасное!..
Она роняет трубку и бежит к Ольсену. Но его уже нет и комнате. Она слышит крадущиеся шаги в коридоре. Потом хлопает входная дверь. Медиум Эйнер Ольсен дал тягу.
Глава 45
Теодору Амстеду предоставили не очень-то много времени для отдыха после того, как он прокатился в автомобиле через Северную Зеландию.
В полиции ему учинили подробный допрос. В его деле осталось много невыясненного. Почти год его выслеживали. И вот теперь, когда его, наконец, накрыли, надо получить у него сведения, которые пролили бы свет на это темное и загадочное дело.
Амстед и не помышляет что-либо скрывать. Он привык отвечать на вопросы. Он сдал так много экзаменов, что привык отвечать без запинки, когда его о чем-либо спрашивают.
Но он не все может объяснить, хотя и был бы рад сделать это. Многое осталось загадкой и для него. В его деле сыграли роль происшествия н случайные обстоятельства, в которых он и сам еще как следует не разобрался. Все это не так-то просто и вовсе не так тщательно продумано и подготовлено, как предполагает полиция.
— Чего ради вы это сделали? Почему хотели исчезнуть? Зачем вам понадобилось инсценировать самоубийство?
Нелегко на это ответить. По-видимому, в нем просто-напросто заговорила жажда свободы, которая вдруг прорвалась при благоприятном стечении обстоятельств. Ему захотелось хоть раз в жизни принять самостоятельное решение. Захотелось распоряжаться самим собой, своим временем, своей одеждой и едой. Но нелегко все это объяснить полиции.
— Вы были несчастны в браке?
— Что вы! Вполне счастлив!
— Не может быть. Не покидают же свою жену, когда счастливо живут с ней.
— Конечно, нет!
— Значит, вы были влюблены в другую? У вас была связь с какой-нибудь женщиной?
— Нет! Нет! Для меня не существовало никого, кроме жены.
— Но ведь полиция обнаружила стихотворение, посвященное одной девушке, продавщице из киоска. Его нашли при обыске в вашей квартире на улице Херлуф-Троллесгаде. Как вы это объясните?
— Это же было так давно. Просто юношеское увлечение. Это не имеет никакого значения. Ни малейшего!
— Как фамилия этой женщины?
На этот вопрос он не может ответить. Зачем причинять неприятности ни в чем не повинной продавщице из киоска? Да он и не помнит ее фамилии.
Но почему он поссорился со своей женой? Почему они стали врагами?
Да они вовсе не ссорились. И никогда не были врагами.
Значит, тут было взаимное соглашение? Жене было известно об его плане? И все было задумано для того, чтобы получить страховку?
Нет! Нет! Его жена ни о чем не подозревала. Он и сам не думал о страховой премии.
— Послушайте, надо вам, наконец, собраться с мыслями! — говорит полицейский комиссар Хадерслев. — Отвечайте толком на мои вопросы. И хорошенько думайте!
Амстед думает, думает. Но он не в состоянии придумать объяснение, которое удовлетворило бы полицейского комиссара.
— Сколько вы получили по лотерейному билету?
— Лотерейному? Вы, значит, и про это знаете?
— Да, мы знаем больше, чем вы думаете. Но будьте любезны ответить на вопрос.
— Билет выиграл пятьдесят тысяч!
— Так. Но у вас была половина билета. Значит, вы получили двадцать пять?
— Да!
— Почему вы утаили выигрыш от вашей супруги?
— Я и сам хорошенько не знаю! Все это было так странно. Я сам не знал, что мне делать с этими деньгами. Я просто хранил их. Спрятал их в свой стол в министерстве.
— Вы хотите сказать, что не преследовали никакой определенной цели? Вы же после жили в деревне на эти деньги!
— Я получил деньги еще до того, как решил отправиться в деревню.
— Когда вы решили ехать в деревню?
— Это решение созрело внезапно. После самоубийства Могенсена.
— Вы уверены, что Могенсен покончил с собой?
— Да! А что еще могло с ним произойти?
— Спрашивать будете не вы. Я спрашиваю, убеждены ли вы, что Могенсен умер по своей воле?
— Да!
— Это ваш школьный товарищ?
— Да. Мы учились в одной школе.
— И вы постоянно с ним встречались?
— Только изредка. Я знал, где он живет. И посылал ему иногда... маленькое пособие.
— Пособие? Что за пособие? Почему пособие?
— Могенсен был очень беден. Я иногда давал ему немного денег. И поношенные вещи. Моя жена думала, что я дарю эти вещи посыльному из министерства.
— Почему вы скрывали от жены, что знакомы с Могенсеном и помогаете ему?
— Не думаю, чтобы он пришелся ей по душе. Это был человек со странностями. Он часто говорил весьма... весьма смелые вещи. И был не очень опрятен.
— У вас была особая причина оказывать помощь Могенсену?
— Нет!
— Зачем же вы это делали?
— Он был очень беден.
— Но в Копенгагене бедняками хоть пруд пруди. Не могли же вы всех их поддерживать. Почему же именно Могенсена? У вас на это была особая причина?
— Нет.
— Значит, только по доброте души?
— Я же знал Могенсена. Это был мой школьный товарищ.
— И много вы давали Могенсену?
— Только маленькие суммы. Лишь когда я выиграл деньги в лотерее, я дал ему более значительную сумму.
— Что вы называете «значительной суммой»?
— Тысячу крон.
— Да, это щедро! И у вас действительно не было другой причины, кроме сострадания, для такой щедрости по отношению к старому школьному товарищу?
— Я думал, что хорошо бы ему снять комнату получше. И купить себе что-нибудь из платья. Тогда он, может быть, и работу какую-нибудь получил бы.
— А как он распорядился вашими деньгами?
— Этого я не знаю. Думаю, что он, к сожалению, потратил их па покупку динамита.
— Но нельзя же попросту купить динамит у первого попавшегося лавочника. Каким путем он достал его?
— Не знаю!
— А ведь вы сами интересовались взрывчатыми веществами. Читали пространные труды на эту тему. Откуда у вас этот интерес?
— Чисто профессиональный. R связи с моей работой в министерстве. Нам предложено было дать заключение об одном проекте, о так называемых «механических солдатах»: это особого рода мины. Вот мне и пришлось ознакомиться с некоторыми техническими вопросами.
— Вот оно что! А вы совершенно уверены, что дело обстояло именно так?
— Да. А как же еще?
— Вопросы задаю я. Запомните это хорошенько. Не было ли у вас личного интереса к взрывчатым веществам?
— Нет. Личного интереса не было.
— Ведь частному лицу вроде Могенсена невозможно раздобыть динамит. Вы согласны? Какие у него могли быть связи?
— Эго мне не известно!
— Вам самому, например, было бы гораздо легче достать динамит. Если вы по долгу службы занимались минами и «механическими солдатами», то для вас не составило бы труда добыть немного динамита!
— Это нелегко.
— Даже для вас?
— Во всяком случае, пришлось бы преступить закон.
— Ясно. А такой человек, как вы, не способен на преступные махинации?
Теодор Амстед не отвечает.
— Во всяком случае, Микаэлю Могенсену было гораздо труднее достать динамит, чем вам. Разве не так?
— Пожалуй!
— А вам не известно, как это удалось Могенсену?
— Нет!
— Знали ли вы, что Могенсен задумал покончить с собой?
— Нет. Этого я не знал. А впрочем... Он делал какие- то туманные намеки. Но я не принимал их всерьез.
— Что он говорил? Будьте добры ответить точно!
— Говорил странные вещи. Будто он хочет нанять самолет и выброситься из него. Что он отправится «на небеса» на воздушном шаре. Могенсен говорил много такого, чему трудно было поверить.
— Когда вы ушли в последний раз со службы, из четырнадцатого отдела военного министерства, вы получили письмо. Его принес посыльный. Будьте добры сказать, от кого было письмо?
— От Могенсена. Он писал, что намерен покончить с собой, что теперь он может осуществить определенный план, что решил взорвать себя динамитом на Амагерском полигоне. Это было ужасное письмо... «Теперь я отправляюсь на небеса. Вы можете ползать по земле, я же поднимусь в более высокие сферы. Жизнью я не дорожу. И не доволен формами бытия. Я — последний философ и умираю, как грек».
— Какие это греки умирали таким способом?
— Могенсен всегда выражался очень странно. Он не желал подчиняться требованиям общества. В школе он учился хорошо, но в годы студенчества в нем как будто что-то сломалось.
— Что вы сделали с письмом?
— Разорвал, как только прочел.
— Очень жаль. А что вы сделали после того, как прочитали это необыкновенное послание?
— Я тотчас же ушел из министерства и отправился на Амагорский полигон. Надеялся, что поспею еще вовремя.
— Почему вы не поставили в известность полицию? Вы не думаете, что дежурная полицейская машина очутилась бы там раньше вас?
— Да, это была оплошность с моей стороны. Но я не верил, что Могенсен действительно покончит с собой. Он ведь часто говорил подобные вещи. Кроме того, мне казалось, что времени еще достаточно. Он писал, что немедленно отправляется на полигон. А письмо было принесено посыльным, так что времени прошло немного. И я ведь тоже сел в машину...
— Да, это нам известно, мы говорили с шофером. Пока ваши показания соответствуют фактам. А что вы сделали потом?
— Я пошел на то место, которое было указано Могенсеном. Туда, где Кальвебодская плотина упирается в Амагер... «Ты найдешь там дыру в земле!» — писал Могенсен.
— И что вы нашли?
— Там действительно была воронка. Я тотчас же понял, что произошло. Это было ужасное зрелище!
— Да, это мы знаем. И затем вы взяли свои часы и разбили их вдребезги?
— Да, несколько раз бросил их о камень.
— Зачем?
— Чтобы кто-нибудь нашел осколки, и тогда полиция решила бы, что это мои часы и что я...
— Что вы сами взорвали себя на воздух? Немного наивно для человека, изучавшего действие взрывчатых веществ. Если бы у Могенсена в жилетном кармане были часы, от них ничего не осталось бы.
— Я не подумал об этом.
— Но вообще все это было очень основательно продумано. Когда вам пришло в голову обменяться ролями с Могенсеном?
— На полигоне. Когда я увидел, что произошло, и понял, что Могенсен разорван на мелкие куски, я подумал, что точно так же... что это могло бы случиться и со мной.
— Вы только тогда задумали исчезнуть, когда стояли на полигоне?
— Да. Окончательное решение я принял только там. Но, конечно, я уже раньше немного... фантазировал на этот счет.
— Когда же вы начали фантазировать на этот счет?
— Когда я выиграл в лотерею деньги.
— И вам представился счастливый случай?
— Да, мне представился... случай!
— После этого вы написали прощальное письмо?
— Да!
— Почему вы послали его в министерство, а не жене?
— Я не хотел, чтобы это известие поразило ее слишком внезапно. Я знал, как долго у нас в министерстве происходит обработка входящей почты. Проходит немало времени!
— Значит, вы хотели выиграть время! Так не будем говорить о ваших чувствах к жене, о бережном отношении к ней. Мы не очень-то верим в ваше сострадание. Ну, а теперь скажите, почему вы хотели бесследно исчезнуть?
Да, почему? На это господин Амстед не знает, что ответить. Он уже давно фантазировал на этот счет. Мысленно он рисовал себе жизнь на свободе. Такую жизнь, чтобы он мог целиком располагать собой. Тихая жизнь на лоне природы. В местности, которую он знал еще ребенком и которая теперь рисовалась ему раем. Раем, куда бы он мог уехать на вечные каникулы.
Он сидел в своем кресле в кабинете и тосковал по свободе. Прочь отсюда, с улицы Херлуф-Троллесгаде, прочь из военного министерства, скорее бы избавиться от всех этих начальников — дома и на службе. А потом эти деньги. И самоубийство Могенсена. От Могенсена ничего не осталось, и Теодор Амстед мог отлично сойти за погибшего Могенсена. Кроме того, на Могенсене было старое платье Амстеда. Все это были звенья одной цепи. Вдруг появилась возможность превратить мечту в действительность.
Зачем? — спрашивают его. Нелегко объяснить это полиции. Он действовал импульсивно. А затем было уже поздно идти на попятный. Оп просто уступил давно сдерживаемому желанию прогулять. О последствиях он не думал.
Вопросы сыплются градом, а ответы не могут удовлетворить полицию. Она не может понять вечного школьника, который в сорок шесть лет удрал с уроков и отправился па поиски приключений.
— Вот вы назвались Гербертом Джонсоном. И выбрали это имя неслучайно. В Соединенных Штатах действительно живет некий Герберт Джонсон. Он тоже ваш школьный товарищ, и его звали тогда Гербертом Йенсеном. Ловко придумано — присвоить себе фамилию американца датского происхождения. Получилась вполне правдоподобная история: человек вернулся домой из-за границы. Значит, в бланке переписи населения и анкете вы поставили чужое имя. Похоже на то, что все было очень тщательно продумано и подготовлено, Теодор Амстед. К тому же вы достали несколько долларовых билетов — для большего правдоподобия. Мы навели справки в банке и списались с Гербертом Джонсоном.
— Да, полиция знает немало!
— Затем вы сбрили себе усы. Это тоже известно полиции. Чтобы изменить свою внешность. Но не умно было с вашей стороны проделать это в маленьком городишке. Далее вы купили себе очки с обыкновенными оконными стеклами. И все в том же городишке. И там же взяли местную газету, чтобы узнать адреса свободных квартир в деревне, и наткнулись на объявление Йенса Йенсена.
Полиции известно многое. И все же в полицейском управлении недовольны результатами следствия. Остались невыясненные вопросы...
Наконец, кандидату юридических наук Теодору Амстеду предоставляют защитника. Пока что ему предъявлены обвинения в обмане страхового общества, подделке документов и уклонении от уплаты налогов.
Но как бы к этому не прибавилось еще кое-что.
Глава 46
Амстеду инкриминировали немногое. И новых обвинений не предъявили.
Как выразился защитник, он дешево отделался. Удалось избегнуть многих неприятностей, большой сенсации. Скандал не разросся до чудовищных размеров. А ведь полиция выдвинула версию, за которую держалась крепко и упорно. Но теперь она вынуждена от нее отказаться.
Его подозревали в убийстве Микаэля Могенсена.
Он убил Могенсена? Но зачем, ради всего святого, ему убивать Могенсена?
Да, зачем? Полиция предполагала, что Могенсен вымогал у Амстеда деньги. Иначе зачем было Амстеду помогать какому-то чудаку с Розенгаде.
К тому же полиция не нашла удовлетворительного объяснения самоубийству Могенсена.
Нищета? Могенсен был философ, он презирал материальные блага. Кроме того, Амстед дал ему тысячу крон. Почему же он почувствовал усталость от жизни как раз в тот момент, когда ему подарили такую крупную сумму денег?
Кроме того, чиновнику военного министерства куда легче достать динамит, чем бедному одинокому человеку.
Полиция построила свою версию на довольно прочном фундаменте. Однако решающих улик у нее не было. От обвинения в убийстве пришлось отказаться и довольствоваться остальными пунктами обвинительного заключения.
Но достаточно и этого.
Для Теодора Амстеда это означает разорение и гибель, означает потерю пенсии, потерю гражданских прав, позор и исключение из общества порядочных людей.
Это финансовый крах. Полученные страховые суммы необходимо вернуть с процентами. Так же как и пенсию, которая выплачивалась его жене. И еще штраф в налоговое управление. И возмещение убытков и судебных издержек.
А быть может, еще и развод и алименты. Фру Амстед хотела посетить его в тюрьме и поговорить с ним. Но ее не пустили к нему, и пришлось сноситься с ним через защитника.
Фру Амстед в полном отчаянии. Возвращение мужа явилось для нее гораздо большим ударом, чем его смерть. Что теперь будет? Как жить? Все разрушено. Все, достигнутое хорошим воспитанием, школой, университетом. Вся основа их существования. От квартиры на улице Херлуф-Троллесгаде придется отказаться, обстановку продать.
А Лейф? Вряд ли представится возможность дать ему образование. Что с ним будет? Без школы, без учения — что он станет делать все то время, пока ему не исполнится двадцать пять лет? Да, главное сейчас — Лейф. Неужели из него не выйдет такой же дельный чиновник и уважаемый гражданин, какими были его предки?
Сколько вопросов и проблем!
На кладбище есть могила. Могила с надгробной плитой, цветами и белым песком. Она куплена на сорок лет, как место вечного упокоения, — куплена для постороннего человека. Как с ней быть?
Теодор Амстед этого не знает. Он не может делать никаких распоряжений насчет своей собственной могилы. Он сидит за решеткой и свободен от всякой ответственности. От многого он теперь свободен — с него взятки гладки.
Надо было бы договориться с родственниками Могенсена, если таковые существуют. Но Теодор Амстед не может вести переговоры. Хорошо еще, что при данных обстоятельствах он очутился за решеткой...
Когда предварительное следствие заканчивается, Теодор Амстед не ходатайствует об освобождении. Не просит выпустить его из тюрьмы до суда. И не хлопочет о свидании с женой.
Много есть неразрешенных вопросов. Много бед свалилось на семью Амстед.
Но арестованному Амстеду все же повезло. В одном по крайней мере: обвинение в убийстве ему все-таки не предъявлено.
Остается лишь обман страхового общества, подделка документов и уклонение от уплаты налогов.
За все вместе он получает восемь месяцев тюремного заключения.
Теодор Амстед не желает подавать апелляционную жалобу.
Глава 47
В жизни Теодора Амстеда снова царит тишина и порядок.
Его день распределен до минуты. У него снова есть занятие. И жизнь снова приобрела для него смысл.
Работа его состоит в том, что он клеит бумажные кульки.
Это не требует ни выдающихся способностей, ни большого напряжения мысли. Нужны только аккуратность и любовь к порядку. А этого у Теодора Амстеда хоть отбавляй. Эти качества ему прививали с семилетнего возраста.
Он обрезает края, загибает их и тщательнейшим образом промазывает клеем, стараясь не истратить зря ни единой капли. Он не спешит, но зато все делает чрезвычайно аккуратно. И его хвалят за хорошую работу.
Эта работа немного однообразна, но ничуть не однообразнее или скучнее, чем работа в 14-м отделе военного министерства. Он привык к такой работе и теперь может блеснуть теми качествами, которые воспитывали в нем много лет.
Вообще он давным-давно освоился с той жизнью, которая ожидала его в тюрьме.
Еда выдается регулярно, в положенное время. Это все та же хорошая простая еда, которую он получал годами и к которой тоже успел привыкнуть. Все те же фрикадельки под сельдерейным соусом; такие фрикадельки готовила его мать, потом — жена, и он, естественно, притерпелся к вкусу этого блюда за более чем сорокалетний срок его потребления. Та же рисовая каша и то же рубленое мясо, которыми он питался изо дня в день всю свою жизнь. Здесь завтракают, обедают и ужинают неизменно в одни и те же часы, минута в минуту, как и дома.
Здесь не приходится думать о топливе, белье и чистых носках.
Центральное отопление действует безотказно. Кто-то заботится о том, чтобы в камерах поддерживалась должная температура. Амстед может не беспокоиться об этом.
Каждую неделю ему выдают чистые шерстяные носки. Точно так же, как это делали его мать и жена. «Пожалуйста, вот рубашка! Надень! А вот чистый носовой платок!»
Беспризорный человек снова обрел тишину и порядок. Снова обрел спокойствие и глубокое внутреннее удовлетворение жизнью. Он больше не испытывает страха перед природой, не слышит крика совы и разных жутких ночных голосов, не боится воров и бандитов. Дверь заперта. И не все ли равно, как она заперта: изнутри или снаружи? Он ежедневно получает необходимую порцию движения и свежего воздуха. Прогулка во дворе, по кругу, происходит в установленное время. Совершенно так же прогуливался он некогда утром по воскресеньям вдоль набережной или шагал в будни по дороге на службу и со службы. Тюремный двор выложен плитами. И здесь Амстед тоже старается не ступать на соединяющие их швы.
По вечерам он читает книги из тюремной библиотеки. Такие же легкие и безвредные книги, как те, которые жена всегда получала в библиотеке по абонементу.
Все осталось так же, как было.
И все же теперь лучше, чем прежде. Прежде он только чувствовал себя одиноким, но никогда не оставался наедине с самим собой. Приходилось всегда отвечать на вопросы, принимать участие в разговоре. Надо было то бранить Лейфа, то мириться с ним. Корпеть над немецкими сочинениями и задачами, которые не давались мальчику. Думать о бюджете семьи. Время от времени приходилось бывать в обществе, как того требовало его положение. Надевать смокинг, когда его приглашали на обед знакомые, в свою очередь отдававшие ему визиты. Выносить обидное, унизительное обращение начальника отделения.
Здесь этих неудобств нет. Здесь исполнилось все, к чему он стремился всю свою жизнь. Здесь обеспеченность, порядок, чистота, регулярность и безопасность.
И Амстеду чудится, что он, наконец, достиг желанной цели. Всего того, к чему он готовился еще в школе в течение многих, многих лет. В школе, а потом в университете, занимаясь бесконечной зубрежкой и сдавая бесчисленные экзамены.
Амстед спокойно спит по ночам. У него хороший аппетит. Желудок — в полном порядке. Когда он хворает, немедленно является тюремный врач. Он устроен и обеспечен во всех отношениях.
Он добился всего того, что является, как ему неизменно внушали, основой жизненного благополучия. Он добился высшего идеала буржуазного общества.
Глава 48
Амстед был бы совершенно счастлив, если бы не мысль, что скоро этому благополучию придет конец.
Такое блаженное состояние не будет длиться вечно. Лишь очень ограниченное время придется ему жить в условиях, к которым он был подготовлен всей своей жизненной практикой. Лишь несколько месяцев сможет он наслаждаться покоем и регулярностью, строгим распорядком дня и обеспеченностью — всем тем, к чему всегда стремилась его семья, равно как и тысячи других буржуазных семей.
В один прекрасный день его освободят.
В один прекрасный день его вытолкнут в суровый и опасный мир. Мир, которого он не понимает и никогда не научится понимать.
Оп считает дни и недели. Вот уже половина срока прошла, а вторая половина пройдет еще быстрее. Впереди у него всего несколько месяцев. Но и эти месяцы скоро пролетят. Никакая сила на земле не может остановить их бег.
Теодор Амстед не годится для жизни в этом мире. Условия, необходимые для его существования, исчезли. Жизненный путь его прервался. А он не способен жить иной жизнью, чем та, для которой его воспитали, вышколили, предназначили.
Его путь проходил по прямой линии от серого здания школы к красному зданию военного министерства. Здесь ему было отведено место в жизни. Стоило Амстеду сойти с этого пути — и он погиб.
Теперь ему остается одно: совершить что-нибудь такое, за что его снова посадят в тюрьму, так полно отвечающую его идеалам житейского счастья.
Он может совершить преступление. Настоящее преступление. Большое и серьезное правонарушение, за которое его приговорят к пожизненному тюремному заключению.
А между тем у него отнюдь не преступная натура. Он не бунтарь, не враг общества. Он всегда любил порядок, всегда уважал закон. Но только преступление может дать ему то упорядоченное существование, без которого он вообще не мыслит себе жизни.
И Теодор Амстед придумал план. Он принял очень важное и страшное решение.
Улыбаясь, сидит он за своей работой. Тщательно и аккуратно клеит своп кульки. Но он думает о будущем.
Наступит день, и его выпустят на волю. Но уж он примет меры, чтобы вернуться сюда.
Теодор Амстед улыбается. Ведь никто в тюрьме даже не подозревает, что этот обходительный, трудолюбивый и аккуратный человек решился стать убийцей.
Он улыбается. Ибо вдруг он стал самым могущественным человеком в мире. Он может указать пальцем на первого встречного и сказать: ты должен умереть! Он сам решит, над кем произнести свой приговор. Что с ним сделают за это? Да убей он хоть сто человек, с ним не случится ничего, кроме исполнения его заветного желания: он лишь получит возможность до конца жизни пребывать в том идеальном состоянии, которое является целью воспитания, образования и всех стремлений в буржуазном обществе.
Кого же он убьет? На кого падет выбор этого самого могущественного человека на земле? Ненавидит ли он кого-нибудь так сильно, что готов вынести ему смертный приговор?
У Теодора Амстеда нет врагов. Он ни к кому не питает ненависти. Кто же это будет?
А! Нашел! Выбор сделан. Единственный человек, которого, как ему кажется, он мог бы убить, это его бывший начальник. Начальник отделения 14-го отдела военного министерства Омфельдт. На него пал роковой выбор.
Теодор Амстед вовсе не мстителен. Он не озлоблен, не ожесточен. Он и не злопамятен, быстро забывает наносимые ему оскорбления и обиды. Но теперь он попытается припомнить все те унижения, которым подвергался. Он заставит себя думать обо всем, что претерпел на службе.
Амстед вспоминает, как высокомерно глядел на него начальник, выговаривая ему, что, дескать, очень прискорбно, когда чиновник военного министерства допускает в официальном документе грамматические ошибки. Ведь от сотрудника министерства как будто можно было бы ожидать определенной академической культуры и по крайней мере знания орфографии родного языка. К тому же свое дурное настроение начальник вымещал на нем при всех, во всеуслышание. И подчиненные угодливо хихикали.
Таких обид он вспомнил теперь немало. Однажды, еще будучи секретарем, Амстед по рассеянности прочел газету раньше своего сослуживца — сына секретаря Государственного совета, и Амстед до сих пор помнит выговор, сделанный ему за это начальником. В другой раз на обеде у начальника отделения Амстеда усадили на место, не соответствующее его положению, что унизило его в глазах коллег.
Амстед вспоминает, как начальник завладел двумя крючками для верхней одежды: на один вешал пальто, на другой — зонт. Амстеду же оставалось вешать пальто на самый обыкновенный, оскорбительно обыкновенный гвоздь.
Изо дня в день его самолюбию наносились бесчисленные мелкие уколы. Амстед старается ничего не забыть, ибо теперь начальник отделения должен умереть.
Теодор Амстед клеит кульки и улыбается.
Он — не просто заключенный. Он принял серьезное и роковое решение. Вот он сидит здесь и клеит, загибает края и получает похвалу от надзирателя; а между тем это самый могущественный человек на земле.
Человек, решающий вопросы жизни и смерти.
Глава 49
Всему приходит конец.
Может быть, конец этот придет не скоро, но все же придет.
Всякий путь рано или поздно кончается, как бы долог он ни был.
В молодости человек верит, что он никогда не умрет. Но смерть все же наступает. Она неотвратима. Когда учишься в школе, кажется, что этому не будет конца. Но проходит время, и ты уже так преобразился, стал таким дрессированным и послушным, что тебя выпускают на волю. Когда человек отбывает тюремное заключение, время тянется для него бесконечно долго. Но в конце концов срок истекает, и заключенный получает разрешение выйти за тюремные ворота. Рано или поздно этот день непременно наступает. Ибо всему приходит конец.
Время течет...
Оно определяет все изменения в служебном положении, и тот, кто в обеденный перерыв кормит голубей, ютящихся под кровлей красного здания военного министерства, когда-нибудь тоже достигнет предельного возраста. И тогда его должность займет другой.
Пройдет время, и секретари станут советниками. Еще пройдет время, и советники станут начальниками отделений. А начальник отделения, когда пройдет еще много- много времени, может даже стать начальником департамента.
Восемь месяцев тюрьмы — немалый срок. Это почти год. Много недель, дней, часов.
Но и восемь месяцев проходят. Одни радуются дню освобождения, другие боятся его. Но так или иначе, а день этот все-таки наступает.
Наступает и день освобождения бывшего служащего военного министерства Амстеда. Он уже получил свою одежду и маленькую сумму денег, которую он заработал, клея пакеты. От тюремного инспектора он выслушал похвалу за хорошее поведение.
И вот однажды утром надзиратель распахнул перед ним широкие ворота Западной тюрьмы,— и Теодор Амстед может выйти на Вигерслевскую аллею. Ведь он теперь свободен.
За ним могла бы приехать жена. Но Амстед этого не пожелал. Они могли бы встретиться еще в тюрьме, но и от свидания он отказался.
Он не питает к ней ненависти. Но о чем им говорить?
На свободе Теодор Амстед останется недолго. Ему только нужно совершить задуманное. И тогда он вновь вернется к обеспеченности и устойчивости тюремной жизни.
На свободе холодно. По Вигерслевской аллее гуляет ветер. Теодор Амстед зябнет в своем толстом зимнем пальто. Никто бы не узнал в нем самого могущественного человека в мире, повелевающего жизнью и смертью.
Ему предстоит осуществить один план. План, продуманный во всех деталях. Прежде всего он купит кое-что в магазине скобяных изделий. Но магазины еще закрыты. Придется подождать несколько часов, прежде чем он сможет приступить к выполнению своего плана.
Два часа тянутся страшно долго, когда расхаживаешь по улицам, стараясь убить время. Но и двум часам приходит конец. Он бродит по улицам и ждет. И зябнет — ведь он отвык подолгу оставаться на воздухе.
Из маленького кафе на улицу вырывается аромат кофе. Амстед останавливается и вдыхает в себя сладкий запах благоухающего напитка.
Оп нерешительно входит. Никогда еще не бывал он в таких местах. В бытность свою чиновником он никогда не посмел бы выпить чашку кофе в ларьке или дешевом кафе.
Он нервно и робко заказывает кофе с булочкой. Осторожно несет поднос с большой дымящейся чашкой туда, где приметил свободное место.
Осторожно отхлебывает кофе. Не опасно ли пить его? Может статься, в чашке остались какие-нибудь микробы, грязь? Ведь он должен добиться, чтобы его приговорили к пожизненному тюремному заключению. Он боится заразы и болезней.
Его мать пришла бы в ужас, если бы увидела, где он пьет кофе. А у жены было бы нервное потрясение. То, что он делает, — нечто неслыханное и ужасное. Но кофе — горячий, вкусный, от него чувствуешь себя бодрее.
В кафе сидят несколько рабочих. Одни пришли прямо после ночной смены, на их одежде — следы грязи, земли. Другие только идут на работу: они пьют здесь свой утренний кофе.
Бывший чиновник военного министерства боязливо косится на них. Он инстинктивно сбивает несколько пылинок со своего пальто.
Амстед всегда немного робел перед людьми в спецовках. Это — чуждый, незнакомый мир. От этих субъектов надо держаться подальше. «Не подходи к ним близко!» — говорили ему, когда он был ребенком.
Люди в спецовках. От них всего можно ждать — грубости, скотства, брани, насилия.
Мастеровых он наблюдал только, когда они производили какой-нибудь ремонт в его квартире на улице Херлуф-Троллесгаде. Но сам он никогда не заговаривал с рабочими. Он был учеником, студентом и чиновником. И знался только с другими учениками, студентами и чиновниками. Люди в спецовках, которых он встречал на улице, были из другого, чуждого ему мира.
Но пока он пьет свой кофе, никто не набрасывается на него.
Рабочие разговаривают, курят и читают утренние газеты. Они настроены вполне благодушно. Пожалуй, не менее благодушно, чем чиновники 14-го отдела военного министерства, когда они читают свою газету в порядке строгой очередности или, оттопырив мизинец, пьют послеобеденный чай из продезинфицированных чашек.
Да, на этих рабочих грязные спецовки. Но они не задевают выпущенного на волю Амстеда.
А вот уже и магазины открываются.
Амстед стоит некоторое время перед витриной магазина скобяных изделий, рассматривая молотки и топоры, разложенные и развешанные длинными рядами. Затем он входит внутрь.
— Вам молоток, сударь? Извольте! Для каких-нибудь специальных работ?
— Мне нужен просто хороший, тяжелый молоток!
— Пожалуйста! Вот, например, плотничий молоток. Великолепный инструмент, сударь! Уж он-то не подведет. Превосходно рассчитан. А не нравится ли вам этот? Или, может быть, вы предпочитаете вон тот? Им можно и гвозди вытаскивать. Пожалуй, он будет для вас удобнее всего.
— Нет, мне гвозди вытаскивать не надо. Сколько стоит вот этот?
— Полторы кроны, сударь! Это очень хороший молоток! Будет вам служить и служить. У нас их много покупают, сударь!
— А вот этот?
— Этот стоит всего-навсего крону двадцать пять. Тоже превосходный молоток. А вот за крону семьдесят пять! Этот потяжелее.
Теодор Амстед рассматривает молотки. Он взвешивает их в руке. Он пробует их на удар. Вот, например, молоток, с одного конца заостренный, а с другого закругленный. Как будто вполне подходит.
— Сколько он стоит?
— Это специальный молоток. Подороже, правда. Три кроны семьдесят пять. Но уж, скажу я вам, молоток особенный, первоклассный. И какой удар! Вот попробуйте!
Теодор Амстед поднимает, взвешивает, пробует. Он долго и пристально смотрит на лоб продавца. Измеряет расстояние и крепко сжимает пальцами ручку.
Продавцу на мгновенье становится жутко.
— Этот человек посмотрел на меня взглядом убийцы! — сказал он впоследствии в полиции.
Молоток вполне подходящий. Но не взять ли тот, что подешевле? Ведь Амстед не привык бросать деньги на ветер.
Поразмыслив, он все-таки берет более дорогой, тот, что с одной стороны заострен, а с другой закруглен. Уж для такого случая глупо было бы скупиться. Да и какое значение имеют для него теперь деньги?
— Спасибо, я беру вот этот, за три семьдесят пять! Нет, заворачивать не надо. Я возьму его так. Положу во внутренний карман.
Еще рано. Нельзя же являться к людям в такой необычный час.
Начальник отделения вернется домой не раньше пяти. Затем будет обедать. Он — старый холостяк и, пожалуй, столуется не дома. Надо дать ему пообедать в последний раз.
Он придет к нему около половины восьмого.
Долго придется ждать Амстеду. Много часов будет он бродить по улицам.
Но когда-нибудь наступит и половина восьмого. Ведь всему же приходит конец.
Глава 50
Начальник отделения Омфельдт один дома. У него хорошее настроение; он уютно расположился в кабинете и приводит в порядок свою историческую коллекцию военных реликвий. Вполголоса напевает старые походные песни. Омфельдт — воплощенное благополучие и довольство жизнью. Он ничего не боится, он даже не знает, что ему угрожает опасность, он совершенно спокоен. И когда внезапно раздается звонок, он не вздрагивает. Омфельдт не подозревает, что у порога стоит человек с тяжелым молотком во внутреннем кармане пальто. Он не подозревает, что это позвонил к нему ангел смерти.
Сейчас он возится с коллекцией мундирных пуговиц. Они лежат в маленьких коробочках и расположены в образцовом порядке. Некоторые прикреплены к щиткам, обтянутым красным бархатом. Еще ребенком он начал собирать форменные пуговицы, и теперь у него есть пуговицы всех родов войск, всех стран и всех времен.
В его коллекции есть настоящие серебряные пуговицы со старинных офицерских мундиров и костяные пуговицы, которые некогда были пришиты к гетрам гвардейцев восемнадцатого века. Есть там и медные — копенгагенского ополчения и оловянные — времен гражданской войны в Америке. Есть пуговицыиз оленьего рога — с мундиров старого австрийского полка альпийских егерей, есть пуговицы пожарников, почтальонов, полицейских, ночных сторожей, служащих газового управления, служащих похоронного бюро и даже пуговицы «гвардейцев» из «Тиволи»8
У него есть эполеты, знаки отличия, лампасы, плюмажи, позументы, кисти, ремни с портупеями, галуны. Канты со штанов артиллеристов и драгун всего мира. Аксельбанты гражданского ополчения па острове Мэн и аксельбанты с адъютантских мундиров, какие носили на Балканах. Пояса из Марокко и перевязи из Черногории.
На стенах развешаны сабли, шпаги, мечи, тесаки, кинжалы, кортики и штыки. На письменном столе вместо пресс-папье стоят маленькие гранаты.
Оружия у него достаточно, чтобы встретить любого врага. Но у начальника отделения Омфельдта нет врагов. Он не ждет нападения. Ему нечего опасаться
Услышав звонок, Омфельдт идет к двери, мурлыча под нос песенку. Он не знает, что там стоит самый могущественный человек на земле.
Бывший чиновник Амстед очень бледен. Должно быть, бледность эта — следствие восьмимесячного пребывания в тюрьме. Но он бледен еще и потому, что думает о деянии, которое должен теперь совершить.
Начальник отделения стоит на пороге, удивленно созерцая Амстеда.
— Признаться, весьма поражен... Никак не ожидал. Я полагал, что вы настолько... тактичны... полагал, что вы избавите меня от вашего визита... Это весьма неприятно! Весьма неприятно!
Внизу на лестнице слышны шаги.
— Уж лучше войдите. Не имею ни малейшего желания, чтобы вас здесь кто-нибудь увидел. Это было бы для меня весьма неприятно, чрезвычайно неприятно... Вам следовало бы понять, что я не имею возможности принимать вас у себя после всего случившегося.
Он идет по коридору. Теодор Амстед следует за ним по пятам. Он снял шляпу, одна рука его засунута глубоко в карман пальто.
Начальник отделения не произносит ни слова. И не предлагает бывшему чиновнику сесть. Сам же, повернувшись к гостю спиной, садится за письменный стол.
Он открывает ящик и что-то ищет. Теодор Амстед стоит за его стулом. Он смотрит на затылок начальника. Во всей комнате он не видит больше ничего. Не видит ни пуговиц, разложенных на большом столе, ни гранат — на письменном. Ничего не видит. Он лишь пристально смотрит на голову начальника отделения. На ней мало волос. В центре блестящей лысины маленькая шишка. А под самой кожей целая сеть синих прожилок.
Амстед крепко сжимает молоток, пристально глядя на лысый череп. Он измеряет на глаз расстояние и размышляет: ударить прямо в середину? Туда, где шишка? Или, может быть, лучше сбоку? В висок? Круглым концом молотка? Или лучше острием? Он прикидывает, соображает. Вот теперь самое время... Теперь... Сейчас... Он охватывает потными пальцами ручку тяжелого молотка.
Начальнику понадобилось много времени, чтобы найти то, что он искал. Он ни разу не обернулся.
Он чувствует, что бывший чиновник придвинулся к нему вплотную. И даже слышит его дыхание.
Омфельдт шарит в ящике. Вытаскивает пустой конверт. Из другого ящика достает кредитку в десять крон.
Теодор Амстед все это видит. Но в то же время не отрывает взгляда от маленькой шишки на макушке начальника. От тонких синих прожилок.
Начальник медленно и тщательно вкладывает бумажку в конверт. Смочив палец, заклеивает его. Затем медленно поворачивается на стуле.
Амстед держит шляпу в левой руке. Правая засунута глубоко в карман.
Вот... Вот маленький... конверт. Пожалуйста. А теперь разрешите настоятельно попросить вас больше меня ни беспокоить. Я не в состоянии впредь оказывать вам помощь. Вот!
Он подает ему конверт. Амстед берет его потной рукой, отпуская, наконец, молоток.
— Спасибо, — бормочет он. — Это очень...
Начальник протестующе машет рукой.
Вы, конечно, и не рассчитываете на бóльшую сумму. Надеюсь, вам понятно, что в будущем вам придется забыть дорогу сюда!
Амстед сует конверт в карман и нерешительно подает начальнику руку, чтобы поблагодарить его. Но тот руки не замечает.
— А теперь идите! Постойте-ка, я пойду вперед, посмотрю, нет ли кого на лестнице.
И снова Теодор Амстед идет за своим бывшим начальником по длинному коридору. В кармане у него конверт. И тяжелый молоток.
— Никого нет. Идите, пожалуйста, скорее. Не желаю я, чтобы вас тут застали. Нет! Не благодарите! Только поторапливайтесь. И не возвращайтесь! Слышите? Я требую, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
Дверь в коридор захлопывается.
Бывший чиновник медленно спускается со ступеньки на ступеньку.
Глава 51
Теодор Амстед лежит на какой-то странной железной кровати и не может заснуть.
Кровать украшена большими медными шарами. А матрац стонет и вздыхает всякий раз, когда Амстед поворачивается на другой бок.
На белом ночном столике лежит Евангелие и несколько брошюрок религиозного содержания. На стене висят мудрые изречения в разных рамках.
Это гостиница какой-то духовной миссии. Рядом с вокзалом. С улицы Бернсторфсгаде доносятся автомобильные гудки и грохот трамваев.
Уличные фонари бросают сквозь узор гардин лучи света, и на потолке то и дело возникают причудливые очертания каких-то фигур. На улице горланит пьяный, откуда-то доносится девичий смех. Теодор Амстед вдруг вспоминает громкий голос Хагехольма. Вспоминает Карен, дочь Йенса Йенсена, которая никогда не смеялась. Вспоминает девушку по имени Алиса. Ту, что однажды слишком много выпила и ей не разрешили позвонить по телефону в «Исторический кабачок».
О многом он сейчас вспоминает. В мыслях у него неразбериха и хаос. Он стонет под ватным одеялом. Его лихорадит, как бывало лихорадило под отсырелой периной Йенса Йенсена. Он думает, думает.
Теодор Амстед хотел совершить преступление. Один день он был самым могущественным существом на земле, он мог убить, кого пожелает. Стоило ему лишь взглянуть на человека и сказать: ты должен умереть! И никто не мог бы этому помешать.
В кармане пальто у него — молоток. И десятикроновая бумажка. Он взял бумажку, поблагодарил и ушел. А новенький молоток так и остался лежать без употребления во внутреннем кармане пальто. Он обошелся ему в три кроны семьдесят пять эре.
Специальный молоток необычайной ударной силы. Амстед видит перед собою лысый череп с маленькой шишкой посредине. На это место и должен был обрушиться молоток. Все шло как по маслу. Ему представлялся такой удобный случай. И времени было достаточно.
Но Теодор Амстед не способен убить человека.
Он обманул страховое общество и дал о себе ложные сведения. За это он понес кару и лишился гражданских прав. Он изгнан из общества. Теперь ему некуда податься. Но убить — он не способен.
А ведь его уже однажды заподозрили в убийстве. Думали, что он взорвал динамитом беднягу Могенсена.
Да, думали, что это сделал Амстед. Может быть, и сейчас еще так думают.
И, возможно, в этом его спасение.
Теодор Амстед поднялся. Ему стало жарко, кровь прилила к голове.
Вот оно — спасение! Вот оно — убийство!
Теперь надо основательно все продумать. Спокойно! Спокойно! Надо поразмыслить о важных вещах.
Амстед думает и думает. Смеется и торжествует. Он не из тех, кто может совершить убийство. Но не все ли равно, если поверят, что он убил?
Впереди у него целая ночь и целый день, он все как следует обмозгует.
Но надо быть начеку. Проявить осторожность и хитрость.
Ведь необходимо все тщательнейшим образом взвесить и продумать. Времени у него достаточно. Есть трудности, которые придется преодолеть. Не так-то просто добиться приговора за несовершенное убийство.
Надо действовать осмотрительно. Ничего не забыть. Все рассчитать. Все обосновать. Легче доказать ложное алиби, чем выдумать несуществующую вину.
Теодору Амстеду придется напрячь все свои умственные способности. Всю силу воображения, которое еще, быть может, осталось у него, несмотря на многие годы школьной муштры. Придется пустить в ход всю свою точность и аккуратность, которую ему привили, все свои юридические познания, знакомство с законами и правилами судопроизводства.
То, что полиция с самого начала стала его подозревать, сослужит ему теперь хорошую службу. Это облегчит ему работу. И все-таки надо держать ухо востро и быть готовым к любому вопросу. Это его последний серьезный экзамен. Только бы выдержать этот экзамен — и он спасен.
Какая у него могла быть причина для убийства Могенсена? Да ведь полиция уже нашла причину, которой он воспользуется: Могенсен был шантажист. Придется пожертвовать доброй славой честного Могенсена. Ему было известно кое-что об Амстеде. Ну, например, о связи Амстеда с продавщицей из киоска. Связи, о которой не должна была знать жена.
Амстед уже неоднократно давал Могенсену маленькие суммы денег. А выиграв на лотерейный билет, он передал ему тысячу крон. Но Могенсен был ненасытен, как коршун или акула. Он написал Амстеду в министерство. Послал ему через посыльного пресловутое письмо и угрожал скандалом. Они договорились встретиться на полигоне.
Не странно ли, что именно в таком месте? Конечно. Но Могенсен был чудак, полоумный. Кстати, свидание это было назначено уже давно. Письмо — только последнее напоминание, сделанное Могенсеном.
Нелегко все это объяснить. Тут припутываются разные технические тонкости, которыми надо еще хорошенько заняться. Какое счастливое совпадение, что он занимался взрывчатыми веществами, перед тем как дать отзыв об одном проекте, поступившем в министерство.
А откуда он достал динамит? И как он разложил его по карманам пальто Могенсена? Надо все это продумать основательно и всесторонне. Надо проявить дьявольскую хитрость.
Может быть, он подарил Могенсену новое пальто? Пальто, все карманы которого были набиты взрывчаткой и прочей чертовщиной? Или наполнил динамитом сигару? Берегись! Не наплети слишком много ерунды. Действуй осмотрительно!
Теодор Амстед методически и осмотрительно соединяет звенья одной цепи. Он до предела напрягает свою изобретательность. И с беспримерным старанием готовится к своему последнему экзамену.
Хорошо, что Амстед был чиновником военного министерства и в его обязанности входила проверка лабораторий и пороховых складов, что он занимался взрывчатыми веществами н вычислениями, что на его письменном столе всегда лежали книги по этому вопросу. А книги, найденные в квартире Могенсена? Это обстоятельство легко объяснить тем, что он одалживал их Могенсену, рассчитывая, что версия о самоубийстве Могенсена, если таковая понадобится, от этого станет более правдоподобной. Так чертовски хитер он был.
Хорошо, что Амстед привык к экзаменам. Но особенно хорошо, что полиция уже взяла его под подозрение и успела придумать версию, от которой отказалась лишь с большой неохотой: его признание теперь будет воспринято как полное торжество истины. Хорошо, что в его пальто есть тяжелый молоток. Молоток специальной конструкции, который не покупают обыкновенные люди. Да, хорошо, что он может рассказать о своем намерении убить Омфельдта.
Так почему же он его не убил? Что на это ответить?
Он может сказать, что квартира начальники отделения оказалась битком набита оружием. Что он не мог привести в исполнение задуманное, раз человек оказался вооруженным до зубов.
Выходит, что он все же не зря посетил начальника отделения!
А теперь нужно привести в систему свои мысли. Теперь нужно все подготовить.
Ему предстоит пройти через многое. Допрос, показания свидетелей, предварительное следствие, судебно-психиатрическая экспертиза и судебное разбирательство.
Это будет самый трудный и опасный экзамен в его жизни. По он его выдержит, как выдержал и другие.
Вечером Теодор Амстед отправляется в полицейское управление. Он бледен, нервничает. Он идет на последний решающий экзамен.
На ночном допросе Теодор Амстед «сознался» в страшном преступлении.
Глава 52
Фру Амстед плывет на пароходе.
Это ей было предсказано. А теперь исполнилось. Как странно!
Она едет в Орхус. Там живет ее старший брат-холостяк, у которого она теперь будет вести хозяйство. Он преподает в школе. Это педантичный и исполнительный чиновник; уже более тридцати лет он объясняет молодому поколению разницу между правильными и неправильными глаголами в немецкой грамматике.
Живет он в вилле на окраине города. В старой серой вилле с дугообразными окнами и маленьким палисадником, в котором есть кусты букса, розы и гравий.
В комнатах стоит старая мебель, вывезенная из родительского дома. Фру Амстед радуется тому, что снова увидит ее. Увидит старый дом со старыми воспоминаниями. Маленькую шкатулку и два зеркала в стиле ампир, старинные часы и все прочее.
Ее дом на улице Херлуф-Троллесгаде разорен. Мебель продана, все развеяно и рассеяно. Фру Амстед везет с собой лишь обстановку для одной комнаты, которая будет ее собственной.
Портрет Теодора Амстеда вынут из кожаной рамки. Но рамку она берет с собой — она еще может пригодиться.
Фру Амстед — вся в черном. Ведь теперь она овдовела по-настоящему, так сказать вдвойне. Мужа своего она теперь потеряла окончательно и бесповоротно. На этот раз ей пришлось расстаться и с его духом. Теперь им будут распоряжаться другие силы.
Она попытается забыть, что он жил. Попытается оградить Лейфа от позора, который навлек на них Теодор Амстед. Она и Лейф возьмут другое имя. Не могут же они носить имя убийцы и каторжника. Они будут тихо и уединенно жить в чужом городе, где никто их не знает.
С прошлым покончено. Мебель продана. Но в Орхусе ее ждет другая мебель, которую она будет беречь. Старая, милая мебель из родительского дома.
Фру Амстед плывет в Орхус. Не в какие-нибудь неведомые края. В известном смысле она лишь возвращается домой.
И у Лейфа тоже будет новый дом. При создавшихся обстоятельствах не было никакой возможности оставить его в интернате. Но теперь он сможет посещать старую школу, в которой преподает его дядя. Будет учиться и сдавать экзамены, которые в конечном итоге сделают из него порядочного гражданина.
Фру Амстед думает о Лейфе. Она думает о многих вещах. Хорошо, что она не продала красивый блестящий ломберный стол.
В жизни, которая ее ожидает, нет ничего неведомого, неопределенного. Она знает своего брата. И знает его дом. Знает каждое кресло в его вилле и отдаст все свои заботы этому дому и его мебели.
Она плывет в Орхус. Предсказание Ольсена сбылось. Может быть, сбудется и другое его пророчество. Может быть, она будет счастлива в Орхусе, в старинной серой вилле, обставленной старинной мебелью красного дерева, мебелью ее детства.
Глава 53
О, рождество, вечная радость,
Небесные звуки, священная песнь!
Звуки псалма взлетают под самые своды и наполняют чисто выбеленную церковь. Сочельник в тюремной церкви...
Пастор рассказывает о том, как он праздновал рождество в детстве. О доме своих родителей. О матери и отце. Ему нетрудно растрогать собрание. Немного нужно, чтобы взволновать заключенных, вызвать у них слезы. И вообще на них легко влиять. Может быть, потому они и находятся здесь, что на них легко влиять.
Они поют сильными голосами старинный рождественский псалом:
Мир на земле, радость на земле,
Здесь среди нас младенец Иисус!
Они сидят в опрятных, только что отглаженных серых костюмах и глядят на алтарь, на золотой крест и елку. Это люди всех возрастов и всех слоев общества. Есть тут и взломщики, и сутенеры, и насильники, и бандиты. Есть и несколько убийц. Один из них был чиновником в военном министерстве. У него была хорошая должность и уютный дом. И все шансы на пенсию. Словом, у него было все, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Но, должно быть, наперекор всему где-то притаилась неудовлетворенность. Амстеду захотелось испытать, как чувствует себя человек, когда он вполне свободен. И вот обстоятельства сложились так, что он мог осуществить свою мечту. Но Амстед не годился для свободы. И не для свободы его воспитали. Жизнь Амстеда с самого начала строилась так, что он все время находился под чьим-нибудь надзором. И когда он выплыл в открытое море, все сразу рухнуло.
Но теперь он вернулся восвояси. И вот он сидит в тюремной церкви и справляет праздник рождества, праздник своего детства. Он любуется рождественской елкой и вслушивается в пение хора. И сам подпевает:
Священная песнь небесного сонма...
Он достиг своей цели. Эта цель — обеспеченность и спокойствие, порядок и регулярность. Он здесь пожизненно. Он может с уверенностью смотреть в будущее. Оп вышел на пенсию. В его существовании нет ничего такого, что не находилось бы в точном соответствии с идеалами, на которые ему указывали всю жизнь. Отчий дом, школа, университет — все подготовило его к этой жизни. И цель достигнута.
Блаженный покой, небесный покой
Нисходит на нас в эту ночь!
Другие заключенные почтительно поглядывают в его сторону. «О, это убийца! Тот самый, который взорвал человека динамитом! А на вид — такой простак! Кто бы мог подумать? Ах, как обманчива внешность!» Они разглядывают его с восхищением.
Общественный престиж, уважение сограждан? Потерял ли он это уважение? Разве это безделица — слыть убийцей в той маленькой общине, к которой он теперь принадлежит? Разве убийца не есть нечто более значительное, чем бандит, взломщик или рядовой насильник? В тюрьме убийца принадлежит к высшему рангу, он почти на уровне начальника департамента. Когда выходит тюремная газета — первого числа каждого месяца — ее, само собой, раньше всех прочих читает Теодор Амстед.
Он обладает теперь всем — даже общественным престижем.
Когда заключенные вернутся из церкви, им подадут жареную свинину с красной капустой под коричневым соусом. Можно тихонько сидеть и предаваться воспоминаниям — о детстве, о родителях...
Пройдет несколько праздничных дней. А затем жизнь снова войдет в обычную колею. Работа и отдых... Сколько миллионов бумажных кульков надо склеить! Чистоту и аккуратность оценят по достоинству.
Не все заключенные так довольны, как Теодор Амстед. Среди них есть и беспокойные люди. Они не получили хорошего воспитания. Их не готовили много-много лет к этой жизни. Они не учились в хорошей школе. У них слишком богатое воображение, они не столь гармоничны, не столь добропорядочны.
Но для Теодора Амстеда смысл жизни найден. Его образование, наконец, закончено. Он достиг того, к чему стремился. Больше у него нет желаний.
Блаженный покой, небесный покой!


Глава 1
Несколько лет назад на улице Эстербро скоропостижно скончался пожилой человек, отравившийся леденцом.
Пожилой человек очень любил леденцы. Он сосал их постоянно, много лет подряд, н это не причиняло ему ни малейшего вреда. Он всегда носил в кармане маленькую овальную жестяную коробочку с леденцами. Когда у него першило в горле или ему просто хотелось подкрепить силы, он отправлял в рот леденец. Он никогда не разгрызал конфету, а только сосал ее, смакуя сладкий сироп. И долгие годы все сходило благополучно.
Но однажды дело кончилось плохо, и он умер. Случилось это тихим погожим вечером в начале июня. На набережной Лангелиние уже цвели кусты сирени и акации. Около половины восьмого он вышел из дому на улице Классенгаде, где он жил, чтобы совершить свой обычный моцион по Лангелиние. В половине девятого жена всегда подавала ему чай. Но в этот вечер он не вернулся домой к чаю. Ему не пришлось больше увидеть жену. В последний раз он спустился по лестнице, не подозревая, что ему никогда больше не придется считать кафельные плитки на стенах и вдыхать неповторимые запахи родного дома.
Было тепло, однако еще не настолько, чтобы он отважился выйти без пальто. Но теплый шарф он оставил дома. У яхт-клуба он сел на свою излюбленную скамью и стал смотреть на море и людей, прогуливавшихся по набережной. Он знал в лицо большинство обитателей Эстербро и помнил, кто они и чем занимаются.
На воде пестрели яхты, флаги, вымпелы, гоночные лодки и катера. А по набережной прогуливались девушки и коротких летних платьях, открывавших их стройные ноги. Он смотрел на девушек сквозь очки в золотой оправе и думал, что в такой легкой одежде не мудрено простудиться. Видно, люди никогда не научатся уму-разуму. Смотрел он и на гребцов в длинных узких лодочках, по команде рулевого налегавших на весла. Полуголые, волосатые. «Ну, разве не безумие в такое время года заниматься греблей на море, раздевшись чуть не догола? Не миновать им воспаления легких. Так рисковать жизнью!» Он не подозревал, что его собственная жизнь оборвется через несколько часов.
С досадой смотрел он на маленькие катера, которые тарахтели, удаляясь от берега по синей морской глади. «Сразу видно, что они недопустимо перегружены. И, уж конечно, на всех пассажиров не хватит спасательных поясов. Ведь это же просто безобразие! Вот когда несчастье случится, здесь понастроят всяких спасательных станций. А пока никто и в ус не дует. У нас всегда так».
Ему показалось, что у воды становится свежо. Он даже пожалел, что не надел шерстяного шарфа. Он откашлялся и вынул из кармана маленькую овальную жестяную коробочку с леденцами. Выбрал хорошенькую, ровную, квадратную конфетку и сунул ее в рот.
Он сразу заметил, что у конфеты горьковатый привкус. Но у леденцов бывает иногда вначале такой привкус, а потом он проходит. Он принялся энергично сосать конфету, перевернул ее языком и, наконец, разгрыз, хотя вообще никогда не разгрызал леденцов. Этот поступок привел к роковым последствиям. Горечь во рту усилилась. У конфеты оказался металлический привкус, точно он взял в рот не леденец, а жестяную коробку. Тогда он решил пожертвовать конфетой, выплюнул ее и взял другую, которая на вкус была самой обыкновенной.
У него начался легкий озноб, и он поднялся, собираясь уйти. Но тут ему стало не по себе. Холодная дрожь. Тошнота. Второй леденец теперь тоже стал горчить, и его тоже пришлось выплюнуть. На лбу у пожилого человека выступил холодный пот, в животе появились рези. Очки запотели, и вся Лангслиние подернулась туманом. Гавань и набережная, изгородь из терновника и кусты сирени, флаги, велосипеды и гребцы — все завертелось колесом. Он схватился рукой за дерево. Люди смотрели на прилично одетого господина в золотых очках, с бородкой клинышком и удивлялись, где он ухитрился так напиться. Собралась толпа. Появился полицейский в белых перчатках.
— В чем дело? Идите-ка лучше домой да проспитесь!
Но тут полицейский понял, что человек не пьян, а болен.
— Я живу на Классенгаде... дом сорок четыре... Мне надо домой...
Но домой он так и не вернулся. На губах у него выступила пена, начались судороги. Полицейский подхватил умирающего под руки и послал одного из зевак вызвать «Скорую помощь».
— Эго леденец... По-моему, леденец... он был горький, — твердил больной в карете «Скорой помощи».
Полицейский обратил внимание на эти слова и упомянул их в донесении.
Пожилого человека в золотых очках привезли в городскую больницу, где немного погодя он скончался. Последними внятными словами умирающего была какая-то жалоба на леденцы и фраза: «Agnosco fortunam Carthaginis», которую врач, сведущий в латыни, перевел следующим образом: «Теперь я познал судьбу Карфагена».
Глава 2
В кармане умершего нашли документы, из которых следовало, что покойный — лектор9 К. Бломме, шестидесяти трех лет, проживающий по улице Классенгаде 44. Полиция уведомила его жену о несчастье, а затем были проделаны все формальности, обязательные в подобных случаях.
Врачи констатировали, что смерть наступила от отравления, вызванного каким-то алкалоидом, который воздействовал на моторные центры нервной системы, что привело к параличу. В результате полного поражения дыхательных мышц наступила смерть от удушья.
При вскрытии в желудке умершего был обнаружен стрихнин. Ввиду необычных обстоятельств дела им заинтересовалась уголовная полиция. Началось расследование. Вспомнили слова Бломме о леденцах. В кармане пиджаки покойного нашли жестяную овальную коробочку с оставшимися там леденцами. Ее открыли с помощью стерильных инструментов. Осторожные руки в резиновых перчатках рассортировали леденцы. Жестяная коробочка, крышка и каждая конфета были подвергнуты тщательному химическому анализу, изучены под микроскопом, просвечены рентгеновскими лучами. Но ни в одном из леденцов стрихнина найдено не было. Спектральный анализ коробочки и леденцов тоже не дал никаких результатов.
Удалось установить, где лектор Бломме купил злосчастные леденцы, или солодовые драже, как их именуют официально. Весь магазин перерыли снизу доверху. Хозяина и продавщицу подвергли чуть ли не химическому анализу. Ни следа стрихнина. Расследование продолжалось на конфетной фабрике, на фабрике жестяных изделий и потом пошло по самым невероятным каналам, но стрихнина так и не обнаружили.
Не оказалось стрихнина и на квартире лектора Бломме. Судя по всему, покойный никогда не интересовался ядами, разве что о них упоминалось в истории римских цезарей. Его книжная полка была заставлена произведениями Светония, Тацита, Ювенала, Петрония, и безобидный лектор имел возможность наслаждаться чтением рассказов о чудовищных злодеяниях на языке, которого не понимала его семья.
Маленький кроткий человек в золотых очках, с бородкой клинышком. Скромный, непритязательный, привыкший к размеренному образу жизни. Человек, получивший классическое образование: в его квартире стояло много копий античных статуй. По воскресеньям он ходил с семьей в Музей искусств и объяснял жене и дочерям, кого изображают гипсовые бюсты. Вечером он любил пройтись по Лангелиние. Он добросовестно преподавал своим ученикам латинскую грамматику. Он тщательно оберегал свое хилое здоровье. Его единственной слабостью было пристрастие к леденцам. Вечерами он сидел в своей комнатушке па улице Классенгаде и читал по-латыни римских историков. Латинский язык открывал перед ним совершенно особый мир. Мир Калигулы, Нерона, Мессалины. Мир интриг, отравлений и чудовищных пороков.
Но стрихнина он в квартире не хранил. Не было никаких оснований предполагать, что лектор сам положил яд в один из леденцов или вообще намеревался покончить с собой. И никого нельзя было заподозрить в покушении на его жизнь.
Вдова оплакивала его смерть. Три взрослые дочери тоже. Коллеги и знакомые выражали искреннее соболезнование. У покойного не было долгов. У него не было тайных любовных связей или разорительных пороков. Он не таил честолюбивых замыслов. Ему не грозили ни шантаж, ни денежные вымогательства, ни ростовщики.
Его смерть на Лангелиние была загадочна и необъяснима. Самое тщательное полицейское расследование не пролило на нее свет. И тело лектора Бломме было предано земле.
Глава 3
Через много лет после смерти лектора Бломме в одном из копенгагенских домов собралась группа людей. Был тихий погожий июньский вечер, кусты сирени и акации цвели точно так же, как и в то лето.
Гости поднимались по лестнице, покрытой красной дорожкой, и оставляли в прихожей пальто, шарфы и зонты. Кое-кому приходилось снимать и калоши. Погода стояла безоблачная, но эти люди берегли свое здоровье.
Большинство гостей приехали на своих машинах. Некоторые приехали на трамвае. Один пришел пешком.
Они съехались со всех концов страны, чтобы встретиться в этот летний вечер, хотя, собственно говоря, ничего не знали друг о друге. Они расстались много лет назад и сильно переменились за истекшие годы. Они обзавелись очками, животами и усами. Они полысели и поседели. Одни стали худыми и костлявыми, другие потолстели и обрюзгли.
Они изменились до неузнаваемости.
Они сердечно трясли друг другу руки, так что позвякивали запонки на манжетах. Они говорили друг другу «ты», слегка смущаясь, потому что не узнавали друг друга, и им приходилось прежде всего называть себя.
Всем им было по сорок три года. Мужчины в расцвете лет. Зрелые, опытные мужи, полные сил и энергии. Люди с солидным положением, облеченные ответственностью и властью. Занятые люди, которым дорога каждая минута. Им пришлось отложить много важных дел, чтобы встретиться в этот вечер.
Прибывшие были одеты по-праздничному. Фраки с иголочки, белоснежные манишки. Кое у кого орденские ленточки в петлицах.
Только один явился в будничном пиджаке. В потертом до блеска пиджаке с чересчур короткими рукавами и в чересчур коротких брюках. На нем был какой-то диковинный, длинный, скрученный жгутом красный галстук и чудные ботинки со стоптанными подметками. У него были длинные волосы и черная борода. Он угрюмо приветствовал остальных, близоруко разглядывая их сквозь маленькие старомодные очки. Он не был похож на других гостей. Но он попал сюда не случайно. Все настаивали, чтобы он непременно присутствовал на этой встрече. И его встретили дружелюбно и сердечно, всячески оберегая от возможных оскорблений со стороны лакеев.
Гостиная была обита розовым штофом. Золоченые бра разливали бронзовый свет. Убранство гостиной сочетало домашний уют со светской изысканностью.
В соседней комнате стоял накрытый стол, украшенный свечами, цветами, Даннеброгом и искусно сложенными салфетками. Метрдотель кружил вокруг стола, проверяя, все ли в порядке.
Собравшиеся угощали друг друга сигарами и стряхивали пепел в затейливые фарфоровые и фаянсовые пепельницы, расписанные библейскими сюжетами. Они смеялись, вспоминая старые времена и старые проказы, и говорили на том особом жаргоне, который, точно язык масонов, понятен только посвященным.
Члены юбилейного комитета все время хлопотали, обходили собравшихся с подписными листами и время от времени бросались встречать новых гостей.
Наконец все были в сборе. Девятнадцать человек. Адвокаты, врачи, ученые, дельцы, педагоги, судья, священник, офицер.
И среди них убийца. Человек, который много лет тому назад положил яд в леденец лектора Бломме.
Глава 4
В больнице начинается утренний обход. Торжественная церемония смотра, которая повторяется изо дня в день с удивительной точностью.
Главный врач, окруженный своим штабом, делает первый шаг вперед, и вся процессия трогается следом за ним по коридорам больницы. От отделения к отделению несутся звонки, предупреждающие о начале смотра, чтобы к торжественной минуте все были в полной боевой готовности.
Сестры в отглаженных халатах стоят навытяжку. Молодые практиканты-фельдшера замерли по стойке «смирно». Лежачие больные силятся вытянуть руки по швам. Простыни расправлены, коврики выровнены в одну линию. Нигде ни морщинки, все соответствует инструкции. В эти минуты ни один пациент не смеет заикнуться о судне. Крепись, пока не кончится смотр. Умирать в торжественный час обхода больным также строжайше запрещено.
Лицо главного врача преисполнено спокойствия и достоинства. В бытность свою молодым кандидатом, он тщательно изучал выражение лица своего предшественника и знает, что молодые кандидаты, участвующие в теперешних смотрах, тоже, не отрываясь, следят за ним. Одну руку он держит в кармане халата, другой делает едва заметные движения, которым внимают и повинуются сестры и весь вышколенный персонал.
Ни один больной не смеет обращаться непосредственно к главному врачу. Вопросы и ответы передаются промежуточными инстанциями. Это приводит к недоразумениям, но любая попытка их исправить считается величайшей бестактностью.
Фамилия главного врача Торсен. Однако главного врача не подобает называть по фамилии. Воспитанные пациенты знают, что его нельзя называть также «господин доктор», или просто «доктор», и вообще обращаться к нему во втором лице. В разговоре с главным врачом местоимение «вы» исключается. Обращаетесь ли вы к нему самому или упоминаете о нем, вы должны титуловать его не иначе, как «господин главный врач». Нарушение этикета может привести к очень неприятным последствиям.
Закончив обход, главный врач покидает больницу. Гипноз в палатах рассеивается. Не в силах больше крепиться, желудочные больные лихорадочно дергают звонки, и практиканты мечутся, подавая судна.
Но трудовой день главного врача еще не окончен. Машина мчит доктора Торсена в частную клинику, где его ждут другие пациенты. У них те же недуги, что и у больничных пациентов. Лечат их теми же лекарствами. Но этикет и формы обращения здесь другие. Тут допускается местоимение «вы». И лицо главного врача становится более приветливым, словно он разговаривает с людьми своего круга.
День главного врача Торсена насыщен до отказа. Он еще и профессор, он читает лекции студентам. Ему не подобает проявлять признаков усталости. Он должен читать живо, сдабривая науку анекдотами, и студенты внимательно слушают его, встречая каждую остроту угодливыми смешками.
Кроме того, главный врач ведет еще и частную практику, которая требует времени, терпения, длительных бесед и большого такта. Тут у него появляется совсем особое выражение лица. «Самое важное — доверие к врачу», — заявил в одном из интервью профессор Торсен. Порой бывает очень полезно, взяв пациента за руки, заглянуть ему в глаза сочувственным, проникновенным взглядом. Ведь врач — это друг, которому можно излить душу. Исповедник, которому можно довериться.
Наконец, общественная деятельность и почетные обязанности. Заседания, конгрессы, лекции, Союз врачей, редактирование еженедельника, газетная полемика и прочее и прочее. Кроме того, у врача есть еще и личная жизнь: жена, дети, знакомые.
Быть может, и одна только деятельность главного врача могла бы целиком заполнить человеческую жизнь. Быть может, профессору Торсену суждена безвременная смерть от переутомления. Но все его обязанности совершенно добровольны. В них — залог его успеха и богатства. Профессор считается знаменитостью. Коллеги восхищаются им и завидуют ему.
Он еще молод. Ему сорок три года. Он один из девятнадцати участников торжества, встретившихся в июньский вечер.
В этот тихий погожий летний вечер на набережной Лангелиние цветут кусты сирени и акации, как много лет назад, когда в больницу был доставлен пожилой учитель, который умер, потому что проглотил отравленный леденец.
Глава 5
Насильника и альфонса приговорили к пяти годам тюрьмы. Этот тупой наглец заявил, что его устраивает приговор, и отвесил дрожащему судье преувеличенно вежливый поклон. Репортеры не преминули потом отметить, что, когда преступника выводили из зала суда, он развязно улыбался публике. Напомаженный, рыхлый субъект в пиджаке с подложенными плечами.
— Поистине преступный тип, — говорит секретарю судья Эллерстрем.
Судье Эллерстрему сорок три года. Он очень высокий, длиннолицый, со светлыми, зачесанными кверху волосами и маленькими усиками.
Судья отмеряет сроки наказания, сообразуясь с уголовным кодексом, и диктует приговоры слабым, неуверенным голосом. Его длинные пальцы нервно теребят карандаш. Он никогда не знает, куда девать руки. Но ногтей он больше не грызет. От этого его отучила мать.
— Теперь ты судья и должен избавиться от этой безобразной привычки, — сказала она. — Недоставало еще, чтобы судья кусал ногти во время процесса! Что подумают преступники?
Судья проявил силу воли и, следуя материнским наставлениям, поборол дурную привычку.
Мать Эллерстрема занимает большую квартиру в районе Восточного вокзала. Она развелась с мужем, когда Эдвард Эллерстрем еще ходил в матросской курточке и коротких носочках. Сын остался у матери. Он и теперь не расстается с ней. Мать холит и лелеет его, оберегая от дурного влияния. Она трогательно печется о его здоровье н благополучии: «Теперь пора обедать, а теперь время отдохнуть, я приготовила тебе чистое белье и носовой платок».
Мать с сыном связывает трогательная любовь. Прохожие провожают их благосклонными взглядами, когда они совершают вечернюю прогулку по набережной Лангелиние. Фру Эллерстрем — тучная маленькая женщина, и сын слегка наклоняется вперед, чтобы ей удобней было опираться на его руку.
Судья рассказывает матери об очередном судебном заседании и о странных личностях, которых ему приходится наблюдать по другую сторону барьера. Вроде сегодняшнего альфонса и насильника. Страшный тип. Такой на все способен.
— Какой ужас! — говорит мать. — Только бы кто-нибудь из них не набросился на тебя. Умоляю тебя, Эдвард, будь осторожен! Не подходи к ним слишком близко!
— Не волнуйся, мама. Между нами барьер. И полицейские. Я в полной безопасности. Впрочем, мне рассказывали, что однажды преступник напал на судью зале заседаний.
Но Эдвард не из тех, кого можно запугать, и фру Эллерстрем восхищается мужеством сына и трепещет от страха при мысли об опасностях, сопряженных с его должностью. А он поддразнивает ее, расписывая, на что способен преступник.
Быть может, Эдварду Эллерстрему трудно понять, что такое альфонс. Но зато у него есть диплом, и он знает законы. Семь лет подряд он слушал лекции на юридическом факультете. Репетиторы натренировали его память и выучили его разнообразным мнемоническим приемам. Он прекрасно знает, какое наказание полагается альфонсу и насильнику, а если он и забудет, то у него всегда под рукой уголовный кодекс.
Эллерстрем посылает проституток в тюрьмы и исправительные заведения. Он выносит приговоры ворам и бандитам. Не потребуете же вы от судьи, чтобы он влез в шкуру бандита?
Но фру Эллерстрем все-таки огорчается, что ее мальчику приходится постоянно сталкиваться со всякими гнусностями. Ведь его с детства окружали только порядочные и благородные люди.
Фру Эллерстрем невдомек, о чем приходится читать ее мальчику в «Ведомостях верховного суда». И тем более ей невдомек, какие странные книги читает он тайком по ночам в постели. Он забирается с головой под перину и читает их при свете карманного фонарика, чтобы мать не заметила света и не застала его врасплох.
Эллерстрему сорок три года, и сегодня вечером он должен встретиться со своими сверстниками.
Горничная положила на кровать накрахмаленную манишку. Фру Эллерстрем повязывает сыну галстук. Ему приходится наклониться, чтобы мать могла дотянуться до его шеи.
— Ой, щекотно! — фыркает он.
— Но я же должна поправить воротничок! — говорит мать.
Небрежно завязанный галстук придает молодому человеку неопрятный вид.
— Ты хорошо вымыл шею? Вот чистый носовой платок! Смотри, не задерживайся слишком поздно. Завтра в девять тебе уже надо быть в суде. Ты ведь знаешь, что должен хорошо выспаться. Иначе у тебя опять разболится голова.
Фру Эллерстрем смачивает одеколоном чистый носовой платок сына.
— Вот твои ботинки. Горничная их почистила. Боже мой, ты, кажется, о них забыл и так и ушел бы в шлепанцах. А ключ от парадного? Не остался ли он в кармане других брюк? Ну хорошо, до свидания, мой мальчик. Веселись и береги себя!
Глава 6
На шоссе выезжает стайка девушек на велосипедах. Все в одинаковых желтых блузках и зеленых галстуках. Стройные и бодрые, они мчатся вперед и напевают:
Будь отважным, бодрым, ловким...
Это МО — новая приходская корпорация, которая со временем станет опасной соперницей спортивного союза, если этот союз вообще достоин упоминания.
«МО — как прекрасно звучит само название!» — пишет в местной «Церковной газете» пастор Неррегор-Ольсен. МО — означает «Молодежный отряд». В него входят девушки, которые готовятся к конфирмации и поэтому не смеют отказать пастору, когда он уговаривает их вступить в отряд. Желтая форма стоит восемь крон. Для хусменов и сельскохозяйственных рабочих расход немалый. Поэтому родители девушек без восторга относятся к МО. Иной раз они просто отказываются платить за форму и не разрешают детям вступать в корпорацию.
Тогда к ним в гости является пасторша и наставляет их на путь истинный. Она приступает к делу откровенно, без обиняков:
— Конечно, МО — союз совершенно добровольный, но раз Анна уже записалась и дала согласие, неудобно, если она вдруг передумает. Человек должен быть хозяином своего слова, а восемь крон — не такая уж большая сумма. Впрочем, если для вас это дорого, можете платить в рассрочку.
Ну как отказать пасторше, которая так любезна и чистосердечна? Владелец спортивного магазина, где продаются желтые блузы, ее зять. Вполне понятно, что она хлопочет о процветании его торговли.
У МО есть своя колонка в «Церковной газете», где печатаются сообщения о собраниях отряда, о кружке кройки и шитья, о базарах, пикниках, летних лагерях и вечерах в великолепной старинной усадьбе священника, где подаются корпоративный кофе и корпоративные баранки. Родителям каждый раз приходитсяпосылать с девушками пастору немного кофе в зернах и домашней сдобы. Гости всего не съедят, но в пасторском хозяйстве ничто не пропадает. Так восславим же господа нашего. Благослови, боже, наш отряд!
С появлением нового пастора в приход проникли новые веяния. Дух инициативы и предприимчивости. По воскресеньям члены МО устраивают шествие к одной из трех церквей. Приятно смотреть, как молодежь марширует к храму божьему. Подтянутые, пышущие здоровьем, они входят и рассаживаются на скамьях рядом с пожилыми прихожанами.
Конечно, без борьбы дело не обходится. Равнодушие. Непонимание. А кое-где и просто сопротивление. Но пастор уверен в успехе. Именитые прихожане поддерживают его нововведения. Помещики и богатые крестьяне пожертвовали чуть ли не по десяти крон на «Церковную газету», и двери их домов всегда открыты для пастора Неррегор-Ольсена.
Сам пастор Неррегор-Ольсен тоже гостеприимный хозяин. Комнат в доме много, есть где принять гостей. Да и средств на это хватает. Жена принесла пастору хорошее приданое. Он может жить на широкую ногу, как приличествует людям его круга.
В пасторской усадьбе собираются не только члены МО, которые проводят свой досуг в песнопениях, молитвах и гимнастических упражнениях под музыку. Не только дамы, состоящие в кружке кройки и шитья, заполняют гостиную пасторского дома, вознося хвалу господу или распивая кофе с принесенными из дома кренделями. Здесь собирается иной раз куда более избранное общество. У пастора бывают превосходные званые обеды, на которые съезжается в сверкающих автомобилях вся приходская знать. Пасторские приемы славятся отменным угощением, подогретым красным вином, старым хересом, крепкими сигарами и изысканной беседой.
Пастор Неррегор-Ольсен — священник современного склада. Не чета допотопным священнослужителям в круглых шапочках, с длинными прокуренными трубками и душеспасительными речами. Это статный и бравый мужчина, талантливый организатор, полный энергии и предприимчивости в духе времени.
Дом пастора прекрасно обставлен: все отвечает требованиям вкуса и современного комфорта. Горничная в черной юбке, белой наколке и белом переднике. В тоне хозяев — сдержанная благовоспитанность, которая сразу ставит на место навязчивых плебеев.
Пастору Неррегор-Ольсену сорок три года.
— Пожалуй, вечером, когда поеду в город, надену добрую старую студенческую шапочку, — говорит пастор и достает шапочку с книжного шкафа.
Пастор надевает ее, когда совершает прогулки по окрестностям пешком или на велосипеде. Она придает ему молодцеватый, бодрый вид. Впрочем, пастор еще молод. И вдобавок спортсмен. Право же, священнику совсем не обязательно быть рохлей.
Натянув шапочку на голову, пастор запевает громким, звучным голосом, который отдается во всех комнатах большого дома:
Во храме мудрости студент живет, забот не зная —
тра-ла-ла-ла-ла...
— Да ведь шапка вся в пыли, надо ее сначала почистить, — говорит пасторша и зовет горничную.
А пастор продолжает петь:
Den Burschenhut bedeckt der Staub...10
Дом-дом, дом-дом, домме!
О jerum, jerum, jerum, о quae mutatio rerum!11
Жена смеется:
— Шалун!
Дети тоже смеются. А отец продолжает:
Коль ты воистину студент...
— Ты и в самом деле настоящий студент, — замечает жена.
— Надеюсь, — говорит пастор. — Эх, приятно повидать старых друзей! Я от всей души радуюсь предстоящей встрече!
Пастор надевает фрак, лакированные ботинки и, выбрав в саду розу, втыкает ее в петлицу. Потом, напевая, заводит машину и катит из своего отдаленного прихода на встречу друзей в Копенгаген.
Глава 7
В университетской столовой в переулке Студиестреде сидит человек по имени Микаэль Могенсен.
Он сидит здесь уже двадцать пять лет. У него постоянное место в углу у стойки, где разливают кофе. Через окно, выходящее в переулок Санкт-Педерстреде, ему всегда видны часы на церковной башне, которые подтверждают, что в окружающем мире время по-прежнему течет своим чередом.
Все новые группы студентов приходят в столовую пить кофе и есть бутерброды. Они смотрят на Микаэля Могенсена даже с некоторым почтением и никогда не занимают его места в углу у стойки. Студенты сдают выпускные экзамены, на их место приходят другие, пьют кофе и едят бутерброды. Но никто не представляет себе столовую без Микаэля Могенсена. Он местный старейшина. Быть может, когда-то и он посещал университет. Перед ним до сих пор всегда лежит стопка книг. Но никто не видел его на лекциях. У него длинные волосы, черная борода и маленькие старомодные очки в металлической оправе. От всей его фигуры веет спокойным достоинством.
Каждой осенью появляются новые студенты, а старые исчезают. Облик завсегдатаев столовой меняется.
Один только Микаэль Могенсен по-прежнему восседает на своем месте в углу у окна. Всегда одинаковый, как бы забытый временем. Он пьет кофе и следит за стрелками часов на церковной башне.
Разумеется, ночует он где-то в другом месте. Но жизнь его протекает в столовой, и если бы кто-нибудь вздумал встретиться с ним, он должен был бы искать его именно здесь.
И вот кому-то действительно понадобилось увидеть Могенсена.
Однажды в полдень в столовой появились два господина с портфелями, члены некоего комитета. Они приблизились к столику Микаэля Могенсена.
— Столик занят, господа, — заявил Могенсен. — Я люблю пить кофе в одиночестве и желал бы быть избавленным от необходимости слушать болтовню, а может быть, и чавканье посторонних людей.
— Да мы же не посторонние, Могенсен! Неужели ты нас не узнаешь?
Могенсен близоруко взглянул па посетителей сквозь свои маленькие очки.
— Не имею удовольствия, господа. Не припоминаю также, чтобы я имел честь пить с вами на брудершафт, и поэтому, если мои собеседники настаивают на продолжении беседы, предпочитаю, чтобы они употребляли при обращении форму второго лица множественного числа, принятую у благовоспитанных людей.
Посетители рассмеялись.
— Ты все тот же! Такой же чудак! Неужто ты нас и вправду не узнаешь? Это Горн — Гаральд Горн. А я Кнуд Иоргенсен.
— Ах, вот что! — сказал Могенсен. — Ну что ж, прошу садиться. Вас нелегко узнать, господа! Обзавелись животиком, Иоргенсен? А знаменитый литератор потерял свою шевелюру? Я иногда читаю ваши статейки в «Моргенбладет», Горн. Слабовато. На уровне сочинений первого ученика. Но старательно, ничего не скажешь...
Посетители рассмеялись. Смех покрасневшего Гаральда Горна прозвучал несколько принужденно.
— А на каком поприще подвизаешься ты, Иоргенсен? Судя по размерам живота, трудом себя не изнуряешь?
— Управляю государством, — ответил Йоргенсен. — Занимаю скромную должность начальника одного из отделов Министерства внутренних дел.
— Что ж, это тебе как раз по плечу, не то что Горну, литературная деятельность! Мне случилось как-то перелистать вашу докторскую диссертацию, Горн, — «Наречия в «Посланиях» Хольберга»12. Увлекательная тема. Весьма важная и животрепещущая.
— Надеюсь, что моя диссертация принесет некоторую пользу, если мне удалось в ней доказать истинно датский характер творчества Хольберга, — ответил Горн.
— Разумеется. Не щадя живота своего, отстоим во славу божию датский дух хольберговских наречий! История нашей литературы, несомненно, улучшится, если сохранит свою национальную чистоту! Полагаю, что поборнику национальной литературы платят больше, нежели начальнику отдела?
— Еще бы! — ответил начальник отдела.
— А может, ты разрешишь поборнику национальной литературы предложить тебе чашку кофе или кружку пива? — примирительно спросил Горн.
— Спасибо. Лучше кофе.
— С пирожным?
— Спасибо. С бисквитным. Еще лучше так называемую «медаль». Она круглая, с кремом, а сверху квадратный кусочек мармелада. Впрочем, он раз от разу становится меньше.
— Знаешь ли ты, Могенсен, что нынче исполняется двадцать пять лет, как ты сидишь на этом стуле?
— Спасибо, мне это известно.
Могенсен посмотрел на часы церкви Святого Петра, которые много лет отмеряли для него время. Он рассчитывал просидеть на этом стуле еще по крайней мере лет двадцать пять. Могенсен не подозревал, что четыре года спустя ему предстоит умереть необычной и страшной смертью. Но это уже другая история.
— В общем ты в этом году юбиляр, — продолжал Иоргенсен. — Да и все мы юбиляры. Поэтому-то мы и пришли. Мы решили торжественно отпраздновать двадцатипятилетие со дня сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Будет очень досадно, если ты не захочешь принять участие в торжестве.
— Экзамен на аттестат зрелости не кажется мне событием, заслуживающим, чтобы его отмечали торжественным празднеством. А школьные воспоминания тем более не доставляют мне ни малейшего удовольствия.
— Гм... да, но, видишь ли, если бы не экзамен на аттестат зрелости, ты не попал бы в эту столовую. А потом разве тебе не хочется встретить своих одноклассников и посмотреть, какими они стали?
— Полагаю, что это весьма печальное зрелище.
— Ну, не упрямься же, Могенсен. Мы очень хотим, чтобы ты присутствовал на юбилее. Кроме того, тебе представится отличный случай излить свою желчь.
Могенсен воткнул ложку в пирожное и задумчиво положил в рот квадратный кусочек мармелада.
— У меня, кстати, и денег нет на подобные дурацкие затеи, и я не намерен напяливать на себя лакейский наряд...
— Гм, видишь ли, — заметил Йоргенсен, — ты не один, у кого... у кого, так сказать, туговато с деньгами... Поэтому мы... словом, организовали фонд... понимаешь... В общем ты будешь приглашен. Ты не должен обижаться. Правда ведь? Мы просто хотели... Как старые товарищи... Правда ведь?
— Благородная идея, изложенная с тактом, достойным чиновника ответственного министерства. Вы намерены организовать даровое питание для бедных. Только ты напрасно так смущенно краснеешь и ерзаешь, внося столь бескорыстное предложение.
— Слушай, перестань наконец!.. Значит, можно рассчитывать, что ты придешь на нашу встречу?
— Я подумаю.
— Нет. Думать некогда. Сегодня мы заказываем приборы. Черт побери, Могенсен, ты обязательно должен прийти. Мы не можем без тебя.
— Так или иначе, я не намерен рядиться в кельнерский наряд. У меня, кстати, и нет этой блистательной формы. Впрочем, может быть, вы учредили фонд помощи беднякам, желающим взять фрачную пару напрокат?
— Это легко устроить. Я даже знаю такое заведение на улице Готхерсгаде, где можно...
— Спасибо. Обойдусь. Я не расположен разыгрывать шута, наряжаясь как чучело. Если уж вы так настаиваете, чтобы я явился на ваше торжество, я приду в своей обычной одежде.
— Это не имеет никакого значения. Приходи в чем хочешь. Лишь бы ты пришел.
— Ладно, согласен. Заходите за мной перед закрытием столовой.
— Да ты сам найдешь дорогу. Это на улице...
— Географические открытия меня не прельщают.
— Ну хорошо, мы зайдем.
Посетители, откланявшись, покинули столовую, а Могенсен направился к стойке, чтобы получить еще одну чашку кофе.
Глава 8
Кто-кто, а адъюнкт13 Аксель Нильсен имел право отпраздновать двадцатипятилетие со дня окончания школы.
Он служил теперь в той же самой школе, где когда-то получил аттестат зрелости. Он, как и четверть века назад, приходил каждое утро на занятия немного раньше девяти, как в былые годы, боялся опоздать н но-прежнему питал безграничное почтение к ректору14.
Вся его жизнь была постоянным хождением в школу. Он теперь очень смутно помнил, что было время, когда он не посещал школы. Какие-то стершиеся воспоминания о далеком-далеком дошкольном прошлом. Аксель играл тогда во дворе на улице Нерребро. Вместе с ним играли другие ребятишки. Тогда Аксель еще не знал, что они хуже его.
У отца Акселя, преуспевающего ремесленника, были средства, чтобы дать сыну хорошее образование. Маленькие приятели Акселя, с которыми он играл во дворе на Нерребро, были детьми рабочих. Классовое различие впервые дало себя знать, когда дети пошли учиться. Товарищи Акселя поступили в обычную городскую школу, а сам он — в платное учебное заведение. Между ними пролегла черта.
Аксель проучился в школе двенадцать лет. Он был прилежным и старательным учеником, его хвалили, и родители гордились успехами сына. Первые пять лет прошли в начальной школе. Потом, выдержав трудный экзамен, Аксель перешел в школу следующей ступени: первые четыре года посещал среднюю школу, а последующие три — гимназию. При этом Аксель неизменно оставался прилежным и способным учеником и после окончания даже получил «Премию за усердие».
Но двенадцать лет сидения в школе — долгий срок. Когда сверстники Акселя, товарищи его детских игр, стали самостоятельными людьми, зарабатывающими себе на жизнь, он все еще оставался школьником. Кончив работу, они шли в трактир, а он зубрил домашние задания. Они получали жалованье, ухаживали за девушками и обручались с ними, а он отсиживал в школе после уроков за какую-нибудь провинность. Они выступали на собраниях, устраивали стачки, политические митинги, а Аксель дрожал из-за плохой отметки в дневнике, который должны были подписать родители. Его ровесники сходились со своими подругами, а он, сидя на уроке, слушал учителя естественной истории, который на схеме опыления цветка пытался деликатно разъяснить гимназистам третьего класса тайну зарождения жизни.
Потом Аксель сдал экзамены на аттестат зрелости. Сдал на «отлично». Летним утром после целой ночи зубрежки, страхов и нервного поноса.
Школярство продолжалось в университете. Аксель по-прежнему зубрил лекции под наблюдением любящих родителей, которые жертвовали всем ради того, чтобы сын вышел в люди и стал более образованным и ученым, чем они сами.
Бывшие товарищи работали, обзаводились женами и детьми. Вели трудную борьбу за существование. Вступали в профсоюзы, участвовали в борьбе за повышение заработной платы. Занимались политикой.
Родители разрешили Акселю ходить по субботам на собрания студенческого союза. Любящий отец выдавал ему две кроны, чтобы он мог развлечься после лекций: хочешь — выпей кружку пива, хочешь — угости девушку чаем. Акселю даже позволили курить. В университете профессор медицины читал лекции первокурсникам. Он говорил о чистоте и воздержании. Советовал обуздывать плотские порывы до сдачи выпускных экзаменов, до тех пор, пока в жизнь учащегося индивида не войдет первая и единственная избранница. Лучшие средства обуздания плоти — работа и гимнастика. Особенно гимнастика. Если ночью вас преследуют эротические сны или греховные мысли, встаньте, сделайте холодное обтирание, и вам сразу станет легче.
Каждую весну, когда в парках цвели кусты сирени и акации, для Акселя наступали дни зубрежки и страха перед экзаменами. Нужно было запомнить множество дат. Когда родился и умер такой-то писатель. Когда было написано и вышло в свет такое-то произведение.
Акселю очень хотелось самому стать писателем. Оп заполнял стихами тетради для сочинений. Писал потихоньку, тайком от родителей. Но стихами не проживешь. Hа всякий случай надо приобрести специальность, которая обеспечит тебя куском хлеба на черный день.
Ну что ж, тогда можно заняться изучением поэзии, литературы. Литературовед, критик, специалист по эстетике — это нечто родственное поэту. Можно защитить кандидатскую и докторскую диссертации. Стать ученым, как одноклассник Акселя Гаральд Горн.
Но из этого тоже ничего не вышло.
— Пусть лучше Аксель станет педагогом, — решили родители.
— Экзамен на школьного учителя — дело куда более верное, — в один голос поддержали их родственники. — А потом Аксель может заняться литературоведением. Зато на всякий случай у него будет настоящая специальность.
Но когда человек приобретает специальность на всякий случай, случай не заставляет себя долго ждать.
В экзамен на звание школьного учителя входят три предмета. Аксель выбрал датский, немецкий языки и историю, потому что все эти предметы как-то соприкасаются с эстетикой и историей культуры. Но прежде всего ему пришлось изучать хронологию, спряжения, склонения, грамматические упражнения, историю языка и фонетику.
Конечно, Аксель изучал и литературу. Он зубрил любовные стихи с комментариями, пояснениями, примечаниями и толкованием текста. Знал наперечет всех женщин, которых любил Гете. Слушал лекции об эпохе «Бури и натиска» и романтизме. Помнил наизусть имена всех жен Генриха VIII и любовниц Христиана IV.
Во время лекций он тоскливо смотрел на студентку, которая ему нравилась и которая тоже готовилась в будущем стать школьной учительницей.
В положенное время Аксель сдал выпускной экзамен. Дома на Нерребро устроили маленькое пиршество. Все родственники прислали цветы и поздравительные телеграммы.
Потом еще один маленький экзамен по предмету, который называется педагогикой, и образование Акселя закончено. Теперь он стал достаточно опытным и зрелым человеком, чтобы воспитывать новые поколения и вести их вперед сквозь длинную череду экзаменов.
И вот, наконец, Аксель получил место, начал зарабатывать деньги и зажил самостоятельной жизнью. Наконец-то он мог вернуть хоть частицу долга любящим родителям, которые стольким для него пожертвовали.
Он снова начал посещать уроки, теперь уже как адъюнкт той школы, где когда-то учился.
Потом он скопил деньги и женился на первой и единственной избраннице. На той самой студентке, которую он много лет любил издали и которая теперь стала такой же зрелой и опытной особой, как он сам. А еще через несколько лет дело у них зашло так далеко, что она родила ребенка. Ей пришлось расстаться с работой, ради которой она сдала столько экзаменов.
Аксель продолжал ходить в школу.
Теперь Акселю Нильсену было сорок три года. Он искренне радовался предстоящей встрече с одноклассниками, с которыми его связывало столько общих воспоминаний.
Глава 9
Для участия в юбилейном торжестве в Копенгаген из Скерна выехал полицмейстер. Вспыльчивый, раздражительный человек, то и дело затевавший в поезде ссоры и скандалы с попутчиками.
Быть может, ему осточертел отдаленный приход, где он служил. А может быть, в Скерне не зря ходили слухи, что он алкоголик.
Так или иначе, но и он спешил на празднество. Спешил увидеть товарищей, которых ему очень недоставало и эти долгие годы.
На юбилейной вечеринке были одни мужчины. Его жене туда вход закрыт. Ох, уж эта жена! Ох, уж эта супружеская жизнь! Они стали притчей во языцех всего Скерна. И смех и горе!
— Но я должен терпеть эту гиену, — говаривал полицмейстер, сидя в кабачке «Гармония», где любил играть в карты и пить грог в обществе начальника станции, почтмейстера и доктора.
Когда переезжали на пароме через Большой Бельт, полицмейстер затеял очередную перепалку из-за места у одного из столиков на палубе.
— Место занято, — заявил какой-то коммивояжер. — Я положил на него пальто и чемодан.
— Меня это не касается, — ответил полицмейстер. — Чемодан стоит на полу, а пальто вовсе не доказывает, что здесь кто-то сидит.
— Но я же вам объясняю, что это я положил пальто, — вспыхнул коммивояжер.
— Объясняете? Подумаешь! Можете держать свои объяснения при себе! Слишком много о себе воображаете, милейший!
— Я вам не милейший! — закричал коммивояжер. — Это мое место. Немедленно освободите его!
— Угрожать мне? Мне? Я тебе покажу, молокосос!
— Молокосос?! Я?! Нахал! Убирайся с моего места!
— Ах, так! Оскорбления! Брань! Угрозы применить насилие! Погоди, наглец! — И, схватив трость, полицмейстер начал яростно ею размахивать. — Я тебя проучу, мерзавец!
— Очень досадно, что некоторые люди не умеют культурно вести себя на пароме, — заметила почтенная дама.
Скандал привлек группу зевак. Вдруг какой-то высокий худой господин взволнованно крикнул полицмейстеру:
— Рольд! Рольд! Ты с ума сошел! Перестань! Иди сюда! — Протиснувшись сквозь толпу, он схватил обезумевшего от ярости полицмейстера за руку. — Да опусти ты, наконец, трость! Опомнись! Неужели ты не узнаешь меня, старина?
С большим трудом, несмотря па протесты и сопротивление полицмейстера, высокий господин увлек его с поля битвы.
— Ладно! Хорошо! Это тебе даром не пройдет! — рычал им вслед коммивояжер.
— Мужлан! — шипел, отступая, полицмейстер.
— Пойдем в салон, ты там покуришь и успокоишься, — уговаривал высокий господин. — Отчего ты так разбушевался?
— Я вовсе не разбушевался, — объявил Рольд. — Я был совершенно спокоен. Совершенно. Но я не потерплю, чтобы надо мной издевались. Я не позволю мужичью помыкать собой.
— Ладно, хватит, садись на этот диван. Здесь гораздо удобней, чем на палубе. Рассказывай, как ты живешь.
— Уф, да! Здравствуй! Здравствуй, Гернильд! Я рад встретить порядочного человека среди этого мужичья. Вот тебе прелести демократии: терпи хамство и наглость всякого сброда!
— Ну, рассказывай, как дела. Что у тебя в Скерне? Ты, конечно, на юбилей?
— Ну, конечно! Мечтаю повидать образованных людей! Уф! Ты спрашиваешь, что в Скерне? Гм, как тебе сказать? Хорошо. Все нормально.
— А жена? Как она поживает?
— Прекрасно! Отлично! Всегда всем довольна. Превосходная женщина. Прямо скажу, превосходная... А ты пo-прежнему холостяк?
— Да, все еще. Хотя мне уже сорок три. Ох, как время бежит!
— А живешь, как и раньше, в Хольстебро?
— Да, в Хольстебро, на реке Сторо.
— По-прежнему судебный исполнитель?
— Да.
— Работы много?
— Хватает. Описи, арест имущества. Я это дело люблю. У нас в Хольстебро очень приличная публика.
Приятели заказали по чашке кофе.
— А как насчет коньяку? — предложил полицмейстер.
— Спасибо, я не пью коньяка, — ответил судебный исполнитель. — Предпочитаю слоеные пирожки. Они здесь великолепны.
— Встречаешь кого-нибудь из ребят, Гернильд?
— Редко. Хольстебро все-таки в стороне. Правда, сам я иногда наезжаю в Копенгаген. Тогда захожу к Амстеду.
— A-а! Ну, что он поделывает? Кажется, тоже окончил юридический?
— Да. Служит в военном министерстве. В четырнадцатом отделении. Мы с его женой дальние родственники. Она урожденная Масен. Ее дядя — генерал Масен, двоюродный брат моего дядюшки Бракберга, ф о н Бракберга. Помнишь, у него поместье Мункедаль, в южной Ютландии? Вообще замечательный человек. Отец его был амтман15, дед командовал голштинским полком кирасиров, а прадед получил дворянскую грамоту от Фредерика Пятого.
Рассказывая, Гернильд уписывал слоеный пирожок, а полицмейстер Рольд наслаждался ароматным коньяком. Мало-помалу он пришел в хорошее расположение духа, и ему захотелось пооткровенничать.
Глава 10
— Ты вот спрашивал о моей жене, — начал Рольд. — Вообще-то она ни на что не жалуется. Она, конечно, превосходная женщина. В Скерне все считают, что мы живем душа в душу. Но это не совсем так. Она больна. Очень больна. Дело из рук вон плохо.
— Что с ней?
— Нервы или что-то в этом роде. Трудно сказать. Между нами говоря, она просто ненормальная. Это кошмар. У меня нет больше сил терпеть. Началось с того, что она стала набожной. Ты пойми, я совсем не против религии. Наоборот. Я всегда считал, что общество без религии погибнет. Христианская вера — основа всякой морали. Но жепа впала в крайность. По вечерам стала ходить к миссионерам и прочее в этом духе. Ни с того ни с сего начинала вдруг молиться, кричать и каяться. Страшное дело. Представляешь, каково это мужу? А потом она вдруг убоялась греха и решила вести целомудренную жизнь. Отказалась спать со мной в одной комнате и стала запираться на ночь. Куда это годится? А дальше пошло еще хуже. Она уверовала в злых духов, занялась спиритизмом и к тому же еще пристрастилась к ликеру. Прямо хоть из дому беги. У нас вся мебель ходила ходуном.
— Мебель?
— Ну да, господи прости, они занимались столоверчением. Столы колесили по всему дому. Просто беги куда глаза глядят. Тогда я обратился к Роберту Риге, помнишь, из нашего класса, он теперь врач.
— Какой он врач! Он не получил диплома. Засыпался на первом же экзамене.
— Знаю, слышал. Но потом он все-таки стал врачом где-то в Германии. Сначала массажистом, потом хиропрактиком. А потом, когда в моду вошел этот психоанализ, он занялся им.
— Ого!
— Вот именно «ого»! Знаешь, что такое психоанализ?
— Я видел газеты, которые издают эти психоаналитики. В суде видел. Их конфисковали в киоске. Ну и ну! Там такое понаписано, не перескажешь.
— Вот-вот, а он решил, что это ей поможет. «У нее, — говорит, — комплексы. И торможение». Он стал ее психоанализировать. Сеансы происходят в отдельной комнате. Она не должна мне рассказывать, что они там делают и о чем говорят. Все это окутано покровом тайны. Но платить должен я. А это, черт возьми, стоит кучу денег.
— Да, говорят, это очень дорого.
— Уж поверь мне! Ну и ловкач этот Риге! Его-то ничем не затормозишь.
— Ты так и не узнал, что они там делают во время сеансов?
— Нет, не узнал. Да мне в конце концов все равно, лишь бы это ей помогало.
— А разве не помогает?
— Ничуть. Наоборот. Пожалуй, стало еще хуже.
— Может, вам стоит завести ребенка? Увидишь, она сразу поправится. Многим женщинам это идет на пользу.
— Я уже говорил Риге. Но он заявил, что она слышать не хочет о детях и имеет на это полное право. Ребенок помешает развитию ее индивидуальности.
— Странно!
— Очень странно.
— Ну, а удалось Риге хотя бы отвадить ее от ликера?
— Отвадить от ликера? Что ты! «Если что-нибудь доставляет удовольствие, от этого никогда нe надо отказываться. Тем более ей!» Пусть продолжает. Пусть разматывает клубок до конца. Не надо ей перечить. Пусть ее целый день лежит в постели и тянет ликер. Она любит ликер «Конфетка».
— Да ведь это чудовищно! Неужели ты не выставил Риго за дверь?
— Какое там! Он говорит: «Если прервать курс лечения, она помешается». Ох, и ловкач, я тебе доложу! Он внушает ей бог знает что. Убедил ее, что я садист. Теперь она рассказывает каждому встречному: «Мой муж садист, представляете, каково быть его женой!»
—Господи помилуй! Не лучше ли вам разойтись?
— Что ты! Это совершенно исключено. Развод — неслыханный скандал в Скерне. Я занимаю видное положение и должен заботиться о своей репутации. А то пойдут пересуды. Разведенный полицмейстер — вещь небывалая. Мне придется оставить должность. Да я и сам принципиальный противник разводов. Они ведут к безнравственности. Нет, я должен жить с этой гиеной.
— Но ведь все имеет свой конец. Сколько времени продолжается психоанализ?
— Какой там психоанализ! Теперь о нем уже и речи нет. Теперь они придумали что-то новое, какую-то «вегетативную терапию». По ней надо что-то расслаблять и делать только то, что тебе по вкусу. Если ты себя принуждаешь, возникает торможение. Малейшее насилие над собой причиняет непоправимый вред. Представляешь, какая находка для моей жены! Никакого насилия над собой! Любишь майонез — ешь майонез. «Разматывайте клубок до конца, — учит Риге. — И главное, никакого насилия над собой!»
Наш домашний врач сказал, что жена слишком растолстела. «Надо быть воздержанней в пище», — посоветовал он. «Воздержанней? — заявил Риге. — Это самое вредное. Никогда не надо воздерживаться». И теперь, когда жене хочется майонеза, она посылает горничную в магазин, чтобы та купила ей полфунта, ложится в постель, уписывает его прямо из банки и жиреет день ото дня. Скоро она вообще не сможет подняться. Лежит на перинах и расслабляется. Она всегда была ленива, но теперь ее просто с места не сдвинешь. Приходится держать двух служанок, чтобы за ней ухаживали. Вот у них-то нет времени расслабляться. Весь день хлопочут на кухне. Это не дешево обходится. Совсем не дешево.
— Какой ужас! Да и сам Риге, наверное, дорого обходится?
— Еще бы! Я даже не решусь тебе признаться, сколько ему плачу. А потом его поездки...
— Неужели он ездит из Копенгагена?
— Нет, он живет в Орхусе. У него там вегетативная клиника. Оттуда он и совершает свои объезды. И вот ему надо платить за бензин...
— Ну-ну!
— Он предлагал и мне проделать курс, чтобы избавиться от торможения. «Вдвоем вам будет дешевле стоить, я сделаю скидку», — пообещал он. Только боже меня упаси! Я не хочу избавляться от торможения. Знаешь, я его боюсь. О чем он ни заговорит, все становится вверх ногами. Он во всем видит непристойности. Самые простые вещи, оказывается, имеют неприличный смысл.
— По-моему, все это чепуха.
— Наверное. Но мне от этого не легче. Представляешь, каково жить, когда жена целый день валяется в постели, ест майонез и пьет ликер.
— Неужели она по-настоящему пьет?
— Да, ликер «Конфетка». И заедает майонезом. Ей нравится ликер, потому что он сладкий. Ей нет никакого дела до того, что в нем есть спирт. А Риге говорит: «Не надо ей противоречить. Ликер заменяет ей половую жизнь».
— Чудно это все.
— Кому чудно, а мне хоть плачь! А потом эта история со спальней, которую она по-прежнему запирает. Что мне прикажешь делать? В Скерне «таких» девиц нет. Приходится ездить в Ольборг. А это тоже стоит денег. Для чего же тогда жениться? А как ты устраиваешься в Хольстебро?
Судебный исполнитель залился краской.
— Я... видишь ли, мне... мне это не очень нужно... Я холостяк, а это, видно, дело привычки.
— Хорошо, что я поговорил с тобой, — вздохнул полицмейстер. — На душе становится легче, когда откроешься старому другу. Ну, твое здоровье, старина! Приезжай как-нибудь в Скерн. Чудесный городок! Недавно у нас разбили красивый парк. Жена будет очень рада.
— Спасибо! — поблагодарил Гернильд.
Паром приближался к Корсеру. Пассажиры столпились у сходней. Каждый хотел занять в поезде место получше.
— А ну, тихо! Не напирай! Назад! Ишь, что делают! Безобразие! — покрикивал полицмейстер.
Глава 11
В гостиной, обитой розовым штофом, юбиляры ждали начала праздничной трапезы. Они, смеясь, вспоминали школьные годы и стряхивали пепел в фаянсовые пепельницы, расписанные сюжетами из Библии.
На празднество явилось девятнадцать человек. Немало. Больше, чем можно было рассчитывать.
Кого же не хватает?
Не пришел толстяк Тюгесен. Самый толстый ученик и классе, над которым так забавно издевался лектор Бломме. «О ты, толстомясый Красе! Окажи нам милость: переведи сегодняшний урок!» Все собравшиеся отлично умеют подражать голосу лектора Бломме. Сам лектор Бломме умер много лет назад. Отравился леденцом. Гнусное, отвратительное убийство. А толстяк Тюгесен живет где-то на Востоке, на другом краю света и командует толпой кули. Тюгесен отсутствует по уважительной причине. Он так и не поступил в университет. Пошел по коммерческой части, стал дельцом. Наверное, он здорово отощал теперь в тамошней жаре.
Харрикейн тоже не пришел. Помните Харрикейна? Сначала его звали Хансен, а потом он вдруг изменил фамилию на Харрикейн. А что толку? Харрикейн не явился, ничего не поделаешь. Там, где он сейчас находится, железные решетки на окнах. Вряд ли до него дошло приглашение на сегодняшний вечер.
О Харрикейне говорят чуть ли не шепотом. Ведь это позор для всего выпуска.
— Кажется, за мошенничество? — негромким голосом произносит кто-то из собравшихся.
— Да, он уже раньше был осужден условно, — объясняет судья Эллерстрем.
Очень неприятная история. Харрикейн и в школе был белой вороной. Никто из одноклассников с ним не дружил. Его всегда дразнили, над ним издевались. В каждой классе есть такой ученик. Если бы даже Харрикейн был на свободе, он вряд ли пришел бы сюда справлять юбилей вместе со своими мучителями.
— Наверное, кое-кто из ребят умер? — справляется главный врач Topсен.
Умер только один. Оге Мердруп. Здоровяк Мердруп, задира и сорвиголова. «Вредный элемент», — говорил о нем ректор. Но Мердрупа в классе любили. И врачи начинают обсуждать, отчего он, собственно говоря, умер.
— Поразительно, что умер только один. Вот что значит здоровое поколение. К следующему юбилею мы, конечно, многих не досчитаемся.
Торсен и Риге обмениваются холодным поклоном. Они избегают разговоров наедине. Каждый из них презирает деятельность другого. Ироническая улыбка выдает их взаимные чувства.
Впрочем, здесь присутствуют и другие врачи. Доктор Меллер и доктор Недербю. Они смотрят на Торсена снизу вверх, не только потому, что он выше их ростом, но и потому, что он сделал самую блестящую карьеру. Врачи доверительно беседуют о странных существах, называемых пациентами.
— Чудаки!
— А по-моему, просто слабоумные. Им говоришь: делайте то-то и то-то. А они хлопают глазами и делают все наоборот. Пытаешься объяснить им, что такое витамины. А они продолжают есть похлебку и картофель. Если б им можно было внушить хотя бы уважение к врачу, чтобы они не отнимали у него даром времени. Нет, они лезут со всякой ерундой в самые неподходящие часы. Приходит, например, ко мне один субъект и просит: «Господин доктор, выдайте мне, пожалуйста, справку, что у меня в комнате сырые стены. Я отнесу ее в контору социального обеспечения». — «Я не каменщик, милейший! И не могу писать справки вашим стенам!» Но он твердит свое: комната, дескать, опасна для здоровья, а у него много детей и так далее и тому подобное. Если, мол, доктор выдаст такую справку, ему, может быть, удастся получить другую квартиру. Я ему на это отвечаю: «Почем я, черт возьми, знаю, что не вы сами залили стены водой? Надо же, наконец, соображать, когда и по какому поводу можно беспокоить врача...»
Врачи вспоминают различные случаи из практики, когда им приходилось сталкиваться с невежеством и глупостью простолюдинов. И тут же рассказывают друг другу, как они остроумно ответили какому-нибудь пациенту.
Адъюнкт Нильсен тоже может порассказать о глупости школьников, которые делают в переводах самые дурацкие ошибки.
И двум адвокатам есть что порассказать о забавных персонажах, с которыми им пришлось столкнуться в их юридической практике.
И офицеру есть что порассказать. Рекруты ничуть не лучше пациентов. В казарме однажды решили проверить умственные способности солдат: результаты были чудовищные. Можно только диву даваться, насколько эти люди скудоумны и невежественны в самых элементарных вопросах!
Судье тоже пришлось наблюдать странных, удивительных субъектов. Трудно даже поверить, что такие создания вообще существуют на свете. И государство годами их кормит и всячески о них заботится. Всем ясно, что они никогда не исправятся, и все-таки им сохраняют жизнь. А мы, налогоплательщики, должны их содержать.
Странные, диковинные вещи творятся на свете. И люди совсем не таковы, какими они должны быть. Почти каждому из присутствовавших довелось в той или иной форме соприкоснуться с огромной непонятной массой — людьми, стоящими на нижних ступенях социальной лестницы. Загадочная чернь. Люди, которые сами не хотят, чтобы им жилось лучше. О них можно рассказать десятки анекдотов.
Пастор Неррегор-Ольсен подходит к Гаральду Горну.
— Не могу выразить, с каким наслаждением я читаю твои рецензии в «Моргенбладет». В них такой пафос утверждения, столько плодотворных мыслей, столько истинно датского!
— От души рад это слышать. Я всегда отстаивал своеобразие датской культуры. Ее самобытность. Все, что уходит корнями в историю и традиции нашего народа. Сейчас развелось много критиков, которые хотят обезличить нашу литературу, привить ей дух интернационализма. А я поставил себе целью бороться за национальное, положительное, утверждающее начало. Чисто датское. Истинно датское, как ты выразился.
— Я убежден, что ты делаешь благое дело. В моем приходе многие читают твои статьи и рецензии. Я ведь тоже иногда пописываю. Скромные заметки. Но наша «Церковная газета» их печатает. И жена пишет. Стихи. Изящные миниатюры. Непритязательные, но искренние и прочувствованные... Она была бы счастлива, если бы ты как-нибудь прочитал их и высказал свое мнение.
Адъюнкту Нильсену тоже не терпится подойти к Горну и поговорить с ним о литературе, о школьных сочинениях и о статье «Преподавание датского языка», которую Нильсен опубликовал в журнале «Латинский язык в школе».
— Может, она случайно попалась тебе на глаза?
— Нет, не попадалась. — Но Гаральд Горн с удовольствием прочтет статью, если у Нильсена сохранился экземпляр. И, конечно, скажет о ней все, что полагается сказать.
Горн знает, что Нильсен мечтал в свое время стать писателем. Он сам лелеял когда-то такие мечты. Но Гаральд по крайней мере занимается теперь чем-то родственным. Пожалуй, это даже лучше: писать о том, что сочинили другие. Горн читает всю выходящую литературу. Он знает все, что писатели передумали и пережили. Это почти так же интересно, как самому думать и переживать.
Полицмейстер Рольд доверительно беседует с Робертом Риге. Он держится кротко и добродушно. Куда девалась его обычная заносчивость? Гернильд с изумлением наблюдает за ним. Задира полицейский совсем обмяк. Он весь смирение и почтительность. Уж не гипнотизер ли Риге?
Гернильд обсуждает с Амстедом семейные дела. Они снова, в который раз, выясняют, кем приходятся друг другу, поскольку дядя фру Амстед генерал Maсен — двоюродный брат дяди Гернильда, фон Бракберга. Отец фон Бракберга был амтман и помещик, отец амтмана командовал голштинскимп кирасирами, а дед получил дворянскую грамоту от короля.
— Я ведь тоже отчасти дворянин, — добавляет Гернильд. — Но только через Бракбергов. Фамилия Гернильд произошла, по-видимому, от Герр Ниль или Герр Нильс, то есть Герреман Нильс — помещик Нильс.
— Интересно, чем здесь будут кормить, — замечает Могенсен. — Предупреждаю, что я вегетарианец. Трупов я не ем.
Начальник отдела Йоргенсен, член юбилейного комитета, успокаивает Могенсена.
— Заказана разнообразная зелень: спаржа, горошек, и кроме того, шампиньоны и все, что к ним полагается. И, конечно, картофель. Словом, ты будешь сыт одними овощами.
— Благодарю, — говорит Могенсен.
— Отлично, великолепно! — громко восклицает пастор Неррегор-Ольсен, стряхивая пепел в фаянсовую пепельницу, на дне которой изображен какой-то сюжет из Библии. — Вот это искусство. Датские самородки. Недаром они прославились на весь мир.
— О да, нам уменья не занимать стать, когда мы оберегаем свою самобытность, — заявляет Горн.
Но вот наступает время идти к столу. Начальник отдела хлопает в ладоши:
— Друзья! К столу! Каждый садится там, где ему нравится.
Гернильд слегка удивлен. В Хольстебро за столом рассаживаются соответственно табелю о рангах. Судебный исполнитель принадлежит к девятому классу, поэтому он не имеет права сидеть выше полицмейстера, который принадлежит к восьмому. Очевидно, в столице пренебрегают этими различиями. Конечно, они не имеют большого значения, но все-таки раз табель о рангах существует, почему бы его не придерживаться?
Юбиляры направляются в соседнюю комнату, где их ждет накрытый стол. Пастор Неррегор-Ольсен, сунув сигару в одну из фаянсовых пепельниц, шествует впереди своих однокашников. Могенсен замечает, что пастор воткнул окурок прямо в глаз Иисуса Христа.
Глава 12
— Добро пожаловать! — громким и внятным голосом восклицает Гаральд Горн. — Добро пожаловать. И спасибо, что пришли, старые друзья! Четверть века минуло с тех пор, как мы в последний раз собирались вместе. Много воды утекло. Тогда наши юные души были чистым, неисписанным листком бумаги, а теперь мы взрослые мужи, созревшие на трудовой ниве.
Но мы не забыли нашей юности. Счастливой, радостной юности, когда вся жизнь была перед нами. Помните старую песню, которую мы певали па торжественных школьных вечерах? Восхитительную песню Карла Плоуга16:
Прекрасна юность, как весна,
Когда трава, когда листва
Под солнцем расцветают...17
И вот мырасцвели и созрели. Каждый занял свое место в обществе. Исполнен завет старой песни, гласивший:
Мы возмужаем и пойдем
Достойным и прямым путем,
И пусть увидят люди,
Что справедливость в мире есть
И что за правду, долг и честь
Готовы встать мы грудью.
«За правду, долг и честь» — этому нас учила школа, и мы по сей день верны старому девизу. Но сегодня, в этот торжественный час, мы, как добрые пахари, имеем право, остановив свои плуг, оглянуться назад. Мы имеем право вспомнить дни нашей юности, чтобы вкусить отрадные воспоминания минувших лег и отпраздновать юбилей в тесном дружеском кругу. Ваше здоровье, друзья!
Лакеи начинают обносить гостей, и юбиляры принимаются за паштет с желтоватой начинкой.
Близоруко вглядываясь в свою тарелку, Могенсен ковыряет паштет вилкой.
— Вы уверены, что в начинке нет трупов? — спрашивает он у лакея.
— Полагаю, что нет, сударь...
— Ешь спокойно, — говорит Амстед. — Это чисто вегетарианское блюдо. Тебе ничто не угрожает. В крайнем случае проглотишь парочку креветок.
Могенсен извлекает из начинки креветку и кладет ее на край тарелки.
— Ты придерживаешься вегетарианства из медицинских соображений? — спрашивает Topсен.
— Отчасти из медицинских, отчасти из этических. А также из эстетических.
— По-моему, ты не был таким привередой, когда мы уплетали пудинг с красной подливкой в лавке на Ландемеркет, — говорит Topсен. — Один бог знает, из чего готовили этот пудинг.
— Брр! Подумать только, какую пакость мы ели, — замечает Амстед.
— Да еще с каким аппетитом, — добавляет Неррегор-Ольсен.
— Мальчишки способны сожрать все что угодно, — вставляет адъюнкт Нильсен.
И снова текут воспоминания. С грустью вспомнили хозяйку лавки на улице Ландемеркет, которая продавала пудинг с красной подливкой. И ее ручную макаку. Макаку прозвали Дюэмосе, потому что она напоминала учителя математики. Такая же злющая, как он, и так же носилась взад и вперед по лавке и царапала покупателей. Во- обще-то это была не лавка, а просто харчевня. Но хозяйка была славная, не боялась отпускать в кредит.
— А помните...
Вносят новые блюда, и Амстед помогает Могенсену отличить мясное от вегетарианского. А когда дело доходит до жаркого, начальник отдела Йоргенсен наполняет свой бокал и произносит речь, такую длинную, что соус на тарелках совершенно застывает.
— Несколько дней назад у меня в доме была генеральная уборка. Большая весенняя уборка. Как известно, это не очень приятная процедура, ха-ха-ха! Но у нее есть одно неоценимое качество: она помогает извлекать на свет божий вещи, о существовании которых ты совершенно забыл.
И вот моя жена принесла мне какой-то предмет, оказавшийся... моей студенческой шапочкой. Увы! Немного осталось от белоснежной нарядной шапочки. Время не пощадило ее. И моль сделала свое черное дело. Печальное это было зрелище.
«Но все-таки не выбрасывай ее», — сказал я жене и, взяв старую шапочку в руки, долго ее рассматривал. И меня обступили воспоминания. Они теснили друг друга. Студенческие годы. Юность. Школьные годы... Да, школьные годы, которые так много значили в нашей жизни, вдруг ожили передо мной, точно по мановению волшебной палочки. Серое здание старой школы и все, что связано с ним. Его уют, тепло и классическая респектабельность. Наша добрая старая школа — наш общий родной дом.
Я знаю, дорогие друзья, что все вы, собравшиеся здесь сегодня отметить двадцатипятилетие со дня окончания школы, чувствуете то же, что чувствовал я, глядя на свою некогда белоснежную шапочку. Жизнь разметала нас в разные стороны. Каждый избрал свою стезю. Каждый занял определенное место в обществе, и, да позволено мне будет добавить, место, иной раз довольно заметное.
Но как бы ни были различны эти места, как бы ни были различны наши поприща, существует нечто, что связывает нас невидимой нитью, что объединяет нас в одну большую семью, образует духовное братство — это воспоминание о нашей старой школе. О школе с гордыми вековыми традициями.
Там в наши восприимчивые детские души были брошены семена, которые проросли и дали всходы и плоды. Там приобрели мы навыки и знания, которые превратили нас в то, чем мы стали теперь. В людей, способных исполнить свой долг перед родиной и народом. Там получили мы воспитание, которое ценнее золота и серебра. Там приобщили нас к сокровищам культуры, понимание которых стало теперь неотъемлемой частью нашей души. Там были заложены основы нашего характера, которые дали нам возможность найти свое место в жизни.
Мы росли и мужали под сенью школы, которая сделала из нас верных слуг нашей любимой родины — Данни, В стенах школы мы научились порядку, дисциплине и послушанию, без которых немыслимо никакое общество, никакая мораль. Там мы поняли, что «правда, долг и честь» должны быть нашим знаменем. Там научились мы ценить бессмертное значение традиций. Научились понимать неразрывную связь прошлого и настоящего. Понимать, что мы призваны возводить здание на основе уже наложенного фундамента. На основе того, что наши предки поколение за поколением созидали для нас.
Всем, чего мы достигли, всем, на что мы способны, всем, что мы собой представляем, мы обязаны школе. Доброй старой школе и ее традициям.
Так подымем же бокалы, друзья, и осушим их за нашу школу! Да здравствует школа!
Когда юбиляры приступили, наконец, к жаркому, у многих на глазах блестели слезы.
Девятнадцать человек сидят вокруг стола и предаются воспоминаниям. Девятнадцать мужчин — плешивых, бородатых, пузатых, очкастых — болтают на школьном мальчишеском жаргоне, называя друг друга и старых учителей забытыми прозвищами.
Кое-кто из учителей еще жив. Встречая их на улице, бывшие ученики по-прежнему почтительно кланяются, забывая, что им самим по сорок три и они уже взрослые мужчины.
Но большинство учителей умерли. Например, лектор Бломме. Лектор Бломме тоже стал лишь воспоминанием. Причем таким, о котором стоит поговорить.
Вспомнили, как он вел уроки латинского языка. Вспомнили маленькую синюю тетрадку, куда он вписывал роковые значки и закорючки, решавшие судьбу учеников. Его привычки, оригинальную манеру обращения, отдельные словечки и шутки. И маленькую овальную колбочку с леденцами, которая всегда лежала перед ним на кафедре.
Вспомнили и его смерть. Скоропостижную смерть перед самым концом учебного года, которая в ту весну избавила их от экзамена по латыни. Вспомнили и о том, что смерть его была страшной и загадочной.
Среди девятнадцати юбиляров присутствуют люди, которые могут высказаться о смерти лектора со знанием дела. Здесь присутствуют врачи, разбирающиеся в ядах. Юристы, разбирающиеся в преступлениях. Психоаналитики, разбирающиеся в странностях человеческой психики. Здесь присутствует и убийца.
Глава 13
— Этот Бломме не заслуживает того, чтобы о нем так много говорили, — замечает Микаэль Могенсен. — Не очень симпатичная личность. Не я его убил, но я вполне сочувствую тому, кто это сделал.
— Мы уже не дети, — заявляет Горн, — мы зрелые, опытные люди и должны судить о наших педагогах совсем иначе, чем тогда, когда были непослушными юнцами. В ту пору мы не всегда понимали, что, проявляя к нам известную строгость, они пекутся о нашем же благе. Но теперь мы можем взглянуть на прошлое иными глазами. Лично я глубоко признателен лектору Бломме за все, чему он меня научил. Я чту его память. Он распахнул передо мной двери в мир величайших культурных ценностей минувших эпох. Он научил меня любить Горация и Овидия. Разумеется, он вынужден был укладываться в рамки учебной программы, и большую часть ее скупо отмеренных часов неизбежно отнимали скучные грамматические упражнения. Но эти упражнения тоже были полезны. Лектор Бломме подвел нас к порогу двери в мир античной культуры. Остальное зависело от нас самих: тому, кто хотел и дальше черпать из бессмертного источника античной красоты, оставалось лишь следовать по пути, который он нам указал. Я всегда с благодарностью вспоминаю лектора Бломме.
— Отлично сказано. Умно и справедливо, — замечает Неррегор-Ольсен.
— Готовая заметка в газету, — добавляет Могенсен.
— Ну и что ж, эта заметка справедлива. Я тоже искренне благодарен лектору Бломме за все, чему он меня научил. Мне, как священнослужителю, часто приходится прибегать к латыни. Лектор Бломме дал нам начальную подготовку, и потом каждому было уже нетрудно совершенствовать свои знания.
— Старик Бломме научил нас многому, — поддерживает Торсен. — Я но раз поминал его добром. Врачу латынь необходима. А его уроки заложили превосходный фундамент. В школе мы этого не понимали, но позже оценили по достоинству. Я очень сожалею, что так и не успел выразить старику свою благодарность.
— С годами становишься сентиментальным, — сказал Могенсен. — Ты, верно, забыл, как пустился в пляс от восторга, когда узнал, что Бломме умер.
— М-м-да, но в ту пору мы были детьми. А теперь, черт возьми, мы совершенно другие люди, — возражает Торсен.
— Кое-кто, несомненно, деградировал, во всяком случае по части способности здраво рассуждать, — заявляет Могенсен.
Роберт Риге поощрительно кивает головой.
— Насколько мне помнится, лектор Бломме был человек с ярко выраженным комплексом неполноценности: подавленное честолюбие, неудовлетворенный эротизм и садизм, — объявляет Риге, и полицмейстер Рольд, приготовившийся было воздать хвалу покойному учителю латыни, умолкает на полуслове и погружается в задумчивость.
«Ей-богу, Риге его просто гипнотизирует», — мелькает и голове у Гернильда.
— Бломме умер, а о покойниках не говорят дурно, — говорит адъюнкт Аксель Нильсен.
— Почему? — спрашивает Могенсен.
— Потому, что смерть вызывает уважение, — говорит Неррегор-Ольсен. — Все мы испытываем благоговейный страх перед великим таинством.
— «Боязнь страны, откуда ни один не возвратился», — цитирует Гаральд Горн.
— Шекспир, — догадывается адъюнкт Нильсен.
— Значит, священники благоговеют перед самоубийцами? — интересуется Риге. — Ведь господин Бломме принял яд.
— Нет, его отравили, — говорит Могенсен. — Его убили.
— Несомненно, — подтверждает главный врач Торсен, и его поддерживают другие врачи.
Полицмейстер тоже хочет поддержать Торсена, сославшись на свой служебный опыт, но его явно смущает присутствие Риге.
Поддерживает Торсена и священник.
— Лектору Бломме никогда не пришло бы в голову лишить себя жизни. Такой разумный, добропорядочный человек, удовлетворенный своей деятельностью.
— Заторможенный, разочарованный неудачник, у которого было сколько угодно оснований покончить с собой. Вернее, он просто не мог не покончить с собой. — И Риге начинает доказывать, что одно только чрезмерное пристрастие Бломме к леденцам неизбежно должно было принести его к самоубийству. Этот инфантильный порок оральной стадии — свидетельство комплекса неполноценности, следствием которого неизбежно должно было быть самоубийство.
— Странное рассуждение, — говорит Гернильд.
— Ерунда! — заявляет Торсен.
И завязывается дискуссия о смерти лектора Бломме. Дискуссия знатоков: врачей, юристов, педагогов, психологов. И в дискуссии участвует убийца.
Глава 14
Подали кофе, юбиляры разместились за маленькими столиками и предаются воспоминаниям.
— Ликеру или коньяку? — спрашивает лакей.
— Все что угодно, только не ликер, — заявляет полицмейстер. — Коньяк. Лучше коньяк.
— Я, конечно, предпочел бы можжевеловую водку, — говорит Могенсен, — если ее можно достать. Она куда полезней всех этих дистиллированных напитков. А потом, нельзя ли заказать бисквит? Или лучше «медаль».
Риге с любопытством смотрит на Могенсена и многозначительно улыбается.
Гости разгорячились от вина и пищи. Чувство отчужденности исчезло. Теперь они окончательно вспомнили друг друга и перешли на уменьшительные имена и прозвища.
Почтенные господа шутят, проказничают, шлепают друг друга по ягодицам. Это школьная перемена, пикник, летние каникулы.
На смену кофейным чашкам появляются стаканы. В гостиной висит густая пелена сигарного дыма. Курить можно. Можно даже судье Эллерстрему и адъюнкту Нильсену.
«Наверное, мама беспокоится, ведь уже поздно...» — думает судья.
Прежние одноклассники в сборе. Они болтают на школьном жаргоне, вспоминают школьные проделки.
— «Минувшее из праха восстает, а близкое в туманной дымке тает», — декламирует Гаральд Горн.
— Эленшлегер18, — угадывает адъюнкт Нильсен
Обстановка такова, что пастор Неррегор-Ольсен не может не произнести речь. Он хотел выступить еще за столом, но Йоргенсен его опередил, рассказав историю о старой студенческой шапочке, извлеченной на свет божий во время генеральной уборки. Именно эта съеденная молью студенческая шапочка должна была стать гвоздем пасторской речи, и он не успел в тот момент придумать ничего другого.
Но теперь он выступит без подготовки. Свободно импровизируя. Стройный, молодцеватый пастор встает, наливает в стакан виски и начинает.
Он говорит о детской душе. О счастливой поре невинного детства:
— «О детство, потерянный рай! Время блаженного неведения! Первая нежная весна! Цветение райских кущ!»
— Ингеманн19, — догадывается адъюнкт.
— Счастливые, солнечные годы детства! Непосредственность! Наивность! Чистота! Блаженство! О друзья, друзья! Вы не предали забвению эти годы? Способны ли вы оживить их в памяти? Вновь прочувствовать их? Вновь пережить...
Те годы весны,
Когда непорочным, прекрасным и светлым был мир,
Когда рай на земле находился.
— Эленшлегер, — шепчет адъюнкт. — «Золотые рога».
— Наше детство! То была пора счастья! Райского блаженства. Великого, полного, неомраченного счастья, которое в этой жизни нам дано испытать только раз. О друзья, если бы мы могли вновь пережить это время! Если бы мы могли вновь стать детьми...
В голосе пастора экстаз. Лицо пылает воодушевлением. Блестящие глаза широко открыты. Он простирает руки над присутствующими, точно творя заклинания. Юбилярам становится неловко. У доктора Торсена расстроенный вид. Роберт Риге неприязненно улыбается. Амстед опускает глаза. Судья Эллерстрем грызет ногти, несмотря на материнский запрет.
Но воодушевление оратора растет. Он говорит все громче и, наконец, кричит пронзительным голосом:
— О, если бы мы могли вернуть это время! О, если бы могли пойти наперекор природе! О, если бы мы могли перевести стрелки часов вселенной! О, если бы могли повернуть вспять стремительный поток времени! Тогда мы воззвали бы к университету: возврати нам детские годы! Верни нас в счастливую страну нашего детства!
Глава 15
В темноте раздается звон будильника.
В первое мгновение трудно сообразить, что это такое. Ясно одно: что-то очень неприятное. Начинает противно сосать под ложечкой.
А потом вдруг до сознания доходит, что это будильник. Сразу спускаешься с небес на землю. Ты витал где-то далеко-далеко. Тебе снился интересный сон, только ты забыл о чем. А теперь этот пронзительный звон, доносящийся откуда-то из мрака и холода. Он возвещает детям земли начало нового дня.
До дурноты хочется спать. Какое блаженство повернуться на другой бок под теплой периной и исчезнуть. Раствориться в блаженном забытьи. Вдруг удастся снова увидеть тот же самый сон.
— Вставай наконец! — кричит знакомый голос. — Уже давно пробило половину. Опоздаешь.
В голове начинается лихорадочная работа мысли, возвращенной к будням. Постойте, первый урок — математика, надо обязательно еще раз заглянуть в учебник. Выучить, что за чем идет. Понять все равно не удастся. Надо просто вызубрить: «Когда две секущие пересекают друг друга, произведение секущей на ее внешнюю часть равно произведению другой секущей на ее внешнюю часть, а касательная равна среднему пропорциональному между всей секущей и ее внешней частью. Иными словами, если из точки, взятой вне круга, проведены сколько угодно секущих, то произведение каждой секущей на ее внешнюю часть есть число постоянное для всех секущих и называется степенью точки относительно окружности. Проведя прямую через центр, мы убедимся...»
— Перестань читать за едой. От такой еды никакого проку. У тебя вчера было сколько угодно времени, чтобы выучить уроки, а ты играл, вместо того чтобы заниматься. «Я все выучил, я все знаю...» Каждый раз одно и то же!
На буфете в столовой стоят часы, и, пока овсяная каша исчезает во рту, стрелка продолжает двигаться. Ты давишься, обжигаешься, но уже нет времени позавтракать спокойно.
В школу не идут. В школу мчатся. В темноте, под дождем. Две сотни мальчиков мчатся в одном и том же направлении. Со всех концов города они бегут к серому зданию на площади Фруэпладс.
Они смотрят на все часы, которые попадаются им по дороге. Они в точности знают, в какое время им надлежит быть на том или ином углу. В определенных местах они всегда встречают одних и тех же людей. Это чиновники, которые спешат в конторы. Дети, которые бегут в другие школы. Мальчики встречают их каждый день и научились по ним определять время.
Двести мальчиков шлепают по мокрым тротуарам. Согнувшись под тяжестью портфелей, ранцев и сумок, они тащат в них школьную премудрость. Планиметрия, всеобщая история, латинская грамматика, французская хрестоматия, учебник английского, галльские войны Цезаря, «Физика» Сундорфа, «Химия» Вейеса, «Физиология» Крога, «Сборник упражнений по датскому языку» Капера и «Катехизис» Лютера. Они задыхаются под бременем культуры, образования, пеналов, учебников, задачников и тетрадей.
Вперед, вперед по улицам несутся школьники. По темным улицам в ноябрьском тумане. На них плащи и смазные сапоги. У одного в руке недоеденный бутерброд. У другого учебник математики, который он читает на бегу.
— Смотри, куда лезешь, глупый мальчишка!
Некоторые живут так далеко, что им приходится ехать на трамвае. К ранцу на тесемке привязан проездной билет. Трясясь в переполненном трамвайном вагоне, они наспех перечитывают галльские войны Цезаря и домашнее задание по немецкому языку. Другие несутся на велосипедах, обгоняя трамваи и автомобили, скользя по мокрому асфальту. Пеналы гремят в ранцах, сверток с завтраком расплющился среди книг. Вперед, вперед!
У входа притаился учитель, поджидающий опоздавших. Дверь школы запирается с боем часов, и опоздавшим приходится нажимать кнопку оглушительного дверного звонка. В маленькой полуподвальной каморке сидит сторож, который отпирает дверь с помощью замысловатого механизма. Красные, потные, запыхавшиеся мальчишки, крадучись, пробираются по коридору, но тут из укрытия вылетает учитель и отвешивает им пощечины. Его глаза мечут молнии за стеклами очков. Взрослый человек разгневан и возмущен малолетними преступниками.
День начинается с пения псалма. В одном конце актового зала, вплотную прижатые друг к другу, выстроились школьники. В другом конце — педагоги, которые бдительно следят, чтобы во время пения никто не заглядывал в учебник.
В зале пахнет мокрой одеждой, смазной кожей и промасленной бумагой от завтраков. Чадит огромная старая изразцовая печь. В окна струится пар.
И вот с площади Фруэпладс несется хвала Создателю:
Взирая восторженно на небосвод,
Мы видим, как день наступает:
Благословенный, он к небу плывет,
Блаженством сердца наполняет.
Мы дети света! Пусть ведают все,
Что темная ночь умирает.
Молодой адъюнкт Лассен поет высоким звонким голосом и тянет каждую ноту. Его пение перекрывает все остальные голоса. Ректор смотрит в псалтырь и шевелит крошечным ртом, делая вид, что тоже подтягивает. Остальные учителя просто следят за учениками.
В пустом вестибюле, где висят мокрые пальто, от которых валит пар, притаился дежурный учитель, подстерегающий очередную жертву. Как только звонит оглушительный дверной звонок и сторож приводит в движение механизм, со скрежетом отпирающий дверь, учитель бросается вперед и награждает опоздавшего грешника оплеухой.
Глава 16
«Disciplina solerti fingitur ingenium», — гласят бронзовые буквы на классическом фасаде школы. Изречение это следует, очевидно, толковать в том смысле, что оплеухи способствуют духовному развитию юношества.
Школа богата традициями. На всех ее выпускных вечерах говорится о традициях. На каждом ее юбилее в прозе и в стихах восхваляются традиции. О школьных традициях пишутся книги и юбилейные брошюры. Они повествуют о розгах, линейке, плетке и других видах телесных наказаний.
В XV веке какой-то ревностный учитель засек провинившегося гимназиста до смерти. А некий ректор дошел в своем усердии до того, что оторвал гимназисту ухо.
Теперь ректоры так не поступают. По решению королевской комиссии в школе отменены розги и плетка. Теперь ректору приходится довольствоваться руками. Научная специальность нынешнего ректора — исследования в области колебания маятника. Удары ректорских кулаков точны, как удары маятника, зуботычины попадают точно в намеченную цель.
Руки у ректора крупные, пухлые. Пощечины он раздает звонкие.
При всем уважении к традициям нынешний ректор все-таки более гуманен, чем его предшественники в минувшие века. Когда ему вздумается, например, проучить ученика, который носит очки, он сначала требует, чтобы ученик снял очки.
Микаэль Могенсен разбил одно из маленьких квадратных стекол в двери класса. Внушительное здание школы выдержано в строгом стиле: классы отделены друг от друга стеклянными дверями с искусным мозаичным узором.
Микаэль Могенсен — худой, бледный и щупленький мальчик. Ректор так впился в его щеку крупными пухлыми пальцами, что лицо мальчика потеряло природные очертания.
— Как это произошло? — вопрошает ректор. — Что ты можешь сказать в свое оправдание?
Легко ли отвечать чистосердечно, когда тебя щиплют на щеку?
— Это не я... Это мальчик из старшего класса.
— Ах, так! Как его фамилия?
Этого Микаэль Могенсен не знает. Да если бы знал, то равно не сказал бы. Товарища выдавать нельзя.
— Опять та же история! — заявляет ректор. — Обычная и жалкая попытка увильнуть от ответственности. Но мы не потерпим, чтобы в школе били стекла и устраивали скандалы. Слышишь ты, будущий бандит? Снять очки! — И пухлая рука ректора несколько раз опускается на щеки Микаэля, которые из бледных становятся пурпурными.
Потом Микаэлю выпишут счет на 2 кроны 50 эре, который ему придется отнести отцу. Отец Микаэля — почтовый контролер, нервный, больной человек, обремененный детьми, заботами и расходами. Из-за этого счета в доме Могенсенов разыграется тяжелая сцена.
А ректор, исполнив свой долг, вытрет пухлые руки и подкрепится стаканчиком портвейна из бутылки, которую он хранит в громадном шкафу среди школьных протоколов.
У школы свое судопроизводство и свои законы, отличные от тех, которые действуют в мире за ее стенами. Здесь царят почтенные школьные традиции, и никому нет дела до личной неприкосновенности граждан.
— Опоздал? Получай затрещину! — бодро восклицает по утрам дежурный учитель, увидев запыхавшегося ученика, вбегающего в школу после того, как часы на церкви уже начали бить.
Учитель — образованный человек. Человек с научными интересами. Он автор превосходного словаря и отличных, много раз переиздававшихся учебников. Он неоднократно ездил за границу и приобщился к европейской культуре и воспитанию.
Этот достойный человек взял на себя обязанность бить опоздавших учеников. Вероятно, эту обязанность мог бы исправлять и менее образованный человек. Но никто не мог бы исправлять ее более добросовестно.
Глава 17
Школа — это особый мир. Маленький изолированный мирок, отгороженный от огромного окружающего мира. Островок в центре города. Независимое государство со своими законами и традициями. Нечто вроде экстерриториального папского государства в сердце Копенгагена.
В мире происходят великие события. Войны и революции. Но в маленьком школьном мирке жизнь течет своим чередом, невзирая на мировые потрясения.
Когда лектор Бломме идет по улицам большого мира, это заурядный маленький человек в очках, с бородкой клинышком. Ему наравне с другими пешеходами приходится соблюдать правила уличного движения. Он оплачивает трамвайный билет и вообще ничем не отличается от других пассажиров. Это обыкновенный, невзрачный человечек, его толкают, ему наступают на ноги, и в часы «пик» ему приходится долго ждать очереди.
Но когда он входит в двери школы, все изменяется. Маленькая фигурка учителя распрямляется и непостижимым образом вырастает. Его глаза мечут молнии сквозь стекла очков. Осанка становится грозной и повелительной. Смиренные рабы униженно приветствуют его. Старое коричневое пальто лектора кажется тогой с античными складками. Самопишущая ручка превращается в стило, скрепляющее не подлежащие обжалованию приговоры. Калоши становятся сандалиями, которые один из рабов снимает с его ног.
Маленький седой человечек, которого толкали прохожие, переступив порог школы, преображается в римского императора. А поднявшись на классную кафедру, он ощущает себя самим Цезарем.
— Пусть ненавидят, лишь бы боялись! — восклицает он с полной убежденностью и обводит императорским взглядом жалкую толпу, которая дрожит от одного вида грозного судии.
Маленькая овальная коробочка с леденцами лежит на кафедре рядом с синей тетрадкой, ручкой и учебником всемирной истории. Время от времени Цезарь проглатывает конфетку, чтобы прочистить голос и подкрепить нервы.
— Ну, Толстюгесен! — вызывает он самого толстого ученика в классе. — Способен ли ты рассказать нам о второй Пунической войне? Ну-ка, наберись сил и встань, Толстюгесен, раскормленный, неповоротливый юнец!
Толстяк встает. Его настоящая фамилия Тюгесен, но как не назвать его Толстюгесеном — острота сама просится на язык. Бломме повторяет ее на каждом уроке, и все-таки весь класс смеется шутке учителя, будто она нова и неожиданна. Попробуй не засмейся, когда Цезарь упражняется в остроумии!
Тюгесен ждет, пока улягутся смешки. Он тоже пытается засмеяться для пущей храбрости.
— Ну что же, любезный кашалот, разинь свою пасть и извергни на нас поток своих глубоких познаний! Не таи своей мудрости от окружающих, не скупись, покажи свою ученость, дай нам погреться в лучах твоего разума!
Снова раздается смех. Цезарь озирает класс, проверить, не забыл ли кто-нибудь хихикнуть. Толстяк приведен в должное замешательство и, заикаясь, начинает рассказывать о том, как в 218 году до новой эры началась вторая Пуническая война. Лектор Бломме не отрывает от него взгляда.
Когда Тюгесен упоминает про слонов в войске Ганнибала, на него снова сыплется град насмешек. Ну как не сравнить толстяка со слоном? И Цезарь бдительно следит, чтобы никто из учеников не забыл рассмеяться.
Тюгесен отвечает медленно, с трудом подбирая слова:
— А потом... потом...
— Хватит! Мы уже наслушались! Садись, ленивый, жирный боров, отдохни от своих многотрудных усилий! Иоргенсен, не угодно ли тебе продолжить? Ах, Иоргенсен, не могу наглядеться на твой великолепный нос! Глядите-ка, он устремился прямо в небо! Ну-ка, поверни голову, красавчик, дай я полюбуюсь на твой профиль! Спасибо, теперь повернись анфас. Ах, Иоргенсен, когда я вижу тебя анфас, мне хочется, чтобы ты повернулся в профиль, а когда я вижу твой профиль, мне хочется, чтобы ты повернулся анфас. Но к делу, юноша. Не стесняйся, говори все, что знаешь. Все, что можешь рассказать о Ганнибале...
Иоргенсен рассказывает.
— Погоди, Иоргенсен! Знаешь, я вот смотрю на твой нос и, ей-богу, боюсь: вдруг кто-нибудь обознается и повесит на него пиджак, вообразив, что это крючок!.. Ну ладно, продолжай...
— Вторая Пуническая война с грехом пополам разгорается. Римлянам приходится туго. Но они еще себя покажут.
— Продолжай, Эдвард!
Это Бломме вызывает Эдварда Эллерстрема, и то, что он зовет его по имени, означает величайшую милость и благоволение. Эдвард — чистенький мальчик в аккуратной матроске и коротких носках, светловолосый и голубоглазый. Его глаза мило смеются в ответ на очередную шутку Бломме.
— Хорошо, Эдвард, ты знаешь урок. Ты моя опора среди этих тупиц.
Могущественный и грозный Цезарь восседает на кафедре. Перед ним лежит коробочка с леденцами и тетрадь. Он дирижирует пуническими войнами. Все нити у него в руках. Он обрушивает на Карфаген удары своих легионов.
За окном воркуют голуби, они взлетают на серую школьную стену. У дома напротив стоит подъемный кран, который доставил к верхним этажам кучу диванов, стульев и человека в синей спецовке. Вот смельчак! Даже дух захватывает.
Из соседнего класса доносятся яростные крики учителя. Это урок французского.
Подъемник выгрузил диваны на пятом этаже и спустился вниз.
Голуби безобразничают на оконном карнизе.
В мире совершаются различные события. Под облаками жужжит самолет. Девушка моет окна.
Но школа — это замкнутый духовный мир, к которому не имеют отношения ни рабочий с подъемника, ни девушка, моющая окна, ни голуби. Древняя история развивается своим чередом. Учитель упражняется в классическом остроумии. А ученики с тоской смотрят в окно, в большой мир, где вверх взлетает мебель и воркуют голуби.
Глава 18
Школьный двор — это маленькая площадка между высокими стенами. Вдоль двух стен тянется узкий навес из кровельного железа, под которым стоят велосипеды, а в дождливую погоду укрывается часть учеников.
В углу двора расположены водяной насос, мусорный ящик, четыре уборные для учеников и одна для учителей.
Посредине площадки растет старая липа, вокруг нее — скамейка. Липа воспета многими поколениями преподавателей датского языка и литературы и учениками с поэтическими наклонностями. Она достойна этих песнопений: можно диву даваться, как она умудрилась выжить и найти питательные соки в скудной почве под асфальтом двора.
На школьном дворе ученики съедают свои бутерброды. Мальчики стоят или прогуливаются, держа в одной руке сверток, в другой — надкусанный ломоть хлеба. Иногда увлеченный едой ученик неожиданно получает пинок под локоть, и тогда бутерброд летит далеко в сторону.
Самое большое развлечение — выбивать завтрак из рук Харрикейна, да так, чтобы яйца и печеночный паштет залетели на навес. У Харрикейна тотчас же выступают слезы на глазах. Его мать постоянно тревожится, что ее мальчик недоедает.
Под навесом не могут поместиться все ученики одновременно. Поэтому некоторым приходится съедать свой завтрак под дождем. Бутерброды намокают, разлезаются. Чаще всего под дождь выталкивают «сосунков».
«Сосунки» — это ученики первого класса. Безобидные существа, над которыми все издеваются. Этого требует традиция. В изобретении пыток больше всех усердствуют второклассники — те, кто в прошлом году сами были «сосунками».
Поступив осенью в школу, очередная стайка «сосунков» принимает крещение под водяным насосом, а потом подвергается всевозможным издевательским церемониям. Мучительство продолжается целый год, пока они не получают права в свою очередь измываться над новыми «сосунками». Адъюнкт Шефф, инспектор, дежурящий на школьном дворе, уважает традицию, не вмешивается, когда мучают малышей, и даже не без интереса наблюдает за процедурой.
Харрикейна тоже выталкивают из-под навеса. Да еще нарочно держат под водостоком, чтобы насквозь промок его чистый белый воротничок. Одноклассники Харрикейна обращаются с ним, как с «сосунком».
Амстед и Эллерстрем меняются марками. Они хранят дубликаты в особых самодельных конвертах, прикасаются к ним только пинцетом и рассуждают об их ценности с полным знанием дела. В настоящий момент весь класс увлекается марками. Несколько месяцев назад все собирали цветные стеклянные шарики. Через некоторое время они охладеют и к маркам. Уже сейчас в воздухе носится новый грандиозный план: издание газеты. Это придумали Горн и Неррегор-Ольсен. Газета будет печататься на гектографе по крайней мере в двадцати экземплярах и станет неслыханной сенсацией. Она наверняка даст толчок новой эпидемии — потоку конкурирующих изданий. Поэтому план следует хранить в строжайшей тайне, чтобы слухи о нем не просочились в класс раньше времени. А пока будущие редакторы шепчутся и секретничают.
У Могенсена, Рольда и Гернильда другие планы. Тайный союз. Братство «Черная рука». Банда, которая будет сеять страх и смятение. Мир не слыхал ни о чем подобном со времен Робин Гуда, Свена Ёнге и Рокамболя20.
Толстяк Тюгесен прокрался в уборную с планиметрией Юлиуса Петерсена за пазухой, чтобы подготовиться к уроку математики. Читая мудреные теоремы, он уписывает бутерброды. Тюгесен всегда ест. Как же лектору Бломме не переделать его имя на Толстюгесена — острота сама просится на язык.
Ученики старших классов чувствуют себя взрослыми мужчинами. Они носят пиджаки, из карманов которых торчат авторучки и щегольские карандаши со вставным грифелем. А в глубине карманов спрятаны сигареты и трубки. Юноши степенно беседуют, прогуливаясь под навесом. Малыши уступают им дорогу. А если кто-нибудь из них не успел посторониться, ему достается крепкий подзатыльник.
— Прочь с дороги, несчастный «сосунок»!
Однако некоторые старшеклассники носят в петлицах круглые значки. Эти возятся с малышами, ласково обнимают их за плечи, говорят с ними дружеским, вкрадчивым тоном:
— Приходи к нам завтра на собрание скаутов. У нас так весело и интересно. Тебя угостят чаем с пирожным.
Им удается завербовать кое-кого из «сосунков» в Зеленые скауты, отряды которых по воскресеньям выезжают на лоно природы с горнами и в полном снаряжении.
Адъюнкт Шефф тоже прогуливается под навесом, покуривая трубку. Вокруг него ни души. А если ему под ноги вытолкнут какого-нибудь «сосунка», господин Шефф пускает в ход свой тщательно вымытый кулак.
Вверху на карнизах и крышах сидят голуби. Они чистятся, ерошат перышки под дождем и смотрят вниз на двести школьников и адъюнкта Шеффа. А самые смелые слетают во двор и клюют оброненные бутерброды.
Какой-то учитель пробирается через двор, держа в руке на массивном кольце ключ от преподавательского клозета. Он злобно раздает пинки мальчишкам, оказавшимся у него на дороге.
Двое учеников затеяли драку и клубком катаются по грязному асфальту. Взволнованные болельщики поощряют их выкриками:
— Съезди ему по роже! Бей по носу!
Когда зрителей становится слишком много, появляется инспектор и разгоняет их. А драчунов щиплет за щеки и награждает оплеухами.
В противоположном конце двора, где высится дощатая перегородка с дверью, ведущей в гимнастический зал, идут съемки фильма. Оператор Аксель Нильсен неистово крутит воображаемую кинокамеру. Перед невидимым объективом разыгрываются сцены из немого фильма. Маленькая дверь в гимнастический зал — это вход в здание «биржи». У ее портала встречаются «биржевики». Степенные и важные, они курят невидимые сигары и, раскланиваясь, приподнимают невидимые цилиндры. Но что это? Биржа закрылась. Биржевики трясут дверь, возбужденно размахивают руками. Биржа закрыта! «Мы разорены! Миллионные убытки!»
Оператор яростно крутит ручку аппарата. Биржевики бьют себя в грудь, хватаются за голову. Одни из них выхватывает пистолет, приставляет дуло к виску и стреляет. «Ах! Морган застрелился! Все погибло!»
Моргана играет Иоргенсен. Остальные миллионеры — это Мердруп, Меллер и Риге. Иллюзия ничуть не разрушается оттого, что на миллионерах короткие штанишки.
Но тут звонит электрический звонок, укрепленный на стене над окном учительской. Съемки фильма, обмен марок и заседание редколлегии прерваны. Двести мальчишек бегут к узкой каменной лесенке с железными перилами, начинается сутолока и давка.
Тюгесен, крадучись, выбирается из уборной, продолжая жевать и пряча за пазухой учебник математики. Шевеля губами, он пытается повторить теорему, которую никак не может понять.
Глава 19
Урок математики — самый опасный час дня. Когда он миновал, ребята вздыхают с облегчением. Конечно, впереди еще немало неприятностей, но все они безделица в сравнении с паническим страхом, который приходится переживать во время урока математики.
— Макакус зол как черт! — раздается сигнал бедствия, и даже у самых отчаянных по спине пробегают мурашки.
Передаваемая шепотом новость облетает класс, сея вокруг панику и смятение, подобных которым ребятам еще не доводилось испытывать в других житейских обстоятельствах. В присутствии Макакуса сам Мердруп теряет обычную дерзость и хладнокровие.
Только один учитель нагоняет на школьников такой же страх, как Макакус. Это француз Оремарк. Но он преподает в старших классах. Его яростный рев слышен сквозь стеклянную дверь смежного класса. Встречая его в коридоре или на лестнице, младшие школьники, дрожа, жмутся к стене. В глубине души они надеются, что Оремарк умрет прежде, чем они доберутся до первого класса гимназии.
Макакус — человек крошечного роста. Трудно определить, сколько ему лет, но мальчики убеждены, что он преподает со времен глубокой древности. У него седые бакенбарды, которые придают ему сходство со старой обезьяной, и маленькие, злые, близко поставленные глазки.
Говорят, что в частной жизни Макакус добрейшая душа. Ходят слухи, что он играет на виолончели. Рассказывают, что однажды кто-то видел его во Фредериксбергском саду, где он мирно играл со своими маленькими внуками. Но в это невозможно поверить. Гимназисты третьего класса утверждают, что на самом деле математик — умный, славный человек, но это звучит как зловещая шутка. Макакуса вообще невозможно представить в частной жизни. Для третьего класса средней школы он воплощение леденящего душу ужаса.
Вот он вихрем влетает в класс и еще на бегу кричит:
— Тюгесен! К доске!
Под мышкой у Макакуса стопка ученических тетрадей, которые он яростно швыряет на кафедру, злобно тараща маленькие глазки из-под седых кустистых бровей. Вся его крошечная фигурка дрожит. Слух оправдался: Макакус действительно зол как черт. Класс цепенеет от страха.
Тюгесен тяжело поднимается. Его большие глаза беспомощно моргают. Губы подергиваются. Все, что он повторял в уборной, забыто. Он совершенно потерял голову.
Макакус приблизился к Тюгесену и стоит перед ним, уперев руки в бока. Учитель меньше толстяка мальчишки. Он злобно впился взглядом в Тюгесена, содрогаясь от гнева. Тюгесен перестает моргать. Пустым взглядом он как загипнотизированный смотрит прямо в глаза Макакуса.
Так проходит несколько минут. В классе стоит мертвая тишина. Все перепуганы, но каждый в глубине души радуется, что не ему пришлось стоять перед Макакусом у доски.
А Тюгесен не замечает ничего, кроме маленьких разъяренных глаз учителя.
Вдруг Макакус выкрикивает:
— Мерзавец! Негодяй!
Он кричит во всю мощь своих легких, так, что его слышно почти во всей школе. В двух смежных классах наступает тишина, за стеклянными дверями маячат испуганные лица.
Схватив Тюгесена за вихор, Макакус пригибает его голову к себе так, что мальчик чувствует на лице зловонное дыхание учителя. А потом он больно тычет в затылок Тюгесена маленькими твердыми костяшками пальцев.
Пока еще никто не понимает, в чем дело, меньше всех Тюгесен. На глазах у него выступают слезы, он чувствует, что виновен в тягчайшем преступлении, но понятия не имеет, в чем оно состоит.
Только когда Макакус выпускает, наконец, его голову и, устремившись к кафедре, хватает верхнюю тетрадь из стопки, Тюгесену становится ясно, что, по-видимому, он наделал роковых ошибок в домашнем задании.
Макакус раздраженно смотрит то в тетрадь, то на Тюгесена.
— И это свинство ты осмелился мне подать? Ты посмел подать мне эту мерзость? Знаешь, кто ты такой? Не знаешь? Ну, так я тебе скажу! Ты мерзавец! Мерзавец! Мерзавец!
И начинается разбор задания, в котором Тюгесен наделал ошибок. Па доске рисуются окружности. Проводятся секущие, касательные и прямые, исходящие из одной точки и пересекающие окружность в разных местах. Теперь надо вычислить произведение секущей на ее внешнюю часть, степень точки и какое-тосреднепропорциональное. Потом появляется вписанный в окружность четырехугольник, произведение диагоналей которого, согласно теореме Птолемея, равно сумме произведений противоположных сторон. Теперь надо вычислить какие-то расстояния, площади и углы. Все это, наверно, очень просто, когда понимаешь в чем дело. Но Тюгесен ничего не понимает. Он уставился на прямые и окружности, но в голове у него пустота. Он даже не пытается вникнуть в слова учителя. Страх парализовал его рассудок.
В непонятливости ученика Макакус усматривает злостное упрямство, дурной умысел, хладнокровно обдуманную каверзу со стороны Тюгесена.
— А, ты еще упорствуешь! — кричит он. — Упорствуешь! Мерзавец! Мерзавец!
Ярость его настолько велика, что он не решается поднять руку на Тюгесена из боязни его изувечить. Поэтому он обращает свой гнев на неживые, бесчувственные предметы. Под руку ему попадается штепсель, и он с нечеловеческой силой хватает его и выдергивает вместе со штукатуркой, проводами и шурупами.
По щекам учителя текут слезы. Он не только разозлен, он огорчен и обижен.
— Садись! — кричит он. — Садись на место! Ставлю тебе двойку, мерзавец!
Тюгесен кладет мел и, пошатываясь, бредет к своей парте.
— Меллер, теперь иди ты! Реши уравнение...
Меллер решает. Медленно, осторожно он выписывает формулу, и Макакус следит за ним, дрожа от нетерпения. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он выхватывает мел у Меллера и сам продолжает вычисления. В бешеном темпе. Доску заполняют цифры, иксы и игреки. Мел крошится, но учитель продолжает писать, обламывая ногти, скребущие доску.
Меллер понимает, что он спасен. Когда Макакус начинает считать сам, он забывает обо всем и не может остановиться. Он только изредка поворачивается к Меллеру, спрашивая: «Верно?»
— Да, — отвечает Меллер.
Класс напряженно следит за вычислениями. Многие ученики прекрасно понимают все, что пишет учитель. Но есть и такие, которые бессмысленно таращат глаза на доску.
А доска испещрена цифрами и окружностями.
Потом все стирается тряпкой. Оказывается, то же самое можно доказать другим способом, в чем легко убедиться. Учитель объясняет этот новый простой способ доказательства, доску заполняют новые колонки цифр, новые окружности, новые вписанные многоугольники, опять вычисляются какие-то среднепропорциональные, мел крошится, и ногти скребут о доску.
Глава 20
В три часа уроки кончаются. Двести маленьких образованных граждан складывают свою ученость в ранцы и портфели. Они снимают с вешалки пальто, плащи и шапки и, толкаясь и галдя, устремляются вниз по лестнице.
Их рабочий день еще не окончен. Вернувшись домой, они должны готовить уроки. Зубрить правила, писать сочинения, решать задачи.
Но самая опасная часть дня позади. Поэтому дорога от школы до дому — это оазис посреди длинного трудового дня.
Мальчики гурьбой высыпают из ворот школы и расходятся в разные стороны. Они болтают, кричат, дерутся портфелями. И всегда держатся стайками.
Только Харрикейн постоянно один. За ним на автомобиле приезжает отец. Старомодная машина на высоких рессорах вызывающе подкатывает к самым дверям школы, точно в ней должен уехать сам ректор.
Отец Харрикейна — коммивояжер, разъезжающий по городам с маленьким чемоданчиком, где лежат образцы мыла, духов, заколок и гребней. Но он предпочитает называть себя директором. Когда к нему звонит кредитор, он говорит: «Господина директора нет дома». Пусть кредитор думает, что к телефону подходил секретарь, делопроизводитель или лакей. А если Харрикейну-старшему кажется, что звонит покупатель, он отвечает: «Минутку, я позову шефа!» — и, сидя у телефона, топает ногами, чтобы казалось, будто директору приходится идти по длинной анфиладе комнат. А потом говорит измененным голосом: «Директор Харрикейн слушает».
Заветная мечта фру Харрикейн — чтобы сын вырос более образованным и культурным человеком, чем его отец. Когда он станет взрослым и женится, его жене не придется поправлять мужа на каждом слове, бороться с жаргоном и учить правилам поведения за столом, как это поминутно делает она сама. Сын должен с детства стать культурным человеком и служить примером отцу. Поэтому Харрикейна оберегают от всякого дурного влияния. За ним в школу приезжают на машине: отец уверен, что старомодный автомобиль внушит уважение к его сыну,
— Где ты так загадил свой воротник, Иорген? Утром он был чистый и выглаженный. Ты опять хулиганил?
— Я не виноват. Ребята насильно держали меня под водостоком.
— Ты всегда сваливаешь на других. А мать увидит и огорчится. Она хочет, чтобы ты вел себя, как хороший, послушный мальчик. А ты хулиганишь, как уличный босяк. Сейчас же покажи ей, во что ты превратил воротничок, и попроси прощения.
Директор Харрикейн резко сигналит на повороте и катит с сыном к себе домой.
Учителя тоже расходятся по домам. Выходя на улицу, они становятся обыкновенными людьми. Они уступают дорогу встречным, они вежливы и не бросаются на окружающих. Даже Макакус ведет себя миролюбиво и скромно, как все рядовые граждане. Бломме едет в трамвае, и он уже больше не Цезарь, а маленький седой человек в пальто и калошах. Никто его не приветствует, не уступает почтительно дорогу. Наоборот, его толкают, ему наступают на ноги, и он безропотно все это терпит. Инспектор Шефф, в круглой шляпе, с портфелем и с трубкой во рту, идет домой пешком. Он больше не надсмотрщик, не полицейский. Ему приходится подчиняться указаниям настоящего полицейского и терпеливо дожидаться у перехода зеленого света. Молодой худощавый адъюнкт Лассен, лавируя на велосипеде среди машин, уныло думает, что отец наверняка опять явится к обеду, а жена опять будет ворчать, что ей не хватает денег на хозяйство.
Ректор едет на такси в Христиансборг, где его ждут важные дела. Собственно говоря, у него совершенно нет времени на эту побочную нагрузку — руководство школой. Он по горло занят ригсдагом, комиссиями, комитетами, правлениями... Но зато только в школе он может дать волю своим пухлым рукам.
Одному из учителей приходится задержаться в школе, чтобы надзирать за теми, кто провинился и оставлен после уроков. Всех преступников сгоняют в один класс на первом этаже, а товарищи подбрасывают им в окно мешочки с печеньями и шоколадками, чтоб они не чувствовали себя одинокими и заброшенными, сидя взаперти.
Наказанные не всегда повинны в преступлениях, за которые расплачиваются, но они отказались назвать истинного виновника и поэтому пользуются сочувствием всего класса. «Все — за одного, один — за всех!» Ректор называет это «ложно понятым чувством товарищества» и «преступным сговором».
Пока узники томятся в бездействии, наступает хмурый ноябрьский вечер. Из полуподвальной каморки выходит сторож, а потом его жена, которую ребята прозвали «сторожесса». Она несет ведро, метлу и тряпку, а маленький сутулый сторож — корзину с топливом, которым он наполняет огромные ящики в каждом классе.
Фамилия сторожа Петерсен. Какой-то ученик назвал его однажды «господином Петерсеном».
— Кто такой «господин Петерсен»? — осведомился ипспектор Шсфф.
— Господин Петерсен — это сторож.
— Сторожа зовут Петерсен, а не господин Петерсен.
Так ученики постигают, что классы существуют не только для школьников.
Глава 21
Утром в школу приходится бежать как на пожар. Зато днем по дороге домой можно не торопиться.
Амстед и Могенсен выходят из школы вместе. Могенсен поверх ранца носит плащ внакидку. Он кажется в нем более взрослым и становится как бы шире в плечах. К тому же в этом дождевике он чувствует себя, как в маленькой палатке. Дома у Могенсена так тесно, что у него нет собственного угла. А в плаще он точно улитка в раковине.
Могенсен воображает себя то разбойником, то таинственным путешественником в монашеской рясе. Загадочным незнакомцем, под плащом которого зреют великие планы и дерзновенные замыслы.
Ребята заходят в ботанический сад. Петляют по извилистым боковым дорожкам. Минуют сосновую рощу и мостки, взбираются на холм, поросший альпийской растительностью, спускаются вниз, в пальмовую оранжерею, похожую на тропический лес.
Золотые рыбки мелькают в воде под огромными плавучими листьями виктории-регии. С ветвей деревьев свисают вьющиеся растения. Банановая пальма увешала гроздьями зеленых плодов, а на верхушках высоких финиковых пальм красуются продолговатые яркие цветы. Побеги сахарного тростника, бамбука и папоротника тянутся вверх, к свету, а внизу, в полумраке, свисают крупные, темно-зеленые, блестящие листья. Воздух напоен горячим пряным запахом тропиков. Здесь так жарко, что прорезиненный дождевик Могенсена вот-вот расплавится. Теперь Могенсен уже не замаскированный разбойник. Он Купец Хорн21, а Амстед — Стенли22.
— У нас еще осталось немного провианта, — говорит Стенли, вытаскивая из кармана засохший бутерброд.
Он не успел съесть его на перемене, а мать сердится, когда находит в кармане сына остатки завтрака. Она всегда говорит, что он должен помнить о тех бедных детях, которые в глаза не видят хлеба и были бы счастливы и благодарны, если бы не отдали два засохших бутерброда с яичницей.
Тропическая экспедиция делает привал под пальмами и с аппетитом поглощает съестные припасы. Туземцы-садовники, работающие в оранжерее, настроены миролюбиво и не трогают белых путешественников.
— Я теперь твердо решил: кончу школу, поеду в Африку, — говорит Амстед.
— Я, наверное, тоже соберусь туда. Но сначала в Южную Америку. Говорят, там жуки величиной с воробья. Здорово было бы поймать несколько штук.
— Ты мог бы поднести их в дар школе, и о тебе упомянули бы на выпускном акте.
— Вот еще! Я буду хранить их в моей собственной коллекции, а когда умру, завещаю зоологическому музею. А тебе я отдам все дубликаты. Но школе их не видать как своих ушей. Тюрьма проклятая!..
— Хоть бы она сгорела!
— Знаешь, ее ничего не стоит поджечь, и никто даже не узнает. Накрошить фосфору в химическом кабинете, и пусть он себе там лежит и тлеет. А еще лучше — в зоологическом кабинете, там стоят банки со спиртом. Вот будет пожар!..
Джунгли напоены сладким ароматом. Это цветут орхидеи. А к мимозе стоит прикоснуться, и она сворачивает лепестки. Ребята пробираются каждый своей тропинкой сквозь заросли в большой круглой теплице, и, когда встречаются вновь, Амстед говорит:
— Если не ошибаюсь, мистер Ливингстон23?
— Да, сэр, — отвечает Могенсен. На «мистере Ливингстоне» очки, матросская шапочка и плащ, из-под которого торчат худенькие ноги.
За стенами теплицы идет дождь. Пелена дождя плотно окутала альпийский холм. Но путешественникам необходимо совершить еще одно восхождение по узеньким каменистым тропинкам, серпантином вьющимся вокруг холма. Кактусы и теплолюбивые кустарники уже накрыты еловыми ветками, но маленькие закаленные альпийские растения еще цветут в это неподходящее время года.
Холм — это Гималаи. Пик Эверест. Друзья первыми достигли вершины. У их ног раскинулась половина Азии. Вот Индия, а вот Тибет, а дальше сквозь пелену дождя виднеется зеленый купол городской больницы и какая-то фабричная труба. Портфель Амстеда и ранец Могенсена — это кислородные баллоны, благодаря которым альпинистам легче дышать в разреженном воздухе.
— На какую высоту мы поднялись?
— Я забыл точную высоту Гималаев. По-моему, около десяти тысяч метров.
— Мне очень нравится альпинизм. Как только кончу школу, попробую взобраться на настоящий Эверест. Разве это так уж трудно?
На свете столько интересных вещей, которые предстоит испробовать, как только удастся вырваться из школы. Мир громаден, и ребятам хочется все увидеть и все испытать. Амстед уверен, что поедет в Африку, а Могенсен твердо решил, что будет собирать гигантских жуков в Южной Америке и поднимется на Эверест.
Впереди еще так много времени. Чего только они не успеют совершить! Откуда Амстеду знать, что ему никогда в жизни не придется уехать дальше Северной Зеландии.
Ребята выходят из ботанического сада. На другой стороне улицы расположен Восточный парк, по которому они тоже любят бродить. Огромная территория парка заросла деревьями и густым кустарником. Там рыскают сторожа, которые преследуют тех, кто ходит по газонам.
Могенсен поверяет Амстеду кое-какие планы насчет «Черной руки». Он берет с Амстеда слово, что тот будет хранить молчание. Планы эти — величайшая тайна, но Могенсен употребит все свое влияние, чтобы Амстеда приняли в члены банды.
— Помни, никому ни слова! Мы будем скрываться здесь, в Восточном парке.
Решение было принято на перемене. Через несколько дней банда начнет свою деятельность. Теперь самое напряженное время.
Амстеду до смерти хочется, чтобы его приняли в банду.
— Поклянись, что будешь молчать! — требует Могенсен.
— Амар! — клянется Амстед и проводит указательным пальцем вокруг шеи.
Амстед живет на Упсалагаде. Ему пора домой. Уже пятый час. Дома его ждет овсяная каша, молоко и рыбий жир. Из-за этого у него кусок не идет в горло во время обеда, который начинается два часа спустя, когда отец приходит из конторы. Дома уже приготовлены туфли и шерстяные носки, которые нужно надеть, вернувшись из школы. Дома Амстед уже не Амстед, а Теодор, и мать сокращенно зовет его Тео, хотя он много раз умолял ее не называть его так, особенно в присутствии товарищей.
Могенсен живет дальше, в районе Эстербро, на Виллемоесгаде. Его тоже ждет овсяная каша и рыбий жир. Но родители Могенсена — люди верующие, поэтому, прежде чем съесть кашу и рыбий жир, члены семьи благодарят господа за его дары. Дома Могенсена зовут Микаэль. У него много братьев и сестер. Младшие донашивают одежду старших. Отцу Могенсена нелегко достаются божьи дары. Почтовый контролер — нервный, больной человек. Его многочисленные дети дерутся, плачут и ссорятся между собой.
После еды надо готовить уроки. У Теодора Амстеда отдельная комнатка с письменным столом и книжной полкой. Здесь он сидит по вечерам, читает, считает, перелистывает словари и выписывает слова. Иногда к нему заходит мать посмотреть, чем он занимается. Отец проверяет устные задания, просматривает сочинения, решение задач и рассказывает сыну, что когда-то он тоже ходил и школу и был самым прилежным учеником в классе. Когда-нибудь Теодор тоже станет таким же прилежным учеником, каким был его отец.
Микаэль делает уроки за обеденным столом. Он затыкает уши пальцами, чтобы ему не мешали. Младшие братья играют на полу в железную дорогу, они пыхтят, стучат и громыхают. Старшая сестра сидит за швейной машиной, братишка-школьник зубрит латынь и бормочет себе под нос какие-то гекзаметры. Отец с газетой и трубкой поместился на стареньком диване, обитом красным плюшем. С девяти до шести он работает на почте. А вечером проверяет, учат ли сыновья уроки или, загородившись стопкой учебников, тайком читают Рокамболя. Он шикает на детей, пытаясь водворить тишину и порядок: «Оставь в покое скатерть! Смотри не исцарапай пол своим паровозом! Не ковыряй в носу, Микаэль! Держись прямо!»
Со стены на семейство Могенсенов взирает мученик Христос в терновом венце, с каплями крови на челе.
Глава 22
Стайка школьников зашла в лавчонку на улице Ландемеркет. Это Горн, Тюгосен, Гернильд, Неррегор-Ольсен и Рольд.
В лавчонке на Ландемеркет летом продается мороженое, а зимой желтоватый пудинг с красной подливкой. Покупателей обслуживает хозяйка — толстая блондинка. Мальчики не знают ее имени и называют просто «хозяюшка». Она славная, приветливая, добродушная и от всего сердца смеется, когда ребята рассказывают школьные истории и передразнивают учителей.
— Мерзавец! Негодяй! Садись! Ставлю тебе двойку! — кричит Горн голосом Макакуса.
И хозяйка весело смеется, хотя слышала все эти выкрики бессчетное множество раз и наизусть знает все, что говорит Макакус.
— Ух! Ну и злющий он был сегодня! — говорит Неррегор-Ольсен.
— Какое там злющий, — протестует Тюгесен. — По-моему, просто бешеный, черт его дери! Я никак не мог понять, чего эта скотина от меня хочет. Просто душа в пятки ушла. У меня до сих пор на голове шишки от его проклятых когтей. Пощупайте!
И хозяйке приходится пощупать голову Тюгесена, чтобы удостовериться, что он говорит правду.
— Господи помилуй, и в самом деле! — ужасается она. — Вот злюка! Какая у вас странная школа! Хорошо, что я была глупой девочкой и меня не заставляли учиться.
— Он сорвал штепсель со стены, — вспоминает Гернильд. — Просто дикий зверь. Мы думали, он тебя убьет.
— Еще бы! — бормочет Тюгесен. — Скажите, хозяюшка, можно мне еще одну порцию в кредит до субботы?
— Пожалуйста, — говорит хозяйка. — Тебе надо подкрепиться после истории с этим вашим Макакусом. — И она накладывает ему на тарелку двойную порцию пудинга.
В лавочке живет настоящая макака. Маленький злой зверек. Это любимец хозяйки. Мальчишки в шутку называют его «Лектор Дюэмосе» — таково мирское имя их собственного Макакуса.
Хозяйка, смеясь, утешает зверька:
— За что они называют тебя Дюэмосе? Бедное мое сокровище! Тебя обидели!
Мальчикам очень уютно в лавочке на Ландемеркет. Здесь они отдыхают после дневных забот. Иногда учат уроки. Сидя за маленькими столиками, списывают друг у друга сочинения и задачи. И бывает, что на тетрадке остаются пятна от красной подливки.
Датский, история, немецкий, гимнастика, английский, физика. Это расписание на завтра. Хуже всего немецкий. Они проходят глаголы с отделяемыми приставками, и надо запомнить пропасть таблиц и исключений. А потом еще заданы упражнения на существительные и числительные, ради которых приходится учить наизусть целую историю про какого-то путешественника, который приехал на постоялый двор.
— До чего ж вы ученые, просто жалость берет, — говорит хозяйка.
А Бломме! Еще один светоч науки! Воображает, что очень умно острит. И если не засмеешься, так и кипит от злости. На всех уроках сосет леденцы. Под самым носом у ребят, и хоть бы раз угостил кого-нибудь! Чтоб ему подавиться этими леденцами и сдохнуть от жадности!
Потом надо написать домашнее сочинение на датском языке. О жизни муравьев. Начать лучше всего так: «Еще древние египтяне с изумлением наблюдали за трудовой деятельностью муравьев». Или: «Еще царь Соломон говорил: «Пойди к муравью, ленивец, и будь мудрым!» Господин Ольсен знает точный рецепт, как писать сочинения. Сначала вступление, потом изложение темы, потом заключение. В заключении не худо опять сослаться на царя Соломона. Непонятно, почему господин Ольсен не сделался писателем, раз он так хорошо знает, что и как надо писать.
Уроков хватает на целый вечер. А на игры и забавы времени нет. У школьника третьего класса много обязанностей. Отдохнуть удается только в лавочке на Ландемеркет по дороге домой.
А кругом столько соблазнов! Хорошо бы, например, подразнить двух старушек сестер, что торгуют в кондитерской на Готхерсгаде. То-то смеху, когда они злятся и выскакивают прямо на улицу.
— Ух! Убить бы вас, негодники! — закричала как-то одна из них.
— Вот бы я порадовалась, если бы полицейский отрубил тебе голову своей саблей! — крикнула другая Неррегор-Ольсену. Рольд пищит точь-в-точь как старушки кондитерши. Хозяйка узнает голоса сестер и смеется так, что по ее щекам катятся слезы.
— Ах вы, шалопаи! Всыпать бы вам как следует. Сорванцы вы этакие! Ох-ох! — и она держится за живот от смеха.
А в Королевском парке обитают «козявки», с которыми тоже интересно затеять сражение. «Козявки» — это прозвище малышей, которые строят домики из опавших листьев. Что за удовольствие напасть на них врасплох, затоптать домики и разогнать «козявок» в разные стороны!
Кроме того, в Королевском и в Восточном парках есть сторожа, с которыми мальчики находятся в состоянии непрерывной войны. Сторожам тоже нельзя давать длительную передышку. Врага из Королевского парка зовут Старик Ханс, а из Восточного — Скороход. Скороход более опасен. Он бросает в мальчиков палкой.
— А помните, как прошлой зимой он гнался за нами по льду? Чуть не поймал...
Но в один вечер со всем не управиться. Съели по куску пудинга, передохнули. Теперь пора домой — обедать.
— Черт возьми, я проголодался после этой истории с Макакусом, — с трудом выговаривает Тюгесен, еще не прожевав последний кусок желтоватого пудинга.
На улице Ландемеркет зажигаются фонари. Уже поздно, надо уходить. Ребята нехотя отправляются восвояси.
— До свидания, хозяюшка!
— До свидания, молодые люди! Позабавили вы меня!
Пять школяров шествуют под дождем каждый к своему дому, где их ожидает обед и домашние задания.
Глава 23
В дни своей молодости директор Харрикейн плавал стюардом на пароходе, который курсировал между Фредериксхавном и шотландским городком Лит. Впоследствии он всегда вспоминал об этом времени, как о годах, когда он «разъезжал по делам коммерции и учился в Англии».
Директор Харрикейн умеет говорить по-английски и старается построить свою жизнь на англосаксонский лад. Он любит рассказывать о роскошной шотландской природе, о том, какое там раздолье охотникам, потому что местным жителям запрещено возделывать землю. Ему нравятся клетчатые шотландские галстуки и носки, и он умеет играть в гольф и в бадминтон. «Олл райт!» — говорит он по телефону с чисто английской интонацией.
Когда пароход стоял в Литском порту, Харрикейн часто посещал воскресную школу для моряков. Но потом, вспоминая об этой школе, он стал называть ее колледжем. «Когда муж учился в шотландском колледже», — говорит фру Харрикейн.
Директор Харрикейн внимательно следит за успехами сына в английском языке, готовит с ним домашние задания и заставляет его пересказывать уроки. В одном параграфе речь идет о человеке, которого зовут Томас Хейвуд и который утром, встав с постели, видит из своего окна Хрустальный дворец. По мере того как герой надевает нижнее белье, оно описывается во всех подробностях. Бедняге Хейвуду приходится обливаться потом в своей многослойной одежде, чтобы ученики могли заучить все необходимые слова. Однако директор Харрикейн, отметив про себя все эти подробности, решает, что именно так должен одеваться истый английский джентльмен.
Иногда отец спорит с сыном о том, как надо произносить то или иное слово. Современная транскрипция, видимо, была изобретена после отъезда директора Харрикейна из Англии, и он ее не признает.
— Может, ты собираешься учить меня говорить по-английски? — спрашивает он сына. — Ты думаешь, что знаешь больше, чем твой отец?
— Но ты посмотри транскрипцию, отец. И господин Ольсен тоже так произносит...
— Англичане не употребляют никакой транскрипции, милый Иорген. Не знаю, был ли в Англии господин Ольсен, но я там был и там учился.
— Но, может, он все-таки прав? — робко вмешивается фру Харрикейн.
— Он не прав. Я полагаю, что знаю Англию и англичан немножко лучше, чем этот господин Ольсен.
— Но вдруг сейчас объясняют по-другому? Теперь ведь новые методы, — осторожно предполагает фру Харрикейн.
— Господин Ольсен говорит, что мы должны пользоваться транскрипцией, — настаивает Иорген.
— Ну, видно, он знает язык лучше, чем сами англичане. Хотел бы я послушать, что сказали бы англичане насчет этой самой транскрипции господина Ольсена! И вообще не смей возражать отцу!
— Да, милый Иорген, никогда не возражай отцу! — поддакивает фру Харрикейн.
— Может, твой господин Ольсен считает, что в английском колледже не умеют говорить по-английски?
Иорген сдается и произносит слово так, как требует отец, но одновременно старается не забыть, как его надо произносить в школе перед господином Ольсеном. Это своего рода двойная бухгалтерия. И такой двойной бухгалтерии немало в его жизни.
Он видит, как ведет себя отец, когда ему звонят по телефону. Как он сидит и топает ногами, чтобы клиент на другом конце провода думал, что директору приходится идти по длинной анфиладе комнат.
Он знает, что мать часто уносит из дома вещи в учреждение, которое называется «ломбард». Но дома говорят, что их снесли в починку, и Иорген должен делать вид, будто верит этому.
В жизни вообще много неразберихи. Людей, которые приносят счета и ругаются, требуя денег, отец называет покупателями и клиентами. При этом отец и мать внушают сыну, что он никогда не должен лгать. Обман, нечестность — самое худшее на свете. Надо всегда быть правдивым и честным, милый Иорген!
Но когда является мясник и кричит в прихожей, что он больше не намерен отпускать в кредит, дома говорят, что придется покупать у другого мясника, потому что у Нильсена стал теперь никуда не годный товар.
В прошлом году их фамилия была Хансен. В этом году они стали называться «Харрикейн». Обычная перемена фамилии. Но отец начал уже поговаривать о древнем роде Харрикейнов, происходящем из Старой Англии.
А товарищи в школе дразнят его из-за этой новой фамилии. Они дразнят его и за многое другое. Они отнимают у него нарядную шотландскую шапочку с длинными лентами, а его самого держат насильно под водостоком.
— Я люблю школу, — отвечает Иорген, когда кто-нибудь спрашивает его, нравится ли ему ходить в школу.
— Меня это очень радует, — говорит его мать. — Иорген любит свою школу.
Но Иорген не любит школьных товарищей. Он боится каждой перемены. По ночам его мучают кошмары. С учением он справляется легко. У него хорошие отметки. Уроки для него не страшны. Но перемены мучительны.
Запачканный воротничок вызывает град упреков.
— Меня огорчает, что Иорген всегда сваливает вину на других, — говорит его мать. — Провинился, так лучше признайся честно, не надо увиливать от ответственности.
Иорген плачет и твердит, что не мог же он сам держать себя под водостоком.
— Если бы ты был парень как парень, ты никогда не позволил бы другим держать тебя под водостоком, — говорит отец. — Ты сам держал бы под ним других! Когда я был мальчишкой, я мог отколотить в школе любого задиру.
— Но Иорген не должен драться, — возражает мать.
— Ешь как следует, тогда станешь рослым и сильным и справишься с ребятами, — говорит отец.
И Иорген ест за обе щеки. Но это не помогает. Утром его кормят овсяной кашей. После каши дают бекон и яйца — настоящий английский завтрак — «breakfast». А потом поджаренный хлеб с джемом — «toasts with jam». А потом молоко, пивные дрожжи и рыбий жир. Иорген высок ростом, упитан и всегда сыт до отвала. Но все-таки одноклассники его колотят.
— Вспомни все, что мы с отцом для тебя делаем, милый Иорген. И подумай, как ты нас огорчаешь, когда так небрежно обращаешься со своими вещами. Подумай обо всем этом в следующий раз, когда тебе вздумается испачкать воротничок. Порядок — самое главное в жизни. Я говорила тебе это сто раз. Порядок, порядок и еще раз порядок!
— Правильно, и в делах то же самое, — говорит директор Харрикейн. — Порядок прежде всего. Иначе фирма не может существовать.
— Слышишь, что говорит отец! — поддакивает фру Харрикейн.
Из Иоргена не выйдет делец. Ему прочат чиновничью карьеру. Уже давно решено, что он будет юристом.
— В наше время коммерческая деятельность слишком хлопотлива, — говорит директор. — Да и мне кажется, что она не по душе Иоргену. Конечно, я мог бы взять его в свою фирму. Но, по-моему, молодежь должна пробивать себе дорогу сама. Нельзя, чтобы за тобой все время ходила нянька. Пусть Иорген сам выбьется в люди и упрочит свое будущее. Это наиболее здоровый путь. Мы даем ему превосходное образование. Большего мы сделать не в силах. Остальное зависит от него самого.
— Если он станет юристом, он может поступить на службу в министерство, — говорит фру Харрикейн. — А потом сделаться начальником отдела.
— Или пойти по дипломатической части, — говорит ее муж. — Послом в Лондоне. Недурно ведь, правда?
— Ну, мы пока не знаем, есть ли у него к этому способности, — возражает фру Харрикейн. — Не надо строить воздушные замки. И потом в дипломатическом мире столько лжи. Я этого не люблю. Иорген должен всегда быть честным и правдивым.
Сам Иорген не знает, что такое юриспруденция, но ничего не имеет против того, чтобы сделаться юристом. У него нет никаких особых планов на будущее. Он может стать кем угодно. Нет границ его возможностям. Перед ним вся жизнь. Мир велик, богат и полон чудес.
Все в будущем. Он еще как бы не начал жить. Жизнь начнется позже. Ему уже пришлось сдать семь экзаменов, чтобы попасть в третий класс средней школы. Но ему предстоит еще очень-очень много экзаменов, прежде чем он займется юриспруденцией и начнет жить.
Глава 24
Сегодня дежурит Торсен. Кудрявый мальчик с темными раскосыми глазами. Торсен похож на цыганенка и любит бродяжничать. Кроме того, он собирает жуков, бабочек и улиток и увлекается естествознанием.
Дежурных назначают в алфавитном порядке. Дежурство продолжается неделю. Оно влечет за собой много разнообразных преимуществ.
Дежурный отвечает за порядок в классе. Он должен стирать с доски и заботиться о том, чтобы к уроку был мел и влажная тряпка. У него хранится ключ от шкафа, где сложены тетради и забытые в классе учебники. В его обязанности входит также топить печь буковыми чурками, которые сторож накануне приносит из подвала. Буковыми чурками с лесного участка, принадлежащего школе.
Топка печи — самая увлекательная обязанность дежурного. Некоторые педагоги, как, например, господин Ольсен, который всегда зябнет по утрам, любят, чтобы в классе было жарко натоплено. Другие, как, например, господин Бломме, не переносят жары. И дежурный прилагает все усилия, чтобы каждый получил то, чего он не терпит. Перед уроками Бломме он топит так, что печь раскалена добела. Тогда ученики могут быть спокойны: большая часть урока уйдет на отпирание окон и ругань.
— Что за идиот сегодня дежурит? A-а! Это ты, Торсен? Почему ты топишь как сумасшедший? Я тысячу раз говорил, что терпеть не могу жару! И к тому же это бессовестное расточительство: жечь почем зря казенное топливо!
— У нас только что был урок господина Ольсена. А он сердится, когда в классе холодно. Он мне велел протопить как следует, — Торсен разыгрывает оскорбленную невинность, а Бломме неистовствует:
— Кретин! Болван! Натопить так, что можно изжариться живьем! А все потому, что топливо казенное. Такова мораль датских граждан.
— Но господин Ольсен хотел...
— Молчать! Мне до этого нет дела. Я говорю о тебе. Это ты идиот!
Во время перемены дежурный остается в классе. Благодаря этому он успевает повторить уроки и, заглянув в чужие тетрадки, исправить ошибки в домашнем задании. Вдобавок он может спокойно позавтракать, не опасаясь, что его бутерброды промокнут под дождем или будут выбиты у него из рук. У дежурного много преимуществ. На уроке он может попроситься выйти в уборную: ему ведь нельзя оставить класс во время перемены. Этим правом он широко пользуется на каждом уроке. «Потерянное время не вернешь», — гласит пословица, но ребята не жалеют о потерянных уроках.
Перед уроками Водяного проводится особая подготовка. Водяной преподает географию. Эти уроки — настоящие каникулы, светлое пятно в школьном расписании. Ребята ничего не имеют против географа. Ни один из них не питает к нему ненависти. Школьники знают, что он славный, добродушный человек. Но всю ненависть, которая в них накопилась к Макакусу, Бломме, Шеффу и другим учителям, они обрушивают на беднягу Водяного. Весь подспудный протест против школы с ее казарменным духом и муштрой прорывается наружу на его уроках. Все, что они вынуждены сдерживать в течение целого дня, перехлестывает через край на уроке географии и принимает характер фантастических оргий. Трудно найти более беззащитную жертву этой изуверской энергии, чем Водяной.
Водяной — маленький горбатый старичок. У него неправдоподобная, почти фантастическая внешность. Огромные уши придают ему сходство с летучей мышью. Громадный рот как у жабы. Большущие кисти на тоненьких ручках напоминают рыбьи плавники. Лицо в самых неожиданных местах усеяно волосатыми бородавками. Из-под густых седых бровей смотрят грустные глаза.
Перед началом урока дежурный вытаскивает из печки головешки, чтобы весь класс наполнился едким дымом. Это необходимая подготовка для неизменно повторяющейся жалобы, что печка чадит и надо проветрить класс.
— Знаю, — бормочет кроткий Водяной. — Это вы сами надымили. Не беда! — Водяной так привык к дыму, что не обращает на него внимания, даже когда весь класс задыхается от угара и жженая резина воняет так, что нельзя терпеть.
Но школьники начинают чихать, кашлять, плеваться как одержимые и требуют, чтобы открыли окно. Окно распахивают среди чудовищного шума и гомона.
Вдобавок перед уроком географии в шкаф, где хранятся тетради и забытые мешочки от завтраков, обычно вталкивают Харрикейна. Несмотря на его сопротивление и плач, Иоргена укладывают на одну из полок, и дежурный запирает шкаф на ключ.
Класс проветрен, учителю удается водворить относительную тишину, и он начинает объяснения, но в это время из шкафа, где от недостатка кислорода задыхается Харрикейн, доносится шорох.
— Ой, в шкафу крысы! — вопят ребята.
Начинаются поиски пропавшего ключа, и проходит
немало времени, прежде чем Харрикейна выпускают на свободу.
Гнев учителя обрушивается на ни в чем не повинного Харрикейна.
— Ах ты, щенок! Дрянной мальчишка! Ты всегда подстраиваешь глупые шутки!
Водяной замахивается огромными плавниками, но беспомощно опускает их. Он никогда не бьет учеников. Быть может, он понимает, что если даст волю своему гневу, он способен искалечить детей. Поэтому он только издает какие-то странные звуки и брызжет слюной от негодования. В его грустных глазах стоят слезы.
Харрикейн получает двойку по географии, хотя его мать каждый раз сама проверяет, как он выучил урок. Но такова единственная месть Водяного.
По условному сигналу сложенное кучей топливо при помощи специального приспособления рассыпается по полу. Под партами с дробным треском перекатываются карандаши. В воздухе носятся бумажные шарики, пущенные из рогаток. Класс наполняется отвратительными звуками и запахами.
Иной раз учитель, ведущий урок в соседнем классе, распахивает дверь и, хватая за шиворот первых попавшихся под руку сорванцов, награждает их затрещинами. Такое вмешательство помогает установить относительный порядок, но оно смущает и унижает Водяного.
Пока географ рассказывает о климате и населении разных стран и, водя указкой по карте, показывает торговые пути и реки, мальчики готовятся к очередным урокам, переписывают упражнения, решают задачи. Тюгесен, сидя под партой, уплетает бутерброд.
Предполагается, что Водяной ничего не видит и не слышит. Быть может, он все отлично видит, но предпочитает эту обманчивую тишину шуму, который слышен в соседних классах и приводит к вмешательству его коллег,
Быть может, это странное существо Водяной — такой же человек, как все, и вне стен школы живет обычной человеческой жизнью. Быть может, он женат и у него есть дети, которые называют его папой и восхищаются им.
Никто из учеников не задумывается над этим. И никто из них не задумывается над тем, почему они отравляют существование этому беззлобному старику.
Глава 25
Каждую субботу школьники приносят домой дневник — табель успеваемости, как его именуют на официальном языке школы.
Табель — дело нешуточное, во многих семьях из-за него текут слезы, разыгрываются скандалы и гибнут субботние вечера.
Каким зловещим смыслом наполнены замысловатые отметки, которые учителя изобретают по своему вкусу и разумению и вписывают в журнал. Какой-нибудь плюс или минус может разрушить мир семейного очага. Годовая отметка на один балл выше или ниже может роковым образом отразиться на всей будущности ученика.
Большая власть вверена человеку, который заполняет дневник. Он выступает в роли самой судьбы. Не трудновата ли такая роль для адъюнкта?
В школе применяется система Эрстеда: таблица отметок с плюсами и минусами. Чудо хитроумия и изобретательности, радующее сердце инспекторов учебных заведений. Мудреное сооружение, составленное из цифр и мистических чисел. Игра, в которой 23 очка с минусом означают, что ты исключен и погиб.
Но отметка, записанная в дневнике, сама по себе еще не имеет решающего значения. Для родителей и опекунов недостаточно увидеть табель своего собственного ребенка. Чтобы высказать мнение об отметках, надо узнать, что делается в других дневниках. Поэтому каждого ученика выспрашивают, какие отметки получили его ближайшие друзья; все познается в сравнении. В конце года ученики получают порядковый номер в списке класса. В зависимости от успехов. Конечно, никто не желает своему товарищу неприятностей и плохих отметок. Но все-таки... Как приятно, если товарищ получит аттестат чуть-чуть хуже, чем твой.
Умная, продуманная система, развивающая в детях черты характера, которые ценятся в обществе.
В понедельник с утра и в субботу после занятий школьники и учителя собираются на торжественное песнопение. Оно происходит в актовом зале, где со стен угрюмо смотрят портреты покойных ректоров. Ребята не знали этих ректоров, но наслышались о них жутких рассказов. Отцы и деды многих учеников посещали школу на площади Фруэпладс и вспоминают о прежних зверских порядках.
В актовом зале высится огромная кафедра, украшенная таинственной греческой надписью. По бокам бюсты Сократа и Платона. Старый школьный орган расположен на подмостках, с них учитель пения дирижирует хором.
Учителя пения зовут Матеус. Оригинальная, заметная личность. Он органист и композитор. Блестящая лысая макушка наподобие тонзуры, окруженная венчиком волос, придает ему сходство с духовным лицом. Но черными закрученными усиками и остроконечной бородкой он напоминает итальянского дирижера или шарманщика. От него исходит странный сладковатый запах портвейна и помады, который бьет в нос ученикам, когда Матеус приближается к ним, чтобы схватить кого-нибудь за ухо или надавать пощечин.
На улице Матеус носит плащ, длинный развевающийся шарф и широкополую шляпу. Если ученик забыл поклониться ему при встрече или поклонился наспех, недостаточно высоко приподняв фуражку, Матеус обязательно вспомнит об этом на ближайшем уроке пения.
— Подойди сюда, я тебе дам пощечину! — торжественно возгласит он. — Это научит тебя здороваться как следует. Полагаю, что меня нетрудно узнать на улице. Я требую вежливости и уважения!
На всех уроках пения, какие сохранились в памяти учеников, они разучивали длинную ораторию о заходе солнца: «Садится солнце в тихий час за горные вершины». Даже гимназисты из третьего класса не могут точно сказать, когда они впервые начали разучивать эту ораторию. Ее шесть голосов записаны на ворохе листов нотной бумаги, которые хранятся в стенном шкафу и вечно перепутываются, когда их надо раздавать ученикам. Ребята понимают, что им до конца школы не разделаться с ораторией. «Сосунки» поют партии сопрано и альтов. Потом их голоса ломаются, и они становятся тенорами и басами. Но и тогда они успевают дойти только до середины оратории, и, судя по всему, им никогда не продвинуться дальше того места, где «Сомкнулись лепестки вьюнка, цветок поник главою...».
Кроме того, на уроках пения ребята занимаются «упражнениями для развития слуха», в которых они ничего не понимают и вряд ли когда-нибудь поймут. И, наконец, они разучивают псалмы для торжественных песнопений. Ребята особенно любят псалом «Ты путь нам указуешь», потому что он очень длинный и отнимает большую часть первого урока в понедельник.
Когда в актовый зал входит ректор, Матеус делает знак рукой, задает тон, и хор гремит:
Играй, псалмопевец блаженный, на арфе,
На струнах играй золотых!
Для господа нашего будем играть мы
И славить его в песнопеньях своих.
Ребята не пытаются вникнуть в смысл малопонятных слов, но блаженного псалмопевца, который играет на золотых струнах арфы, всегда представляют себе в образе учителя пения.
Учеников выстраивают вдоль одной из боковых стен. Перед ними у греческой кафедры шеренгой стоят учителя, с подозрением следящие за певцами. Только один адъюнкт Лассен подпевает ученикам. Широко открывая рот, он растягивает верхнюю губу и старательно выводит верхние ноты, когда звук остальных голосов уже давно замер.
Вот они стоят все вместе. Лассен, Бломме, Макакус и маленький Водяной, Ольсен, Шефф и седобородый старик Мелас.Преподаватель фрапцузского — грозный Оремарк с мефистофельской бородкой и неровной линией бровей. Учитель закона божьего — лектор Магнуссен, по прозвищу Пророк. Худая, тощая личность в засаленном фраке, странных полосатых панталонах и сапогах с отворотами. У него длинная седая окладистая борода, красный нос и шишковатый лысый череп. Учитель гимнастики господин Эйбю, подтянутый, полный достоинства, с военной выправкой и все-таки не совсем уверенный в себе: он зпает, что другие преподаватели смотрят на него свысока, потому что он не такой ученый, как они. Адъюнкт Стеффенсен с чернильной полосой в усах и с чернилами под ногтями. И все остальные педагоги. Они стоят, как воплощение самой судьбы, и бросают на учеников мрачные взгляды.
Не подумайте, что это злодеи, ненавидящие детей и желающие причинить им вред. Это добросовестные, ревностные служаки. Многие имеют докторскую степень и создали ценные научные труды. Это образованные, знающие, способные люди.
Но все-таки им, очевидно, недостает каких-то способностей, раз дети видят в них своих врагов. Ожесточенных, безжалостных врагов, без которых жизнь была бы куда счастливей.
Глава 26
В субботний вечер Эрику Рольду разрешили пойти в кино. Эрика пригласил его друг Гернильд, и родители дали ему деньги не только на билет, но и на порцию мороженого.
Эрик едва дождался наступления вечера и почти не ест за обедом. Он боится опоздать. Сеанс начинается ровно в семь.
— Зачем ты берешь в кино кинжал? — спрашивает мать.
Но Эрик чуть не плачет при мысли, что ему придется
оставить кинжал дома.
— Ладно, — говорит отец. — Пусть берет. Только дай слово, Эрик, что не вынешь его из ножен. Я все понимаю: ты идешь смотреть страшный разбойничий фильм — не мешает вооружиться до зубов. Ха-ха!
— Детям нельзя носить кинжалы, — замечает старшая сестра Рольда.
— Заткнись, — говорит Эрик, собираясь уходить.
— Как только пробьет девять — сейчас же домой, — напутствует отец.
Микаэль Могенсен ни разу в жизни не был в кино. У родителей нет денег на такие развлечения. Наверное, поэтому отец Микаэля говорит, что кинематограф наносит ущерб вере.
Но в эту субботу Микаэлю тоже позволили уйти из дому. Он собирается к Амстеду. Они хотят вместе решать задачи по математике.
— Вы что ж это, собираетесь списывать друг у друга? — спрашивает почтовый контролер.
— Что ты! Мы просто будем вместе решать. Господин Дюэмосе сам говорит, что это очень полезно.
— Микаэль никогда не станет обманывать учителя, — говорит фру Могенсен. — Да Теодор Амстед — хороший мальчик. Раз наш сын дружит с ним, я спокойна за Микаэля.
— Ты права, Амстеды — приличные люди. Они, кажется, живут на Упсалагаде? Прекрасный район. Видно, у них денег куры не клюют. Кто отец Амстеда? Кажется, директор конторы?
— Да, кажется, директор, — отвечает Микаэль.
— Ну ладно, иди. Только сперва вымой руки. И причеши волосы. Что подумает фру Амстед, если ты придешь в таком виде? И ровно в девять будь дома.
— Тогда мы ничего не успеем. Амстед никогда не ложится в субботу раньше десяти. Нам ведь завтра не идти в школу.
— Зато завтра мы пойдем в церковь. Раз тебе сказано, изволь слушаться. У нас в семье дети должны ложиться спать вовремя.
В четыре часа пополудни уже смеркается. А когда Могенсен, завернувшись в свой широкий плащ, выходит из дому, на улице почти совсем темно. Фонари отражаются в лужах на Эстербро. А в озере Черной Дамы мигают рекламные огни.
Могенсен бредет в своем дождевике, точно рыцарь, закутанный в плащ. Но идет он совсем не к Амстеду.
Да и самого Амстеда нет дома. Он только что объяснил своим родителям, что пойдет готовить уроки к Могенсену. И Теодору разрешили пойти к товарищу, потому что Микаэль Могенсен хороший, воспитанный мальчик.
Теодор Амстед бывает в кино, но очень редко, к тому же только на нравоучительных фильмах. Теодора не пускают в кино не из религиозных соображений. Просто фру Амстед считает, что это совсем неподходящее развлечение для детей. Оно только разжигает их воображение. А у Теодора и так слишком пылкая фантазия. И вообще кино — это увеселение для простонародья.
— Не засиживайся у Могенсена. Ты должен лечь спать не позже десяти. До свидания, Тео.
У Теодора нет кинжала, который можно заткнуть за пояс. Но в кармане у него маленький пистолет и зеленая коробочка с пистонами. В такой поздний час опасно выходить безоружным.
Амстед идет совсем не в ту сторону, где живет Могенсен. Он выходит на Стокгольмскую улицу и крадется вдоль ограды Восточного парка.
Он останавливается, озирается: не выследил ли его кто-нибудь? Но на улице ни души. Тогда он перелезает через ограду и спрыгивает в парк.
В парке темно и страшно. Ветер шелестит деревьями и кустарниками. Вдруг кто-нибудь притаился во мраке. Теодор сжимает в кармане пистолет. Правда, пистолет не заряжен, но в случае засады можно будет напугать врага.
Кругом такая тишина, что он слышит, как хрустит гравий под его ногами. Ему кажется, что кто-то идет за ним по пятам. Но Теодор должен продолжать свой путь. Дальше по тропинке к маленькому мостику, где сливаются два озера. Мимо Холма Самоубийцы — на этом холме несколько лет назад кто-то повесился.
В темноте трудно разобрать дорогу. Но внизу, у самого озера, становится немножко светлее: здесь видны огоньки домов, расположенных за оградой парка. У мостика Теодор останавливается и прислушивается. Ни звука, только ветер шелестит ветвями деревьев.
Тогда Теодор трижды топает ногой по настилу моста.
— Кто здесь? — спрашивает грубый голос из-под моста.
— Один из братьев! — решительно отвечает Теодор.
— Пароль?
— Смерть Бломме!
— Хорошо. Спускайся. Сюда, под откос. Только без шума.
Теодор осторожно сползает вниз и здесь, в темноте под мостом, натыкается на Рольда и Гернильда.
— А где Могенсен? Разве он не придет?
— Должен прийти. Наверное, дома задержали. Его всегда начинают пилить, когда он хочет уйти. Подождем немного.
Они сидят, притаившись в темноте под мостом, довольные, что им удалось собраться на тайную встречу.
— Хорошо, что я взял с собой револьвер, — говорит Амстед. — В наше время опасно ходить без оружия.
— А по-моему, кинжал лучше, — говорит Рольд. — По крайней мере никакого шума.
Вскоре наверху слышатся шаги, и кто-то трижды топает ногой по деревянному настилу. Раздается зловещий пароль: «Смерть Бломме», и Могенсен сползает вниз к товарищам.
— Ты опоздал.
— Старики начали ныть. Чуть было дома не оставили. А потом у меня куриная слепота. Ни зги не вижу в темноте. — Могенсен протирает очки, но это не помогает.
— Документы с тобой?
— Конечно. — Могенсен извлекает из складок плаща тетрадь.
— Слишком темно.
— У меня спички, — говорит Гернильд.
— Погоди, не зажигай. Заметят.
— Я помню текст наизусть, — шепчет Могенсен. — А подпишемся потом, когда будет светлее.
— Ладно. Начинай с устава!
— Братство называется «Черная рука». Его цели и существование — тайна. Выдавший тайну братства карается смертью. Мертвецы не болтают.
— Как ты это написал? Надо было зашифровать.
— Я так и сделал. У меня цифровой код. Мы выучим его наизусть. Пятерка — это «А», двойка — «Б», четверка — «В», остальное не помню, но это записано в протоколе.
— Ладно. Дальше!
— Цель «Черной руки» — мстить человечеству. В первую очередь учителям и сторожам. Главные враги — Макакус, Бломме и Скороход. А также старик Ханс из Королевского парка и Бегемот и Хениссен из ботанического.
— Как мы будем им мстить?
— Это нельзя заранее сказать. Мстить вообще. Всеми силами и средствами.
— Может, послать анонимное письмо? — предлагает Гернильд.
— Правильно, анонимные письма — это здорово. Мы будем их часто посылать.
— Что еще написано в уставе?
— О руководстве. Во главе «Черной руки» стоит комитет из четырех человек, которому все члены банды обязаны беспрекословно повиноваться.
— Правильно. Четверка — это мы.
— Давайте выберем атамана.
— По-моему, Рольд подходит, — говорит Гернильд.
— Ну что ж, если другие не против... — скромно соглашается Рольд.
— А Могенсена секретарем, — предлагает Амстед.
— Я с удовольствием.
— А Гернильда помощником атамана, — предлагает атаман.
— А Амстеда кассиром, — заявляет Могенсен.
Все предложения приняты единогласно.
— По-моему, мы должны платить взносы, — говорит кассир. — Полагаю, по пяти эре в неделю. Согласны?
— К сожалению, я вынужден воздержаться, — говорит Могенсен. У него никогда не бывает карманных денег.
— Пусть тогда Могенсен будет почетным членом. Хорошо? Ведь он первый придумал про банду...
— Правильно. Согласны.
Конечно, Могенсену это не очень по душе, но ничего не поделаешь. Вряд ли ему удастся склонить отца финансировать «Черную руку».
— Теперь надо поставить подписи. Но здесь темно, хоть глаз выколи. Пойдемте на улицу, к фонарю.
— Расписаться надо кровью.
— Для того я и прихватил кинжал, — говорит Рольд.
— Ребята, если порезать палец грязным ножом, может получиться заражение крови. Чертовски опасная штука! — возражает Гернильд. — Я на всякий случай принес пузырек с красными чернилами. Это гораздо лучше.
— Молодчина!
— Тогда давайте присягнем! — предлагает Могенсен. — Клянемся нерушимо хранить тайны «Черной руки» и вечно блюсти ее священный устав! Да сгниют кости того, кто нарушит клятву!..
Приложив три пальца к тетрадке, мальчики по очереди присягают. Потом четверо заговорщиков молча сидят и темноте под мостом, переживая торжественность момента.
— Теперь поодиночке поднимемся наверх и разойдемся в разные стороны. За нами, возможно, шпионят... — заявляет Могенсен, кутаясь в свой дождевик.
— Давайте лучше выйдем вместе. Вместе веселее. Нас ведь никто не видел.
Заговорщики гуськом пробираются по Восточному парку. Поднимаются на Холм Самоубийцы, поросший белыми березками. Проходят мимо скамьи, где повесился несчастный.
— Это здесь, — шепчет Амстед.
— Да, здесь!
Они перелезают через ограду и снова выходят на улицу Эстербро. Тут на одной из скамей, обмакнув спичку в красные чернила Гернильда, они ставят подписи под тайным протоколом «Черной руки». Потом принимают решение, что копия документа в опечатанной шкатулке будет скрыта в тайнике под мостиком в Восточном парке.
Протокол вручается Могенсену. Но вся беда в том, что ему негде его хранить. Он и так с трудом прятал его в последние дни. У него ведь нет своего угла. Дома слишком много народу. Родители следят за каждым шагом детей.
— А что, если назначить архивариуса для хранения документов? Пусть это будет Гернильд. Ведь он только помощник атамана, и ему нечего делать.
Ну что же, Гернильд с удовольствием примет на себя эту обязанность. Уж у него-то секретные документы будут в целости и сохранности. Ни один непосвященный никогда их не увидит.
Теперь заговорщики могут разойтись по домам. «Черная рука» основана. Вскоре все человечество заговорит о банде.
Глава 27
Близится рождество. Дни полны мрака и уныния. Почти все время в классах горит свет.
Самый мрачный — первый этаж, где помещаются учительская и кабинет ректора. Ректор не часто бывает в школе. За ее стенами его ждут важные общественные дела. Но в его шкафчике неизменно хранится бутылка портвейна. В его отсутствие наказывает учеников инспектор. Только особо серьезные наказания откладываются до очередного визита ректора. И тот после красноречивой тирады о чудовищности проступка, о чести и традициях школы больно бьет виновного своей пухлой рукой.
Мальчики называют учительскую «кунсткамерой». Там стоит особый спертый воздух. На кафельной печи сушатся носовые платки. А в сырую погоду случается, что какой-нибудь пожилой учитель кладет туда же свои мокрые носки. Изредка адъюнкт Лассен предпринимает попытку открыть окно. Лассен — человек современный, он любит свежий воздух и гигиену. Но тогда к окну подскакивает старый лектор Мелас и демонстративно захлопывает его.
Учителя приносят с собой термосы с горячим кофе. Географ пьет молоко, а учитель гимнастики — пиво. От свертков с едой разит селедкой и сыром. Воняет мокрыми носками и носовыми платками. А груды старых ведомостей пахнут пылью, чернилами и промокательной бумагой.
Учителя беседуют о своей работе, об учениках. О метких подзатыльниках и своевременно разоблаченных проказах.
— Меня им не провести, — говорит старый Мелас. — Я знаю, с кем имею дело. Ха-ха-ха! Я им всегда твержу: любое оправдание — ложь.
Учителя рассказывают друг другу о забавных ученических ошибках в переводе и комичных недоразумениях, подчас относящихся к далекому прошлому. Они судачат об отдельных учениках, их успеваемости, характере и родителях.
— Он бойкий паренек, этот малыш Эллерстрем. Аккуратный, воспитанный. Отец — коммерсант-оптовик или что-то в этом роде...
— Во всяком случае, не какой-нибудь мелкий чиновник. Наверно, состоятельный человек.
— И даже очень. Но, говорят, он разведен.
— Да, да, сейчас это, кажется, в моде!
— Зато Мердруп — маленький негодяй. И при этом хитер и нахален. Но когда-нибудь я доберусь до него и так отдеру за уши, что он своих не узнает.
Учителя непринужденно беседуют, точно так же, как болтают их ученики в лавчонке у доброй «хозяюшки». Они повторяют друг другу разные истории и сплетни, выказывая удивительную осведомленность о домашних делах каждого ученика и заранее возвещая годовые оценки.
Один лишь лектор Дюэмосе — Макакус — не принимает участия в разговоре. Он сидит, ссутулившись, в углу и обкусывает сломанные ногти, вечно испачканные мелом.
На стенах в позолоченных рамах висят портреты старых учителей. И ключ от клозета, прикрепленный к массивному кольцу, также покоится на своем постоянном месте — на гвозде около двери.
Комната полна табачного дыма. Адъюнкт Лассен с тоской поглядывает на окно. Он человек современный, всегда хорошо одет, и руки у него холеные. Старые же учителя — чудаковаты, подчас неповторимые «оригиналы». У многих — странные привычки и манеры. Одни прочищают зубы спичкой, другие — булавкой, приколотой к лацкану пиджака. А адъюнкт Стеффенсен ковыряет в носу химическим карандашом. И от этого усы его давно приобрели фиолетовый оттенок. Дежурные по классу знают, что он прячет добытые из носа козявки под крышкой кафедры, и им приходится удалять их оттуда специальной бумажкой. Стеффенсен преподает античную культуру, и у него репутация утонченного эстета.
Сквозь запотевшие окна виден школьный двор: там резвятся ученики. Они дерутся, выкручивают руки «сосункам». А инспектор Шефф прогуливается по двору взад и вперед, наблюдая за порядком и покуривая трубку. Голуби воркуют и пачкают двор. Инспектор подзывает нескольких мальчиков и велит им собрать голубиные перья — трубку надо прочистить. Время от времени инспектор поглядывает на часы. Когда наступает время, он посылает кого-нибудь из мальчиков в учительскую, и тот нажимает кнопку у самой двери, под заветным ключом от клозета. Раздается звонок, и школьники мчатся наверх.
Учителя неторопливо встают, выбивают трубки и снимают с печки просушенные носки и носовые платки. Собирают книги, тетради и журналы. Лектор Бломме уносит свои леденцы, а Стеффенсен — химический карандаш. И они направляются в классы — обучать и воспитывать юное поколение. А Водяной — маленький человек с грустными глазами, — тяжко вздыхая, поднимается по лестнице в класс, где уже все приготовлено для «достойной» встречи.
Глава 28
На площади у церкви продают рождественские елки. Армия спасения установила на площади стойку с железной кружкой — для сбора пожертвований. Хозяйка лавчонки на улице Ландемеркет выложила витрину ватой и посадила сверху крошечных гномов, свитых из гаруса. А вдоль стекла развесила тонкие бечевки с ватными снежинками.
Все люди рады рождеству. А дети считают дни, с нетерпением ожидая праздника и каникул. Если бы только не заставляли показывать дома табель с отметками!
На уроках пения школьники разучивают псалом. Матеус добр и мягок, словно на него снизошла рождественская благодать. Он весь сияет и, как всегда, благоухает портвейном и помадой.
Инспектор торопится вывести четвертные отметки. А ученикам четвертого класса средней школы, как и учащимся третьего класса гимназии, предстоит выдержать специальные испытания за четверть. Это своего рода экзамен, и он имеет важное значение при определении годовых оценок.
Учащиеся старших классов, например второго гимназического, после занятий репетируют рождественские пьески. И плакат, висящий в коридоре, извещает, что с позволения ректора 26 и 27 декабря в школе будет показана пьеса Хострупа24 «Проделки студентов». Ставит пьесу старый Магнуссен. Он погружается в эту работу с ребяческим азартом и даже сам сочиняет шутливый пролог. Старый Магнуссен — мастер на такие дела, и он искренне любит детей. Однако это не мешает им издеваться над стариком на уроках закона божьего. Он сильно сдал за последнее время. Но с ролью устроителя праздника еще справляется отлично. Магнуссен сочиняет стихи по всякому поводу, будь то рождественский спектакль или прогулка в лес. Он всегда полон идей и неожиданных замыслов. Магнуссен и сам из той породы вечных студентов, которых вывел в своей пьесе Хоструп. Студенческий союз давно заменил ему родной дом. Там он развлекается со своими бывшими однокашниками, там он сочиняет стихи в честь разных торжественных событий.
По давней традиции на последнем уроке в канун рождества занятия отменяются. В этот день учителя обычно настроены снисходительно. Одни читают вслух какой-нибудь рассказ, другие развлекают учеников иными способами. «Если вы не будете сидеть тихо, я, ей-богу, перестану читать!» — удрученно говорит Водяной. Даже и тут, на последнем уроке перед рождеством, ему не дают покоя.
Бломме и Стеффенсен не занимают учеников чтением. Они приносят в класс пожелтевшие от времени картинки, на которых изображены произведения древнего искусства и архитектуры. Учителя рассказывают мальчикам об Акрополе, Римском форуме и о своих собственных путешествиях в дальние страны. Даже сам лектор Дюэмосе, по прозвищу Макакус, в отличном настроении. Он остроумно показывает на доске, как выглядели бы цифры, если бы неожиданно вместо существующей десятичной системы вошла в обиход двуединичная система. Тогда получились бы фантастические числа. И это чрезвычайно затруднило бы сложение и вычитание. Но особенно усложнилось бы извлечение квадратного корня. Макакус с удовольствием демонстрирует все это на доске, заполняя ее двойками и единицами. Он увлекается, загорается энтузиазмом. Мальчики ровным счетом ничего не понимают. Но они послушно разглядывают бесчисленные двойки, которыми испещрена доска, радуясь, что Макакус сегодня не опасен.
А у учителя гимнастики Эйбю припасена своя рождественская шутка. На полу в гимнастическом зале он рисует мелом широкий круг. Ученики становятся в середину, и учитель велит им выталкивать друг друга за черту. Тот, кому удается остаться внутри круга, провозглашается победителем. Начинается дикая свалка. Господин Эйбю оглушительно гогочет и подбадривает борющихся.
— Валяй, толкай, черт побери!
И мальчики дерутся, толкают друг друга, пыхтят и шумят. Кто-то разбил Харрикейну нос, его заплаканное лицо перепачкано кровью.
— Болван несчастный! — вопит господин Эйбю. — Маленькой потасовки и то боишься!
А на землю между тем спускается рождественская благодать...
Наиболее благоразумные не сопротивляются, когда их выталкивают из круга, и рано выходят из игры. Но в центре всегда остается несколько упрямцев. Сцепившись, они падают на пол, яростно борются и сопят. Для господина Эйбю это нечто вроде боя гладиаторов в миниатюре. Такие игры способствуют воспитанию характера. Они отвечают задачам школы и жизненным принципам общества.
Наконец учеников собирают в актовый зал — петь рождественские псалмы. Матеус, как всегда, сияет улыбкой и источает благоухание.
На кафедру с усилием взбирается ректор. Он говорит, что рождество — это семейный праздник. Мир на земле и в человецех благоволение.
— И когда вы будете выходить из зала, — добавляет он, — смотрите, чтобы не было шума и драк. Ни давки, ни толкотни я не потерплю! Зачинщики беспорядков будут строго наказаны! Желаю вам счастливого рождества!
Ученики уходят домой. Их ждут рождественские праздники и каникулы. И если бы не табель, который придется показать дома, и впрямь можно было бы радоваться и ликовать. Но одна плохая оценка испортит рождественский праздник целой семьи.
Сидя в лавчонке на улице Ландемеркет, мальчики сравнивают отметки. Хозяйка утешает неудачников:
— Ну вот еще, нашли из-за чего огорчаться. Не все ли равно, что какой-нибудь учителишка запишет в ваш табель? Это же ничего не значит. Хотите, я подпишу его?
Однако это совершенно исключено. Хозяюшка тут ничем не может помочь. Но, разумеется, намерения у нее добрые.
Глава 29
В дни рождественских каникул четверка мстителей «Черной руки» собирается несколько раз. Тайное место встречи, как всегда, — под мостиком в Восточном парке.
Днем здесь не так неуютно, как ночью, но зато гораздо опасней: повсюду шныряют сторожа. Мальчики прозвали их «легавыми». Подчас случается, что «легавые» разгуливают по мосту, даже не подозревая, что под ним притаилась четверка мстителей. Тогда мальчики торжествуют.
«Черная рука» пока еще не совершила ни одного сенсационного кровопролития. Четверо заклятых врагов человечества болтают о подарках, полученных к празднику. Они надеются, что на рождество выпадет снег и замерзнет лед, тогда они смогут вдоволь покататься на коньках. Впрочем, теперь редко выпадает настоящий снег. То ли дело, когда были детьми их родители! На рождество всегда валил снег, поезда сплошь и рядом застревали в пути, а конки из-за огромных сугробов не могли проехать по улицам, и не было никакой возможности попасть в школу. А Зунд сковывало льдом, и люди пешком ходили в Швецию. Но в нынешнее скучное время такие удивительные дела уже не приключаются. Должно быть, теперешние дети этого просто не заслужили. Как известно, их родители в детстве были совсем другими.
Могенсен получил одни «полезные» подарки — то, что все равно пришлось бы купить: носки, кальсоны и теплое нижнее белье. А если человек не радуется и не чувствует благодарности, когда ему дарят замечательное шерстяное белье, значит у него черствое сердце и он не заслужил рождественских милостей. «Верно, и впрямь у меня недоброе сердце», — думает Могенсен.
Он единственный из мальчиков, у кого нет коньков. Поэтому ему приходится говорить, что катание на коньках — презренное и смехотворное занятие, недостойное цивилизованного человека. Так Могенсен поступает всякий раз, когда вынужден от чего-нибудь отказываться. Взять, к примеру, рождественский спектакль, который устраивают в школе: и тут Могенсен говорит, что подобные детские забавы его не интересуют. Чего ради околачиваться в школе, когда нет уроков!
Всего обиднее ему, что он не может купить себе глиняную трубку, какую недавно завели Рольд и Гернильд. Трубка стоит пять эре, и на головке ее выгравировано изображение парусного корабля. Рольд прихватил с собой немного отцовского табака. Атаман и казначей сидят под мостом и дымят трубкой, а Могенсен с завистью смотрит на них.
— Дай мне попробовать, — просит он у Рольда.
И атаман разрешает ему немного пососать диковинную штуку.
— Что ж, ничего приятного в этом нет, — говорит Могенсен, со вздохом возвращая трубку.
Амстед — тот никогда не курит. Он дал слово отцу воздерживаться от курения до тех пор, пока ему не исполнится восемнадцать лет, и за это отец обещал подарить ему сто крон. А раз дал слово, надо его держать. Да и к тому же после курения, наверное, табаком разит.
— Нет, — возражает Рольд. — Нисколько не разит. Надо только после этого пососать нашатырные таблетки. Знаешь, эти нашатырные таблетки — отличная штука!
Копию секретного документа прячут в сигарный ящик. Туда же засовывают несколько монет достоинством в один эре, разноцветные шарики и другие сокровища, среди которых бутылочка с подкрашенной водой. На бутылочке — этикетка с изображением черепа и скрещенных костей и надписью: «Яд». Ящик запечатывают сургучными печатями, а на крышке рисуют черную руку.
С огромным трудом ящик закапывают в землю. Не так-то легко расковырять землю перочинным ножом, а то и вовсе голыми руками. Но вот, наконец, ящик зарыт. Да будет во веки веков проклят тот, кто когда-либо выдаст тайну его местонахождения.
Гернильд — обладатель бесчисленных книжек о хитроумном Нате Пинкертоне. Вот подходящие книги для рыцарей «Черной руки»! Впрочем, похождения лорда Перси из «Клуба эксцентриков», может быть, даже еще лучше. Чтобы стать членом клуба, ему пришлось совершить целую кучу необычайных подвигов. Уже вышло в свет девяносто девять книжонок из этой серии. В каждой из них рассказывается о том, как блистательно он совершал один из этих подвигов. И все же под конец кто-то из членов клуба выразил сомнение в том, что лорд удовлетворительно справился с последним заданием. «Что ж, — сказал лорд, — если так, я совершу еще девяносто девять подвигов». А это значит, что последующие выпуски будут посвящены новым приключениям лорда Перси, и пройдет еще много лет, прежде чем станет известно, удалось ли лорду, наконец, стать членом «Клуба эксцентриков».
Могенсен взял у приятеля несколько книжек о лорде Перси. Ему очень хочется прочитать их. И он непременно это сделает. В крайнем случае пристроится в уборной. Таким образом он уже прочитал все похождения Рокамболя. Стоящая книга! Впрочем, рассказ о прославленном докторе Николá ничуть не хуже! Так думает вся четверка. А купить эти замечательные книжки можно в небольшом магазинчике на улице Ландемеркет, напротив знакомой лавчонки.
Важные решения принимает сегодня четверка мстителей. Первое — надо изготовить порох. Это совсем нетрудно. Достаточно смешать серу, селитру и древесный уголь. И соорудить бомбу. Вот когда «легавые» натерпятся страха.
Вскоре бомба готова. Но только она никак не желает взорваться! Длинный веревочный фитиль добросовестно загорается, а взрыва все нет и нет. Тогда мстители вплотную подходят к бомбе и суют зажженные спички прямо во взрывчатое вещество. А спички только гаснут — и больше ничего. Не бомба, а огнетушитель! Может быть, неправильно составлена смесь?..
— Вот дерьмо! — презрительно говорит Рольд, и папиросная коробка с порохом летит в море.
Мстители выбирают себе страшные клички: Эрик Кровавый Бык, Нильс Бунтовщик, Черный Микаэль и Немой Теодор.
И всякий раз после встречи в пещере под мостом они сдавленными голосами поют боевой марш «Черной руки»:
Мы черных мстителей грозный отряд,
Эгей! Огой!
Игра начинается — трусы дрожат,
Эгей! Огой!
Кровавая ночь!
Предателей прочь!
Виси, Водяной, на веревке тугой!
Глава 30
Снова начались школьные занятия. Часы и дни тянутся томительно долго. Унылому январю нет конца. История, математика, немецкий, гимнастика, закон божий, физика. Шесть часов проводят ученики в школе и еще три, а то и четыре часа приходится заниматься дома.
Жизнь наполнена страхом. Мальчики уже знают, что такое неврастения, хотя им нет и четырнадцати лет. Они уже страдают от головной боли и бессонницы.
— Идиот! — вопит лектор Бломме. — Если ты не желаешь учиться, нечего тебе делать в школе! Становись посыльным или садовником! Посыльные тоже нужны обществу! И фонарщики нужны, и дворники!
Так ученики усваивают непреложную истину, что все перечисленные занятия смехотворны и достойны презрения.
— Пожалуй, придется тебя определить в ученики к сапожнику, — уничтожающе произносит любой папаша, стоит только его сынку принести домой плохой табель.
Оскорбительней этого приговора ничего не может быть.
Отец Акселя Нильсена — столяр. Но для его сына такая низменная профессия не годится. Звание рабочего человека — ничто в сравнении с тем, чем со временем станет Аксель.
Аксель Нильсен — способный мальчик. Он всегда знает урок и получает хорошие отметки. Дома он прилежно занимается и старательно выписывает в маленькие тетрадочки новые слова. Пожалуй, он немного бледен, но, верно, бледность свойственна мальчикам в этом возрасте. Давно прошли те времена, когда он играл во дворе с другими детьми.
Эллерстрем тоже принадлежит к числу лучших учеников. Он нравится учителям. Даже Бломме называет его просто по имени — Эдвард. Эллерстрем — хорошенький мальчуган в чистенькой матроске и коротких штанишках. У него голубые глаза, светлые волосы и милая улыбка. Учителя не прочь ущипнуть его за щеку или же в шутку дать шлепка. «Ну как им не надоест! — говорит Эллерстрем. — Терпеть этого не могу!»
Он прилежен и аккуратен, потому что этого хочет мама. С тех пор как его отец ушел из дому к другой женщине, только он один и остался у нее. Мама называет его своим взрослым сыном. Тот день, когда он станет студентом и наденет белую шапочку, будет самым замечательным днем в ее жизни. Тогда мама обретет в его лице опору и защитника. И мать с сыном всегда будут вместе.
— Я живу только для сына, — говорит фру Эллерстрем, сидя с приятельницами за чашкой чая.
Фру — почтенная и энергичная дама. Член правления «Миссии по обращению язычников в христианскую веру». У нее уйма дел, обязанностей, заседаний и светских чаепитий.
Тюгесен и Неррегор-Ольсен, напротив, возглавляют фланг отстающих. В каждом классе кто-то из учеников непременно должен быть самым худшим. А это весьма неприятно. Ленивцев ругают и в классе и дома. Если Неррегор-Ольсен не возьмется за ум, ему запретят ходить к скаутам. Это серьезная угроза. Отец его и сам не хотел бы, чтобы дело дошло до этого. Общение с бойскаутами полезно для мальчика. У Зеленых скаутов дурного не наберешься. Они учат мальчиков помнить о боге, чтить национальный флаг и короля. Руководители скаутских отрядов — достойные молодые люди, с открытыми приветливыми лицами, настоящие идеалисты. Они отдают свой досуг подрастающему поколению: ласково обняв мальчиков за плечи, доверительно беседуют с ними.
Со всех сторон дети подвергаются разнообразным влияниям. Но коль скоро школа, семья и организация бойскаутов действуют заодно, из этого что-нибудь да получится.
Дни идут. Они тянутся вяло и лениво. Мальчики боятся Макакуса и нередко видят его во сне. Дома, вооружившись циркулем и линейкой, они корпят над математическими задачами. Постепенно вечереет, и отцу становится жаль сына. Он пытается помочь ему, но не понимает задачи, а признаться в этом не хочет. Разыгрывается семейная сцена, и дело кончается слезами. Ночью ученика лихорадит. Мерещатся формулы, цифры, углы, и душит ужас. Макакус страшен во гневе. Он таскает мальчиков за волосы и щиплет их за щеки. Выкручивает мочки ушей и бьет по голове. Так постигается математика.
Но есть еще и другие предметы. Их много. Например, немецкая грамматика. Оказывается, существует множество глаголов с отделяемыми приставками. Вот они: ab, аn, auf, aus, bei, dar, ein, empor, entgegen, fort, her, hin, mit, nach, nieder, ob, von, weg, wider, zu. Чтобы безошибочно запомнить этот ряд, надо заучить приставки сначала слева направо, затем — справа налево. Переходные глаголы, как правило, употребляются с отделяемыми приставками. Но бывают еще переходные глаголы с колеблющимися префиксами: durch, über, um, unter. Когда эти переходные глаголы с приставками durch, über, um, unter сохраняют свое первоначальное значение, приставка обычно отделяется. Так бывает во всех случаях, когда дополнение данного предложения, в страдательном залоге превращаемое в подлежащее, мыслится как предмет, изменяющий свое состояние или местоположение. Но в тех же глаголах приставка не отделяется, когда основной глагол и его префикс теряют свое первоначальное значение и приобретают переносный смысл, а дополнение предложения, в страдательном залоге выступающее как подлежащее, не изменяет своего состояния или местоположения. Но даже и тут приставка «durch» сплошь и рядом употребляется как отделяемая, хотя согласно основному правилу ей полагается стать неотделяемой. И бывает это во всех случаях, когда «durch» выражает в соединении с глаголом целевую завершенность действия, доведение его до логического конца. В глаголах, имеющих переносное значение, приставки «durch» и «um» обычно отделяются, а приставки «über» и «unter» не отделяются.
Все это необходимо выучить, если хочешь знать немецкий язык.
В равной мере необходимо быть знакомым с титулами, принятыми в кругах английского дворянства. Разве можно не знать, например, что «герцог» и «маркиз» — более высокие титулы, чем «эрл» или «виконт», а «баронет» и «рыцарь» — самые низкие дворянские звания? И мыслимо ли путать обращения: «сэр» и «милорд»? И допустимо ли находиться в неведении о том, где берет начало Гвадалквивир и какова высота Абруцц? Впрочем, Гвадалквивир выступает еще и в другой роли. В немецком языке все названия европейских рек, если только они не оканчиваются на «о» — женского рода. А Гвадалквивир, учит грамматика Капера, представляет собой исключение из этого правила. Необходимо усвоить и множество других полезных сведений: так, итальянцы любезны и приветливы с иностранцами, однако за их внешним радушием сплошь и рядом скрывается бандитская натура. Многие из них каждую минуту готовы пустить в ход кинжал и яд. Со шведами дело обстоит несколько лучше. Но все же они уступают нам, датчанам, в просвещенности, а в драке часто хватаются за нож.
На свете нет ничего ценнее глубоких познаний. А «искусное воспитание совершенствует природные дарования».
В меморандуме школьной комиссии записано, что физическое воспитание учеников должно осуществляться параллельно с духовным. Недаром еще древние говорили: «В здоровом теле — здоровый дух». Физическое здоровье обеспечивается четырьмя уроками гимнастики в неделю. Ученики выстраиваются в ряд и, стоя па полу, попеременно наклоняются то в одну, то в другую сторону, А господин Эйбю командует: «Раз-два», «Раз-два». Затем мальчики один за другим берут разбег и прыгают через веревку, натянутую между двумя стойками. А потом они кувыркаются и упражняются в прыжках на матах, от которых даже при малейшем прикосновении вздымаются вверх густые облака пыли.
Толстый Тюгесен, понятно, гимнаст никудышный. Но по гимнастике также выставляется оценка, которая учитывается даже в аттестате зрелости и в какой-то мере определяет судьбу каждого ученика. На уроках гимнастики Тюгесен добросовестно пыхтит, так что на лбу у него выступает пот. И все же ему никак не удается перепрыгнуть через коня. Всякий раз он застревает на нем и сидит, отчаянно цепляясь за снаряд. А господин Эйбю подбадривает его шутливыми восклицаниями:
— Черт тебя побери, бездельник! Ну чего расселся? Никак ты собираешься изнасиловать коня? Да ведь это жеребец, свинья ты эдакая!
Затем ученики карабкаются вверх по канату, и Тюгесен снова отстает. Тогда господин Эйбю вынимает из галстука изящную золотую булавку и колет мальчика:
— А ну, влезай быстрее, жирный боров!
После физических упражнений мальчики выходят из зала потные и грязные, но вымыться им негде. Да и к чему такие нежности!
Горн и Неррегор-Ольсен выпустили, наконец, свою газету. Она отпечатана на гектографе в десяти экземплярах. Новому изданию дали название «Марс». В газете есть отдел юмора, занимательные задачи и даже роман с продолжением, который пишет Горн. Отныне марки заброшены. Настала эпоха газет. В классе выходят разнообразные издания: «Труба», «Барабан» и «Афина Паллада». Между ними идет ожесточенная борьба, словно это настоящие газеты. И точно так же невозможно понять, чем отличаются их политические платформы. «Черная рука» выпускает собственный боевой листок, он выходит в четырех рукописных экземплярах. Листок называется «Мистика», его редактор — Могенсен. Вся редакционная работа выполняется на уроках Водяного. Торсен пишет передовую, прячась за спиной Харрикейна, и вытирает перо о его белый воротник.
Впрочем, для подобных забав годятся также уроки старого Магнуса. Высокий и чудаковатый, с белой бородой, красным носом и ослепительной лысиной, он стоя разглагольствует о Священном писании, а ученики тем временем дремлют или же занимаются каждый своим делом.
Учитель вынужден многое объяснять. Все это не так просто, как кажется.
— «Не убий!» — говорится в одной из десяти заповедей. «Но что же это значит?» — вопрошает доктор Мартин Лютер. А значит это вот что: мы должны бояться и любить бога так, чтобы не причинять своему ближнему никакого вреда или зла, а также поддерживать его и приходить к нему на помощь в любой опасности.
Но и это объяснение не исчерпывает сути дела. Поэтому пастор Кристен Меллер сопроводил подготовленное им издание лютеровского катехизиса следующим комментарием: «Злой умысел дьявола состоял в том, чтобы вследствие грехопадения люди стали смертны, и потому убийства, совершенные Каином, Фараоном, Иродом Великим и даже Акитофелем, умертвившим самого себя, суть дьявольские деяния. То же, что убийство есть дело дьявола, доказывает убиение Христа. А потому нам следует остерегаться всего, что может привести к убийству, и не причинять ближнему никакого ущерба или зла, как это сделал Фараон, причинивший зло евреям, или же как поступили евреи и язычники, причинившие зло Христу. Мы должны быть всегда па стороне бога супротив дьявола и помогать своим близким, как это сделал Вооз, облегчивший труд Руфи. И мы должны оказывать поддержку ближним, когда им угрожает опасность, как Авраам помогал Лоту. Однако чтобы защитить несчастных от сеятелей зла, стремящихся умертвить их, подчас бывает необходимо убить этих недобрых людей, подобно тому как Давид убил Голиафа и как Соломон покарал смертью убийцу Иоава. Такое право самозащиты господь даровал людям еще с времен Ноя».
Но и это объяснение нуждается в дополнительном толковании. Старый Магнус стоит перед учениками с воздетыми к небу руками и без передышки излагает и толкует Священное писание. Пройдет еще много-много уроков, прежде чем он закончит пояснение известной заповеди. А ученики изнывают от скуки, зевают и начинают донимать старого Магнуса. Одни передразнивают его голос, другие бросают бумажные шарики на книгу, лежащую перед ним. Временами Магнусом овладевает слепая ярость. Он бросается вперед и принимается лупить первого попавшегося ученика. Пальцы у Магнуса — костлявые и жесткие, а у Библии — твердый переплет. Ученики силятся уклониться от сыплющихся на них ударов, но старик продолжает колотить свою жертву, выкрикивая гневные слова голосом библейского пророка. Магнус роняет манжеты, на глазах у него выступают слезы огорчения.
— Грех! Грех! — вопят ученики. — Магнус — человекоубийца!
Но им самим немного жаль Магнуса.
— Стыдитесь, шалопаи! — кричит тот. — Совести у вас нет! Ведь я вам в отцы гожусь!
Так проходят уроки. За одним предметом следует другой. Предметы небесные сменяются земными. На уроке физики перед тобою ставят весы с гирями и сосуд с водой. И тебе предлагают доказать, что тело, опущенное в жидкость, теряет в весе ровно столько, сколько весит вытесненная жидкость. Все это отлично известно ученикам. Они столько раз это слышали и наблюдали! И все же почему-то этот увлекательный эксперимент заставляют повторять до бесконечности.
Вообще-то говоря, в кабинете физики довольно интересно. Тут и газовые краны и электрические приборы. Но, пожалуй, еще увлекательнее в соседнем химическом кабинете. Здесь — царство колб и стекла, пробирок и тиглей. А на стене висит большой вытяжной шкаф со стеклянными дверцами. В шкафу хранятся ядовитые вещества, разные щелочи, кислоты и множество всяких других бутылочек. Дежурный обязан следить, чтобы шкафчик всегда был заперт. Там хранятся сильнодействующие яды. Отведав их, человек может умереть. Для этого достаточно самой малости, например тех считанных крупиц, что уместятся... в одном-единственном леденце.
Глава 31
Временами выпадает снег, хотя и не так обильно, как в былые дни. На школьном дворе мальчики играют в снежки. «Сосунков» бросают в сугроб. На косогоре устраивают крутые ледяные дорожки — на них недолго ишею сломать. Харрикейн боится кататься, но его насильно втаскивают на гору и сталкивают вниз. И он падает, больно стукаясь затылком об лед.
— Опять ты шалил, Иорген? — с укором скажет мать, как только он вернется домой.
Зима тянулась долго. Но вот повеяло весной, и школьники пали духом. Приход весны означает, что экзамены не за горами.
Когда в Восточном парке зеленеют газоны, а на кустах набухают почки, значит, страшная пора уже близка. Надо срочно зубрить и повторять пройденное.
Всходят ростки на грядках в ботаническом саду. На каменистых холмах распускаются ранние альпийские цветы. А в озере, что в Восточном парке, необычное оживление. Дикие утки стали какие-то чудные: то и дело сталкивают друг друга в воду и возбужденно крякают.
На Холме Самоубийцы примостились влюбленные. А дрозды и скворцы насвистывают бесконечно печальную мелодию. Каждый звук напоминает об экзаменах. Сколько забот несет с собой весна! Хорошо птицам и зверям! Хорошо людям низшего сословия! Они могут пойти куда захотят — в поле или в лес — и бродить там сколько угодно. Наверно для них весна прекрасна.
А вот школьникам весна приносит только страх и огорчения.
На школьном дворе зеленеет старая липа. Солнечные лучи проникают через ограду, освещая круглую скамью. Старшеклассники с боем захватывают скамейку и, удобно рассевшись, уплетают бутерброды. Они говорят о предстоящих экзаменах и других делах. А для «сосунков» опять наступает тяжелое время. Старшеклассники вновь принимаются учить их уму-разуму. Они тащат упирающихся малышей к скамейке, тискают, мучают и щиплют что есть силы.
Инспектор Шефф все так же прогуливается по двору в расстегнутом плаще, надзирая за поведением учащихся, и курит трубку.
Голуби мечутся как угорелые и тоже ведут себя крайне странно.
В парках все цветет и благоухает. Амстед и Могенсен вдвоем возвращаются из школы через ботанический сад. В саду все так райски красиво, что мальчики замолкают, и ими овладевает уныние. «Верно, за городом сейчас чудесно», — думают они. А в Африке и Южной Америке, говорят, живут люди, которым никогда в жизни не приходится держать экзаменов.
На набережной цветут кусты сирени и акации. Лектор Бломме каждый вечер совершает прогулку к яхт-клубу. Сидя на скамье, он критически наблюдает за окружающими. А дома на Классенгаде жена уже ждет его к чаю.
Скоро последний день школьных занятий, учеников распустили по домам — готовиться к экзаменам. Маленькие буквоеды заперлись дома, погрузившись в книги и конспекты. Могенсен сидит, заткнув уши, за обеденным столом. Шумят младшие братья и сестры, гудит швейная машина.
А Тюгесен корпит над математикой: он ровным счетом ничего в ней не понимает и поэтому вызубривает учебник наизусть.
Тревога и волнение поселились в каждой из двухсот семей. Накануне самого экзамена ученики зубрят всю ночь напролет. Весенние ночи светлы и прекрасны, и детям дают крепкий кофе и аспирин, чтобы они не уснули.
Глава 32
Июнь. В школе происходит торжественное собрание, посвященное очередному выпуску и переводу учеников в следующие классы. Старшие мальчики из третьего класса гимназии теперь студенты. Они неузнаваемы в парадных костюмах — смокингах и фраках с крупными цветками в петлице. Студентам отведен в актовом зале первый ряд — прямо против кафедры. За ними размещаются учителя и родители, а позади всех — младшие ученики. У рояля в черном фраке стоит Матеус. Возбужденный и потный, но, как всегда, сияющий.
Последним в зале появляется ректор. Грузный и важный, он облачился во фрак и приколол к груди орден Рыцарского креста. Завидев ректора, Матеус подает знак ученикам, и те начинают петь:
Прекрасна юность, как весна,
Когда трава, когда листва
Под солнцем расцветают...
Ректор взбирается на кафедру и кладет перед собой тяжелую кипу ведомостей с годовыми оценками.
— Итак, прошел год... Год, полный самоотверженного труда и упорных усилий. И теперь, прежде чем затворятся двери школы, мы немного оглянемся назад и посмотрим, каких успехов мы достигли в минувшем году...
Благополучно закруглив пространную тираду, ректор открывает первую ведомость. И тут начинается то, чего с жутким напряжением дожидаются ученики и родители. Каждый успел вычислить свой средний балл. Но как узнать порядковый номер, определяющий место, которое занял ученик в своем классе? Вот что самое главное.
Одну за другой ректор оглашает классные ведомости, зачитывает бесчисленные фамилии, оценки и порядковые номера. И всякий раз, по мере того как он подходит к концу списка, растет волнение и страх учеников. О мальчиках, занявших в своих классах последние места, ректор бросает вскользь несколько пренебрежительных слов. А это тяжкий позор для их родителей, которые сидят тут же, в зале, и вынуждены выслушивать все это.
В третьем классе средней школы первое место занял Аксель Нильсен, второе — Эллерстрем. А у Тюгесена от ужаса выступает холодный пот: ректор одно за другим называет имена других мальчиков, а его все не упоминает. Однако и Тюгесен не провалился на экзаменах. Вот, наконец, ректор называет и его. Самым последним. И добавляет: что касается Свена Тюгесена, то перевод этого ученика в следующий класс возможен лишь с серьезными оговорками. В предстоящем учебном году Свен Тюгесен должен проявить неизмеримо большее прилежание и усердие, если он намеревается идти в ногу со своим классом.
Отец Тюгесена сидит в зале среди других родителей. Он багровеет от стыда и, обернувшись назад, сердито глядит на сына. Да, несладко придется Тюгесену во время летних каникул. В детстве его отец учился в той же школе. И он немало гордился тем, что его сына удостоили приема в это почтенное учебное заведение. А тут ему пришлось пережить такой позор.
Ректор переходит ко второму классу. Теперь другие ученики со страхом н трепетом ждут его слов. И так все время, пока дело не доходит до «сосунков». Собственно говоря, они уже не «сосунки». На будущий год они станут терзать новичков так же, как недавно терзали их самих, и традиции школы найдут достойное продолжение.
Но вот Матеус снова подает знак, и ученики поют:
В пучине времени год исчез...
А затем ректор раздает экзаменационные свидетельства принаряженным студентам и разглагольствует об их будущем, о милой Дании и о доброй старой школе. Родители растроганы до слез.
Наконец хор запевает известную песню, посвященную окончанию учебного года, которую много лет тому назад сочинил кто-то из школьных учителей. Звучит бодрая мелодия, а Матеус аккомпанирует, исторгая из старого рояля затейливые трели:
Пусть мудрая школа ребенку внушает,
Что в жизни нельзя преуспеть без труда,
Спина молодая пусть бремя познает,
Достойно его пронесет, и тогда...
Тра-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля,
Как сладостен отдых после труда!
Отныне начинаются летние каникулы. Ректор призывает учеников при выходе из зала не допускать нарушений порядка и не шуметь.
— Я не потерплю никаких непристойных выходок, — говорит он, злобно оглядывая зал маленькими глазками.
Все уходят домой. Мальчики покидают школу вместе с родителями. Тюгесен торопливо семенит за отцом, оба угрюмо молчат.
Харрикейны уезжают в автомобиле.
— Все это было так прекрасно и торжественно, — говорит фру Харрикейн. — Захватывающе интересно! Подумай только, милый Иорген, когда-нибудь и ты будешь сидеть в первом ряду, в парадном фраке и примешь из рук ректора экзаменационное свидетельство.
После нечеловеческого напряжения последних недель, зубрежки и ночных бдений мальчики едва держатся на ногах. Но их оценки и порядковый номер по классу почти никого не радуют.
— Если Аксель Нильсен сумел занять первое место, то почему же ты не мог? — допытывается фру Эллерстрем.
— Но ведь быть вторым тоже неплохо.
— Конечно, но все-таки почему не ты занял первое место? Чем Аксель лучше тебя?
Глава 33
Уже в первый день каникул семейство Амстедов перебирается за город. Мебель, оставленную в городской квартире на улице Упсалагаде, накрыли чехлами и повсюду разбросали шарики нафталина. Перед отъездом хозяева позаботились о том, чтобы во время их отсутствия кто-нибудь присматривал за комнатными растениями. К поездке готовились долго и основательно. И в самый первый день каникул уже можно было ехать.
В дорогу тронулись с большим багажом. Амстеды едут на побережье, в Тисвильделейе. Из года в год они снимают здесь очаровательный рыбацкий домик.
Здесь, у моря, пахнет водорослями, солью и рыбой, а также солнцем и сосной. Приятно, выйдя из поезда, окунуться в эти запахи и глубоко вдохнуть свежий морской воздух.
Сам господин директор приехал всего лишь на несколько недель. Но его жена с сыном Теодором останутся на все лето. Теодору разрешается рыть канавки в морском песке. И у него есть настоящая рыбачья сеть. Он кидает ее в волны и ждет, не попадется ли какая-нибудь рыба.
Пляж протянулся на много миль. Волны прибивают к берегу морские звезды и другие зоологические диковинки. У Теодора одно желание — идти и идти вдоль пляжа, милю за милей, чтобы, наконец, узнать, где он кончается. Но это слишком опасно. И поэтому Тео остается на одном месте и развлекается как может на виду у своих родителей.
За пляжем огромный таинственный лес с темными тропками и просеками. Сосны похожи на южные пинии, а кусты можжевельника — на кипарисы. В лесу водятся гадюки и муравьиные львы. И еще там есть заколдованная роща и многое другое захватывающе интересное.
Но Тео не разрешают одному ходить в лес. Это тоже слишком опасно. Ведь он может заблудиться или встретить разбойников. Зато его берут с собой в лес родители — ежедневно после обеда они совершают прогулку по знакомым тропинкам.
А одна из тропинок пролегает через пригорок, откуда уходит вдаль длинная прямая просека. Она ведет в неведомое, и кажется, ей нет конца.
— Пойдем по этой тропинке!
— Нет, Тео, нельзя. Мы должны поспеть к ужину. Да и тропинку эту мы не знаем!
— Вообще незачем ходить по незнакомым дорогам, — добавляет директор.
Когда Теодор вырастет, он отыщет загадочную просеку и узнает, где она кончается.
Фру Эллерстрем и Эдвард едут в Хорнбек и поселяются в местном пансионате. Здесь весьма людно. Фру привозит с собой много платьев и переодевается по нескольку раз в день. А на мальчике нарядные летние курточки, отлично гармонирующие с платьями его мамы. Она велит ему играть как можно аккуратнее, чтобы не испачкать одежду. Светлые ткани такие маркие.
Фру Эллерстрем встречает здесь бесчисленных приятельниц и знакомых. Каждый ее день до предела насыщен светскими встречами и развлечениями.
— Боже мой, до чего утомителен отдых! — говорит она.
А Эдвард изнывает от скуки. Еще немного — и он начнет тосковать по школе.
Эрик Рольд уезжает на остров Фюн. Он будет жить в богатом имении своего дядюшки. Если бы только можно было прихватить кого-нибудь из приятелей! Вот где могло бы развернуться братство «Черной руки»! А так Эрику приходится в одиночестве гулять по огромному парку с бесконечными газонами, клумбами и крокетной площадкой. Иногда он жалуется на скуку, и тотчас же несколько ребятишек — из числа детей хусменов — получают приказ явиться к Эрику. Но ребятишки робеют в его присутствии и боятся ему противоречить, а потому игра не клеится.
Дядя и тетя опасаются, как бы с ним чего-нибудь не случилось. Надо следить, чтобы он не простудился! Ведь они отвечают за него перед родителями. И все же в большом дядином хозяйстве мальчику удается кое-что узнать о настоящей жизни. Он часто беседует с управляющим, садовником и кузнецом, а иногда даже с некоторыми из практикантов25.
Практиканты считают себя выше батраков, но зато батраки получают жалованье. Практиканты и батраки едят одно и то же — хлеб с маргарином, но завтракают всегда порознь, иначе практиканты обидятся. А в сарае, в стороне от всех остальных, живут польские рабочие. Ими командует особый надсмотрщик.
Эрик заметно окреп, покрылся загаром и прибавил в весе. В хозяйстве у дяди — море сметаны, горы яиц, множество цыплят, вдоволь клубники и бесподобных домашних пирогов. Эрика то и дело заставляют взвешиваться. Надо же написать родителям, сколько он прибавил.
Мальчики разъехались по всей стране — от Скагена до Блована. Одни поселились на хуторах у родственников, другие — в пансионатах, в маленьких дачках, арендуемых на лето, и в частных виллах.
Однако почтовый контролер Могенсен со своим многочисленным потомством остался в городе, на Виллемоесгаде. Контролер — нервный, больной, набожный человек. В его доме всегда читают молитву за столом над дымящимися фрикадельками и сладким овощным супом. По воскресеньям всей семье вменяется в обязанность ходить в церковь. В дни каникул у детей много свободного времени, им полезно гулять по набережной: здесь они дышат свежим воздухом и набираются сил для зимних занятий. А потом Микаэль скажет, что деревенская жизнь претит ему. «К счастью, — заявит он, — семья осталась в городе, как и подобает цивилизованным людям».
Неррегор-Ольсен уехал с бойскаутами в их летний лагерь. Каждое утро на мачте взвивается флаг и звенит труба. Молодой приветливый священник читает с мальчиками утреннюю молитву, а затем начинается бодрая и веселая лагерная жизнь.
Хозяйка лавчонки на Ландемеркет скучает. Мороженого сейчас — хоть отбавляй, но в лавчонке тихо: нет школьников с их веселым смехом и шутками.
До чего они забавны, эти ребятишки, когда рассказывают о своих учителях! И как только таким злым и глупым людям разрешают учить детей! Как это им позволяют так издеваться над сыновьями уважаемых граждан! Просто больно глядеть на бедных мальчиков, сколько им приходится заниматься!
Хозяйка лавчонки — толстая крашеная блондинка. И очень добродушная. Она то и дело подкармливает своих маленьких соседей бесплатным мороженым.
Грозная деятельность «Черной руки» временно прекращена. Один лишь секретарь тайного общества разгуливает по городу, вынашивая мрачные замыслы и планы. Печатный орган общества — газета «Мистика» — перестал выходить, а роман с продолжением оборвался посредине. Однако члены четверки мстителей переписываются друг с другом. Письма составлены особым тайным шифром. Сочинить да и прочитать такое послание — дело нелегкое. Каждое письмо написано красными чернилами, в конверт запечатан большой сургучной печатью и снабжен таинственными оттисками пальцев. Это пальцы «Черной руки».
По воскресеньям Харрикейны иногда наведываются в Хорнбек. Они пьют чай на террасе кафе, издали наблюдая за купающимися. И всякий раз директор Харрикейн распекает официанта, уверяя, что чай отвратительный и люди, привыкшие к хорошему столу, не в состоянии его пить.
— Неужто, милейший, вы осмеливаетесь утверждать, что вот это варево — чай? — кричит директор.
А Иоргену стыдно и неприятно, что его отец ругает официанта.
Однако эти поездки дают Харрикейнам право говорить, будто они провели лето в Хорнбеке.
— Ты так и говори, дорогой Иорген, когда кто-нибудь из твоих приятелей спросит тебя, где ты отдыхал, — в Хорнбеке, как всегда. Моим родителям там очень нравится. Но на будущий год, если только фирма меня отпустит, мы обязательно поедем в Шотландию, — добавляет директор Харрикейн. — Вот где можно увидеть настоящую площадку для гольфа. В гольф лучше всего играют в Шотландии. Там вдоволь места для этого. В Шотландии, наверное, сумеют приготовить настоящий чай. Нет, вы только дождитесь следующего года!
А у Тюгесена невеселые каникулы. Его то и дело попрекают плохими отметками, а отец все время вспоминает, как ему было стыдно, когда ректор назвал имя его сына и сказал, что в четвертый класс его можно перевести лишь с серьезными оговорками. А ведь отец Тюгесена некогда сам учился в той же прославленной школе! Но отец был прилежным, способным учеником, одним из лучших в своем классе.
— А ты идиот и лентяй! — говорит он сыну. — Из тебя никогда не выйдет ничего путного! Придется, верно, отдать тебя в учение к сапожнику!
В комнатушке на улице Нерребро сидит Аксель Нильсен. Он читает. Аксель уже достал новые книги, по которым ему предстоит учиться в будущем году. И он читает их день за днем во время каникул. Приходится готовиться заблаговременно, если хочешь и в будущем году удержать место первого ученика.
Глава 34
Каникулы кончились. Школа отремонтирована заново. До чего ни дотронешься, все прилипает к рукам, да и пахнет как-то непривычно.
Краской замазаны бесчисленные сердца, буквы и надписи, которые ученики так старательно выцарапывали на партах перьями и перочинными ножиками.
— Отныне никто больше не должен портить парты, — говорит инспектор. — Этого безобразия школа больше не потерпит. Ведь не решились бы вы изрезать обеденный стол у себя дома!
Первый день в новом учебном году проходит быстро и еще не таит никаких опасностей. Учителя говорят, какие книги надо заказать у книготорговцев, и диктуют расписание уроков. В этом году класс начнет изучать латынь. Вести курс латыни будет Бломме. Мальчики надеялись, что преподавание возьмет на себя старый Мелас, который уже совсем одряхлел и впал в детство, но, увы, вышло по-иному!
В первые дни новые учебники вызывают некоторый интерес. С ними велят обращаться аккуратно, не пачкать страниц и не рисовать на них рожицы. Необходимо также обернуть их бумагой. «Учебники стоят дорого!» — говорят родители. Конечно, можно было бы купить и подержанные книги, но, с другой стороны, гораздо удобнее пользоваться самым последним изданием. Однако расширенные, пересмотренные и улучшенные издания одних и тех же книг выходят в свет каждый год. Составлять школьные учебники — выгодное дело. Один сборник упражнений по английской стилистике может прокормить несколько поколений одного и того же семейства.
Для Акселя Нильсена в учебниках уже нет ничего нового. Он усердно изучал их в течение шести недель, отведенных на летние каникулы. И это дало ему серьезное преимущество перед другими, необходимое, чтобы удержать первое место. Аксель радует своих добрых родителей и, когда придет время, займет в обществе более почетное место, чем его папаша-столяр. Конечно, он не сумел загореть п поправиться, как его одноклассники, по на здоровье не жалуется. В его возрасте можно выдержать многое.
В этом году необходимо своевременно подумать об экзаменах. Предстоят испытания за весь курс средней школы. Это будет серьезный официальный экзамен, который состоится в присутствии посторонних инспекторов. От результатов экзамена зависит переход каждого ученика в гимназические классы. Об этом нельзя забывать ни на минуту.
После первого короткого школьного дня приятели отправляются в лавчонку на Ландемеркет. Там их ждет сердечная встреча. У хозяйки припасено два сорта мороженого: ванильное и фисташковое. А порции на этот раз особенно щедрые, и каждая покрыта венчиком из взбитых сливок и варенья.
Обезьяна тоже бурно радуется встрече. Она вскакивает к мальчикам на плечи и дергает их за волосы. С ней лучше не связываться — зверек злобный и больно кусается, совсем как настоящий Макакус.
Хозяйка с интересом слушает рассказы о новых книгах и о том, что с нынешнего года вводится латынь.
— Господи помилуй! — говорит она. — Как вы только все это терпите? Чего доброго, у вас от учености голова отвалится! Ну к чему вам эта латынь? Неужто вы станете разговаривать со мной на латинском языке? Вот потеха-то будет!
— Да, — вздыхает Тюгесен, — плохи наши дела. Мучиться еще четыре года. В лучшем случае. Кто помнит, на сколько лет посадили в тюрьму этого Альберти26? Кажется, на восемь. А нас заставляют торчать в школе целых двенадцать лет. Да и вряд ли с арестантами обращаются так скверно, как с нами.
— Но ведь учение — добровольное дело, — возражает хозяйка. — Взять, к примеру, меня. Никто не заставлял меня учиться двенадцать лет подряд. Да и, слава богу, в мое время не слыхали о таких школах. Правда, я не такая ученая, как вы. Один бог знает, чем все это кончится. Просто страшно за вас делается.
— Что правда, то правда, — вздыхает Рольд.
Однако сейчас мальчики не размышляют о будущем. Довольно с них тех мучений, что приносит каждый день. До будущего еще далеко, так далеко, что об этом даже не хочется думать. Впереди четыре года учения и четыре годичных экзамена. А затем еще надо учиться в университете, и на это тоже уйдет много лет. Но хорошо уже то, что в университете по крайней мере не раздают оплеух. Никто уже не будет бить тебя по лицу грязными ручищами.
— А нельзя ли еще одну порцию? Вон того, фисташкового...
— Конечно, можно. А ты не забыл, что должен мне кое-что с прошлой весны?
— Помню, все помню. Но, знаете, после экзамена мне совсем не давали денег. Дома все ходили как пришибленные.
— Тюгесен, ты слишком много ешь!
— Заткнись! Избавь меня хоть здесь от дурацких острот господина Бломме!
— Да, лектор Бломме. Уж он попьет нашей крови в этом году. Небось всю душу вымотает.
Глава 35
Отныне «Черная рука« именуется «Манус Нигра». Латынь, изучаемая в школе, входит в жизнь. Однако интерес к тайному обществу заметно ослабел. Члены общества разослали кое-кому анонимные письма с жуткими, таинственными угрозами. Однако на них почему-то никто не реагирует. И вообще все это уже надоело. Один только Могенсен по-прежнему страстно увлекается игрой. Остальным она кажется чересчур детской.
Мальчики сильно вытянулись. Непривычно звучат их огрубевшие голоса. Подростков освободили от уроков пения, и в четверг они возвращаются домой на час раньше обычного.
Многие заметно подурнели. Почти у всех выступили угри. Эллерстрем уже не тот хорошенький и аккуратный мальчуган в матроске и коротких штанишках, каким его все знали. Нос у него усиленно растет в длину, а остальные черты лица пока что отстают.
Бломме уже начал звать его просто «Эллерстрем» вместо прежнего доверительного «Эдвард». А это дурной признак.
Для мальчиков настало время, как говорится, подтвердить обет, данный во время крещения, и стать настоящими христианами. Ради подготовки к конфирмации учеников несколько раз в неделю освобождают от уроков. Несказанную радость приносит этот неожиданный перерыв среди школьного дня, и мальчики используют его в свое удовольствие. Дела хозяйки лавчонки идут превосходно.
Готовит мальчиков к конфирмации не какой-нибудь рядовой приходский священник. Наставником большинства учеников стал модный столичный пастор. Блестящий проповедник, любимец буржуа, он с кафедры изрекает смелые и злободневные политические суждения. Его проповеди печатает «Моргенбладет».
Пастор — элегантный остроумный человек, оратор с незаурядным актерским дарованием. Готовясь у него к конфирмации, мальчики не скучают. По крайней мере не знают скуки те, кто в школе учат латынь и потому способны оценить тонкий ум наставника.
Время от времени он приглашает нескольких избранных к себе домой, в свою уютную, изысканно обставленную холостяцкую квартиру. За чашкой чая они обсуждают религиозные и общечеловеческие проблемы.
Родители Харрикейна недовольны, что их сын не принадлежит к числу избранных.
— Воображаю, как ты держишься на занятиях, — говорит ему мать, — верно, молчишь, словно воды в рот набрал, и пастор тебя не замечает. Неужто так трудно сказать что-нибудь умное, чтобы он обратил на тебя внимание!
Каждое воскресенье теперь приходится отправляться в церковь — пастора надо уважать. Впрочем, пожалуй, в церкви сейчас вполне терпимо. У пастора — внушительный вид. Умное лицо четко выделяется на фоне старых каменных плит с изображением распятого Христа. А на черной сутане поблескивает Рыцарский крест.
Говорит он вдохновенно и порой бросает такие остроумные замечания, что прихожане готовы смеяться и аплодировать. Неудивительно, что церковь всегда переполнена. Больше всего пастором восхищаются дамы. Так восхищаются, что пастор вынужден воззвать к ним с самой кафедры: он умоляет больше не присылать ему вышитых подушек для дивана.
— У меня набрались сотни таких подушек, — говорит он, — и моя квартира уже не вмещает их. Лучше подарите что-нибудь бедным. И совершите этот дар втайне от других, так чтобы одна рука не ведала, что творит другая.
Да, старине Магнусу далеко до этого пастора. На уроках старика религии кажется глупой и смешной. Питомцы знаменитого пастора, как и прежде, издеваются над старым Магнусом. Они дразнят старика до тех пор, пока тот не теряет самообладания. Когда же окончательно выведенный из себя Магнус начинает бушевать, ученики прикидываются оскорбленными в своих лучших чувствах.
— Разве это по-христиански, господин Магнус, драться Библией?
— Я старый человек! — кричит в ответ Магнус. — Неужто вам не стыдно, шалопаи!
Школьная жизнь идет своим чередом. Уроки тянутся долго, а перемены — короткие. Некоторое оживление вносят уроки Магнуса и Водяного: на них шумно веселятся. А затем тянутся часы, полные страха, опасности, истерик. Латынь оказалась еще страшнее, чем ожидали. Новая тяжкая беда свалилась на мальчиков. Латинская грамматика — чудо логической мысли. В мире уже давно никто не разговаривает на латинском языке, но латинская грамматика по-прежнему остается испытанным средством для упражнения умственных способностей. Изучение латыни — полезная тренировка. Гимнастика для мозга. Хорошая подготовка к будущей деятельности.
Все в жизни школьников — только подготовка. Лишь через много-много лет наставники, быть может, скажут, что она завершена. Хорошо, если тогда найдется поле деятельности, где нынешние ученики смогут применить накопленные знания.
Сейчас для каждого пришло время решить, кем он хочет стать. В будущем году обучение разделится на три разных цикла. Ученики смогут выбрать циклы: новых языков, классических языков или естественнонаучный. Поэтому уже теперь каждому надо определить, какой цикл его больше всего интересует в соответствии с будущей специальностью.
Харрикейн хочет стать юристом. Так говорят его родители. А сам он еще толком не знает, что это такое, и потому ничего не имеет против юридической профессии.
Другим сделать выбор гораздо труднее. Теодор Амстед был бы не прочь стать путешественником. За пределами школы и Упсалагаде так много неизвестного. В далекий мир уводят длинные дороги. У Теодора одно желание — бродить по этим дорогам. Есть на белом свете небоскребы и пирамиды, горы и первобытные леса. Где-то бушует Ниагара и разгуливают жирафы, слоны и тапиры. А на другом конце света простирается Китай. Там, за китайской стеной, живут китайцы. А еще есть на свете Гималаи.
Как хочется увидеть все это, все на свете испытать! Все это действительно существует и ждет твоего прихода. Почему бы туда не поехать? Огромный, прекрасный мир раскинулся вокруг. Он ждет, ждет тебя. Неужто так и придется умереть, не увидав всего этого?
Да, но ведь невозможно выучиться на путешественника, говорят родители Амстеда. Теодор должен обуздать свою фантазию. Теперь он уже совсем большой: пора научиться рассуждать разумно. Не исключено, что когда-нибудь, когда он станет студентом, ему и впрямь удастся поехать за границу. Но ведь сначала надо чем-то стать. Нельзя же так просто жить на свете.
Необходимо иметь положение, профессию и хорошую должность. Каждый должен исполнять свой долг.
Микаэль Могенсен намерен свершить нечто потрясающее и величественное. По его воле будут осуществлены великие преобразования. О Могенсене будут говорить как о всесильном северном богатыре, который твердой рукой вершит дела. Он станет Великим Одиночкой, но из своего уединения будет управлять людьми, словно марионетками.
Больше всего на свете ему хочется побыть одному. Дома, на Виллемоесгаде, слишком много детей. Они шумят, мешая ему готовить уроки. Отец Могенсена сидит на диване, обитом красным плюшем, и наблюдает за сыном, то и дело повторяя, чтобы тот не сутулился, иначе он на всю жизнь останется горбуном. За другим концом стола мать склонилась над шитьем. Время от времени она тоже поднимает голову и говорит:
— Перестань чесаться! Сиди спокойно и не тереби волосы! Просто противно глядеть на тебя.
Только в уборной мальчику, наконец, удается уединиться.
— Что-то ты слишком долго там сидишь, — замечает мать. — Чем ты занимаешься?
Микаэль собирает портреты Наполеона. Правда, ему некуда повесить их — на стенах нет места. Но он с увлечением читает книги о Наполеоне.
— Ты бы лучше еще раз повторил уроки, — говорит отец.
— Да, но ведь мы сейчас как раз проходим Наполеона.
— Ну и что ж! Выучи то, что о нем написано в учебнике, и не трать времени на праздное чтение!
А если изредка Микаэлю и выпадет такое счастье — остаться одному в комнате, то со стены печальным укоряющим взором глядит на него Христос. От Христа нигде не укроешься. Даже в уборной.
Гаральд Горн отлично знает, кем ему хочется стать.
Его идеал — Аладдин, герой Эленшлегера: «Природы светлый сын, тайными силами влекомый к избранной цели». Поэтическое вдохновение приходит к нему, когда ои захочет.
Гаральд начал писать стихи. Когда-нибудь он создаст грандиозное, необыкновенное и неподражаемое произведение, которому будет дивиться все человечество. И придет день, когда откроют музей имени Гаральда Горна, в котором выставят реликвии, рассказывающие о его жизни. А потому его долг перед человечеством — хранить все, что впоследствии будет интересовать людей.
Кудрявый Ханс Торсен стремится проникнуть в тайны природы. Дома у него живет маленькая черепаха. Он кормит ее, наблюдает за ней и заносит свои наблюдения в дневник. По воскресеньям Ханс на велосипеде отправляется за город с сачком и гербарием и всякий раз находит множество удивительных вещей. В банках у него сидят гусеницы, а в аквариуме — морские животные. В большой коробке спрятаны редкостные улитки «Хеликс асперса», которые встречаются исключительно в окрестностях порта. По ночам улитки выбираются из коробки и ползают по ковру, оставляя на нем длинные полоски тягучей слизи.
— Скоро у меня лопнет терпение. Не могу видеть этого свинства, — говорит мать Торсена.
Роберт Риге твердо решил посвятить свою жизнь страждущему человечеству. Он станет великим идеалистом. Риге — высокий, худой, светловолосый юноша, и ему вечно всех на свете жаль. Он выписывает газету, выступающую в защиту животных. Втайне от всех Роберт сует мелкие монетки в жестяные кружки Армии спасения. Пожалуй, лучше всего ему стать врачом. Тогда он сможет облегчать человеческие страдания и исцелять болезни. Он будет приходить к людям и утолять боль освежающими мазями. Он поможет больным, бьющимся в лихорадке, утешит и ободрит несчастных. Он принесет себя в жертву беднякам и отдаст последние силы труду на благо человечества.
— Право, жаль Водяного, — говорит он. — Бедный старикашка! Мы не имеем права так изводить его. Он нам не сделал ничего дурного.
Однако далеко не все ученики столь же твердо и бесповоротно определили свое место в жизни. Впрочем, но не так уж страшно. Чем-нибудь в свое время станет каждый. Надо только не противиться ходу событий и слушаться старших. До будущего еще так далеко, да и к тому же люди так или иначе чем-нибудь становятся. Самое главное — кончить школу и выдержать экзамены.
Дни идут. А школьники зубрят и зубрят и с каждым днем становятся все образованнее.
Глава 36
В классе появилось новое общество. Со временем оно выйдет на международную арену, а пока надо создать филиалы в других классах.
Новое общество называется: «Союз в защиту Водяного». Его основатель — Роберт Риге. Идея Роберта встретила единодушное одобрение. «Ужасно жаль Водяного», — говорят мальчики. Пора, наконец, прекратить все это. Ни одно живое существо не заслуживает таких мучений. Надо обеспечить Водяному покой. А если младшие классы вздумают досаждать ему, уж мы зададим им взбучку!
Однако прежде чем будет претворена в жизнь программа нового общества, мальчики хотят устроить на уроке Водяного прощальный спектакль. Это будет последний боевой смотр. Заключительное представление перед воцарением мира. К представлению готовятся основательно. Каждый ученик вносит по два эре на покупку чайника со свистком. Чайник наполняют водой и просовывают сквозь печную дверцу. С огромным трудом его вталкивают в печку и ставят на горящие угли. Водворяют чайник щипцами. Но сначала все должны дотронуться рукой до этих щипцов. Если потом учителя поднимут шум и начнется дознание — все будут виноваты одинаково. Харрикейн не желает участвовать в новой затее, но и его заставляют прикоснуться к щипцам. Теперь ему не отвертеться — он тоже помогал засовывать чайник в печь.
Но этим подготовка к спектаклю не ограничивается. В середине урока кто-нибудь дернет невидимую нить, и дрова, сложенные в углу, с грохотом рухнут на пол. А Харрикейна, как всегда, запирают в стенном шкафу.
Входит Водяной. Маленький, сутулый, с печальными глазами. Он кашляет — едкий дым царапает горло, но он терпит и ничего не говорит. В классе стоит напряженная тишина. Водяной понимает: что-то сейчас произойдет. Однако он вешает на гвоздь географическую карту и тычет указкой в изображения рек.
Тут из печки подает голос чайник. Сначала раздается несколько робких свистков, встреченных всеобщим ликованием. А затем комнату оглашает пронзительный, несмолкающий вой.
Вой слышен в соседних классах, и недоумевающие коллеги Водяного подходят к стеклянным дверям.
— Перестаньте! — кричит Водяной. — Прекратите! Бессовестные! Нахалы!
Он размахивает огромными плавниками, словно грозясь кого-то убить. Но он и мухи не обидит.
— Выньте его оттуда! Немедленно выньте чайник! Щенки, паршивцы, кому я говорю? Сейчас же выньте чайник, раз я вам приказываю! Кто дежурный? Дежурный, ты отвечаешь за все!
Но вынуть чайник невозможно — он не пролезает в печную дверцу. К тому же он раскален докрасна. Доведенный до отчаяния Водяной пытается вытащить его щипцами. Напрасная затея. А между тем чайник по-прежнему воет. В конце концов жесть расплавляется, вода заливает горящие угли, и из печи с шипеньем вырывается пар. Класс наполняется дымом н копотью. В этот момент с грохотом рассыпаются дрова, и класс утопает в шуме и хаосе.
Тут коллеги Водяного уже не выдерживают. Они врываются в класс и вмешиваются в ход событий. А сам Водяной отправляется за ректором. На этот раз дело зашло слишком далеко. Необходимо что-то предпринять. На глазах у него слезы, а большой лягушачий рот жалостно дергается.
Класс стихает, как только входит ректор. Грузный и величественный, он останавливается в дверях, узкими глазками оглядывает комнату. За его спиной, точно за надежным укрытием, прячется маленький Водяной. Ректор бледен от злобы. Он награждает учеников уничтожающим взглядом.
— Прекрасно! — говорит он. — Прекрасно! Итак, здесь происходят плебейские увеселения! Развлечения, достойные черни! Хулиганские выходки! Разрешите узнать, кто все это устроил?
Класс по-прежнему молчит. Никто не отвечает ректору.
— Что ж, очевидно, виновники — такие трусы, что не осмеливаются назвать себя. Кто дежурный?
— Дежурный — я, — тихо произносит Эллерстрем.
— Кто устроил это гнусное представление?
— Весь класс.
— Кто зачинщик?
Эллерстрем не отвечает. И первая затрещина достается ему.
— Отвечай, мерзавец! Кто зачинщик?
— Не знаю я. Не было зачинщика. Все участвовали.
— Круговая порука — обычный прием, характерный для черни. Она основана на ложном представлении о товариществе, к сожалению ставшем модным в последнее время. Однако негодяи, организовавшие это постыдное представление, дурные товарищи, которых не стоит укрывать. Итак, Эллерстрем, кто зачинщик? — И ректор снова поднимает пухлую руку, готовясь угостить ученика очередной затрещиной.
Неожиданно доносится тревожный шум из стенного шкафа, в который заперли Харрикейна. Он уже задыхается там без воздуха. Отыскивают ключ и вытаскивают Харрикейна из шкафа.
— Вот как, — говорит ректор. — Один из зачинщиков, как видно, теперь перед нами. — И удар, предназначавшийся для Эллерстрема, обрушивается на полуживого Харрикейна.
— Кто еще участвовал в этом представлении?
— Я, — отвечает Мердруп.
— И я, — говорит Риге.
— И я, и я, и я! — кричат остальные.
— Да это настоящий заговор! — восклицает ректор. — Однако трусливое запирательство вам не поможет. Пусть на вашем примере учатся другие. Вас ждет основательная порка! И о случившемся будет сообщено родителям. А пока весь класс останется здесь после уроков! Мы еще поговорим!
И ректор торопливо спускается вниз в свой кабинет, чтобы после трудов праведных подкрепиться стаканом портвейна.
Последние уроки проходят спокойно.
Однако «Союз в защиту Водяного» ликвидируется. Водяной заслужил, чтобы ему отомстили.
Глава 37
Весной мальчики конфирмуются. Им дарят часы и всякие другие подарки: в каждой семье праздник.
В первую среду после конфирмации полагается идти к причастию. Мальчики причащаются первый раз в жизни. С волнением ждут они этого события, надеясь испытать какие-то необыкновенные ощущения. Роберт Риге совершенно убежден, что в него вселится святой дух и дарует ему неземное блаженство.
Однако никаких чудес не происходит. Никто из мальчиков не ощущает ничего необыкновенного или удивительного. А святой дух не удостоил Роберта Риге своим вниманием. Напротив, Роберт поперхнулся сухой пористой облаткой, закашлялся и торопливо запил ее вином.
— А все же нам дали настоящее вино, — отмечает Гернильд. — Крепкое вино.
— Только очень уж пастор жадный, — сетует Рольд. — Налил мне всего лишь полбокала.
Зато теперь у всех мальчиков есть часы, и каждому подарили книжку «Бегство оленя»27 а также нож для разрезания бумаги и много других полезных вещей.
Пастор снова пригласил к себе домой своих любимых учеников. Сидя в уютной квартире, они пьют чай, мирно и непринужденно беседуют. Каждому пастор дарит — с личной надписью — свою книгу для юношества. Книга рассказывает о том, как должен жить молодой человек, чтобы уподобиться Давиду и побороть тайные ночные искушения. Честь и слава тому, кто победит в этой борьбе.
— Один бог знает, какую жизнь ведет сам пастор, — говорит Торсен. — Он ведь не женат.
Учебный год подходит к концу. На первом месте, как и прежде, Аксель Нильсен. Аксель — радость и гордость своих родителей. Верно, когда-нибудь он станет крупным ученым.
Эдвард Эллерстрем, напротив, уже не принадлежит к числу лучших учеников. Он теперь самый что ни на есть средний. Эллерстрема подвела латынь. Он получил по этому предмету низкий годовой балл, и все остальные оценки, взятые вместе, не смогли его уравновесить.
— Я не собираюсь тебя отчитывать, — сказала ему мать. — Но ты отлично знаешь, как ты меня огорчил. Только ты один и есть у меня на свете. Ты моя единственная опора. Я так верила в тебя, мой большой, взрослый сын, такие надежды на тебя возлагала... Если ты обманешь мои ожидания, право, не знаю, что тогда делать. Уж лучше мне сразу умереть. Здоровье у меня совсем не такое крепкое, как ты, быть может, воображаешь.
Когда Эдвард был маленьким мальчиком, мать часто читала ему стихи про умирающую дикую утку. И всякий раз он горько плакал. Но матери и сейчас нетрудно заставить его рыдать. Жизнь не закалила Эдварда.
Дела Тюгесена несколько улучшились. Ему удалось сдвинуться с последнего места, и в следующий класс его перевели без всяких оговорок. Однако на этот раз отец из предосторожности не пришел на торжество, посвященное окончанию учебного года. Оп боялся, что ему вновь придется пережить прошлогодний позор. А между тем оказалось, что дела у сына поправились. На этот раз летние каникулы пройдут спокойно.
Но вот в старой школе вновь натирают полы. Снова чинят и красят парты. Пусть только кто-нибудь посмеет что-либо написать или нацарапать па них! Это хулиганство, вандализм, и виновные будут строго наказаны!
Наши мальчики теперь уже гимназисты. Класс раскололся — ученики зачислены на разные отделения. Появились новые предметы. А с ними новые заботы и тревоги. Мальчики впервые столкнулись с лектором Оремарком, а он оказался еще страшней Макакуса.
Макакус просто вспыльчив. А Оремарк, судя по всему, нарочно себя распаляет. Он упивается своим бешенством и всякий раз доводит себя доисступления. Верно, бессмысленное буйство доставляет ему наслаждение. Оно действует на него, точно освежающая, живительная ванна. Буйствуя, он имитирует знойный галльский темперамент, изображает этакого свирепого парижского шофера. И кажется, будто он отрешился от собственного «я» и с хладнокровным любопытством наблюдает за своим беснующимся двойником. Да, Оремарк — явление сложное.
Мальчики осваивают латынь, идя вперед семимильными шагами. Давно миновало время коротких параграфов и адаптированных текстов. Класс углубился в классическую литературу. Отроки черпают духовную пищу из культуры древности. Высоко парят наши мальчики. Однако нельзя забывать о грамматике. Грамматика — это основа всего. Она блестящий образец логики, которая способствует развитию научного мышления. Сёрен Кьеркегор28 написал стихотворение во славу латинской грамматики. Лектор Бломме не умеет писать стихи. Но он трепещет от восторга, когда поясняет хитроумные логические построения из грамматики Мадвига.
Школа ревниво добивается, чтобы ее питомцы знали намного больше учеников других школ. Недаром в нее принимаются лишь лучшие ученики, к которым можно предъявлять наивысшие требования. Для учащихся цикла новых языков программа предусматривает лишь четыре часа латыни в неделю. Но школа принимает меры к тому, чтобы практически удвоить это время — ученики должны быть знакомы с классической культурой. А то, для чего не хватит времени на уроке, они обязаны наверстывать дома. И нередко мальчики занимаются по ночам. Их заставляют писать сочинения на латинском языке, хотя программа этого не требует. Школа никому не позволит задушить классическое образование!
Школа — это государство в государстве. Что бы ни происходило на свете, школе нет до этого никакого дела. В обществе запрещено бить людей по лицу. Однако в школе, гордящейся своими классическими традициями, побои считаются законным средством воспитания. На этом поприще особенно отличается ректор.
Мальчики выросли. Многим купили настоящие мужские костюмы. За стенами школы люди обращаются к ним на «вы».
Но стоит им опоздать на урок, как их ждет затрещина!
Глава 38
— О ты, толстомясый Красе! — восклицает лектор Бломме. — Потрудись одолеть свою врожденную леность. Разверзни могучую пасть и начинай переводить заданное, жирный боров!
Не в первый раз Бломме прохаживается насчет толщины Тюгесена. Остроты эти не новы и не оригинальны. Но ученики терпеливо смеются. Они знают, какие факторы влияют на годовую оценку.
Запинаясь, Тюгесен начинает переводить: «Сосну еще не рубили и не спускали с родных гор, дабы с ее помощью посетить чужие земли. И люди не знали иных берегов, кроме собственных».
— Погоди! — прерывает его Бломме. — Дозволь немного полюбоваться твоей жирной физиономией. Ну, прямо вылитый Аполлон! Окажи такую любезность: поверни слегка свою аполлоноподобную главу, разумеется, если у тебя достанет на это сил!
Тюгесену не остается ничего другого, как повернуть голову, хотя он отлично знает, какая острота за этим последует.
— Ах, — говорит Бломме, — когда я рассматриваю тебя анфас, мне хочется взглянуть на тебя в профиль. Когда же я созерцаю твой профиль, мне не терпится снова увидеть тебя анфас.
Все ученики и с ними Тюгесен принужденно смеются. Громче всех хохочет примерный ученик Гаральд Горн, которого Цезарь ныне дарит своим благоволением и называет просто Гаральдом. Прошли те времена, когда его любимцем был Эллерстрем и он звал его по имени.
Эллерстрем сильно переменился. Нос его вырос несоразмерно с другими чертами лица, и пройдет еще много времени, прежде чем лицо сформируется.
— Господин Нос, — обращается к нему Бломме: теперь он всегда называет его так, — господин Нос, будь столь любезен и переведи дальше. Надеюсь, это не слишком тебя обременит.
Эллерстрем краснеет и начинает запинаться, путаясь в переводе, хотя дома он отлично подготовился.
Шутки на этом кончаются. Взор Цезаря грозно сверкает сквозь золотые очки.
— Нет, это беспримерно! Опять этот субъект пришел в класс неподготовленным! А сколько я выговаривал ему на прошлом уроке! Подумать только, раньше ты был таким прилежным мальчиком! А теперь — долговязый, ленивый балбес! — Неизменной авторучкой Цезарь делает роковую пометку в синей тетрадке.
И Эллерстрем отлично понимает, как она скажется на его годовой оценке.
— Продолжай теперь ты, Гаральд! Ты-то, надеюсь, знаешь урок.
— «В те времена еще не было прямой оловянной трубы. Изогнутого медного горна тоже не было».
Как всегда, учитель не может отказать себе в удовольствии отметить сходство существительного «горн» с фамилией ученика. Однако острота имеет еще и другой, затаенный смысл: она содержит явный намек на горбатый нос Эллерстрема.
Горн продолжает:
— «Не было также законов, выгравированных на меди... И люди не преклоняли колен и не страшились лика своего судьи».
— Конечно, лучше было бы сказать: «Не было также изогнутых горнов из меди». А дальше лучше так: «Толпа, склоненная в молитве, также не страшилась лика своего судьи». Латинское «neque» надо переводить как «также не». Это отрицание в сочетании с соединительным союзом. Там, где в датском после соединительного союза следует отрицательное местоимение или же местоименное наречие, в латыни ставится «neque» в сочетании с обычным местоимением или наречием. Там же, где добавляется отрицательное предложение, начинающееся с «enim», «tanem», «vero», «neque» заменяет «non». Наконец употребляется сочетание «neque—neque» в значении «ни-ни».
О словечке «neque» можно сказать очень много. Но еще больше можно сказать о способах выражения отрицания в латыни. Цезарь спрашивает, кто берется охарактеризовать эти явления. Тотчас же взлетают вверх руки учеников. Одни хотят, чтобы их спросили. Другие, напротив, стремятся лишь внушить Цезарю, будто они все знают, чтобы он не вздумал их вызывать.
Прямую трубу и изогнутый горн склоняют во всех падежах и числах. А глаголы «спускаться», «молить» и «страшиться» спрягают и образуют во всех мыслимых временах и залогах. В синей тетрадке лектора Бломме появляются новые роковые значки и закорючки. Одобрительным кивком награждаются те, кому удается повторить труднейшие параграфы грамматики Мадвига.
— Когда предложение начинается со слов «timeo», «verior», «terreo», «metuo» и других, выражающих страх или огорчение, то «nе» всякий раз ставится перед глаголом, обозначающим нежелательное явление, наступления которого страшатся, — отчеканивает Горн. — Когда же речь идет о явлениях желательных и выражается опасение, что эти желательные явления могут не состояться, то соответствующий глагол употребляется с «ut» или с «ne — non».
— Совершенно верно. Отлично, Гаральд. Слава богу, не все усилия пропадают даром.
Юноши осваивают культуру древности. Вокруг горящей лампады пляшут музы. Вот она, классическая образованность! Стихотворение Овидия про прямую оловянную трубу и изогнутый медный горн, про законы, которые следовало выгравировать на меди.
Стихи Овидия скандируют вслух. Объясняют, толкуют, постигают и усваивают классическую поэзию. В ударной части дактилического стиха короткий заключительный слог в многосложных словах, оканчивающихся на согласную, превращается в долгий. Точно так же обстоит дело с употреблением «que» в ударной части гекзаметра. Превращение долгого слога в краткий называется систолой, превращение краткого слога в долгий — диастолой...
— Может быть, Гернильд расскажет нам кое-что о гекзаметре?
— Он состоит из пяти дактилей, одного трохея или спондея. Получается шесть дактилей, из которых один — каталектический. Когда в пятой стопе ставится спондей, четвертая стопа обычно представляет собой дактиль.
— Нетрудно отбарабанить правило, когда тайком подглядываешь в учебник! — вопит Бломме. — Такие субъекты, как Гернильд, обычно кончают скамьей подсудимых. Садись! Ничего ты не понял. Поэзия Овидия для тебя пустой звук!
Гекзаметр, как правило, имеет цезуру в третьей стопе. Если таковая следует после арсиса, то это мужская цезура. Если же она стоит после первого короткого слога дактиля, то она называется женской цезурой. Но в этом случае обычно наличествует также цезура после арсиса в четвертой стопе, она-то, в сущности, и раскалывает стих. Подчас цезура отсутствует в третьей стопе и встречается лишь после арсиса в четвертой стопе. Все это необходимо знать, чтобы воспринимать классическую поэзию. Гернильд не пожелал вникнуть в эти детали. Культура, видите ли, претит ему! Видно, тебе суждено стать посыльным! Или кондитером! Сокровища ума — не для таких, как ты!
На улице шумно и людно. Мчатся автомобили и велосипеды, торопятся пешеходы. Им невдомек, когда употребляется «neque — neque» и на чем основано римское стихосложение. Несчастные: они не получили классического образования! И все-таки они как-то ухитряются существовать. Вероятно, им известно многое другое. И маленьким буквоедам, отгороженным от мира стенами школы, тоже не мешало бы знать это другое.
Глава 39
Для тех избранных, что постигают науки в сером строгом здании, жизнь выглядит иначе, чем для людей, заполняющих улицы.
Многое должен знать образованный человек. Школа беспрерывно вводит новые предметы и курсы — знания ее питомцев должны быть всеобъемлющими и разносторонними. Именно поэтому ученикам преподают, например, древнескандинавский язык, хотя большинство людей живет на свете, не имея о нем ни малейшего представления.
Но образованному человеку, оказывается, надо знать этот язык. А в древнескандинавском тоже имеется своя грамматика с множеством склонений, падежей и причудливых окончаний. Древнескандинавский, конечно, не такой замысловатый язык, как латынь, но его также необходимо изучить. Многое можно втиснуть в человеческий мозг, если только умело это делать.
Забывать что-либо из пройденного запрещается категорически. Известно, что человеческий организм не удерживает всей пищи, поглощаемой им. Однако духовная пища, полученная в школе, должна быть усвоена полностью. Впереди еще длинный ряд экзаменов, и нужно помнить множество фактов. А посему нельзя попусту растрачивать свою умственную энергию. Чтение книг, не предусмотренных программой, понятно, исключается.
А на свете так много книг, которые хочется прочитать! Но увы, это невозможно. А вдруг, того и гляди, прочитанное вытеснит усвоенный учебный материал? Школа не может считаться с какими бы то ни было индивидуальными интересами или стремлениями. Кто-кто, а Аксель Нильсен хорошо это знает. До сих пор ему всегда удавалось сохранять за собой первое место в классе, но он не смеет раскрыть ни одной книги, кроме школьного учебника. Ему некогда даже просмотреть газету. Классическое образование обрекает его на полное невежество во всем, что касается жизни людей, человеческих мыслей и проблем.
— Древнескандинавский?— ужасается хозяйка лавчонки на Ландемеркет. — Господи помилуй! Конца этому нет! Вот увидите, голова у вас распухнет, как тыква. А о житейских делах, что гораздо полезнее, и знать ничего не будете!
Впрочем, древнескандинавский еще не самое страшное. Господин Ольсен — спокойный человек, раздражается он крайне редко. На его уроках всегда можно поразмыслить над ответом, и ученики не скованы волнением и страхом.
Совсем по-другому бывает на уроках французского языка. Вот ученики переводят коротенький рассказ про человека, который ушел из дому, не захватив с собой зонтика, а тут вдруг пошел дождь. Текст совсем легкий. Однако лектор Оремарк сидит насупившись и зловеще молчит. Он явно досадует, что ученики не делают ошибок, и спешит перейти к разговорным упражнениям. Цель этих упражнений — показать, как французы пользуются отрицанием, в частности, как употребляется в разных обстоятельствах сочетание «ne pas».
— Иоргенсен, как ты скажешь по-французски: «Я беру с собой зонтик»? А как сказать: «Я не беру его с собой»? Или — «Я не взял его с собой»? Так. А как будет: «Я не хочу брать его с собой»? И еще: «Я не хотел брать его с собой»?
Вопросы градом обрушиваются на ученика. Задуматься нельзя ни на мгновение. Это считается признаком неуверенности. Оремарк садится на парту перед Иоргенсеном. Задавая вопросы, он громко стучит связкой ключей по крышке парты, рассчитывая, что шум рассеет внимание ученика и тот в конце концов ошибется.
— Значит, как ты скажешь: «Я не хотел брать с собой зонтик»? А если так: «Поскольку шел дождь, мне пришлось взять с собой зонтик»? Так. Дальше: «Если бы не шел дождь, я бы не взял с собой зонтика»? Так: «Дождик не пошел бы, если бы я взял с собой зонтик»?.. Ну, что же ты молчишь? Отвечай! Скорей! Скорей! Скорей! — вопит Оремарк, бешено колотя связкой ключей по крышке парты.
Если Иоргенсену в этих условиях все же удается сохранить хладнокровие и он по-прежнему отвечает верно, то в запасе у учителя всегда есть еще один трюк. Он резко окликает ученика:
— Как ты сказал? Не слышу! Повтори еще раз.
Ошарашенный, Иоргенсен начинает сомневаться в правильности своего ответа и слегка поправляется.
— Вот как! — торжествующе восклицает Оремарк. — Так я и думал! Ошибка налицо. Видно, потому-то ты и бормочешь что-то невнятное. Но меня не проведешь.
Иоргенсен поспешно повторяет первоначальный ответ.
— Как же нам теперь быть? Какой из двух ответов верен? — издевается Оремарк. — Хорош ученик! Швырнул мне в лицо целую кучу ответов: нате, мол, выбирайте сами. Стану, мол, я с этим возиться! Пусть, мол, сам выбирает, что ему надобно, этот болван! Что, разве не так? Разве не по этому методу ты действуешь? Но я не позволю себя дурачить! — угрожающе шипит Оремарк. — Не позволю себя обманывать! Не допущу, чтобы меня водили за нос! «Если бы не мог пойти дождь, то я, возможно, не взял бы с собой зонтика»? Как это сказать? Дальше. «Поскольку мог пойти дождь, я взял с собой зонтик»? Еще: «Так как я думал, что дождь не пойдет, я не взял с собой зонтика»? Как ты это переведешь? Отвечай! Отвечай! Отвечай! Быстрей! Быстрей! Быстрей! — Оремарк кричит и в такт собственным выкрикам стучит ключами по столу.
Иоргенсен следит глазами за гремящей связкой ключей, голова его вздрагивает при каждом ударе.
— Ты что, не желаешь отвечать? Но желаешь, ленивая скотина? Может быть, ты все-таки удостоишь меня ответом?
Теперь уже Иоргенсен действительно то и дело ошибается. Оремарк дрожит от ярости и тяжело дышит. Вот он, точно тигр, изготовился к прыжку. Замахнувшись, он бьет ученика ключами по голове и, словно обезумев, орет:
— Ленивый верблюд! Невежда! Наглец!
На усах учителя выступает пена. Он дико вопит прямо в лицо Иоргенсену, брызжет на него слюной и обдает зловонным дыханием.
Иоргенсен почти взрослый юноша. На нем настоящий мужской костюм. Из кармана пиджака торчит авторучка и щегольской карандаш со вставным грифелем. Однако юноша не в силах сдержать слезы. Страх парализовал его волю. И к тому же это очень больно, когда тебя бьют ключами по голове.
Оремарк видит, что на глазах ученика слезы. Откинувшись назад, он складывает руки на груди и кричит:
— Смотрите, скотина заревела! Нет, поглядите только, у него и в самом деле глаза на мокром месте! Этим ты ничего не добьешься! — все так же зловеще продолжает учитель. — Ну-ка, встряхнись, рохля! Возьми себя в руки, лодырь ты эдакий! Отвечай! Как надо сказать? Отвечай! Как надо сказать по-французски: «Если бы я не взял с собой зонтик, то пошел бы дождь»? Нет, лучше так: «Если бы не мог пойти дождь, я не стал бы брать с собой зонтик»? Отвечай, Иоргенсен! Я жду твоего ответа, Иоргенсен, дорогой! Проснись, возлюбленный Иоргенсен! У нас сейчас урок французского языка! И я не отпущу тебя, пока не добьюсь своего! Эх ты, слюнтяй!
Оремарк сказал правду: он ни за что не отпустит свою жертву! И все начинается сначала: драматический шепот и зловещее шипенье сменяются пронзительным криком, а крик — бешеными воплями. Сначала учитель грозно выпрямляется во весь рост и складывает руки на груди. Затем начинает кричать. Он жестикулирует, точно официант из дешевого французского кабачка, и яростно плюется, так что слюна оседает у него на усах, дергает свою мефистофельскую бородку и снова бьет Иоргенсена ключами по голове.
Так может продолжаться пол-урока. Но иногда это занимает и целый урок. Того, кто стал жертвой учителя, жалеют все. Но вместе с тем каждый надеется, что экзекуция затянется еще надолго — пока она длится, все остальные ученики чувствуют себя в безопасности.
Оремарк не выдернет штепсель из стены, как это однажды сделал Макакус. Его буйство иного рода. Он не станет рыдать от злобы, как лектор Дюэмосе. Ярость Оремарка более драматична. Более эффектна. У него в запасе богатый набор театральных жестов. Порой он воздевает руки к небу. Но мгновение спустя он уже сжимает кулаки и сует их в нос Иоргенсену. Затем с ужасающим спокойствием скрещивает руки на груди и застывает в этой позе. Нарочито понижая голос, он изъясняется зловещим шепотом. Вдруг шепот обрывается, и гневный голос учителя снова звучит в полную силу. Не дай бог, если кто-нибудь из учеников погрешит против французской грамматики! Всем своим видом Оремарк показывает, что для него это личное оскорбление.
— Нет, это уже слишком! Нет, это что-то немыслимое! Меня не проведешь! Я этого так не оставлю! Я человек упорный! Как сказать: «Если бы не мог пойти дождь, я бы не стал брать с собой зонтик»? Отвечай! Отвечай! Отвечай!
Оремарк пользуется глубоким уважением своих коллег. Он автор многих отличных учебников, добросовестный и серьезный педагог. Но неужели нельзя обучать детей французскому языку несколько иным способом?
Глава 40
Кабинет естествознания расположен на школьном чердаке. Там стоят аквариумы и клетка с белыми мышами. А еще в кабинете хранятся разнообразные коллекции — камни, раковины и заспиртованные животные.
Здесь царство адъюнкта Лассена. Он собственноручно купил обеих белых мышей, предварительно удостоверившись, что это самцы. Это хорошо, иначе число обитателей клетки могло бы увеличиться до бесконечности.
И все же однажды вопреки всем законам природы в клетке появились розовые мышата. Адъюнкт Лассен сразу смекнул, что перед ним сознательная диверсия, и доложил о случившемся ректору.
— Я совершенно точно знаю, — уверял Лассен, — что там были два самца. А теперь у них родились мышата!
— Как мне думается, есть все основания предполагать, что по крайней мере одна из этих мышей была самкой, — возразил ректор.
— Это невозможно. В клетке жили самцы. Я сам купил их в магазине. Тогда же я самолично осмотрел их и проверил, какого они пола.
— Так чего же вы хотите от меня? — спрашивает ректор.
— Я убежден, что это диверсия. Вероятно, кто-нибудь из учеников подменил самца самкой. Я считаю, что это недопустимая и непристойная проделка. Да, непристойная и злонамеренная. Оттого я и решил передать дело в ваши руки.
— Неприятная история, — говорит ректор. — Все это весьма прискорбно. Виновный, конечно, получит по заслугам. Есть у вас кто-нибудь на подозрении?
— Да, есть. Полагаю, что это сделал Ханс Торсен.
Господину Лассену известно, что у Торсена живут дома черепахи, улитки, а также другие животные. Возможно, есть у него и белые мыши. Да и вообще этот Торсен, видно, вообразил, будто он разбирается в зоологии не хуже самого господина Лассена. То и дело задает адъюнкту вопросы, на которые тот не в состоянии ответить. Торсен часто приносит в класс животных, препарированных им самим, а также различные «зоологические находки», которые Лассен не в силах распознать. А это весьма неприятно и ставит в неловкое положение самого учителя, авторитет которого, как известно, должен быть незыблемым.
— Как вы думаете, господин Лассен, что же это такое? — нагло спрашивает Торсен, протягивая учителю какой-то твердый кусочек.
За ними с интересом наблюдает весь класс.
— Где ты это раздобыл?
— В Ютландии, летом. Похоже, что это от какого-то животного, не правда ли?
— Конечно, от животного. А ты, верно, думал, что это какая-нибудь часть человеческого тела? Право же, Topсен, ты ничего не смыслишь в биологии. Нет у тебя к ней призвания!
— А все-таки, что же это такое?
Лассен вертит и рассматривает кусочек с разных сторон. Он явно напоминает клык дикого кабана. Но в Ютландии, насколько известно Лассену, дикие кабаны не водятся. К тому же для кабаньего клыка он слишком легок. Честно признаться, что он не знает, как определить загадочный предмет, учитель не хочет. Он и без того слишком долго рассматривал находку, и в классе уже раздаются смешки.
— Мне думается, — провозглашает, наконец, Лассен, — что это рог молодого козленка.
— Вовсе нет, — улыбаясь, возражает Торсен. — Хотите знать, что это, господин Лассен? Это самая обыкновенная петушиная шпора!
Весь класс громко и торжествующе хохочет.
— Что ж, все предметы надо рассматривать в их общей взаимосвязи, — невозмутимо отвечает Лассен. — Однако я еще далеко не убежден в том, что ошибся. И пока не будет доказано обратное, я останусь при своем мнении. Полагаю, что перед нами — молодой, недоразвитый рог.
— Однако я сам нашел его на птичьем дворе, на хуторе у тетушки. И я лично знаком с петухом, который потерял одну из своих шпор, — по-прежнему с улыбкой настаивает Торсен. — Оставьте ее себе, господин Лассен, может быть, пригодится для школьной коллекции.
Ученики снова ухмыляются.
В этих условиях Торсену не приходится рассчитывать на хорошую отметку по естествознанию. В табеле появляется посредственная оценка, а рядом с нею рукой господина Лассена написано: «Знания ученика Торсена оставляют желать лучшего».
— Странно, — удивляется отец Торсена, — ты же, кажется, по-настоящему интересуешься этим предметом. То и дело приносишь в дом всякую ползучую нечисть. Как же получается, что ты так плохо успеваешь по естествознанию?
— Я и сам не понимаю. На уроках меня никогда не вызывают. Наверно, Лассен меня недолюбливает.
Но вот начинается следствие по делу о мышах.
— Это на редкость гнусная выходка, — говорит ректор. — Я твердо намерен расследовать это дело. Если кому-нибудь известно имя виновного, он обязан назвать его. Покрывать такого грязного субъекта — значит следовать ложному чувству товарищества. Посрамлена честь нашей школы. Указать на дурного товарища, своей злонамеренной проделкой запятнавшего честь учебного заведения, — долг каждого ученика!
Однако ученики не знают, кто виновный.
— Торсен, это ты сделал?
— Нет, не я.
— Надо делать шаг вперед, Торсен, когда с тобой разговаривают. Пойди-ка сюда!
Торсен выходит вперед. Очутившись перед ректором, он смущенно теребит край кармана. И тут раздаются две звонкие пощечины. Ректор — мастер на эти дела, и у Торсена гудит в ушах.
— Ты что, спятил, юнец? Стоишь передо мной, засунув руки в карманы! Наглец! Нахальный щенок! Признайся лучше, ведь это ты устроил гнусную проделку с мышами?
— Нет, не я. Я даже не знаю, о чем речь.
— Что ж! Мы еще разберемся в этом деле! — Ректору нелегко изобрести предлог для новых пощечин. — Отправляйся на свое место, бездельник! И не смей больше дерзить старшим! Грубиян!
Торсен возвращается на свое место. На лице у него горят багровые следы — отпечатки ректорских пальцев, Ректор величественно покидает кабинет.
Лассен торжествует и откровенно злорадствует:
— Ай-ай-ай, Topсен, как же можно так непристойно себя вести? Стоять перед ректором, засунув руки в карманы!
— Но ведь ничего подобного не было! Я только теребил пальцами край кармана.
— Изволь-ка замолчать! Неужто ты воображаешь, что я стану выслушивать твои жалобы? Когда ученик стоит перед своим ректором, он не «теребит пальцами края кармана». Ты вел себя крайне неприлично, дорогой Торсен. Крайне неприлично.
Весь класс знает, что фокус с мышами устроил Мердруп. После урока Мердруп подходит к Торсену и спрашивает, не хочет ли тот, чтобы он сам признался ректору.
— Конечно, нет, — отвечает Торсен. — Ты что, спятил? Какой в этом смысл?
Класс согласен с Торсеном: совершенно незачем Мердрупу признаваться. Никто его не выдаст. Уж лучше отомстить этому болвану Лассену.
Лассен торжествует победу над Торсеном. Но загадка с подменой мышей так и не раскрылась. И учитель больше не держит белых мышей в школе.
Месть класса не заставила себя ждать. На следующем уроке в аквариуме господина Лассена среди прочих морских животных издевательски колыхалась огромная маринованная селедка. Жирная и блестящая. А ученики то и дело насмешливо осведомлялись у Лассена, что это за рыба.
Глава 41
Идут письменные испытания в третьем гимназическом классе. Для этого пришлось освободить часть классных комнат на первом этаже. Остальным классам, еще не распущенным по домам, не хватает места. Целые классы путешествуют по школе, переселяясь из одного помещения в другое. Сплошь и рядом занятия по гуманитарным предметам ведутся в кабинетах физики и химии.
— Великолепно! — негодует лектор Бломме. — Отныне приходится вести уроки среди зловонных газовых кранов и дышать ядовитыми химическими парами. Кошмарные условия! Целые табуны учеников скитаются по школе. Для того чтобы отыскать класс, где можно провести урок, я должен обладать навыками следопыта. Кто сегодня дежурный?
— Эллерстрем.
— Так изволь по крайней мере растворить окно, чтобы выветрился запах газа. Неужто ты своим огромным носом не чувствуешь вони? А ты, дражайший Риге, отвечай урок!
Ученики проходят заключительные страницы поэмы о Пираме и Фисбе, исполненные глубочайшего драматизма. Риге зачитывает классические строки: «Non aliter, quam cum vitiato fistula plumbo — Scindi tur et tenui stridente foramine longas. Eiaculatur aquas atque ictibus aëra rumpit», —и переводит:
— «Когда Пирам вонзил в себя меч, кровь сильной струей брызнула из горла его, подобно тому как с громким свистом вырывается вода из лопнувшей трубы».
С переводом покончено. Класс переходит к анализу текста.
— Быть может, господин Нос, отрок с гигантским хоботом, соизволит очнуться ото сна и поведать мне, какова роль загадочного словечка «аn» в седьмой строфе сверху? Когда ты дома изучал этот текст, не ожидал ли ты, что в первом члене разъединительного вопросительного предложения Овидий непременно употребит; «utrum» или по меньшей мере частицу «ne»?
Эллерстрем лихорадочно роется в своей памяти. Затем нерешительно произносит:
— «Аn» употребляется в зависимом предложении, когда первое звено предложения отсутствует.
— Повтори-ка еще разок, что ты сказал. Я не расслышал, что произнесли твои пурпурные уста!
Эллерстрем вновь повторяет все, что ему удалось вспомнить о частице «аn».
— Чепуха! Дорогой Эллерстрем, ты, видно, прочитал не тот параграф! Или, роясь в кармане, вытянул не ту шпаргалку! Номер не вышел, дружок! Нильсен, можешь ответить на мой вопрос?
— «Аn» не только употребляется во втором звене разделительного вопросительного предложения, но также и в самостоятельных вопросительных предложениях, когда в них содержится возражение против первоначального утверждения, или в тех случаях, когда подразумевается подтверждение заключенных в них мыслей, или когда задающий вопрос сам же дает на него ответ или выражает его предположительно в форме нового вопроса.
— Вот это верно. Но в первую очередь «аn» употребляется в подчиненном вопросительном предложении со значением «чтобы... не», «чтобы... как-нибудь не», а также для усиления после «haud scio», «nescio», «dubito», «dubium est», «incertum est» и в некоторых других словосочетаниях, выражающих сомнение. Быть может, господин Нос потрудится повторить все это?
Однако Эллерстрем не в состоянии запомнить правило целиком. И тут терпению, как и шутливой снисходительности Бломме, приходит конец.
— Ты мог бы по крайней мере прислушиваться к тому, что говорят в классе. Право, совсем не обязательно устраивать для себя мертвый час на уроке латыни. Достаточно уже того, что ты не выучил урока. А когда мы повторяем правила с единственной целью — помочь тебе разобраться в них, то ты даже не удостаиваешь нас своим вниманием. Но погоди! Я еще доберусь до тебя! Уж я разделаюсь с тобой на экзамене!
На дворе под самым окном какой-то другой класс играет в мяч. То и дело раздаются свистки и резкие выкрики учителя гимнастики.
— Черт побери! — говорит лектор Бломме. — И этот дурацкий спортивный ажиотаж тоже приходится терпеть!
Для Бломме выдался трудный день. Ученики не помнят себя от счастья, когда, наконец, раздается звонок. Перед уроком немецкого языка можно будет выйти во двор и хоть немного погреться на солнце.
Дежурный остается в классе.
— Послушай, Эллерстрем, — обращается к нему лектор Бломме. — Мне необходимо поговорить с тобой. Очевидно, ты не уяснил себе, какая серьезная угроза нависла над тобой. Я не смогу санкционировать твой перевод в следующий класс. Не смею взять на себя такую ответственность. Я вынужден выставить тебе плохую годовую оценку. Говорю тебе об этом сейчас, потому что я твой друг. Я желаю только твоего блага. Попытайся понять это, Эдвард, — продолжает Бломме, как в былые времена называя ученика по имени. — Да, Эдвард, я твой друг. Но я обязан быть справедливым. Я вынужден принести тебя в жертву, хотя в душе мне это причиняет боль.
Эллерстрем неподвижно сидит за партой. Лицо его горит, перед глазами плывут круги. Еще раз заверив его в своих дружеских чувствах, Бломме выходит из класса. Плохая годовая оценка... Бломме отказывается санкционировать его перевод в следующий класс... Страшнее этой катастрофы ничего не может быть. Уж лучше утопиться или проглотить какой-нибудь яд из бутылочек, хранящихся в шкафу.
Система оценок дает некоторым людям большую и необычную власть. Огромное доверие оказано учителям. Взять, к примеру, мальчика вроде Торсена. Он живо интересуется зоологией и знает всего Брема наизусть. Дома у себя он оборудовал аквариум. Развел рыб и разных животных. В свободное время он изучает жизнь насекомых. На насыпи около порта он отыскивает редкие виды улиток и определяет их по книге «Фауна Дании». Topсен отлично разбирается в зоологии. Однако учитель естествознания не выносит его и потому считает, что ему нужно выставить плохую отметку. И некому проверить, правильно ли он рассудил. Нет никаких инстанций, к которым можно было бы апеллировать. Власть учителей велика и удивительна.
На кафедре все еще лежит овальная жестяная коробочка, забытая лектором Бломме. Желтая овальной формы коробочка с леденцами.
Хоть бы этот Бломме подавился одной из своих конфеток! Эх, если бы они оказались ядовитыми!
Стену закрывает просторный вытяжной стеклянный шкаф. В нем — кислоты и щелочи, медный купорос, а также бесчисленные склянки со смертоносными ядами. Дежурный обязан прятать ключ от этого шкафа. Он отвечает за его сохранность. А что, если найдется другой выход? Может быть, не обязательно Эллерстрему топиться или принимать яд...
Во дворе шумят и резвятся ученики. Они бегают, кричат и воспитывают «сосунков». Голуби спариваются, роняя перья, столь необходимые инспектору Шеффу для чистки трубки. А Эдвард Эллерстрем тихо сидит в классе и проделывает отверстие в одном из леденцов лектора Бломме. Он работает добросовестно и аккуратно. Когда отверстие готово, Эллерстрем сыплет в него белый порошок. Затем он так же аккуратно вытирает конфетку и кладет назад в овальную жестяную коробочку, старательно засунув ее в нижний ряд леденцов.
Перед самым звонком за коробочкой возвращается Бломме.
— Вот к чему приводит кочевая жизнь! Поневоле начинаешь терять свои вещи! Ха-ха-ха! А ты, верно, решил, что я забыл про леденцы, и, пожалуй, уже собирался их съесть, — шутливо добавляет учитель. — Впрочем, я готов предложить тебе конфетку, хотя бы в благодарность за то, что ты не съел их все до одной! Пожалуйста, угощайся! — И он протягивает Эллерстрему открытую жестяную коробку.
— Спасибо, — говорит Эллерстрем и берет верхний леденец.
Глава 42
— Невозможно представить себе, что лектора Бломме нет среди нас, — говорит ректор с кафедры в актовом зале. — И сегодня, когда на дворе стоит прекрасное датское лето, мы собрались здесь, неожиданно осиротевшие, бессильные что-либо изменить.
Мысль наша не в состоянии охватить случившееся. Наш рассудок отказывается воспринять этот чудовищный факт. Немые и сирые, склоняем мы свои головы под бременем непостижимого.
Лектор Бломме был незаурядным преподавателем. Но разве можно говорить о нем только как о добросовестном учителе? Он был выдающимся педагогом и величайшим знатоком античной культуры, прекрасным специалистом в области гуманитарных наук. Редкая эрудиция и широкие познания покойного производили неизгладимое впечатление на каждого, кому выпало счастье знать его. Одним словом, это была цельная и яркая личность.
Но и это еще далеко не все, что можно сказать об усопшем. Лектор Бломме был нашим другом. Да, он был верным другом своих коллег, верным другом учеников. Все мы знали, что на этого друга можно положиться во всем и до конца. Мы в равной мере ценили его блестящие способности и благородство его характера. Мы безгранично уважали лектора Бломме. Более того. Не будет преувеличением сказать, что мы любили его. Любили за многое — за неизменную приветливость, за блестящее остроумие, за трогательную заботливость и доброе сердце.
Страшно подумать о том, что мы никогда больше не увидим его. Не услышим его голоса. Не пожмем его руки.
Мы всегда будем трагически ощущать его отсутствие в этой обители, где каждый из нас трудится и работает в меру своих сил. От нас ушел друг. Дорогой, испытанный друг.
Как и прежде, мы будем трудиться на избранном нами поприще. Но в этой обители, где протекает наша деятельность, где преподаватели и ученики совместно исполняют свой повседневный долг, никогда не умрет память о лекторе Бломме. С неизменным восхищением мы будем вспоминать о его блестящих знаниях, благородном характере и добром сердце.
Да покоится он во славе! А теперь я попрошу вас выйти отсюда без какого-либо шума и непристойных выходок. Я не допущу ни малейшего беспорядка. И смотрите, чтобы у дверей, а также на лестнице не было давки и толкотни!
Школьная жизнь идет своим чередом. Ректор благополучно прочитал надгробную речь. Вопреки обыкновению па этот раз учеников вызвали в актовый зал не для допроса с пристрастием и оплеух.
Скоро начнутся экзамены. В этом году больше не будет уроков латыни. Через несколько дней учеников распустят по домам: надо готовиться к испытаниям.
Парты, как всегда, изрезаны и испещрены надписями. За лето их выкрасят и покроют лаком. А пока на крышках парт красуются искусно выцарапанные буквы, пронзенные сердца и всевозможные вензеля.
А Роберт Риге нарисовал на парте могилу с крестом и железной оградой. Под рисунком — зловещая надпись:
Здесь покоится господин Бломме, поверженный
в прах неведомой силой.
Под могильной плитой гниет его ядовитый труп.
Он пал жертвой собственной злобы.
Глава 43
Лото вступает в свои права. Перевод в следующий класс и выпуск абитуриентов обставляется с обычной торжественностью.
Аксель Нильсен снова занял первое место. Если он сумеет удержать его еще два года подряд, он получит школьную «Премию за усердие» в размере семидесяти пяти крон. Премия учреждена известным богачом, который, некогда окончив эту школу, помнил о ней до конца жизни.
Дела Эллерстрема поправились. В этом году латынь не снизила его среднего балла. Положение Торсена, напротив, заметно ухудшилось — сказалась низкая оценка по естествознанию.
Ректор по обыкновению перечисляет порядковые номера и средние баллы учеников каждого класса. А студентам, ради торжества вырядившимся во фраки и смокинги, вручают желтые конверты с аттестатами зрелости. Торжество завершается пением знакомой песни, посвященной летним каникулам:
Тра-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля,
Как сладостей отдых после труда!
За всем этим следует шестинедельный отдых. Один лишь Аксель Нильсен сидит дома и читает новые учебники, готовясь к будущему году. Когда-нибудь он, безусловно, получит «Премию за усердие».
Фру Эллерстрем, как всегда, уезжает с сыном в Хорнбек. Она отдыхает здесь из года в год. Весь Хорнбек знает и уважает ее. В светских встречах и развлечениях проходит лето. Эдвард скучает. Он уже взрослый юноша — сидеть на корточках в песке, с ведерком и красным совочком ему неинтересно. Но ведь никто не запрещает ему гулять в курортном парке. Кроме того, он получил в подарок фотографический аппарат. Теперь он может сколько угодно фотографировать свою маму и ее светских знакомых, живописно расположившихся на молу или в дюнах. А всего полезнее просто лежать на солнце и отдыхать, набираясь сил после тягот минувшего года.
В первые дни после смерти лектора Бломме юноша чувствовал себя неважно. Он опасался расследования, помня, как после появления мышат в зоологическом кабинете ректор учинил допрос всему классу. Когда учеников пригласили в актовый зал, чтобы прослушать надгробную речь ректора о покойном Бломме, Эллерстрем был сильно напуган. Но ничего не случилось. Ректор не собирался производить дознание. У него и в мыслях не было спрашивать каждого ученика: «А не ты ли подсыпал яду в леденец лектора Бломме?» Никого не награждали оплеухами, добиваясь признания. А теперь все это отошло в прошлое. Кругом спокойно и безопасно.
Он до сих пор не осознал того, что убил человека. Ему никогда не приходило в голову, что учителя — такие же люди, как все, что они тоже обедают и спят, что у них есть семьи и своя личная жизнь. Учитель всегда был для него лишь абстрактным понятием. Злым роком, который определяет не только твою годовую оценку, но и все твое будущее. Теперь Эдвард уже не тревожится о том, какой средний балл выведут ему в будущем году. По вечерам он прогуливается с матерью на молу. Он уже перерос ее; она опирается на его руку, гордясь взрослым сыном. Они всегда будут вместе, всю жизнь.
Всякий раз, когда кончаются каникулы, в младшие классы приходят новые ученики. Их изводят все, кому не лень, но больше всех — прошлогодние «сосунки».
На место лектора Бломме назначен новый учитель, сравнительно молодой человек. Его поведение поражает питомцев школы, гордящейся незыблемостью своих традиций. Он принес с собой аромат того большого мира, где господствуют иные законы и иные правы, чем в маленьком школьном мирке. Он говорит гимназистам «вы» и не бьет учеников по лицу. Новый учитель — это истинное чудо, настоящий феномен.
Но Оремарк не унимается. После летних каникул он пришел в школу полный сил, готовый вновь продемонстрировать бесчисленные варианты учительской ярости.
Макакус также наставляет отроков. Сердясь, он по обыкновению царапает доску ногтями. Стеффенсен также на посту. На уроках он прочищает уши и ковыряет в носу чернильным карандашом. От этого на усах остаются фиолетовые пятна. На перемене дежурному по классу приходится удалять козявки, которые учитель оставляет под крышкой кафедры. А до этого Стеффенсен разъясняет ученикам величайшую красоту и эстетическую ценность античного искусства.
Старый Магнус пространно излагает содержание Библии и малого лютеровского катехизиса. А ученики по-прежнему передразнивают его голос, не обращая никакого внимания на упреки старика:
— Я старый человек, — жалобно говорит Магнус. — Что я вам сделал? Боже мой, неужели вам не стыдно, шалопаи вы эдакие!
Наверху в зоологическом кабинете царствует Лассен. Он занят составлением школьных коллекций. Ученики приносят адъюнкту угря, предварительно отрезав ему плавники, и с невинным видом осведомляются, что это такое — гадюка или уж.
— Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что перед нами редкостный экземпляр гладкого ужа, — говорит учитель. — Это ценная и в высшей степени любопытная находка.
Маленький Водяной торопливо семенит ногами, переходя из класса в класс с неизменным рулоном карт и указкой. Он знает, что в классе возникнет невообразимый шум, как только он появится на пороге. Бедняга печально моргает глазами и тяжко вздыхает.
Ректор тоже время от времени наведывается в школу, отрываясь от своих многочисленных общественных обязанностей. На его плечи возложено огромное бремя. Однако он не хиреет и не сгибается под этой сверхчеловеческой ношей. Ректор — грузный цветущий мужчина. Когда он награждает ученика затрещиной, у того потом долго горит лицо. А в шкафу он держит бутылку портвейна, чтобы подкрепляться после трудов праведных.
Голуби воркуют на крыше, садятся на карниз и беззастенчиво пачкают строго классический фасад школьного здания.А в самом здании «искусное воспитание развивает природные дарования».
Глава 44
У большинства учеников оформились голоса. Школьный хор, пополнившийся новыми тенорами и басами, разучивает все ту же ораторию про заход солнца. С тех пор как мальчики в последний раз пели в хоре на правах сопрано и альтов, репертуар ничуть не изменился. «Садится солнце в тихий час за горные вершины» — высшее достижение школьного хора. Матеус ставит голоса, дирижирует и время от времени награждает подзатыльниками тех, кто не способен серьезно отнестись к происходящему. Матеус преисполнен величия. Важно сверкает лысина, бодро топорщатся черная бородка и усы. Сладковатый запах помады щекочет нос.
«Черная рука» исчезла. Правда, Могенсен был бы не прочь продолжать игру, но остальные, повзрослев, совсем охладели к ней. У них появились новые интересы. Например, «Новое литературное объединение», созданное недавно в классе под председательством Гаральда Горна. Члены объединения встречаются за чашкой чая и читают друг другу собственные стихи.
Гаральд Горн не на шутку увлекся литературой. Он упивается книгами, ничего общего не имеющими со школьной программой. А это неизбежно отразится на том, какое место Гаральд займет в конце года. Недопустимо заниматься чем бы то ни было, кроме школы.
Знакомство с литературой осуществляется на уроках датского языка под руководством господина Ольсена. Полгода ушло на разбор «Сберегательной кассы» Хенриха Херца29.
Ассоциация преподавателей датского языка подготовила специальное издание пьесы. Нет такой строки, которую бы многократно не декламировали вслух. Истолковано каждое выражение. Разъяснено каждое слово. Ассоциация преподавателей датского языка снабдила пьесу пространными комментариями и примечаниями: каждая запятая художественного произведения должна быть воспринята в верном аспекте.
Та же Ассоциация преподавателей датского языка издала «Любовь без чулок» Весселя30. Пьесу Весселя толкуют и комментируют с такой доскональностью, что каждое слово вызывает зевоту. Всю свою жизнь гимназисты будут убеждены, что Вессель — скучнейший писатель.
— В чем комизм этой фразы? — вопрошает господин Ольсен.
— Ничего комичного в ней нет.
— Нет, есть, — настаивает учитель. — Она поразительно остроумна. Извольте пояснить, в чем заключается это остроумие? На чем основан комический эффект?
Все это берется объяснить Аксель Нильсен. Ему ничего не стоит выложить все, что напечатано на последних страницах издания Ассоциации преподавателей датского языка. Ему известны законы и условия достижения комического эффекта. Он знает, что Вессель пародирует драму Вольтера «Заира», а пародийность пьесы одна из предпосылок комичности сюжета. Единственное, что не удается Акселю, — самому ощутить этот комизм. Но и остальные ученики также не чувствуют его.
Затем класс приступает к изучению оды Эвальда31 «К любезному Мольтке».
Из уст пламенеющих песня струится
Соком бурлящим и сладким, как мед.
— В чем прелесть этих строк? — снова допытывается господин Ольсен.
Но ученики не видят в них особенной прелести.
— Что вы, эти строки бесподобны, — упорствует господин Ольсен. — Какими же средствами достигается это необычайное благозвучие? Прежде всего звуковой гармонией. Искусным подбором гласных. Зрительной рифмой. Наконец, аллитерацией.
Лишь мне, певцу богов кимврийских,
О неземная благодать!
Мне суждено во славу Мольтке
Добра и счастья бардом стать32.
Многое из сказанного нуждается в пояснении. Каждый слог дивного поэтического творения будет изучен и истолкован. Каждое слово — всесторонне рассмотрено и объяснено.
Надо ли удивляться, что многие из учеников сами принялись сочинять стихи? Гаральд Горн написал большую романтическую драму — монументальное произведение с ариями и хорами. Герои драмы — монахиня Розавра, вольные стрелки, бойцы городского ополчения и милосердные братья. Это будет величайшая стихотворная драма всех времен. А пока она уже заполнила несколько ученических тетрадей.
Амстед тоже сложил стихи. О прекрасной девушке, что сидит в киоске на площади Сельвторвен. Он показывает стихи Могенсену.
— Да это же тарабарщина какая-то, — говорит тот, — и с рифмой у тебя не ладится.
Могенсен не намерен писать стихов. Как, впрочем, и влюбляться. Он женоненавистник.
Эрик Рольд тоже когда-то был женоненавистником. Но все это прошло, как только он встретил Эльзу.
Эльза... Другого такого имени не сыщешь. Невозможно произнести его спокойно. Оно единственное и неповторимое. Хочешь назвать его, а голос твой дрожит и становится совсем неузнаваемым. Силишься произнести это имя с небрежным равнодушием, точно оно самое обыкновенное, но и это не удается.
«Эльза» — это имя словно создано для нее. Только так и можно было ее назвать. А если где-то и живут другие женщины, которых тоже зовут «Эльза», то они, конечно, не имеют на это никакого права и лишь оскверняют священное имя. Эрик выгравировал на парте гигантское «Э» и неустанно поправляет и украшает букву. На всех учебниках красуется ее имя: «Эльза, Эльза, Эльза...» Сидя за уроками, он думает только о ней.
Он встретился с ней минувшим летом на острове Фюн. Эльза приехала на остров с отцом и матерью. Однажды вся семья нанесла визит дядюшке Эрика. Вдвоем они пошли в сад, весело болтали и играли в крокет. Эрик испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, дотрагиваясь до крокетного шара, к которому прикасался ее молоток. Он рассказывал ей всякие забавные истории из школьной жизни, и она так мило смеялась... До чего приятен ее смех! Нет на свете ничего более прекрасного!
Она несколько моложе его. Но он все еще школьник, она же взрослый, свободный и самостоятельный человек. У Эльзы, как и у всех, есть нос и рот, волосы и глаза, руки и ноги. Но она не похожа на других людей. Она единственная и несравненная. Эрик бережно хранит крошечный осколок крокетного шара, по которому она как-то ударила. Ничем не приметный кусочек дерева стал для него священной и неприкосновенной реликвией, дороже всего на свете.
— Не правда ли, Эльза хорошенькая девушка? — как- то спросил его дядя.
— О да, она очень хороша, — согласился Эрик. Возможно, он даже сказал это небрежно и равнодушно. Однако он сердит на дядю за то, что тот посмел говорить об Эльзе в таком легкомысленном тоне.
Несколько раз Эрик навещал ее в Копенгагене. Она сама сказала: «Заходи как-нибудь». Она пригласила его по-настоящему. А это что-нибудь да значит.
Она живет с родителями на бульваре Странд. Дом, в котором живет Эльза, освящен ее присутствием. Оп тоже замечательный и неповторимый. Всякий раз, поднимаясь по лестнице, Эрик волнуется: ведь и она ступала по этим ступенькам, прикасалась к тем же перилам и дышала тем же воздухом.
Однажды он застал ее дома одну, и счастье его было безгранично. Оп помнит каждое ее слово, мельчайшую деталь их беседы. Кое-кому этот разговор мог бы показаться будничным и заурядным, но Эрик знает: все, что говорит Эльза, полно особого, тайного смысла.
Эльза всегда с ним. Когда Эрик выходит на улицу, ему чудится, что Эльза идет рядом, и он незаметно касается ее плеча. А ночью он любит мечтать, будто она лежит рядом с ним и он крепко ее обнимает.
Но все это только в мечтах. Юноша обнимает пустоту. Неуемная тоска сжимает горло, словно он проглотил огромную корку хлеба.
Глава 45
Завертелось звездное небо. Медленно огибая ось мироздания, плывут созвездия, Зодиак.
Чистая холеная рука вращает астрономический шар. Господин Лассен возложил свои персты на Полярную звезду. Он восседает на кафедре, точно сам господь бог, и повелевает движением вселенной.
— Ой, что же вы делаете, господин Лассен! — неожиданно раздается чей-то голос, и вверх взлетает рука.
— В чем дело?
— Нам грозит ужасное бедствие.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Катастрофы не миновать. В этом году не соберут урожая. Вслед за летом наступит весна. А за весной — зима. Чистейший бред!
— Кажется, ты сам бредишь. Что ты мелешь? Ты что, издеваешься надо мной?
— Нисколько. Все дело в том, что вы вертите астрономический шар в обратном направлении. Последствия будут ужасны!
— В обратном направлении, говоришь ты? Да, действительно... Да... Впрочем, я сделал это намеренно. Хотел испытать вас. Молодец, Торсен! Ты оказался внимательнее других.
Однако не похоже, что бдительность Торсена радует господина Лассена.
— Прекратите этот дурацкий смех! — сердито кричит он ученикам. — Повторяю, я устроил вам испытание! Вы все должны были заметить это! Весьма прискорбно, что только один Торсен в это время не зевал. Обычно Торсен не отличается прилежанием!
Снова завертелась вселенная. На этот раз вершитель мировых судеб вращает астрономический глобус в верном направлении. Одно за другим в установленной последовательности появляются созвездия: Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Девы...
Разделавшись с мирозданием, ученики принимаются за английскую поэзию. «God made the country and made the town» — «Бог сотворил и села и города. Так дозволено ли удивляться, что добродетели, одни способные усладить горький напиток, которого всякому доводится испить в этой жизни, в большем избытке встречаются и лучше произрастают в полях и рощах. А потому вы, что разъезжаете в каретах и паланкинах, не ведая иной усталости, кроме утомления от праздности, оставайтесь там, где вы жили, держитесь привычной вам обстановки. Только в ней вы и можете процветать. Только в ней души, подобные вашим, не принесут вреда другим. Наши рощи были посажены, чтобы в полуденный час осенять своей тенью усталого путника». «...Our groves were planted to console at noon the mutilated wanderer with their shades».
Сквозь дебри английской поэзии учеников ведет господин Ольсен. Затем появляется Макакус со своими синусами и косинусами. После этого настает час господина Эйбю. Ученики глотают пыль и то и дело застывают в самых нелепых позах, преимущественно вниз головой. Зато на следующем уроке они углубляются в писания Салюстия о Катилине. Катилина известен тем, что руками, ногами и прочими частями тела творил позорные деяния. Он стал ходячим олицетворением человеческих пороков. Теперь учеников покойного Бломме готовит к выпускному экзамену старый Молас. Он совсем одряхлел и нередко засыпает посреди урока, но знаменитые параграфы из грамматики Мадвига помнит даже во сне.
— Итак, нельзя забывать, что за глаголами «utor, fruor, fucer, potier», a также «vescor» непременно следует аблатив.
Новый учитель, вызывающий недоумение непривычным обращением с учениками, будет вести латынь в младших классах. Коллеги относятся к нему скептически. Разве можно приобщить учеников к античной культуре без оплеух? Что-то не верится. Старшим он преподает немецкий. Ученики с удивлением открывают, что на свете существует и нечто иное, кроме грамматики Капера. Оказывается, школьный урок может протекать и без истерических взрывов. Уроки нового учителя — точно освежающие оазисы среди долгого школьного дня.
Но одно дело — немецкий, другое дело — французский язык. Французский язык постигается лишь тогда, когда тебя бьют ключами по голове. Для усвоения этого языка совершенно необходимы душераздирающие вопли и приступы неукротимого бешенства. Рослые юнцы трепещут перед лектором Оремарком. Стоит перед ним молодой человек в мужском костюме. Из кармана пиджака торчит самопишущая ручка. Подбородок юноши гладко выбрит. Однако ученик плачет навзрыд.
— Это не поможет тебе, слюнтяй ты эдакий! — вопит Оремарк. — Я не отстану от тебя! Отвечай! Отвечай! Отвечай! Быстрей! Быстрей! Быстрей! Проснись, милейший Тюгесен! Возьми себя в руки, дражайший Тюгесен! Сонная рохля!
За французской грамматикой на сцену выступают Гогенштауфены и Гогенцоллерны, бесконечные даты, короли и хронологические таблицы. Размахивая чернильным карандашом, Стеффенсен командует сражениями и в нужный момент посылает в бой полки. И еще отведено время для истории стилистики, истории искусства и эстетики.
Идут дни, тягучие, серые, похожие один на другой.
Прекрасна юность, как весна,
Когда трава, когда листва
Под солнцем расцветают...
А наши юноши сидят, склонившись над сочинениями: английскими и немецкими, датскими и латинскими. На тетрадях — разноцветные обложки. Учителя исправляют каждое сочинение красными чернилами. На полях тетрадей появляются новые знаки и пометки, исполненные важного, подчас рокового смысла.
Вся жизнь отодвигается в будущее. Настоящее — только упражнение, только подготовка. И если ты полюбил девушку, надо дождаться, пока выбьешься в люди. Сначала полагается стать студентом, затем кончить университет, а вслед за этим искать службу. Все это отнимет много-много лет. А девушка, возможно, не захочет так долго ждать.
Глава 46
Харрикейну сшили щегольской спортивный костюм из настоящего шотландского твида с большими накладными карманами, модным поясом и складками. В элегантности он не уступит самому принцу Уэльскому. Однако его отцу сильно досаждает портной: является ни с того ни с сего со счетом в самое неудобное время.
— Что же вы делаете, уважаемый! Вы не имеете права отрывать меня от руководства фирмой! Чек получите немного погодя. Сейчас я занят!
— Поразительно, до чего тупы эти простолюдины! — говорит Харрикейн жене.
— Должен же он когда-нибудь получить свои деньги, — вздыхает фру Харрикейн.
— Когда-нибудь он их получит. Но пусть сначала научится прилично вести себя. Пусть приходит в урочное время!
Как бы то ни было, а молодой Харрикейн приобрел облик истого джентльмена. Никто в классе не сравнится с пим в элегантности. Но он по-прежнему растерянно и трусливо озирается по сторонам и поспешно заслоняет лицо рукой, как только к нему подходит кто-нибудь из одноклассников. У него появились странные нервные подергивания, своего рода пляска святого Витта. Мать старается отучить его от этого.
— Дурная привычка, и больше ничего, — говорит она. — Иорген отлично мог бы прекратить это, если бы обладал сильной волей. Сила воли и еще раз сила воли — вот что самое главное!
У Эдварда Эллерстрема тоже шалят нервы. Он кусает ногти. Приобрел и другие скверные привычки. Эдварду прописали железо в таблетках. Он всегда был слабого здоровья, крепышом его не назовешь. Он хрупкого сложения и к тому же изнежен. А сейчас он быстро растет, он уже намного выше своей матери. Эдвард бреется, как настоящий мужчина! А затем обмывает лицо спиртом и смягчающей жидкостью, мажет его кремом и посыпает пудрой.
Амстед бледен и молчалив. До поздней ночи приходится сидеть над учебниками. А он неотрывно мечтает о девушке — о той, что сидит в киоске на площади Сельвторвен. У нее черные волосы с короткой челкой и карие глаза. Она лукаво улыбается, выглядывая из узенького окошечка. Амстед ежедневно покупает у нее по одной почтовой марке. Ему очень хочется заговорить с ней, но он не знает, с чего начать. Всегда он видит только ее лицо и руки. Квадратное окошко киоска заключило ее в рамку, точно картинку. Он часто гадает о том, какая у нее фигура. Наверно, прекрасная! Как ему хочется увидеть ее всю, с головы до ног! Невесело любить девушку, которую даже не видел во весь рост: киоски сооружены не так, как надо. Но еще печальнее оставаться школьником, когда ты уже взрослый человек. Попробуй только подойти к девушке — тебя тут же засмеют. Жизнь скучна и безрадостна. Он не помышляет о сказочном успехе у женщин, слава Дон-Жуана его не прельщает. Но ему так хочется поговорить с прелестной девушкой, дотронуться до ее руки, сказать ей что-нибудь ласковое. Никогда не расставаться с ней. А ему остается только покупать марки и, заглядывая в узенькое окошко, улыбаться в ответ на улыбку девушки.
Девушка из киоска — взрослый, самостоятельный человек. У нее есть работа, за которую она отвечает, и своя личная жизнь. Он же вынужден день-деньской учить уроки, писать сочинения, терпеливо сносить удары господина Оремарка и предъявлять дома табель с отметками. Что поделаешь, так печально устроена жизнь.
Эрику Рольду, пожалуй, везет больше. Изредка Эльза соглашается прогуляться с ним. Вдвоем они бродят по улицам, спускаются к набережной. Гулять с Эльзой чудесно, несказанно приятно. Однажды Эрику удалось пригласить ее в павильон на чашку кофе с пирожным. Они сидели у моря, неотрывно глядя на водную гладь, и беседовали о самых возвышенных вещах. Люди — материалисты и слишком привязаны к грешной земле. Только двое — Эрик и Эльза — воодушевлены высокими и благородными стремлениями.
— А как тебе нравится мое новое платье? — спрашивает Эльза.
— Замечательное платье, — с жаром откликается Эрик. — Другого такого нет на свете! И оно так тебе к лицу!..
Уж если Эльза спросила, нравится ли ему ее наряд, значит ей не безразлично, что он думает о ней. Значит, он может надеяться... Каждое ее слово таит особый, сокровенный смысл, и он долго думает и размышляет над ним.
Только одно неприятно ему: когда Эльза расспрашивает о школе.
— Скажи, это правда, что вас там угощают оплеухами?
— Да, правда. Перепадают и оплеухи, но, разумеется, не мне — другим. Сама понимаешь, я лично не потерпел бы этого.
А у самого голова усеяна здоровенными шишками — совсем недавно его отделал ключами Оремарк.
Могенсен остался женоненавистником. Единственные женщины, с которыми он сталкивается, — его старшие сестры, а с ними можно только браниться. «Все женщины — мегеры, — говорит он, — а великие люди всегда одиноки». Женщинам чуждо всякое творческое начало. Творческие замыслы самого Могенсена беспредельны. Придет время, и он потрясет мир.
Глава 47
Снова весна на дворе. На свете нет ничего печальнее весны. Скворец на карнизе распевает так, что рыдания подступают к горлу. Перед глазами встают дороги, ведущие в неведомый мир, дороги, которым нет конца. И тянет на луга и в овраги, на свежую траву.
Казалось бы, что может быть проще, — прогуляться по лесной тропе? Но далеко не всем доступно это счастье. Ведь еще надо прочитать в учебнике, на каком этапе в датской поэзии появились мотивы любви к природе. И какова роль Эвальда и Эленшлегера. И кто такие — быстроногие сыны леса. И откуда взялись камены, влившие вдохновение в грудь певца? Чтобы узнать все это, необходимо изучить комментарии в конце книги.
Надо прочитать также пьесу Эленшлегера «Игры в канун Ивановой ночи». Двоякая идейная нагрузка, которую несет эта пьеса, включает две противоположные функции — сатирическую, направленную против трезвой рассудочности и обывательской мудрости, и романтическую, из которой вытекает воспевание природы, простоты и безыскусственности. Ученики обязаны иметь точное представление о том, как люди воспринимали природу сто лет тому назад.
Людей тех давно уже нет, зато природа существует по-прежнему. Из куколок, спрятанных Торсеном, вылупились бирючинный бражник и стафилин мохнатый. Выбравшись из песка, насыпанного на дно банки, они весело расправили крылья. У бирючинного бражника они местами красные, местами — серые, с причудливым узором. Еще осенью бражник был самой обыкновенной зеленой гусеницей. Гусеница пожирала все вокруг и быстро росла, пока, наконец, не зарылась в песок, и уже надолго засела в нем. А у стафилина мохнатого крылья желто-красные, с коричневыми пятнами.
Вечером они выпорхнули из окна и улетели. Теперь они собирают мед и блаженствуют, встретив других бабочек и жуков — спутников своей недолгой жизни. Так живут насекомые.
А черная личинка стрекозы, выбравшись из аквариума, залезла на ветку. Личинка плотно присосалась к стеблю, а из ее оболочки между тем выползало новое живое существо. Скоро рядом с личинкой появляется и молодая стрекоза. Пустая оболочка все еще крепко держится за стебель, а чуть повыше — уже сидит стрекоза и отряхивается. Прозрачные крылья быстро обсыхают и растут на глазах.
Досадно, что Topсен так плохо успевает по естествознанию. Что поделаешь, господин Лассен его не любит! Учитель считает, что Торсен не интересуется его предметом. А раз так — Торсену надо выставить плохую годовую отметку. Решения учителей окончательны и бесповоротны.
Гаральд Горн сверх всякой меры увлекся чтением. А потому он не обратил должного внимания на комментарии к пьесе «Игры в канун Ивановой ночи», составляющие гордость Ассоциации преподавателей датского языка. Но что еще хуже — Гаральд не выучил наизусть пояснений самого господина Ольсена. А это значит, что он никак не может рассчитывать па мало-мальски приличную оценку по датской литературе. Но Горн не сомневается, что станет великим поэтом: придет время, и таинственные силы ниспошлют ему божественное вдохновение.
Под руководством нового учителя класс проходит «Страдания молодого Вертера». Амстед и Рольд сочувствуют Вертеру и понимают его. Амстед порой предается мрачным размышлениям о самоубийстве. Рольду, напротив, совсем не хочется умирать. Он хочет жить и хочет, чтобы с ним всегда была Эльза. И все у них будет не так, как у других людей: они не станут растрачивать свою жизнь на пустые будничные дела.
Но вот Аксель Нильсен, набравшись храбрости, обращается к новому учителю с просьбой — нельзя ли поскорей перейти к письменным сочинениям. И без того класс слишком долго занимается страданиями этого Вертера. В ожидании предстоящего экзамена гораздо важнее научиться писать сочинения.
Странный человек этот новый учитель. Он единственный, с кем можно говорить откровенно. Он обращается к ученикам на «вы» и неизменно вежлив с ними. Не дерется ключами и не ковыряет в носу.
Астрономический шар больше не вращается в обратном направлении. Господин Лассен изобрел собственное правило — безошибочное средство предотвращения вселенской катастрофы. Знаменитое «правило правой руки». Когда-нибудь оно войдет в историю науки и встанет в один ряд с законом Архимеда и Пифагоровой теоремой.
— Итак, мы кладем правую руку на Северный полюс, — торжественно объявляет Лассен, — затем начинаем вращать астрономический глобус по направлению к большому пальцу. Запомни это, Topсен! Усвоив это правило, ты никогда больше не ошибешься!
— Но ведь я и так ни разу не ошибся!
— И все же ты обязан знать правило, непогрешимый Торсен! Кстати, запомните на будущее: ученику недостаточно знать, в каком направлении вращается астрономический шар. Ученик должен уметь объяснить, почему надо вертеть глобус именно в этом направлении. Одним словом, необходимо знать правило правой руки.
Вселенная вертится. И опять наступает печальная весна. А с нею — экзаменационная пора и неизбывный страх.
Снова ученики не спят по ночам, пьют черный кофе и глотают аспирин. Они безостановочно зубрят и зубрят, снова и снова повторяя пройденное. А если тут же резвятся твои младшие братья и сестры, мешая тебе усваивать учебный материал, остается лишь одно: зажать уши и беззвучно твердить про себя: «Amnis, axis, callis, canalis, cassis, caucis, collis, crinis, ensis, fascis, finis, follis, funis, fustis, ignis, mensis, orbis, panis, pescis, postis, scrobis, torquis, torris, ungvis, vectis, vermis».
Это исключения из правила, согласно которому слова, оканчивающиеся на «is», — женского рода. Их надо знать наизусть.
А еще существует синус и косинус смежных и противолежащих углов. И палатальная перегласовка в староскандинавском под влиянием последующего гласного «i». Венский конгресс и проблема Шлезвига. Французские глаголы и гражданские учреждения Великобритании. И немецкая грамматика.
А ночи стоят светлые и прекрасные. Мир напоен запахами и звуками. Нет ничего печальнее весны.
Глава 48
Новый учебный год вступил в свои права. В школу пришли новые «сосунки». На партах появились новые рисунки. Этот школьный год — самый последний.
Мальчики перешли в третий гимназический класс. Класс этот — выпускной. Весь год придется готовиться к экзаменам. На карту поставлено будущее.
Многое сведется лишь к повторению. Основной программный материал усвоен еще в минувшем году. Но школа издавна гордится тем, что ее питомцы показывают более высокие знания, нежели выпускники других школ.
Ни разу еще не случалось, чтобы кто-либо из воспитанников школы провалился на выпускном экзамене. Тех, кто внушает сомнения, обычно оставляют на второй год еще до перевода в третий класс гимназии.
Толстого Тюгесена не перевели в выпускной класс. Ему снова придется учиться во втором классе, и он кончит школу на год позже других. А дома Тюгесен наталкивается на раздражение, насмешки и упреки. Самолюбию его папаши нанесен жестокий удар — ведь некогда он сам окончил ту же старую добрую школу. Папаше невдомек, что у сына его просто нет способностей к наукам.
Впрочем, и этот лишний год когда-нибудь пройдет. Торопиться ведь некуда.
Эллерстрем снова вышел в число лучших учеников. С тех пор как умер Бломме, латынь уже не пугает его. Время от времени ему снится, будто Бломме еще жив.
«Я твой друг, Эдвард, — говорит он. — Но я обязан быть справедливым. Я вынужден исполнить свой долг. Уж я разделаюсь с тобой на экзамене!»
Эллерстрем просыпается, охваченный ужасом, сердце его бешено колотится. Но — слава богу! — Бломме уже давно нет в живых. Проснувшись, Эллерстрем всякий раз испытывает несравненное облегчение. Со старым Меласом ладить гораздо проще. Уроки его томительны и навевают дремоту. Он и сам сплошь и рядом засыпает на середине какого-нибудь латинского параграфа. Очнувшись от сна и сообразив, что идет урок, он сердито кричит:
— Никак, вы все уснули? Сидите на уроке и клюете носом! Не смейте возражать! Всякое оправдание — ложь. Я знаю, с кем имею дело!
И урок идет дальше своим чередом. Ученики корпят над хитроумной грамматикой Мадвига. А грамматика составлена столь искусно, что однажды нашелся даже человек, сложивший хвалебную оду в ее честь.
У Меласа нет личных врагов среди учеников. Все они для него в равной мере враги. Задача состоит в том, чтобы перехитрить этих врагов. И Мелас горд и счастлив своим мнимым превосходством.
— Уж я-то знаю, с кем имею дело! Меня не проведешь! А после «si» и «nisi», а также «nе» и «num», в латыни вместо «aliquis» чаще всего употребляется «quis»!
Эллерстрем отлично справляется с латынью. Ничего дурного о нем не скажешь. Он добросовестно учит правила и параграфы.
Со времени смерти лектора Бломме прошло уже более года. Никто не учинял в школе дознания. Никто не спрашивал Эллерстрема, имеет ли он какое-нибудь отношение к отравленному леденцу. Дело, очевидно, уже прекращено. Эллерстрему нечего опасаться. Скоро, пожалуй, он и сам забудет, как получилось, что доктор Бломме расстался с жизнью.
Уроки следуют один за другим. Ученики зубрят, упражняются, вспоминают. Они уже стали взрослыми молодыми людьми. Им выпало счастье получить самое широкое и разностороннее образование. Школа выполнила свой долг. Пусть теперь вступают в действие новые силы, коим надлежит завершить формирование умов и характера юных студентов. Пройдет еще много лет, прежде чем студентов сочтут готовыми к жизни. Однако роль школы подходит к концу.
Гаральд Горн пишет стихи. Но, оказывается, все это не так просто. Откровенно говоря, ему не о чем писать. Он ведь почти не знает жизни. Ему пришлось так много зубрить, что жить было некогда. Но пройдет еще много времени, прежде чем его образование будет завершено и перед ним, наконец, откроется мир.
Рольд влюблен в девушку. Любовь эта существует не в стихах, не в литературных грезах, а наяву. Сердце Рольда переполнено счастьем и благодарностью к любимой за то, что она живет на свете и ходит по этой земле.
Однако влюбленный школьник — пресмешная фигура. А грамматика Мадвига, конечно, куда важнее любой девушки. Сейчас тебе надо подумать о предстоящем экзамене, милейший Эрик. Скоро ты станешь студентом, проучишься семь лет в университете, а затем выдержишь государственный экзамен и определишься на какую-нибудь должность. Вот тогда не грех познакомиться с девушкой и даже влюбиться в нее. Тогда уже ты сможешь жениться и создать свою семью... А что, если девушка не захочет так долго ждать?..
На обратном пути из школы Теодор Амстед, как и прежде, покупает почтовые марки. В киоске на площади Сельвторвен, около ботанического сада.
— Пожалуйста, — говорит продавщица и чарующе улыбается, протягивая ему марку.
Девушка красуется в квадратном окошке киоска, точно фотография в деревянной рамке. Амстед ни разу не видел ее во весь рост. Кругом одна печаль, тоска и безысходность.
— Ну зачем тебе столько марок? — допытывается Могенсен.
— Я их собираю.
— И новые тоже?
— Когда-нибудь и они станут редкостью.
Могенсен недоумевает. Все женщины — мегеры. Они
совершенно лишены творческих способностей, присущих мужчинам. И это давно доказано.
Глава 49
Зима выдалась долгая. На этот раз маленькая черепашка Торсена не выбралась из ящика с приходом весны.
Зимой черепаха погружается в спячку. Она лежит, месяц за месяцем, зарывшись в песок, ничего не ест и, возможно, даже не дышит. Но сейчас от ящика поднимается тяжелый, сладковатый запах. Черепаха мертва. Наверно, она простудилась в дни зимних морозов. А может быть, ей просто нельзя было так долго спать. Зимой у нее почти совсем прекращался обмен веществ. Однако в былые времена черепаха неизменно оживала к весне, выползала из ящика и, греясь в лучах солнечного света, падавших сквозь окно, грызла салат. Ведь совсем без обмена веществ обойтись невозможно. Верно, черепаха не рассчитала своих сил.
Впрочем, сейчас не время возиться с черепахами. На очереди более важные дела. Экзамены и подготовка к ним. Игры и прочие детские развлечения надо оставить. Сейчас нужно думать о том, как выбиться в люди. А с черепахами и улитками можно забавляться потом, когда выпадет свободное время.
Господин Лассен преподает в третьем классе гимназии анатомию и физиологию человека. Весной класс вплотную подошел к разделу о внутренней секреции. А это щекотливая тема. Господин Лассен битый час объясняет ученикам, каким образом у людей рождаются дети.
Учитель настроен необыкновенно торжественно. Он полностью сознает важность момента и свою ответственность. Он помнит, что перед ним восемнадцатилетние юнцы. Учитель взвешивает каждое свое слово, выказывая деликатность и тонкий такт, и невольно запинается. Видя, как ему неловко, кое-кто начинает смеяться. Душевная грубость этих учеников возмущает Лассена.
— Я первый раз вижу, чтобы ученики смеялись, когда я объясняю внутреннюю секрецию! — патетически восклицает он. — Как вам только не стыдно? Смеяться в такой момент!
И молодые люди узнают, как обеспечивается продолжение рода. Им преподносят эту новость с подчеркнутой торжественностью и вдумчивым тактом, со ссылкой на цветки, опыляемые пчелками.
А за дверями школы парни гуляют с девушками. Они приводят их в свой дом, и те остаются с ними на всю ночь. Все необходимое они постигают сами, хотя им и не довелось учиться в знаменитой школе и слышать деликатный рассказ господина Лассена о внутренней секреции. До чего груба и примитивна жизнь за стенами старой школы, в которой учеников готовят к блистательному будущему и «искусное воспитание совершенствует природные дарования».
Близится последний школьный день. Грустно и тяжело прощаться с обителью, в которой ты провел так много лет. Трудно оторваться от насиженного места. Верно, и арестанту подчас нелегко расставаться с темницей, долгие годы служившей ему прибежищем. Как-никак темная каморка была укромной и безопасной, а человек привыкает к чему угодно!
Скоро вновь зазеленеет старая липа. Скромная и непритязательная, она ухитряется добывать из-под асфальта скудные питательные соки. Но если бы ее вздумали пересадить на жирную, добротную почву, она, вероятно, вскоре бы погибла.
Голуби воркуют и спариваются. Ректор величественно шествует по двору. На голове у него круглый цилиндр, в руках ключ от клозета, болтающийся на массивном железном кольце. Сколько приятных воспоминаний и традиций связано со старой школой!
В подвале у окна примостился сторож. Старик совсем сгорбился — одолела подагра. За оконным стеклом мелькают ноги людей, спешащих мимо. Мир полон людей, которых не знают, не видят питомцы школы. Но это не мешает школе растить элиту, избранных граждан, которые впоследствии будут управлять своими соотечественниками.
Снова пришла печальная весна. Распевают скворцы, а гимназисты с головой ушли в зубрежку. Кругом все зеленеет и наливается соками. А ученики повторяют пройденное, силясь запомнить бесчисленные факты. Чтобы никто не мешал, приходится затыкать пальцами уши. Снова стоят дивные светлые ночи, и, чтобы не уснуть, гимназисты глотают черный кофе и аспирин. Пришла экзаменационная пора, а с нею — мучительный страх и нервный понос. Лихорадочно подсчитываются отметки: надо вычислить средний балл. И если твоему лучшему другу не повезло на письменном экзамене по немецкому языку — радуйся и ликуй! Значит, ты немного ушел вперед!
Ученики все зубрят и зубрят, глядя в книги воспаленными глазами. Они молча глотают пищу, неотрывно думая об экзаменах, и твердят про себя факты и даты. И тут же снова садятся за книги. Желудок то и дело сводит судорога, к горлу подкатывает тошнота, а руки покрываются липким потом. Сердце беспокойно стучит, кружится голова. А гимназисты все зубрят и зубрят. Надо запомнить десятки тысяч дат. Сотни королевских имен, сражений, конгрессов. Сотни правил и параграфов из грамматик Капера и Мадвига. Староскандинавские склонения, смещения гласных и неправильные французские глаголы. Английские слова и датские стихи. Строение вселенной, ботанику и внутреннюю секрецию. Синус, косинус, мантиссы и логарифмы. Историю древнего мира, шведский язык и историю языкознания.
За окном — весна. Но гимназистам не до нее. И это не первая упущенная весна в их жизни.
Ночи светлы. В третьем часу просыпаются птицы. Они громко распевают, мешая гимназистам заниматься. Приходится закрывать окна и затыкать пальцами уши, чтобы не слышать свиста скворца и пения дрозда. Но и это не помогает. Пьяные возвращаются домой с веселой попойки. Развозчики молока, фургоны с товарами и велосипедисты въезжают в город. Люди суетятся и шумят, нарушая покой юных избранников, накапливающих знания и ум, чтобы впоследствии управлять своими ближними. Когда-нибудь, заняв место в каком-нибудь министерстве, они будут распоряжаться судьбами этих незнакомых людей, тех, что разгуливают сейчас по улицам. Эти люди — их будущие пациенты и клиенты. Они будут судить и воспитывать их, а также управлять ими. Но они совсем не знают своих будущих подопечных. И у них никогда не найдется времени, чтобы с ними познакомиться.
Для весны тоже нет времени. Ученики все зубрят и зубрят. И так проходит весна. Загубленная весна.
Глава 50
На набережной Лангелиние цветут кусты сирени и акации, точно так же, как два года назад, когда лектор Бломме скончался от отравленного леденца.
Абитуриенты сидят в актовом зале, прямо перед кафедрой. Празднично одетые, с цветком в петлице. Бледные и все же счастливые. Эллерстрем, Иоргенсен, Мердруп и все, все остальные. Четверка мстителей «Черной руки» в полном составе: Амстед, Рольд, Гернильд и Могенсен. Могенсен весь пропах нафталином: парадный фрак почтового контролера — его отца — провисел в шкафу слишком много лет. То ли дело Харрикейн. Он в элегантном смокинге английского покроя. В петлице у него — гардения, как и полагается истому английскому джентльмену. Кудрявый Торсен отлично выдержал все экзамены вопреки стараниям господина Лассена. На экзамене по естествознанию присутствовал посторонний ассистент, и Лассен уже не мог единолично решать судьбу ученика. Тут же сидит долговязый Риге, стремящийся облагодетельствовать человечество.
Вот Гаральд Горн, мечтающий о венце поэта. И, наконец, Аксель Нильсен, который сейчас получит «Премию за усердие». Аксель честно заработал ее, он и впрямь был необычайно прилежен. За все годы он не пропустил ни одного учебного дня. Возможно, он даже не подозревает, что упустил нечто гораздо более важное.
Все так или иначе одолели школьную премудрость. Все приходит в свое время. Верно, и Тюгесен, которого оставили на второй год, когда-нибудь окончит школу. Придет время, и каждый из них точно так же окончит свой жизненный путь. И если он еще по-настоящему не жил, то его можно лишь пожалеть. Родители разместились сзади. Гордые и довольные, они не сводят глаз со своих сыновей. Вот сидит столяр Нильсен — глаза его увлажнились. А вон директор Харрикейн с супругой. Еще дальше — фру Эллерстрем. Ей уже не дотянуться до сына, облачившегося в парадный фрак.
— А все-таки почему не ты получил «Премию за усердие»? — непременно спросит его фру. — Чем этот Нильсен лучше тебя?
Многие из отцов некогда учились в той же школе и точно так же сидели в актовом зале, поражающем классической строгостью линий. Они оглядываются кругом и вспоминают, как они сами были «сосунками» и, покорно выстроившись в ряд, пели: «Прекрасна юность, как весна». Их старый ректор сердито глядит на них со стены, и им невольно становится не по себе.
Матеус сидит у рояля, источая сияние и благоухание. В последний раз его питомцы вдыхают знакомый запах помады и портвейна. Матеус уже совсем стар, но вокруг лысины по-прежнему бодро чернеет густой венчик волос. А козлиная бородка и нафабренные усы тоже черны как смоль — под стать любому итальянскому шарманщику.
В последний раз выпускники слышат, как ректор зачитывает годовые отметки других учеников.
О некоторых он говорит, что они переводятся в следующий класс лишь с серьезными оговорками. Если не наступит заметного улучшения в успехах данного ученика, трудно рассчитывать, что он когда-либо сможет идти в ногу с классом. Просто диву даешься, до чего все это безразлично им теперь, когда они стали студентами и отрешились от всех ученических треволнений. Но они видят, как родители бросают на своих отпрысков грозные взгляды. В каждом классе разыгрываются свои трагедии. «А почему ты оказался на втором месте, если тот, другой, сумел занять первое?» Поневоле начинаешь радоваться, когда твой лучший друг получает плохую отметку. Воистину хитроумна и действенна оценочно-номерная система — она умело развивает качества, необходимые в обществе.
Звучит знакомая песня. Затем берет слово ректор.
— Истек год, — говорит он, — и трудолюбивым пахарям пришла пора, остановив свой плуг, оглянуться назад. Выполнена ли задача, которую мы поставили перед собой?.. — Ректор вручает новоиспеченным студентам желтые конверты с аттестатами зрелости. Оп не забывает упомянуть про «правду, долг и честь» и про традиции школы. — Всюду, где бы вы ни трудились по мере своих сил на благо старой Дании, традиции и веления долга налагают на вас особые обязательства.
В последний раз выпускники поют песню про летние каникулы:
Тра-ля-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля-ля,
Как сладостен отдых после труда!
Матеус яростно налегает на старый рояль, извлекая из его нутра затейливые аккорды и трели.
В последний раз юноши внимают наказу ректора — выйти из зала без малейшего шума, давки, свалки и толкотни.
Глава 51
Новоиспеченные студенты празднуют окончание школы. Открытая карета, запряженная четырьмя лошадьми и увитая гирляндами цветов, увозит их из школы. Студенты дудят в игрушечные дудки и кричат «ура». Объехав на всем скаку изваяние какого-то рыцаря, они мчатся дальше. Кто-то надевает венок на голову первой попавшейся статуи. Студенты бледны и от усталости едва не валятся с ног. «Эти юноши олицетворяют собой датскую весну», — написала одна газета под их фотографией.
Студентов везут вниз по Лангелиние, где, как всегда, цветут сирень и акация. В гавани по синей глади воды тарахтят моторные лодки. Полуголые гребцы на лодках и пассажиры катеров приветливо машут рукой молодым застенчивым студентам. А те по-прежнему мчатся по набережной, держа путь к Скодсборгу. Там они обедают и справляют свою первую скромную пирушку.
Во многих домах происходят семейные торжества. На имя студентов то и дело приносят телеграммы и цветы.
Эльза прислала Эрику розы и коротенькое письмецо с дружеским поздравлением. Она сама написала его своим чудесным почерком, и письмо благоухает ее ароматом. И розы она тоже сама покупала, думая об Эрике. Разве она стала бы все это делать, если бы он ей не нравился!
Впрочем, быть может, он придает чрезмерное значение какому-то букету и учтивым поздравлениям. Возможно, у Эльзы есть друг сердца и ухажер, уже взрослый, которому не нужно ждать целых семь лет, чтобы стать на ноги. Ведь Эрик Рольд все еще живет дома, под крылышком у папы с мамой. Заботливые родители следят за ним иобеспечивают его всем необходимым, даже карманными деньгами. Но ему ни за что не разрешат остаться наедине с девушкой. Оп все еще школьник и по-прежнему должен слушаться папу и маму. И еще много лет родители будут опекать его. Эльзу никак не осудишь, если она не дождется, пока Эрик станет взрослым.
Мощная машина цепко держит его в объятиях. И как раньше в школу, теперь Эрик ходит в университет. Снова мелет мельница. И тебя воспитывают, обучают, наставляют еще энергичнее, чем прежде. Профессора и университетские репетиторы продолжают работу над человеческим материалом, поступившим из школы. Необходимо помнить, что такой-то профессор любит, чтобы ему отвечали так-то, а другой — совсем наоборот. Профессора тоже люди. Над каждой профессорской шуткой рекомендуется громко смеяться. Кроме того, они ждут, чтобы после лекции им задавали вопросы. Необходимо изучить политические взгляды каждого профессора и приспособиться к ним. Все это знают репетиторы. За соответствующую плату они дадут полезные советы и указания.
Студенческая жизнь многообразна. Существует студенческий союз с собственными богатыми традициями, со своим академическим стилем, духом и жаргоном. А еще имеется стрелковый союз, хоровое общество и «клуб отдыха».
«Во храме мудрости студент живет», — любимая песня членов студенческого союза. Они поют о толпе и мирской суете, как о чем-то смутном и неведомом, далеком от академического духовного мира. Все это — чуждое и низменное — студенты должны оставить позади в своем стремительном взлете навстречу небесному свету.
Профессор медицины читает студентам лекцию по сексуальному вопросу. Цель лекции — доказать, что вопрос этот не должен волновать студентов до сдачи государственных экзаменов. Студент обязан хранить свою чистоту, и для обуздания плоти нет ничего лучше гимнастики. А если ты плохо спишь по ночам, рекомендуется вставать с постели и делать обливания холодной водой.
И студенты пыхтят, кряхтят и зубрят. Будущие юристы и экономисты усваивают стандартные истины и обучаются мнемоническим приемам у репетиторов. А будущий литератор после лекции поджидает профессора у двери.
— Прошу прощения, профессор, — лебезит студент, — но мне бы очень хотелось задать вам один вопрос. Конечно, если только у вас найдется немного времени...
Один Микаэль Могенсен так и не продвинулся дальше университетской столовой. Он выискал себе укромное местечко в углу у окна, рядом со стойкой, где разливают кофе. Здесь нет младших братьев и сестер, мешающих человеку размышлять. Нет почтового контролера, некогда наблюдавшего за ним с плюшевого дивана. Нет всевидящего печального Христа с терновым венцом и каплями крови на челе.
Сквозь оконное стекло он видит стрелки часов на башне церкви святого Петра. А время между тем течет своим чередом.
Глава 52
В гостиной, затянутой розовым штофом, сидят солидные господа. Они пьют, болтают и предаются воспоминаниям.
Их воспитание и обучение давно завершено. Все они, за исключением одного-единственного чудака, выбились в люди. Они облечены важными полномочиями, ответственностью и властью. Надежды оправдались. Цель достигнута.
Когда-то они пришли в школу маленькими «сосунками». И старшеклассники — по давней традиции — устроили им боевое крещение. Ребятишки трепетали перед Макакусом и Оремарком, измывались над Водяным и старым Магнусом. И они крепко стояли друг за друга и не ябедничали ректору, когда тот разыскивал виновных. Они создали тайное братство «Черная рука» и были полны всяческих замыслов. Кем только они не собирались стать! Чего только они не мечтали осуществить!
Однако Теодор Амстед так и не увидел Африки. Ни пирамид, ни Ниагары, ни Гималаев. Более того — он так и не узнал, где кончается длинная просека, ведущая через Тисвильдский лес. Теодор служит в красном кирпичном здании на Слотсхольмен — в четырнадцатом отделе военного министерства. Он подписывает бумаги и составляет рефераты для начальства.
Все мальчики выбились в люди. Но никто из них не осуществил своей мечты. Вот Гаральд Горн. Он большой человек в литературе, магистр и доктор наук. Последнее ученое звание он получил за трактат о наречиях в «Посланиях» Хольберга. Он хотел стать гениальным поэтом, а достиг лишь бледного подобия своей мечты.
Гораздо важнее жить, чем писать о жизни. А Гаральд Горн пишет о том, что написали другие. Но даже и о том, что написали другие, он не может писать так, как он хотел бы, потому что труды его оплачивает газета, принадлежащая крупной политической партии.
Кудрявый Ханс Торсен совсем облысел, хотя и безукоризненно элегантен. Он стал главным врачом крупнейшей больницы. Когда он совершает обход, сиделки и больные вытягивают руки по швам и дрожат от страха. Он сделал блестящую карьеру и добился огромных доходов. Но ведь когда-то ему рисовалась в мечтах жизнь естествоиспытателя. И он полагал, что его призвание — бродить вдоль тихих лесных озер, среди зеленых лугов и постигать тайны природы. А получилось, что главным для него стала карьера, боязнь интриг и конкуренции, светские условности. Теперь он обладатель роскошной виллы с горничными в белых наколках, вдумчивый исповедник богатых клиентов. Порой бывает полезно, взяв пациента за обе руки, заговорить с ним вкрадчиво и мягко. «Самое важное — доверие к врачу», — заявил в одном из интервью профессор Торсен.
Самым прилежным учеником в школе был Аксель Нильсен. Его избрали школьным старостой и наградили .«Премией за усердие». А теперь Нильсен преподает в той же школе. Наверно, он уже никогда оттуда не выберется.
Из Скерна приехал Эрик Рольд. Когда-то он любил девушку, которую звали Эльзой. Какое это было блаженство — слушать, как она говорит, и еле заметно касаться ее руки. А теперь он стал полицмейстером в Скорне. Полицмейстер — важная персона. Эрика так долго готовили к этой должности, что ему пришлось расстаться с Эльзой. Полицмейстер — человек нервного и холерического темперамента. Жители Скерна уверяют, что он алкоголик. Больше всего на свете ему нравится сидеть в кабачке «Гармония» и играть в карты с начальником станции, почтмейстером и доктором. Он женат на истеричной провинциальной мещанке, и жизнь в доме совершенно невыносима. Жена пьет ликер, заедая его майонезом, и запирает спальню на ключ, так что мужу приходится время от времени наезжать в Ольборг.
А вот еще Роберт Риге. Помнится, он жалел Водяного и видел свое призвание в деятельном альтруизме, врачевании людских страданий. Риге мечтал принести себя в жертву человечеству. Но вместо этого он стал богатым шарлатаном и «специалистом по половым вопросам» — одним словом, преуспевающим дельцом.
И так со всеми. Все они ныне облечены важными полномочиями и ответственностью, окружены почетом. Все они мечтали о чем-то другом, пока бездушная машина не зажала их в свои тиски и не превратила в то, чем они стали теперь. И пока их воспитывали и вразумляли, они не понимали, что над ними творят. Они и сейчас не сознают этого. Они не подозревают, что они искалечены и изуродованы воспитанием. Да, они заполучили доходные места. Но у них отняли весну — неповторимую весну их жизни.
Солидные господа во фраках вспоминают свою юность. Но они бессильны вспомнить все так, как оно было на самом деле. Они произносят речи и благодарят старую школу, сделавшую их тем, чем они теперь стали. Вот и сейчас они заперлись в розовой гостиной. А за окнами бурлит жизнь и повсюду бродят люди, которых они не знают и боятся.
Толстый Тюгесен не явился на юбилей. Он обосновался где-то на другом краю света. Говорят, от жары он совсем отощал. Бедный добродушный Тюгесен, как он боялся Макакуса! А теперь перед самим Тюгесеном, верно, так же трепещут несчастные кули. От его былого добродушия не осталось и следа.
Харрикейн также не смог прийти. Он клеит бумажные конверты, сидя у окна за железной решеткой. Свет выключают ровно в девять часов; на это время назначен отход ко сну. Родители мальчика всегда так заботливо оберегали его. Теперь его так же бдительно стерегут другие. Когда-то его фамилия была просто «Хансен», но согласитесь, что «Харрикейн» звучит намного шикарней. Из него хотели сделать английского джентльмена, воспитанного в родовых традициях, а получилось так, что он стал заурядным мошенником. И ему не довелось увидеть прекрасную Шотландию, как в свое время обещал ему отец.
А Мердруп умер. Весельчак Мердруп, в свое время подменивший белую мышь в зоологическом кабинете господина Лассена. «А в следующий раз, когда мы встретимся, мы недосчитаемся еще и многих других», — думают собравшиеся.
Вино, коньяк и виски немного утомили их, нагнав сонливость и меланхолию.
— Нет, я должен жить с этой гиеной! — говорит Рольд Торсену. — Я всегда строго придерживался правил морали, ведь на мне, как на полицмейстере города, лежит огромная ответственность. Но веришь ли, жить с сумасшедшей бабой совсем невесело. Она жрет майонез и запирает спальню на замок, чтобы я не вошел. Черт побери, что же мне делать!
Рольд поверяет Торсену свои горести. Виски развязывает язык и вызывает на откровенность.
— Вот вы все спрашиваете, верю ли я? — говорит Неррегор-Ольсен Роберту Риге. — Разумеется, я не воспринимаю всего этого буквально. А вообще они премиленькие, эти старые легенды. Слава богу, я ведь образованный человек и нисколько не суеверен. Но для простонародья в моем приходе, как и вообще для всех слабых духом, религия — неоценимое утешение. Она дарует надежду, и это помогает бедным людям как-то сносить свою тяжелую жизнь. Просто жалко лишать их всего этого. Да и незачем, раз это дает им счастье! Было бы преступно отнять у них веру. К тому же под влиянием религии они становятся кроткими и терпеливыми, не забывайте об этом! Конечно, ни вам, ни мне религия ни к чему! Но тем, кто слаб духом, она необходима.
— Да, люди обязательно должны во что-то верить, — соглашается Риге. — Но для этого в равной мере годится и психоанализ.
— Верно, что я поборник национальной литературы, — говорит Гаральд Горн. — Но это сейчас модно, а мне ведь тоже надо жить. К тому же я пишу для «Моргенбладет», а им подавай деревянные башмаки, гномов и прочую «народность». Надо быть или святошей или националистом, а еще лучше — тем и другим одновременно. Однако на той неделе я уеду за границу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Я, знаете ли, уезжаю туда каждое лето. Торчать в этой дыре целый год свыше моих сил.
— А мое настоящее имя — Герр Нильс, — запинаясь, бормочет Гернильд. — Ведь я но происхождению аристократ, честное слово, дворянин, значит... Я помещик Нильс... А помните нашу проделку со свистящим чайником? Как мы засунули его в печь на уроке Водяного? Вот была потеха!
— Это я тогда придумал, — говорит Иоргенсен.
— Да, но дежурным был я, — вторит ему Эллерстрем. — Я отвечал за все.
— Все мы в этом участвовали,— заключает Рольд. — Несчастный Водяной давно умер. Наверно, мы ускорили его смерть. Все мы дружно толкали его в могилу.
— А я засунул в аквариум маринованную селедку! — смеется Торсен.
— А я угробил Бломме! — заявляет Эллерстрем.
— Пожалуй, в таком поступке и я бы не постыдился признаться, — роняет Могенсен.
За окнами уже рассвело. Поют птицы, как в те далекие времена, когда мальчики готовились к экзаменам. Настало время проститься и разойтись по домам.
— Нет, Гернильд, я не смогу проводить тебя в гостиницу, — извиняется Рольд. — Не так уж часто выдается случай побывать в городе. Конечно, я всегда соблюдаю правила морали, я ведь полицмейстер. Но коль скоро я вырвался в столицу, мне, ей-богу, хочется немного поразвлечься, понял?
А Эллерстрем бледен и утомлен. Он хотел бы уже быть дома. Наверно, мама проснется, когда он вставит ключ в дверной замок, и начнет ворчать, почему он так поздно пришел. К тому же он, кажется, сболтнул что-то лишнее про лектора Бломме. Впрочем, вряд ли кто-нибудь обратил на это внимание. Все были немного навеселе. Пожалуй, все обойдется.
А на улице весна. Светлая, удивительная и печальная. Мальчики стали взрослыми. Теперь они свободны. Они могут делать, что хотят. Но весна прошла мимо них. Они упустили ее. Некогда весь мир был молод и сверкал сочной зеленью. Но их весну загубили. А весны — не вернешь.


ПРЕДИСЛОВИЕ
Несколько лет назад, находясь в Париже, внезапно умер датский художник Хакон Бранд.
Не знаю, многие ли помнят его сейчас. Звали его по-настоящему Ханс Петерсен, по он принял звучное норвежское имя Хакон Бранд. Вокруг этого имени в свое время немало шумели. Правда, еще до смерти Хакона Бранда широкая публика почти забыла о нем.
В связи со смертью Хакона в газетах промелькнуло несколько скупых заметок. В них упоминалось, что, дескать, в свое время Хакон Бранд подавал большие надежды, но ранняя смерть, как это ни печально, явилась для пего своего рода избавлением.
Подробности смерти не сообщались, они, как писали газеты, им неизвестны. Однако мне эти подробности известны, поскольку волею судеб я провел с Брандом последние часы его жизни в маленьком отеле в Париже. Обстоятельства смерти его до того непонятны и неприглядны, что я не без колебаний предаю их огласке.
Прежде всего, многие наверняка не поверят моему рассказу. Ну что ж, как говорится, дело хозяйское. Таким, пожалуй, следовало бы напомнить, что, к сожалению, действительность часто лишена той достоверности, которую ждешь от вымысла.
Мне следует иметь в виду и родственников Бранда, которых я в свое время пощадил и позаботился, чтобы они не узнали страшных обстоятельств его внезапной смерти. Теперь нет уже больше в живых его стариков, а если и есть другие близкие, ну что ж — пусть узнают правду.
И, наконец, мне могут возразить, что, дескать, история его смерти в высшей степени чудовищна. Да, но и жизнь Бранда не в меньшей мере чудовищна. Искусство Бранда тоже чудовищно. Он всегда тяготел к болезненному, к извращенному. Так что смерть его вполне соответствовала жизни.
Итак, тщательно все взвесив, я решил рассказать о том, что в действительности привело к смерти художника Хакона Бранда. А читателей, которым не по душе неприятные истории, заранее прошу отложить сие повествование в сторону.
Последнее время вошли в моду ученые трактаты о душевных надломах художников. Ничего подобного я не собираюсь описывать. Страдал ли Бранд душевной болезнью и как проявлялась эта болезнь, я предоставляю решать специалистам. Что же касается меня, то я хочу лишь сообщить ряд фактов, соблюдая предельную точность.
К тому же, написав эту книгу, я обрету возможность защитить себя от выдвинутых против меня обвинений в связи со смертью Хакона Бранда. Некоторые особы утверждают, что, заяви я в полицию своевременно, трагедия была бы предотвращена. А одна дама дошла до того, что объявила меня убийцей Хакона Бранда. Мой рассказ покажет, до чего нелепы эти наветы.
Ведь больше всего на свете Хакон Бранд любил сенсационность. Казалось, его жизнь и его искусство имели одну лишь цель — поразить воображение. Он жаждал толков и пересудов вокруг своего имени, он задирался, сеял злобу.
Я уверен: лежа в могиле, бедняга Бранд никогда не простил бы мне, не поведай я миру, какая необычная смерть постигла его.
Глава 1
За несколько лет до смерти Хакона Бранда вокруг его имени царило молчание. Он тихо жил в провинции, рисовал картины для молитвенных домов, он расписал алтарь в маленькой церквушке на острове Фюн. Убранство реставрированного из руин замка — дело его рук, как и цветные витражи в церковном стиле для виллы одного свенборгского фабриканта.
Широкая публика знала его иллюстрации в популярных еженедельниках и цветные обложки к рождественским альманахам. Все это мало чем отличалось от обычной стряпни подобного рода.
Однако зарабатывал на этом он недурно и последние годы заметно раздобрел и округлился.
Тогда он был трезвенником.
Но в ту пору, когда он жил в Копенгагене, рисовал он совсем по-иному. И вокруг его имени тогда шумели. И был он отнюдь не трезвенником. Он постоянно стремился привлечь внимание к себе и картинами своими, и своим поведением. Эксцентричность Бранд считал наикратчайшим путем к славе. Его пьяные выходки были куда больше известны, чем его живопись.
Это не кто иной, как Бранд, привлек внимание всей страны, выставив картину, написанную кровью и пивом.
Это о Бранде писали все газеты, когда он появился на вернисаже с напудренным лицом и волосами, окрашенными в зеленый цвет.
Это он предложил какому-то человеку деньги и попросил за это донести на него в полицию, обвинив в порнографии. По наивности полиция ввязалась в это дело и изрядно оскандалилась, когда заявила, что обнаружила непристойные линии в брандовских абстрактных композициях. Тщеславец и мечтать не мог о такой рекламе!
Это Бранд набросился однажды на улице на критика и плеснул ему в лицо синюю краску за то, что тот написал о нем, что он талантлив.
— Я не талантлив! — кричал Бранд. — Я гениален!
И представьте, многие считали Бранда гениальным. Ведь всем известно, что цены на некоторые из его ранних картин подскочили и достигают теперь больших сумм.
Бранд не гнушался плагиата и ловко заимствовал у известных зарубежных модернистов. На мой взгляд, его талант мало оригинален. Все у Бранда подчинено одной цели — произвести фурор и ошарашить. Даже лучшие его вещи, по-моему, тщательно продуманы с расчетом на внешний скандальный эффект.
Затем наступил «мрачный период» творчества. Почти во всех картинах — одни кладбищенские мотивы, мертвецы в гробах, утопленники, прибитые к берегу, и т. д. Здесь тоже все было построено на сенсационности. И в то же время ощущалось какое-то отчаяние, неподдельная боль. Этим картинам было присуще какое-то душевное нездоровье, что-то далекое от сочинительства. Именно эти картины я считаю самыми интересными, и прежде всего тем, что они находятся в непосредственной связи с причиной его смерти. Что же касается самого бедняги Бранда, то смерть его, к сожалению, представляет значительно больший интерес, чем его жизнь.
И потом наступили годы, когда, как я уже говорил, он расписывал алтари и рисовал обложки для ежегодников.
В этот период им не создано ни единой мало-мальски интересной работы: все пошло и банально, хуже не придумаешь. Но именно на этом-то и зарабатываются деньги.
Последние полгода, проведенные в Париже, он ничего не рисовал.
Умер Хакон Бранд в 35 лет.
Глава 2
Однажды вечером в ресторане «Пивной двор» Бранд впервые проговорился о своей тайне. Он пил целый день и был уже изрядно пьян, когда явился туда. А пьяный Бранд — зрелище далеко не из аппетитных. Правда, и трезвого выносить его было тоже нелегко. Он беспрестанно говорил о себе, своих картинах, своей гениальности. А уж по части рассказов о своих проделках, когда он «под мухой», Бранд был поистине неутомим. Когда же он напивался окончательно, то выносить его было просто невозможно.
Нас сидело несколько человек за столиком, когда мы увидели входящего Бранда. Не сговариваясь мы отвернулись, чтобы он не заметил нас. Но не тут-то было. Бранд уже увидел нас и, пошатываясь, направился к нашему столику. Деваться было некуда. Он подсел к нам.
— Черт побери, где это ты так набрался? — спросил один из нашей компании. — Тебе впору только домой да в постель.
Бранд глуповато ухмыльнулся.
— Я не спал, не спал целых двадцать четыре часа, нет, вру — тридцать шесть часов, нет, нет — сорок восемь. — Он оглядел нас, как бы желая убедиться, что привел нас в восторг.
Маленькие водянистые глазки Бранда окосели от алкоголя и усталости. Светлые липкие волосы были всклокочены, на округлом по-детски подбородке торчала широкая рыжая борода. Он был мертвецки бледен, на лацканах пиджака виднелись следы рвоты.
— Ты бы свой новый нос поправил. Совсем в сторону съехал.
Бранд пощупал нос.
— Все в порядке. На месте. Это самый роскошный нос во всей Дании.
Дело в том, что Бранд действительно приобрел новый нос. Через общество «Искусство в обмен на товары» он сбыл свою картину за косметическую обработку парафином. У Бранда был вполне нормальный нос, но он не мог устоять перед возможностью покрасоваться величественным греческим носом из парафина.
Бранд безмерно гордился своим новым профилем и в тот же день нарисовал целую серию автопортретов (один из них впоследствии был куплен неким министром, ценителем искусства, уж очень сходная была цена). Все, кто встречал Бранда, обязан был восхищаться его новым, великолепным носом. Самое неприятное, пожалуй, заключалось в том, что Бранд не мог оторвать рук от носа. Он без конца мусолил мягкий, податливый парафин, придавая носу всевозможные формы.
Сейчас его нос почти сполз в сторону, и кончик обрел форму шара. Выглядело это отвратительно, и Бранд это прекрасно сознавал. Но он нисколько не был смущен. Чтобы обратить па себя внимание, годны все средства.
Зычным голосом на всю залу Бранд выкрикивал всевозможные глупости, лишь бы только его заметили.
Всякий раз, когда на стол подавались новые бутылки пива, он демонстрировал номер, который, по его мнению, должен потешить окружающих: откусывал у бутылок горлышко или же срывал зубами жестяные нашлепки. При этом кровоточили губы. Это было крайне неприятное зрелище. Но остановить его было невозможно, так как несколько жирных торговцев за соседним столиком всякий раз, когда он проделывал свой номер, громко смеялись и аплодировали. Бранда приводило в восторг любое поощрение, откуда бы оно ни исходило.
Кроме торговцев, на Бранда никто не обращал внимания. Почти все присутствующие давно свыклись с его нелепыми выходками.
Завсегдатаи «Пивного двора» — писатели, художники, большинство из них как бы «прописалось» здесь напостоянно. Этот ресторанчик стал местом их встреч, их деловой конторой.
За одним из столиков сидело несколько поэтов. Они превозносили друг друга до небес, умиляясь этому взаимному панегирику.
У другого устроились несколько художников и жестоко поносили один другого. Позеленев от злости, они выкрикивали: «Бездарь, бесталанный, никудышный!»
Неподалеку разместились писатели, авторы стихов и песен о «черноземе, пшенице, васильках, явлении божества». Здесь они обдумывали ценные и редкие созвучия, находили новые слова, которые впоследствии будут соединены самым эффектным способом. Любое предложение, каждое слово здесь тщательно взвешивались. Это были дюжие парни, которым куда больше под стать гнуть металлические прутья и переключать рычаги, чем сочинять стишки о подснежниках, пчелках, эльфах и букашках, тру-ля-ля-тру-ля-ля. Что и говорить, мощная рабочая сила пропадала зря в «Пивном дворе».
Здесь восседали и творцы несметного числа картинок с изображением парка Сёндемаркен, датской природы, дорог, телеграфных столбов. Они мечтали о сбыте своих произведений, премиях, обсуждали мистическую и таинственную политику в области искусства.
Один из поэтов послал свою жену к столику, где сидели торговцы, позаимствовать несколько бутылок пива. И надо сказать, ей повезло.
Щупленький художник демонстрировал свои экспромты, за что иные посетители награждали его пивом или монетами в двадцать пять эре.
Несколько художников посолиднее шушукались о чем- то значительном, потягивая виски. Должно быть, награждали друг друга премиями.
В темном углу сидели меценат и художник. Художник сиял от удовольствия, можно было подумать, что ему удалось продать все свои картины. Но ничего похожего. Он всего-навсего отсоветовал меценату купить картину своего лучшего друга.
Такова была атмосфера в «Пивном дворе», где встречались многие представители духовной жизни.
Над всем царил густой табачный дым и кислый запах пива, слышались, как всегда, идиотские возгласы Бранда и громкий смех торговцев. Под конец стало нетерпимо само присутствие Бранда за столом. Он икал, покрывался потом. Стол превратился в свинушник, все смешалось: пиво, кровь, пепел. Он опрокидывал бокалы, заливал себя и нас пивом. Его крики и болтовня раздражали всех, кроме толстосумов, которые аплодировали и всячески подзадоривали его.
Я не чувствовал себя обязанным заботиться о Бранде, но мы все хотели избавиться от него поскорее.
— Ну-ка, Бранд, я сейчас вызову машину, — подтолкнул я его. — Тебе пора домой! Тебе нужно домой, домой! Ты слышишь? — внушал я ему.
Он посмотрел на меня покрасневшими косыми глазами, и неожиданно на его бледном лице появилось выражение страшного испуга.
— Домой? О нет! Нет, нет, нет, только не домой! Ни за что домой! — почти прокричал он.
— Нет, ты поедешь! — сказал я решительно. — Хватит! Ты сам говоришь, что не спал столько времени. Сейчас домой и прямо в постель. Машина уже ждет.
Бранд смотрел на меня умоляюще. Он чуть не плакал;
— Я не могу! Не могу! Я так боюсь! Не могу...
— Не можешь? Ха-ха-ха! Такой человек, как ты! Разве ты можешь бояться чего-нибудь на свете!
Это польстило его самолюбию. Другие вторили мне:
— Ха! Попробуй запугай его! Такого человека, как Хакон Бранд!
Он был так тщеславен, что этот ход нам удался.
— Ну да, чего бояться? — бормотал он заплетающимся языком. — Конечно, я ничего не боюсь! Такой человек, как я! — и, озираясь вокруг испуганно, прошептал: — Он ведь мертв. Мертв! Он ничего не может мне сделать. Ха- ха-ха!
— Кто мертв? О чем ты?
— Ни о чем, ничего. Ровным счетом ничего. Болтаю всякую чушь. Я не спал целых тридцать четыре часа, нет, восемьдесят девять часов. Я не спал... Никто не умер, никто. Нет, нет, это я спьяну, все это вздор. Он не может мне ничего сделать... ничего...
Кельнер и шофер помогли втолкнуть его в машину.
Глава 3
Бранд всегда много пил и в нетрезвом виде неизбежно учинял скандалы. Я же думаю, что он пил главным образом потому, что считал это неизменным признаком сверхгениальности. Наклюкавшись, он прикидывался еще более пьяным, чем на самом деле.
Но со временем алкоголизм стал одолевать его всерьез. Теперь встретить трезвого Бранда было редкостью. Он бродил от одного трактира к другому и, казалось, ничего так не страшился, как остаться один на один с самим собой. Трудно сказать, испытывал ли Бранд неподдельный страх или это была его очередная причуда, рассчитанная на то, чтобы обратить на себя внимание. Как бы там ни было, одно ясно — до добра это не доведет. Человеку не вынести таких попоек, да еще в психическом напряжении, в котором постоянно пребывал Бранд. Он неизбежно кончит свои дни в сумасшедшем доме, если не умрет раньше от того, что наглотается стеклянных осколков, откусывая горлышки бутылок.
Его подруга, фру Друссе, проявлявшая к нему поистине материнские чувства, была сильно встревожена.
— Он убивает себя! — стонала фру. — Он пьет и губит свой талант!
Мне помнится, она говорила так: «Он испепеляет себя изнутри!» Фру Друссе обожала подобные изречения. Когда-то она даже написала роман, который мог бы стать неплохим справочным пособием по наиболее избитым литературным штампам. Роман этот без труда можно раскопать у букинистов за десять эре.
Фру Друссе в свое время была замужем за актером, подвизавшимся в ролях героев на провинциальной сцене. Некоторые утверждают, что она заговорила его до смерти. Во всяком случае — в живых его уже не было.
Теперь фру Друссе зарабатывала на жизнь тем, что вела кулинарную страничку в еженедельном дамском журнале и, как заявляла сама, не просто составляла рецепты, но «вкладывала в них нечто большее, создавала идеалистическую еду». Кроме того, она писала новый роман, правда, я забыл о чем...
Фру Друссе по-настоящему была влюблена в Бранда, несмотря на внушительную разницу в годах. У нее был сын такого же возраста, что и Бранд, если не старше. Он работал кочегаром где-то в Америке и никогда не писал домой.
Я уверен, что Бранд тоже одно время отвечал на ее любовь. Не в его правилах было проходить мимо чего- либо на своем пути. Он регулярно навещал ее и поверял свои печали и подвиги, плакал на ее груди и брал деньги взаймы. Фру без устали слушала его пьяную болтовню, а он восторженно внимал ее похвалам своему таланту.
Однако у Бранда был соперник. Вольбек. Поуль Вольбек, тоже завсегдатай «Пивного двора». Впрочем, он был завсегдатаем почти всех копенгагенских кабачков. Каждый кельнер знал его толстое лицо с блеклыми бегающими глазками н блестящими, напомаженными гвоздичной помадой волосами.
Высокий широкоплечий Вольбек водил дружбу с молодыми студентами, которые всегда мечтают стать писателями. Он охотно читал их стихи, одобрительно отзывался о них, рисовал радужные перспективы. Что касается самого Вольбека, то он не сделал писательской карьеры. Правда, был неплохим журналистом, но в газетах подолгу не задерживался, его оттуда выкидывали из-за участия во всяких неприглядных историях. Сейчас он время от времени писал популярные статьи для еженедельников и жил главным образом за чужой счет.
Вольбек обладал удивительной способностью почти из ничего делать все. Старое журналистское удостоверение открывало ему доступ всюду. Обещание опубликовать интервью в газете делало владельцев ресторанов такими щедрыми, что они бесплатно поили и кормили его. И хотя внешность его внушала мало доверия, все же ему удавалось получать кредит во многих магазинах. За ним всегда в кильватере плелись плачущие торговцы и портные. Фру Друссе считала, что некоей женственностью он походил на Оскара Уайльда. Это доставляло ему удовольствие, льстило самолюбию. Но он не лишен был самокритичности, умел сострить, позабавить шуткой, и даже его наглость авантюриста порой казалась привлекательной.
Несомненно, фру Друссе любила этого малонравственного человека так же горячо, как и сверхгениального Бранда.
Вольбек, в свою очередь, питал слабость к увядающим, по-матерински заботливым дамам. У фру Друссе он всегда мог раздобыть деньги на трамвай, сытно пообедать. Он очень ценил ее и вовсю пользовался ее щедротами.
К тому же, как натура многогранная, он был неравнодушен к Бранду. Зато Бранд ненавидел его лютой ненавистью. На любое вежливое замечание Вольбека Бранд только огрызался, а то и показывал язык, как избалованное дитя. А Вольбек в общем-то относился к нему с дружеской, несколько грустной снисходительностью.
Я припоминаю одну стычку между соперниками то ли в «Пивном дворе», то ли в каком-то другом кабачке. Вольбек сидел за столиком с одним из своих очередных молодых друзей, Бранд с противоположного угла крикнул в адрес Вольбека что-то оскорбительное. Тот сохранял спокойствие, поблескивая напомаженными волосами, и слегка улыбался водянистыми глазками. Тогда Бранд подскочил к его столику и со всей силой стукнул сзади молодого парнишку, друга Вольбека. Тот громко охнул,
— С какой стати ты его ударил! Прекрати, пожалуйста! Он такой слабый, — только и сказал Вольбек. Он укоризненно покачал головой, пораженный выходкой Бранда, но сдержался.
Когда ссоры со вспышками гнева происходили в присутствии фру Друссе, она легко водворяла мир. Ей было даже лестно, что два ее молодых друга, как ревнивые пажи, сражались за ее благосклонность.
— Это ужасно! — говорила она, возбужденно сверкая глазами. — Это добром не кончится. Однажды они убьют друг друга из-за меня. — И она заламывала руки, немея от счастья. — Оба гениальны, — говорила она. — Бранд — горячий, порывистый и необузданный! Сама стихия — полыхающее, всепожирающее пламя! Вольбек! В нем что-то демоническое. Он утончен, слаб и нежен. Сплошной клубок нервов, напряженных, вибрирующих, как тетива. В моем сердце для обоих хватит места! Я хочу помочь обоим!
Фру Друссе всегда стремилась помочь кому-нибудь. В чем заключалась эта «помощь», она и сама толком не знала, но была убеждена, что жертвует собою во имя сына, живущего где-то в Америке, хотя он вполне справлялся со своей топкой без ее помощи. Она обладала удивительной способностью делать вид, что невыразимо страдает во имя других и с удивительной стойкостью сносит свои страдания.
Ее любовь к Бранду и Вольбеку, безусловно, была по-настоящему серьезной. Никто не мог оставаться равнодушным, когда, возбужденная, сияя глазами, она называла притвору Бранда «трепетным, всепожирающим огнем», а шельму Вольбека — «вибрирующей тетивой». Оба друга доставляли ей счастье. Они извлекали немало пользы от дружбы с ней.
Для меня загадка, почему она обратилась именно ко мне, когда ее стала тревожить судьба Бранда. Быть может, потому, что я тоже художник. Мне же это причинило массу неприятностей, втянуло в некрасивую историю.
Как-то фру Друссе прислала мне письмо, просила навестить ее. Она хотела обсудить нечто очень важное, в чем я, как художник, могу помочь ей. Дело не терпит отлагательств. Незадолго до этого я продал ей небольшую картину. Может, она повредила ее, протирая моющей жидкостью или чем-либо другим, и теперь хотела посоветоваться, как привести картину в порядок. Но исключено, что она намеревалась купить чью-то картину и хотела знать мое мнение. Мне и в голову не приходило, что она станет говорить со мной обо всех сложностях ее отношений с Брандом.
Я шел к ней, не подозревая ничего дурного. Знай я тогда, в какую историю влипну, я бы, конечно, постарался увильнуть от встречи.
Глава 4
Писательница фру Сильвия Друссе жила в старом доме в переулке Фиулстреде. Комнаты ее были низки и темны, завалены всем тем, чем дамы, служительницы искусства, обычно считают нужным окружать себя. На стене висели посмертные гипсовые маски Данте и Бетховена. Девушка с берегов Сены, гитара с развевающимся бантом. На этой гитаре покойный Друссе аккомпанировал себе, когда распевал: «Сатана там правит бал! Ха-ха!»
Здесь были и скульптурка Будды, и распятие, и венок из роз, и одна из химер Нотр-Дама, и крошечная керосиновая лампа. Конечно, и подсвечники с длинными свечами. Не обошлось и без старой прялки.
Тут, в этой комнате, изобретались кулинарные рецепты для специальной странички «Семейного журнала». Были в избытке и медные вещи. На груди фру Друссе красовалось металлическое украшение — две бляхи на тяжелой цепи. В ушах — серьги с качающимися подвесками, длинная бахрома отсрочивала рукава и трепыхалась всякий раз, когда фру Друссе взмахивала руками, словно готовясь принять собеседника в свои объятия.
Она не сказала: «Войдите», — а изрекла: «Вступите в эту обитель».
Фру Друссе сидела с опущенными глазами и говорила медленно, приглушенно.
Я бросил взгляд на свою картину. Она висела на стене в целости и невредимости между большим автопортретом Бранда и несколькими снимками из спектаклей, где ее покойный муж был запечатлен в ролях привидения и принца Данило, должно быть, на сцене Сорё,
— Я попросила вас прийти, потому что должна поговорить с вами об очень сложном деле. Вас, как художника, оно должно заинтересовать.
— Это касается живописи?
— Нет. Речь идет о человеческой жизни. — Взмахнув руками так, что бахрома на рукавах взметнулась вверх, она мрачно взглянула на меня.
— Человеческой жизни? Звучит страшновато.
— Да, это касается человеческой жизни. Гениальной человеческой жизни!
— Позвольте, при чем же здесь я? Ведь я не врач... Я считаю... поскольку кому-то грозит опасность, следует позвонить в...
— Человек в опасности! В угрожающей опасности!
Она говорила приглушенно и медленно, словно жилы тянула, и притом с таким выражением, будто я был повинен в несчастье, которое, видимо, стряслось. Надо сказать, что ее лицо никогда не. покидала страдальческая мина и скорбность, словно тот, с кем она говорит, причиняет ей нестерпимые муки, которые она сносит с достойным смирением. Я терял терпение.
— Не будете ли вы так добры объяснить, что все-таки произошло? Уж если действительно кому-то грозит опасность, надо действовать, пока не поздно.
— Вы правы, нужно действовать, и безотлагательно! — Она умолкла и сидела, опустив глаза, словно дожидаясь гласа небесного. Так прошло несколько минут. Казалось, она никогда больше не заговорит.
— Может, скажете наконец, что же происходит?
Она медленно подняла веки, посмотрела на меня печально, но снисходительно.
— Я как раз собиралась это сделать, но вы перебили меня.
— Вы не будете возражать, если я закурю сигарету?
— Честно говоря, буду! Категорически возражаю. Терпеть не могу табачного дыма! Я просто заболеваю, когда курят в моем присутствии. Табак — это яд. Очень дурно, что вы курите. Никотин, как, впрочем, и алкоголь, мало-помалу разрушает астральное тело человека.
— Астральное тело?
— Да. Прекрасную духовную оболочку, непосредственное вместилище души.
— Вот как!
Я вооружился терпением, косо поглядывая на множество керамических пепельниц, расставленных по комнате. Они были пусты, ими явно не пользовались. Спустя некоторое время фру вновь нарушила молчание.
— Я собираюсь говорить с вами о Хаконе Бранде. Он погибает. Как вы думаете, что происходит с ним?
— Понятия не имею: вы его знаете лучше. Не слишком ли много он пьет?
— А почему он пьет?
— Вот этого-то я и не знаю.
— Раньше он всегда приходил ко мне и всегда поверял мне все, что случалось в его необузданной бурной жизни. Теперь он ничего не говорит. Я вижу, что он страдает. Молчит. Оп только пьет, пьет, пьет...
— Ну что ж, в таком случае пропало его астральное тело.
— Его тело — его душа — его искусство. Вы видели, что он сейчас рисует? Ужасно! Гениально! Но страшно!
— Я слышал, что он часто рисует на кладбище Ассистенскиркегорд. Что ж, там очень красиво.
— Он рисует смерть. Смерть и разрушение. Его что-то мучает. Он хочет забыться, но не может. Произошло нечто ужасное. Он сам сказал мне и плакал, как дитя. Весь дрожал и плакал, плакал...
— Что же случилось?
— Я тоже хотела бы знать.
— Но он же сказал вам.
— Он не сказал, что именно. Он только сказал: «Я — преступник. Я сделал нечто непоправимое. Такое никогда не прощается. Не спрашивай меня ни о чем. Никогда. И мы больше не увидимся...»
— Наверное, что-нибудь натворил по пьянке?
— Если он что-нибудь н сделал страшное, то, конечно, бессознательно. Злые демоны обуяли его. Я сказала ему, что прощаю ему все. Но он только грустно покачал головой: «Ничто не поможет, ничто не поможет...» Он ответил, что хочет умереть. Уснуть вечным сном, без сновидений... Знаете что? Мне кажется, он покончит жизнь самоубийством! Но это не должно случиться! Слышите вы! Это не должно случиться! Мы должны помочь ему!
— Мы?
— Да. Вы и я. Вы его товарищ. Вы должны пойти и поговорить с ним.
— Но почему именно я? Вы можете это сделать с большим успехом. Он доверяет вам.
— Нет. Он скрывается от меня, ничего больше не рассказывает. Вы должны поговорить с ним — постараться разузнать его тайну. И тогда сообща мы поможем ему.
— Позвольте, получается как-то неудобно. Почему же именно я, а не кто-то другой? Многие бы справились с этим значительно лучше. Почему, например, не Вольбек? Он куда дипломатичнее.
— Я чувствую, что именно вы должны это сделать. К тому же, я давно не вижу Вольбека. Наверно, уехал куда-то. Даже не пришел попрощаться. Он бывает временами крайне невнимателен. Понятия не имею, где он.
— Допустим. А другие?
— Нет!
Она схватила меня за рукав и закричала:
— Обещайте, что пойдете к нему! Обещайте! Я не отпущу вас, пока вы не скажете — да! Слышите? Обещайте!
Ее крик скорее походил на истерический плач.
— Ладно, я навещу Бранда. Но вряд ли мне удастся что-нибудь выведать у него. Говорю вам заранее, что мне претит расспрашивать его о личных делах.
— Разве речь идет о «личных делах»? Это касается всего человечества.
Широко открыв глаза, она вновь взмахнула руками, и бахрома опять взметнулась в воздухе, как крылья.
— Искусство Бранда принадлежит человечеству. Он не имеет права губить себя. И мы не имеем права допускать это.
— Не вижу, что мы можем сделать.
— Вот когда вы поговорите с ним...
— Из меня плохой проповедник воздержания. Я не люблю читать нравоучения. И, честно говоря, меня не так уж волнует, пьет Бранд или нет.
Фру Друссе поглядела на меня, прищурив глаза. Чтобы овладеть собой, она сделала руками несколько плавательных движений, и, когда заговорила вновь, голос ее был уже спокоен и глубок.
— Дело не в том, что он пьет, он пил и раньше. Мы должны выведать тайну, которая терзает его. Эту страшную тайну! Я уверена, что она сведет его в могилу.
— Хорошо, хорошо. Я зайду к Бранду. Но вмешиваться в его тайные дела не собираюсь; пожалуйста, избавьте меня отэтого.
— Но вы пойдете к нему? Пойдете? А? Смотрите, вы же обещали.
Она умолкла. Молчание тянулось довольно долго. Может быть, она думала о Бранде, терялась в догадках. Может, обдумывала план его спасения.
Я сидел, изредка покашливая, чтобы обратить ее внимание на то, что я все еще здесь, и удивлялся, почему она до сих пор не предложила мне ничего поесть. Может же она в конце концов угостить меня чашкой чаю? С каждой секундой росло мое раздражение против этой дамы. Она продолжала хранить молчание. Сидела глубоко в кресле, откинув голову и закрыв глаза. Может быть, погружена в сон или транс. А быть может, сочиняет что-то?
— Вам нравятся помидоры? — вдруг спросила она.
— Помидоры? Да... как же. Я обожаю помидоры. — «Наверно, собирается угостить», — подумал я.
— Хотите послушать, что я написала? — И она взяла рукопись, лежащую на столе.
— Да, пожалуй. Это что — о помидорах?
— В том числе.
Она читает:
— «Наступает время, когда на столе у каждого должны обязательно быть томаты — маленькие, веселые овощи. Томаты и их друзья — длинные зеленые веселые мальчишки-огурцы. Какие краски, они радуют глаз! Какая освежающая влага для зубов! Источник живительных витаминов для человека».
Мне пришлось выслушать целую кулинарную страницу, предназначенную для следующего выпуска еженедельника. Ужина я так и не дождался.
Когда кончилось чтение, я поднялся и откашлялся;
— Ну, мне пора теперь. Уже поздно.
— Вы не забудете свое обещание?
Она тоже встала. Вернее, вскочила и впилась в меня взглядом, точно индийский факир, гипнотизирующий змею. Кулаки сжаты, руки распростерты в стороны, бахрома па рукавах вздрагивает.
Затем она открыла дверь и, не произнеся ни слова, последовала за мной, словно лунатик.
— До свидания, фру Друссе. Спасибо за приятный вечер!
— До свидания! Так не забудьте же своего обещания. — Словно статуя, она стояла на лестничной площадке, устремив невидящий взор в темноту.
Я был очень голоден и поспешил на главную улицу Стрегет, чтобы успеть купить в кафе-автомате какой-нибудь бутерброд.
С помидором и огурцом.
Глава 5
Я сижу в ателье Бранда и смотрю на его последнюю картину. На ней изображено кладбище. Не идиллическое кладбище Ассистенскиркегорд. А какой-то фантастический гротескный погост, где белые надгробные камни нагромождены самым немыслимым образом, а кресты напоминают живые существа. Тут и мертвецы под землей на разной стадии разложения.
Манера письма отвратительна, все мелкие детали выписаны с особой тщательностью. Краски тусклые, неприятные. Общее впечатление тошнотворное.
— Ну, брат, от этого душу воротит! — говорю я.
— А ты посмотри на другие.
Бранд снимает со стены несколько полотен и поворачивает лицевой стороной. На одном катафалк. Лошадь, покрытая черной попоной, запечатлена в момент бешеного бега. Гроб свалился, крышка приоткрыта, и оттуда выглядывает покойник. Провожатые ухмыляются и размахивают венками, пальмовыми ветками и лентами. Эта картина поярче предыдущей, но сама по себе тоже мерзкая. Второе полотно не лучше. Тоже кладбище, гробы, похоронные дроги — в общем, один и тот же мотив: смерть, погребение.
Несмотря на послеобеденное время, Бранд был, как это ни странно, трезв. Правда, выглядел он плохо. Под глазами темные круги, лицо позеленевшее. Нос, по обыкновению, сбился на сторону. Торчала, словно ощетинясь, рыжая борода.
— Что говорит твоя подруга фру Друссе об этих картинах?
— Ни слова о ней. Я ее больше не вижу. Между нами все кончено.
— Жаль, жаль. Чем же она провинилась?
— Ничем. Она — ангел. Понимаешь, ангел, спустившийся с небес на землю.
— Непонятно.
Бранд промолчал. Однако он явно нервничал и вел себя неспокойно, все время озирался, словно боясь чего-то. Я невольно подумал о том, что он сказал мне в тот вечер в «Пивном дворе», когда ни за что не хотел уходить домой. Было очевидно, — он боится чего-то. Да и эти картины — ужасы, которые он вдруг стал рисовать, — явно говорили о том, что с ним что-то стряслось. Не исключено, что фру Друссе права, предполагая, что Бранд пережил какое-то загадочное потрясение.
— Почему ты боялся идти домой в тот вечер в «Пивном дворе»?
Бранд вздрогнул.
— Я был пьян. На меня вдруг напал ужас. Я страшился остаться один.
— Почему ты напиваешься до потери сознания? Чтобы не оставаться трезвым?
— Может быть.
— Что ты имел в виду в тот вечер? Говорил о каком-то мертвеце, который уже не сможет тебе угрожать. Кто это?
Бранд обернулся и, против своего обыкновения, заговорил очень тихо:
— Да никто. Все это чепуха! Ты же сам сказал, что я был так пьян...
— Ну да, бог тому свидетель. Был пьян, в стельку. Тем не менее что-то подразумевал под этими словами. Я знаю, как ты любишь порисоваться у всех на виду, но в тот раз, я уверен, ты действительно струсил.
Бранд побледнел еще сильнее. Руки у него дрожали. Сейчас уже было видно, до чего довело его постоянное пьянство. Если и дальше он будет продолжать в том же духе — не миновать белой горячки.
Он опять огляделся вокруг. Затем пододвинул ко мне стул и прошептал:
— Пожалуй, я расскажу тебе, что случилось. Ты можешь решить, что я спятил, ну, что ж, мне все равно. А если вздумаешь донести в полицию, я откажусь. Скажу, что все это враки. Ха-ха-ха! У нас же нет свидетелей. С пьяного взятки гладки. Может болтать все, что взбредет в голову. А трезвому ничего не стоит соврать, наплести всякое. Так что, если донесешь на меня, это ни к чему не приведет.
— Я вовсе не собираюсь доносить, а уж если ты я учинил неладное, я не советовал бы тебе распространяться об этом.
— Ни единой душе не говорил. Ты первый.
— А почему бы тебе не рассказать фру Друссе?
— Нет, нет, ни за что. Ее нужно пощадить.
Я ждал, будет ли он продолжать, я был уверен, что это очередной трюк. Он обожал мистифицировать людей. Хотя его бледность и возбуждение все же заставили меня усомниться.
— Не знаю, почему я решил рассказать тебе эту историю. Но это не повредит мне. Риска нет... К тому же скрывать больше нет сил. А никого у меня нет на примете.
Несколько секунд он молчал. Затем наклонился ко мне близко-близко и выпалил прямо в лицо:
— Я убил человека.
Глава 6
Бранд с любопытством наблюдал, какое впечатление произведет на меня его признание. Я сидел спокойно, так как хорошо знал Бранда и его штучки. Ни на минуту не поверил, что он совершил убийство.
— Вот как! — только и сказал я.
— Ты говоришь «вот как» — ты говоришь только «вот как», значит, не веришь? Наверно, думаешь, что все это выдумки? Ха-ха-ха! Ну ладно, тем лучше! Что ж тебе остается сказать, как не «вот как»? Ты прав. Собственно, нет ничего особенного в том, что человек убит и что это я лишил его жизни. Я не испытываю ни малейших угрызений совести. Ты, конечно, не поверишь. Но это так. Суть совсем в другом, и если я боюсь возвращаться домой и оставаться один, то совсем по другой причине. Нет, нет. Содеянное убийство не нарушило бы моего сна. Я сделал доброе дело, уничтожил гнусную тварь, раздавил вошь. Переживать из-за этого? Нет, после этого-то и можно спокойно спать... Суть в другом.
— Кого же ты убил?
— Человека, которого ты тоже знаешь. — Бранд наклонил лицо к моему так близко, что я почувствовал его дурное дыхание, и прошептал: — Я убил Поуля Вольбека. Надеюсь, ты не считаешь его особо полезным экземпляром рода человеческого?
— Как тебе сказать... Во всяком случае, это далеко не причина, чтобы убивать.
— Не причина? Как на это взглянуть! Я иного мнения. Это же был низкий человек. Гнусное животное! Он сказал Сильвии — фру Друссе — одну вещь, чтобы унизить меня. Она поверила. В общем, это была правда. Потому-то она и не должна была знать... Как-то во время попойки, когда я был чертовски пьян, я рассказал ему одну пикантную штучку, касающуюся наших с ней отношений. И этот гад передал ей все слово в слово. Самым гнусным, лицемерным способом. И не то чтобы сплетничал, нет, изобразил с возмущением. Выходило, будто он любит ее нежно. Его же, пройдоху, интересуют лишь денежки. Предатель проклятый... Только ради Сильвии его стоило прикончить!.. У нас произошла сцена — между Сильвией и мной. Я покинул ее разгневанной. Ипредставь себе, этот Вольбек набрался наглости прийти ко мне. Сюда! Конечно, пришел извиняться. Дескать, сделал не по дурному умыслу. Я должен простить его. Он совершил ужаснейшую ошибку. Все можно поправить. Ничего страшного не произошло. Ничего. «Правда, фру Друссе поплакала, но теперь надеется, что ты скоро вернешься...» Он стоял здесь, здесь, на этом месте, — и я задушил его. Схватил за глотку и стиснул что было силы... Ты помнишь его водянистые бегающие глазки? Он так и впился ими в меня, таращил их, словно изумлялся, что я собираюсь прикончить его. А от его напомаженной головы разило гвоздикой. Не выношу этого запаха... Но ты слушай. Самое страшное впереди!.. Он пытался сопротивляться. Он был такой большой и тяжелый. И сильнее, чем я думал... Мы повалились на пол. Казалось, еще момент, и он вырвется... И вот он говорит, — лицо совсем посиневшее, глаза выпученные, как у медузы, — говорит: «Ну и балда же ты! Попадешь за решетку, если убьешь меня. Тебе никогда не удастся избавиться от моего трупа. Тебе никогда не убрать его с пути...»
— Это были его последние слова, — закончил Бранд.
Рассказ совершенно измотал его. Он задыхался, ему не хватало воздуха. Он вытер пот с лица тряпкой, запачканной масляной краской, оставляя следы на лице.
— Тебе удалось... удалось убрать труп? — спросил я.
— Да, я убрал его.
— Каким образом?
— Вот этого я тебе не скажу. — И Бранд хитро поглядел на меня. — Я не боюсь, что ты побежишь в полицию пли все выболтаешь кому-то. Но ведь ты можешь напиться или оказаться без сознания — у зубного врача или на операции. Под наркозом люди несут такое, о чем обычно предпочитают молчать. Пойми — я не могу никому открыть, куда я его спрятал. Если же ты и расскажешь кому-нибудь то, что услышал от меня, — беды мало. Никто тебе не поверит. К тому же я всегда могу отпереться... Но если ты узнаешь, где труп, и его найдут... Вот тогда мои дела плохи... Я таки убрал его. Нелегкая это была работа. Он лежал здесь посреди комнаты. Ты представить себе не можешь, до чего он был тяжелый. К тому же закоченел, и справиться с ним было нелегко. Чертовски трудная работа. Но все же я справился. Припрятал хорошенько... Ты только послушай, что произошло дальше. Проходит некоторое время. Однажды вечером возвращаюсь я домой. Час был уж поздний. Я и думать позабыл о Вольбеке. Вся эта история не произвела на меня никакого впечатления. Ну вот, вставляю я ключ, открываю дверь и вхожу. Темнота. И что ты думаешь — он лежит здесь опять, здесь, на полу.
— Кто?
— Вольбек! То есть его труп. Лежит посреди комнаты.
— Ты, конечно, был пьян.
— Представь себе — совершенно трезв. В тот день не брал в рот ни капли спиртного. Ты можешь мне не верить. Все равно. Но так оно было.
— Так что ж это — галлюцинация?
— Вовсе не галлюцинация.
Голос Бранда был спокоен. Но глядел он на меня совершенно обезумевшими глазами. Сомнения не было — бедняга лишился рассудка. Пьянство окончательно сгубило его.
— Все-таки это галлюцинация! Ты же сам только что сказал, что убрал труп, что хорошо спрятал его.
— Ну да. Очень хорошо. Но он опять оказался здесь.
— Бывают такие видения.
— Как бы не так. Я споткнулся о него и упал. Я ведь вовсе не думал о Вольбеке. Сразу не заметил его, споткнулся и полетел через него. Он был совсем закоченевший. Волосы пахли гвоздикой. Все ателье пропиталось этим запахом... Я зажег свет. Он лежал вон там. Точно так же, как и в тот раз. Почти в том же положении. С открытым ртом. С приглаженными, блестящими волосами. Волосы даже на проборе не растрепались. Так сильно напомажены. Такой же одеревенелый, как и в прошлый раз. И так же тяжело было его тащить. Я невольно вспомнил: «Тебе не удастся избавиться от моего трупа...»
Бранд закрыл лицо перепачканными в краске руками и застонал, словно от сильной боли. Он раскачивался, сидя на стуле, взад и вперед. Взад и вперед.
— Ну а дальше? Что за чертовщина. Ты убрал его...
Бранд оторвал руки от лица и тупо уставился на меня.
— Да. Я убрал его... убрал. Я убрал его в то же место, что и в первый раз. Теперь там лежат два трупа!
Глава 7
На следующий день Бранда арестовали. Все газеты сообщали об этом, и я изрядно испугался. Однако арест не был связан с убийством. Писали, что вечером в пьяном виде Бранд забрался в чужую машину. И поскольку владелец по забывчивости оставил ключи в машине, Бранд завел автомобиль, дал газ и на полной скорости влетел в окно магазина на противоположной стороне улицы. К счастью, обошлось без жертв, но тем не менее дело серьезное, и неизвестно, чем оно обернется для Бранда.
Ему не впервой было вступать в конфликт с полицией. Однажды ему пришлось уплатить штраф в размере тридцати крон за то, что он, как было сказано в акте, «в пьяном виде помочился па площади перед ратушей». Бранд очень гордился своим бравым поступком и долго сохранял «обвинительный акт», с тем чтобы показывать при встрече знакомым.
Да и ночевать в полицейском участке ему случалось. И всякий раз на память об этом он прихватывал с собой деревянную вилку и ложку. «Чтобы задержанные не совершали самоубийства, им выдают именно такие вилки и ложки», — объяснял Бранд. После первого задержания он поклялся, что если еще попадет туда, то обязательно убьет себя деревянной вилкой, только чтобы досадить полиции.
Конечно, он этого не сделал. Наоборот, всегда с невероятной изощренностью воровал вилки и ложки, пока не скопилась у него целая коллекция.
Но на сей раз все обстояло серьезнее. В этом происшествии речь шла и об угрозе человеческой жизни, о материальном ущербе, к тому же примешивалась «кража автомобиля». Пахло тюрьмой.
Бранд плохо переносил заключение. Безусловно, он был рад, что газеты заняты его особой, пусть даже по малопривлекательному поводу. Предварительное заключение оказалось для него невыносимым. Лишение спиртного также сильно отразилось на нем, его даже перевели в больницу, боясь, что начнется белая горячка. Он метался по кровати и в бреду кричал, что убил человека и никак не может избавиться от трупа.
Приговор оказался значительно мягче, чем можно было ожидать: четырнадцать суток заключения. Обвинение в «краже автомобиля» отпало. Бранда не лишили гражданских прав. И даже водительских, поскольку таковых он не имел.
Ему предстояло провести четырнадцать дней в тюрьме Венстре, и многое было сделано, чтобы облегчить его участь. Он получил право на дополнительное питание, и фру Друссе посылала ему жареных голубей и выскобленные помидоры с вложенными туда любовными письмами. Она хотела переслать в печеночном паштете напильник и веревочную лестницу, но защитник Бранда решительно отсоветовал.
К тому же Бранд вряд ли успел бы перепилить железную решетку за четырнадцать дней.
Ему разрешили читать, рисовать и писать красками. Дважды в день, во время прогулок по двору, он имел право выкурить по сигарете. В камеру принесли удобное кресло. В таких условиях не так уж было страшно отбывать срок.
Но фру Друссе все равно тяжко вздыхала, ей чудились мрачные тюремные стены, железные решетки и бряцание кандалов. Она представляла себе Бранда сидящим на нарах, прикованным за ногу тяжелой железной цепью и писала очень печальные стихи об «одиноком узнике, томящемся день-деньской». Каждый день она появлялась у ворот Венстре с передачей. Приносила еду и лакомства. И каждый день душераздирающе рыдала, когда привратник захлопывал «тяжелые тюремные ворота».
Несмотря на все снисхождение и краткий срок заключения, Бранд тяжело переносил тюрьму. Оп страдал от бессонницы. Ночью его преследовали кошмары. Как-то ночью он позвал надзирателя и потребовал встречи с судьей. Он-де совершил убийство и хочет во всем сознаться. Но как только зажгли свет, Бранд отрекся от «признаний». Надзиратель, человек опытный и терпеливый, пытался успокаивать арестанта всякий раз, когда того душили рыдания и он кричал о совершенном им убийстве.
— Господи, да никто же не пострадал. Ничего не скажешь, не очень разумно забираться в чужой автомобиль и браться за руль, не умея править машиной, да еще в мертвецки пьяном состоянии. Но, слава богу, все обошлось. Нет на душе греха.
Но утешения не помогали. Бранд был подавлен. Он не мог даже наслаждаться жареными голубями и томатами, которыми снабжала его фру Друссе. Та говорила, что он не переставая плачет и проводит дни за чтением Библии. Признаться, я не очень верил этому. Откуда могла знать об этом фру Друссе?
Она говорила о Бранде так, словно речь шла о Леоноре Кристине33 или другом каком узнике, обреченном на пожизненное заточение.
Несмотря на все огорчения, мне кажется, ей доставили известную радость эти четырнадцать дней, — собственно, об этом она впоследствии сама рассказала в своих «Скорбных причитаниях». Меня она посещала почти ежедневно, настойчиво требовала, чтобы я взял инициативу и возглавил движение в защиту Бранда. Датские художники должны протестовать. Весь датский народ должен подняться против грубого нарушения юридических прав.
Это были тяжелые дни. Но в конце концов они прошли, и однажды ранним утром Бранда освободили.
Фру Друссе ждала, что датские художники выстроятся у ворот тюрьмы и встретят Бранда с транспарантами, флагами и цветами. Она ждала духового оркестра, лавровых венков, речей, фимиама. Но не нашлось ни единой души, пожелавшей отпраздновать благополучное возвращение Бранда.
Фру Друссе встречала его одна, совсем одна, с охапкой темно-красных роз.
Бранд, выйдя из ворот и увидев ее, страшно разозлился.
— Женщина, прочь отсюда! — закричал он истерически. — Уходи! Берегись, а не то я убью тебя! Мне уже доводилось убивать людей!
— Хакон! — взмолилась она. — Хакон! Что ты говоришь? Ты болен. Они лишили тебя рассудка! Негодяи! О! Иди сюда, дай мне приласкать твою голову.
Обо всем этом сообщил привратник. Он также рассказал, что Бранд побежал как сумасшедший, а фру Друссе с розами в руках кричала что-то ему вслед.
— Она душераздирающе рыдала, когда плелась с цветами к трамваю, — заключил свой отчет привратник.
Глава 8
Мог ли Бранд задушить человека и спрятать его труп? Честно говоря, я не знал, что и подумать. Он всегда был горазд на всякие проделки, любил окружать себя тайнами, выставлять в «интересном» свете. Но та взбудораженность, с которой он поведал мне эту страшную историю, казалась неподдельной. Бледное лицо, проступавший па лбу пот, лихорадочный взгляд — нет, это не походило на игру.
Что бы там ни было, я понял: Бранд серьезно болен, с его психикой неладно. Странно только, что после освобождения из-под ареста его не поместили в больницу.
Но Бранд удивил нас еще раз. Я узнал, что спустя несколько дней он уехал к себе на родину, в небольшой городок на Фюне, и там прекратил пить.
Я не рассказал фру Друссе о своем визите к Бранду, о странном признании, которое он сделал. Поэтому она решила, что я не сдержал обещания, и стала резко упрекать меня, считая, что именно я ответствен за ту нелепую историю с автомобилем, которая стряслась с Брандом. Поговори я с ним, этого не произошло бы.
Но, несмотря на ее упреки, я все же не счел нужным рассказывать ей о встрече с Брандом. Что касается меня, я весьма сомневался в том, что Бранд мог совершить убийство, расскажи же я эту историю фру Друссе, она бы в нее поверила от начала до конца. Особенно в этот бред о трупе или, вернее, о двух трупах, которые ему приходилось убирать со своего пути. Представляю, какое впечатление произвело бы на нее то, что он прячет где-то два трупа одного и того же человека. Ведь она обожала все загадочное и верила во все самое неправдоподобное. Рассказ Бранда дал бы волю ее воображению. Своей экзальтированностью она причинила бы ему немало бед. Будем надеяться, что он сам не наболтал лишнего в тюрьме Венстре.
Новость об отъезде Бранда сообщила мне фру Друссе.
— Это избавило вас от неприятной необходимости навестить его!
Она получила длинное письмо от Бранда, которое с гордостью демонстрировала: дескать, глядите, я вновь пользуюсь его расположением.
Бранд писал из Свенборга, своего родного местечка. Фру Друссе пришла в восторг от тона письма. Наконец он вернулся в родные пенаты. Это нечто большее, чем возвращение под отчий кров. Это бегство от большого и жестокого мира.
Здесь, в Свенборге, все так же, как прежде, как в дни его детства, когда он еще не пробовал и капли пива. Белые кораблики плавают по синему фьорду между зеленых островков. Добродушные старики, ушедшие на пенсию, степенно расхаживают по узким улочкам. Старые шкиперы с обветренными лицами стоят и поплевывают в гавани. Добродушные, убеленные сединами матери сидят у окошек со специальными смотровыми зеркалами и ждут, когда вернутся из плавания их сыновья. Ярко-красные бегонии украшают маленькие покосившиеся оконца... Здесь мир и покой для его усталой души. Здесь он может начать заново жизнь после всего утраченного. Здесь он чувствует себя дома. Здесь он хочет трудиться. Здесь он хочет жить. И здесь он хотел бы однажды тихо умереть и мирно покоиться на идиллическом кладбище Туре, с видом на залив.
Фру Друссе плакала от умиления, читая мне вслух это письмо.
— Наконец-то мятежная душа обрела покой! Все безумное, тревожное — позади. Свенборг — это бальзам для кровоточащих нервов, — примерно в таких тонах изливала свои чувства фру Друссе.
Она намеревалась сама тотчас же уехать в Свенборг и горячо принялась за сборы. К чему ей оставаться в столице? В Свенборге, дышащем миром и покоем, куда лучше будет работать над романом, над кулинарными рецептами и в то же время быть рядом с Хаконом.
«Я еду! — уведомила она его. — Отряхаю пыль со своих ног и еду к тебе. Уверена, что Свенборг станет убежищем нашего счастья».
К сожалению, нужно было подготовиться к отъезду. Она уже собиралась паковать чемодан, когда пришло новое письмо Бранда, в котором он деликатно, но убедительно отговаривал ее ехать к нему.
Все, дескать, кануло в Лету. Прошлого никогда не вернуть. Только память об их любви будет жить, и он навеки сохранит ее в глубине своей души. И она тоже должна хранить память. Возврата к прошлому быть не может. Она должна это знать.
Бранд стал иным. С ним произошли разительные перемены. Он окончательно порвал с прежней жизнью. «Рождение вновь», «воскресение» — наиболее частые слова, мелькавшие в этом письме.
Это было большим ударом для фру Друссе. К тому же нет Вольбека, чтобы утешить ее. Она рыдала, выражение ее лица стало еще более страдальческим и разочарованным.
— Я всегда живу для других, — сказала она мне однажды. — В ответ же получаю одну неблагодарность. Но я избрала путь страданий и чувствую, что очищаюсь.
Мы повстречались на скрещении улиц Скиндергаде и Гамле Торв, и она произнесла эти скорбные слова так громко, что вызвала немалое удивление прохожих. Сказала и раскинула руки в стороны, словно готовясь к распятию.
Потрясающее изменение, произошедшее с Брандом, заключалось в том, что он стал трезвенником.
Некоторые, потеряв пристрастие к спиртному, спокойно помалкивают об этом. Но Бранд не из тех, что молчат. Он тебе не прочие. Он должен всему миру поведать, что больше не употребляет даже пива. Разрешив фюнской прессе проинтервьюировать себя, он обрушился градом жестоких слов на пьянство, в котором погрязла столица.
Как может человек работать, когда его мозг притуплен и затуманен алкоголем? Как может человек творить и дарить человечеству прекрасное, когда сам превратился в свинью? Вот что он хотел бы спросить.
Он-то теперь чист! Духовно и телесно здоров! Другие датские художники по-прежнему пребывают в грязи. Нет, он не собирается упрекать их, но и не презирать не может. Глубоко сочувствует, но слабо верит в их спасение.
На вопрос корреспондента, что он думает о современном датском искусстве, Бранд заявил: такового вообще не существует. Следует набраться мужества и прямо поглядеть в глаза горькой правде.
Все прежние друзья Бранда — не что иное, как люди, потерявшие себя. Пропойцы и свиньи. Они растрачивают свое время на выпивку и интриги. Попойки и мелкое политиканство занимает их души. Никакого почтения к труду. Никакого благоговения перед искусством. Никакого уважения к традициям.
Лишь он — Хакон Бранд — один нашел в себе силы порвать с пороком. Выкарабкался из трясины, спас себя.
И вот теперь он создает такие произведения, которые поразят датский народ и весь мир!
— Я крепок и здоров! Я — датчанин и вышел из народа! Я до мозга костей фюнец и плодовит! — заявил он в заключение журналистам.
А в письме к фру Друссе, своем прощальном письмо к ней, он писал:
«Я встаю каждое утро в 6 часов и тотчас сажусь работать. В 9 часов я завтракаю и затем опять работаю. В 11 часов занимаюсь гимнастикой. В полдень принимаю холодный душ. Затем обедаю. Нет ничего чудеснее, чем еда. После обеда я вновь пишу. В 4 часа пью молоко с домашними коврижками. Потом пишу, пишу до темноты. Затем я ужинаю...»
Письмо дышало здоровьем, благополучием и «трудовым» энтузиазмом. Никакого признака того, что какие-то темные тайны терзают его. Никакого намека на убийство и труп, от которого он никак не мог избавиться.
Глава 9
Одно обстоятельство внушало тревогу: куда-то действительно исчез Вольбек. Толстый нагловатый весельчак Вольбек бесследно пропал.
Он не появлялся в привычных местах, не встречался на улице. Его уже больше не увидишь, как бывало, важно шествующим с желтым портфелем в руке, словно его ждут заседания и дела первостепенной важности. Его место в «Пивном дворе» пустовало. Все теперь были свободны от привычной подати — давать ему крону взаймы.
Даже фру Друссе не знала, что стряслось с Вольбеком. По-видимому, она была единственным человеком, всерьез переживавшим его отсутствие. Я спросил, когда она видела его в последний раз, и ответ был неутешительным: как раз незадолго до того, как она сообщила мне о душевном состоянии Бранда. Рассказала, что между Брандом и Вольбеком произошла ссора. В разговоре Вольбек сослался на слова, которые Бранд когда-то сказал по адресу фру Друссе. Это взбесило Бранда.
Все это совпадало с тем, что говорил мне сам Бранд, когда признавался в убийстве. Вольбек обещал фру Друссе навестить Бранда и все уладить, помириться с ним. Но с тех пор он больше не появлялся. И она не слышала от него ни единого слова.
— Только бы он ничего не натворил! Оп такой легкомысленный!
Фру расспросила всех, кого только могла, не видели ли они Вольбека, но никто не знал, куда он девался. Послала письмо по его адресу. Но не получила ответа. Решила сама навестить. Стучала, стучала в дверь, но так никто и не крикнул: «Войдите!»
Было похоже, что и Вольбек покинул ее навсегда, с тем чтобы также начать новую жизнь на новом месте. И Бранд и Вольбек. О, как тяжко потерять сразу обоих. Они были так дороги ее сердцу. Но такова жизнь.
Да, история принимала малоприятный оборот. И хотя все это не имело ко мне прямого отношения, все же хотелось узнать, где Вольбек, и удостовериться, что он жив.
Я направился на улицу Рерхольмсгаде, туда, где он жил последнее время. Это довольно невзрачная улочка, неподалеку от площади Сёльвторвет.
Меня встретила оскорбленная и разгневанная хозяйка:
— Нет его, нет! Исчез! Сбежал! Улизнул! Не уплатил за много месяцев.
Кто возместит убыток? Уж не я ли? Нет, она на это не рассчитывает. Просто-напросто предательство. И если я увижу Вольбека, то могу передать ему, что она заявила в полицию. Она уже сталкивалась не с одним, кому он задолжал деньги. Подумать только, выглядел таким приличным господином.
Я спросил, забрал ли он с собой вещи или оставил что-нибудь в комнате.
— Нет. Ничего путного не оставил. Можете сами убедиться в этом. Несколько листов бумаги. Начало какой-то рукописи. Желтый карандаш. Грязная рубашка. Несколько пар заскорузлых носков. Картонная коробка с вырезками из газет. Этот хлам не может возместить урон бедной женщине, живущей только на средства от сдачи комнат. И никто не может сказать, куда девался Вольбек.
Затем я позвонил в газету, еженедельник, в котором Поуль Вольбек пристраивал свои статьи. И здесь никто не знал о его местонахождении. Он обычно появлялся регулярно, но в последнее время сгинул. И на почту ничего не присылал. Это тем более огорчительно, что он получил у них аванс и должен газете несколько статей.
Секретарь газеты был взбешен почти так же, как квартирная хозяйка с улицы Рерхольмсгаде.
Я решил разыскать его родственников и через них попытаться узнать адрес или какие-нибудь новости о нем после той размолвки. Но это тоже не принесло результатов.
Семья Вольбека уже много лет как порвала с ним. Он был той овцой, с которой никто не хотел знаться. В свое время его всячески поддерживали. Пора уже ходить на своих ногах. Они не знают, где он. Да, собственно, их это не интересует.
Оставался адресный стол. Справка стоила семьдесят пять эре. Мне выдали ее со старым адресом на улице Рерхольмсгаде, где я уже побывал. Итак, зазря выброшены семьдесят пять эре.
Стремление во что бы то ни стало разыскать следы пропавшего привело меня в военный призывной участок на Бремерхольмене. Там меня приняли с военной суровостью и посмотрели так, словно налицо все доказательства того, что я занимаюсь шпионажем в пользу иностранной державы. Долго рылись в книгах, перелистывали списки, но справки о местонахождении Вольбека так и не смогли дать. Мне намекнули, что, если он уехал за границу и не сообщил об этом в военный участок, его за это не погладят по головке. Стоит только ему ступить на датскую землю, как его ждет штраф или другое наказание.
На этом исчерпывались мои возможности разыскать человека, неожиданно исчезнувшего из Копенгагена. В полицию я не обращался. Кому польза, если возникнет скандал и Бранда арестуют? К тому же вся эта история меня лично не особенно касалась.
Фру Друссе — особа куда энергичнее. В своих поисках она продвинулась дальше. Поместила объявление в газете в рубрике «Личное»:
Поуль В.,
где ты? Сильвия тоскует. Откликнись!
Это не принесло результатов, и она понесла другое объявление:
Поуль В — бек,
Сообщи адрес! Волнуюсь! Опасаюсь самого страшного!
Сильвия Д.
Наконец появилось следующее:
Поуль Вольбек.
Любого, кто может что-либо сообщить о писателе Поуле Вольбеке, прошу сообщить по адресу...
На этот раз пришло несколько писем от кредиторов Вольбека. Но эти люди не могли сообщить ничего нового. Они сами не знали, где он. И никто не слышал о нем с того самого дня, как он поссорился с Хаконом Брандом.
Глава 10
Бранд стал не только трезвенником, он теперь был обращенным, или, как он говорил, «преображенным».
Многие наверняка еще помнят религиозное движение, именовавшееся «оксфордским». В свое время оно вызвало немало шума и привлекло внимание прессы. Скандинавию с ним познакомил небезызвестный мистер Бакмен и его так называемая «команда».
За очень короткое время в Дании это движение успело оказать значительное влияние на многих. Среди первых его приверженцев оказался Бранд.
На собрании в Уллерупе в полумиле от Свенборга, где собралось множество народу во главе с командой мистера Бакмена, Бранд выступил с признанием своих грехов и с заявлением о своем обращении.
Собрание обставили с большой помпой, и оно послужило отличной рекламой движению. Бранд, по выражению самого Бакмена, был «ценным приобретением для Оксфорда».
В высшей степени откровенные признания Бранда слушались с величайшим напряжением, особенно женской половиной публики, и, когда он взволнованным голосом закончил свою длинную речь, раздался гром аплодисментов. Бранд отвечал благосклонным поклоном и чарующей улыбкой. И если он оказался полезен движению, то и движение не осталось в долгу у молодого художника. В течение одного дня Хакон Бранд стал известен всей стране и приобрел заказчиков, для которых живопись всегда была пустым звуком.
Теперь, после «обращения» Бранда, его весьма интересных признаний в речи на собрании в Уллеруне, известность Бранда (которую он успел приобрести, правда, не картинами своими, а разнузданным поведением) окончательно утвердилась.
«Оксфордская» встреча в Уллеруне транслировалась по всей стране, и я лично, сидя у репродуктора, слышал Бранда. Хотя он и старался придать своему голосу пасторскую елейность, я без труда узнал его.
Вначале он говорил об искусстве, назвав его божественным призванием. «Талант — это дар бога. Его следует направить так, чтобы он отражал дух божий. Художник должен позволить богу говорить через себя, должен быть медиумом. Он — нечто вроде микрофона для бога. (Аплодисменты.)
То, что материалисты называют разумом (Фи! Фи!), здравым смыслом, строгим критическим подходом, зрелым размышлением, — все это ничего не имеет общего с искусством, с божественным искусством.
Современное искусство — извращенность. Здесь человек восстал против божественного. Человек захотел уподобиться самому Создателю. Человек захотел улучшить природу. Улучшить природу, созданную богом!
Человек захотел поучать Создателя! (Смех.)
Когда человек стремится противопоставить себя богу, это значит: в него вселился дьявол. Он делает это неспроста. У него одна цель — смутить человека, сбить его с истинного пути.
Современное искусство — не что иное, как наваждение, дьявольское наваждение. Современное искусство надломлено. Оно аморально. Оно негативно. Оно бесплодно».
Да, он тоже был одним из этих модернистов, и как художник и как человек. Да, нравственно он тоже был архисовременным. Но теперь это все позади. (Восторженные восклицания.) Он пал слишком низко. Но теперь он преображен. Перед вами стоит заново рожденный Хакон Бранд, о чем он сам свидетельствует. (Гром аплодисментов.)
А затем последовали признания в грехах. Тут было что послушать. Легко представить, как захватил этот рассказ участников митинга. Бог знает, но преувеличивал ли он? Неужто и вправду можно так занятно грешить?
Но об одном Хакон умолчал. Он не сказал ни слова о том, в чем признался мне, когда я по наущению фру Друссе посетил его ателье. Не признался в том, что убил человека и спрятал его труп.
Закончил он свою речь рассуждениями о датской культуре добрых старых времен. Говорил о надгробных камнях, курганах, шпилеобразных деревенских церквушках. О наших милых памятниках старины, которыми следует дорожить. О нашей национальной традиции, которую он как художник будет развивать. Он пойдет впереди и укажет путь своим прежним товарищам. Он будет знаменем, факелом...
Это историческая встреча. Смотрите, как развеваются и трепещут флаги над добрым фюнским краем, над тысячами зрителей, над бесконечной вереницей автомобилей. Прошел дождь. А сейчас вновь выглянуло солнце. Это доброе предзнаменование обещает нам новые времена, что грядут. Перед лицом Оксфордского движения все равны. Богатые и бедные. Великие и неприметные, господа и слуги. Рабочие и управляющие. Каждый обязан трудиться и выполнять свой долг на том месте, которое отвел ему господь, каждый должен воздавать хвалу и славу богу за судьбу, которая уготована ему в жизни. Это великое божественное братство народов.
Превращение Бранда стало излюбленной темой разговоров, ко всем иным новостям, в том числе к тому, что творилось в мире, интерес был утрачен. О Бранде писали на первых страницах утренние газеты. О нем говорили целый день. Одним взмахом «Оксфорд» сделал его знаменитым. Уже на самой встрече двое управляющих заказали Бранду картины. Многие последовали их примеру.
Я прослушал всю передачу до конца, с напряжением ждал, не подойдет ли Бранд вновь к микрофону и не откроет ли свою страшную тайну. Ничего подобного. Выступали другие, но их признания были чистой водицей по сравнению с брандовскими. Выступила дама из высшего копенгагенского общества, в великолепном шелковом платье, с бриллиантовым крестом на груди. Слушатели затаив дыхание ждали, что поведает она. Однако грехи ее были так ничтожны и безобидны, что невольно наводили на мысль: не сама ли королева Дагмар предстала перед ними. Правда, спустя некоторое время дама была осуждена за воровство, в том числе — того самого шелкового платья, в котором выступала па «оксфордской» встрече. Но в этом она забыла признаться.
И Бранд забыл признаться в преступлении, в которое посвятил меня. Перед тем как выключить радио, я услышал следующее сообщение:
«Полиция Копенгагена доводит до сведения о начавшихся розысках 34-летнего журналиста Поуля Вольбека.
10 месяцев назад Поуль Вольбек покинул свою квартиру (он проживал на улице Рерхольмсгаде, 18) и с тех пор не возвращался домой. Никто из его родных и знакомых не встречал его на протяжении этого времени.
Рост Поуля Вольбека — 167 см, глаза светло-голубые, темный блондин. Волосы, разделенные пробором посредине, гладко причесаны. Цвет лица — бледный. Широкоплеч, довольно крепкого телосложения. Ходит, наклонившись вперед.
На Поуле Вольбеке в последний раз, когда его видели, был темный пиджак и полосатые брюки. Без головного убора. Под мышкой он нес желтый портфель.
Есть опасения, что он совершил самоубийство.
Все сведения об исчезнувшем 34-летнем журналисте Поуле Вольбеке просим сообщать в главное полицейское управление Копенгагена — телефон Центр-1448 (один, четыре, четыре, восемь) — или в ближайшие полицейские участки».
Глава 11
Не знаю, кто заявил в полицию о необходимости начать розыски Поуля Вольбека, хозяйка ли с улицы Рерхольмсгаде или фру Друссе. У меня не было желания видеться ни с одной из них. Делу теперь дан законный ход, и наверняка Вольбека найдут.
До меня доходили слухи, что фру Друссе, потеряв сразу двух своих молодых друзей, стала еще более экзальтированной и странной. Она с большим рвением предалась оккультным занятиям. Те, кто навещал ее на Фиулстреде, рассказывали, что она подолгу сидит, уставившись в стеклянный шар, зажигая длинные свечи во спасение души Вольбека.
— Он не умер. Моя душа ведет с ним беседы каждый вечер. Он присутствует здесь, в этой комнате! — говорила она гостям, размахивая бахромой на рукавах.
Полиция в поисках исчезнувшего нисколько не торопилась использовать сведения фру Друссе, почерпнутые столь таинственным способом. Однако собственные методы расследования и объявление по радио не принесли результатов. Правда, несколько человек обратились в полицейское управление, но все они отрекомендовались кредиторами Вольбека, желавшими убедиться, вправду ли он умер. Если так, то пропали их денежки! Ответ полицейских едва ли мог утешить:
— Во всяком случае, труп пока не обнаружен.
А Бранд тем временем жил припеваючи в плодородном крае Фюн. Он, по-видимому, не испытывал никакого желания помочь полиции. Да у него и без того хватало хлопот.
Он рисовал портреты управляющих и фабрикантов из Оденсе и их жен. Получил заказ сделать фреску на историческую тему для реставрировавшегося Свенборгского замка. Несмотря на энергичные протесты Национального музея, нескольким фюнским депутатам риксдага удалось настоять на своем, и его ужасные картины, изображающие короля Свена, рыцарей и лошадей, были повешены в пустынной комнате старого замка.
Картины же, которые он посылал на выставку в Копенгаген, безжалостно отвергли. Не хотели их принимать и в Шарлоттенборге Бранд негодовал, злился н даже грозил, что на будущий год все свои полотна заполнит королевскими особами, пусть тогда-то Шарлоттенборгский цензурный комитет осмелится отвергнуть их.
В утешение ему дали несколько премий, очевидно полагая, что доходы у него теперь достаточно высоки, чтобы удостоить его этой чести. А тем временем картины Бранда становились все хуже и хуже.
Та же аляповатая манера, что и на картинах с кладбищенскими сюжетами. Только здесь ужасы сменились патриотическими и религиозными мотивами. Продуктивность его была поистине поразительной. Он работал, так сказать, поточным методом. Одновременно запускал в дело несколько картин и придерживался строгой системы. Сначала на всех появлялось голубое небо, потом зеленые деревья, затем мазки красных, как свежее мясо, красок, и так далее.
Ловкость и напористость, с какой он сбывал свои работы, были достойны подражания. Бранднеутомимо осаждал священников и советы приходских церквей, предлагая украсить их помещения и молитвенные дома. И, надо сказать, ему везло: он даже получил заказ на роспись алтаря в маленькой деревенской церквушке близ Свенборга. Трудно было устоять перед его даром увещевания. К тому же он был «обращенный». Как тут не поддержать верующего художника, не отдать предпочтения перед неверующими.
С не меньшей прытью осаждал он редакции журналов и газет, выполняя любые заказы. Он как-то сразу раскусил секрет популярности. Бранд не гнушался иллюстрировать пошлые новеллы в еженедельниках, далее в изданиях самого низкого пошиба.
А к рождеству на обложках журналов и альманахов появились его ангелы, елочки, избушки, засыпанные снегом.
Верующий не обязательно должен выглядеть скорбящим, — заявил он в интервью небольшой провинциальной газетке «Почтовый голубь». — Христианство дарует радость, спокойствие. Благодаря «Оксфордскому учению» я познал христианство радостное, здоровое. «Улыбайся!» — вот его девиз. Человек с чистой совестью всегда весел.
Казалось, совесть Бранда абсолютно чиста. Он научился улыбаться, выставляя напоказ передние зубы, точь-в-точь как его учитель мистер Бакмен. Должно быть, это оказалось не труднее, чем откусывать горлышки у бутылок. И он убедил всех, что для веселия и довольства вовсе не обязательно прибегать к алкоголю.
Теперь вместо спиртных напитков он в большом количестве поглощал молоко или взбитые сливки. В нем вдруг проснулся необузданный гурман. Нужно было видеть, как он набрасывался на жирные соусы. Шоколад жевал целый день, только и говорил, что о еде. На его натюрмортах красовались бифштексы, оковалки говядины в натуральную величину и яичницы-глазуньи. Трезвенность его была столь же отталкивающа, как и пьянство.
Бранд очутился в центре общественной жизни и Свенборга, и Оденсе. Его принимали как желанного гостя в домах торговцев зерном, управляющих и служителей культа. Его речь в Уллерупе хорошо запомнилась и была оценена по заслугам. Еще бы: всем, чьи доходы перевалили за двадцать тысяч, очень пришлись по душе его разглагольствования о том, что каждый сверчок должен знать свой шесток и довольствоваться судьбой, уготованной свыше.
Зажиточные представители общества особенно высоко оценили слова Бранда о всеобщем равенстве перед богом, находя их зрелыми и разумными.
Итак, Бранд был человеком исключительно интересным для общения. Людям, привыкшим к однообразному и скучному узкому кругу, он казался приятной отдушиной. Все наперебой приглашали его в гости, нередко соперничая между собой.
— Посмотрите, он запивает цыпленка не красным вином, а только солодовым пивом, — удивлялись хозяева. — И при этом талантлив, одарен и остроумен. Он набожный и «обращенный» и в то же время такой весельчак и шутник. А самое главное — незаурядный художник. Его картины — истинное искусство. Судите хотя бы по тому, что на них изображено. Должно быть, так и впрямь выглядели Нильс Эббесен, бог Иисус, королева Дагмар и дева Мария.
Да, Бранд пользовался популярностью в кредитоспособных фюнских кругах. Он приобрел осанку. Стал импозантен. Худой, бледный художник превратился в дородного господина, а брызжущая здоровьем упитанность располагала солидных буржуа к доверию, обеспечивала ему новые заказы. Настали счастливые времена для столь неустроенного в недавнем прошлом Хакона Бранда.
Мне выдался случай повстречаться с ним в этот счастливый период его жизни. Случилось это в Копенгагене, куда Бранд ненадолго заглянул по «хозяйственно-закупочным» делам, как он выразился.
Мы случайно столкнулись у магазина красок. Увидев меня, Бранд отпрянул, должно быть, опасаясь, что я напомню о том странном разговоре, который он вел о Вольбеке и двух трупах. Но так как я не подал вида, что собираюсь вспоминать старое, он сразу повеселел и разговорился.
Ханой потолстел, был хорошо одет. У него появилась неприятная самодовольная манера говорить. Он участливо расспрашивал меня о том, как я живу, удается ли сводить концы с концами. С надменностью расспрашивал о наших общих знакомых и его прежних товарищах — живут все так же? Околачиваются в «Пивном дворе»? Сидят и ничего не заказывают, по-прежнему без гроша, ха-ха!
— Да, взгляни, я купил автомобиль. Вот стоит у подъезда. Красивая штука, не правда ли? Человеку, так много разъезжающему, как я, без машины нельзя. Это почти необходимость. Почему бы тебе не обзавестись? Нет, ты обязательно должен купить себе машину. Приобретение машины вполне оправдывает себя. Правда, стоит она не очень дешево.
— Ты, кажется, преуспеваешь?
— Да, пишу много, иногда — по четыре картины в день. Делаю массу рисунков. Все хотят иметь их, меня буквально осаждают. Не хочется доставлять разочарование людям. Вот и приходится вставать ежедневно в шесть часов утра. Я тотчас же приступаю к гимнастике, глубоко дышу перед открытыми окнами. Вид из моих окон на Свенборгский залив прямо-таки божественный! Затем завтракаю, ем вдоволь и с аппетитом. Это необходимо, чтобы хорошо работать, быть в форме. Еда — высочайшее наслаждение. Лучше, чем девчонки и все такое прочее! Ты любишь поесть? Пью же я только солодовое пиво. Тебе тоже советую. Очень укрепляет. Кроме того, выпиваю пол-литра сливок каждое утро. Представить себе не можешь, как это освежает и стимулирует. Витамины, как ты сам понимаешь! В них все дело.
На минуточку он прервал разговор, чтобы сделать заказ продавцу.
— Сколько холста в этом рулоне? Тридцать пять метров? Ага. Ну, хорошо, пришлите мне два рулона, нет, лучше три. Я ведь быстро работаю, ха-ха-ха!
Ему понадобились и краски и кисти. Оп закупил все в большом количестве, не интересуясь ценой.
— Отошлите мне домой! Где я живу? Не знаете? Ах, вот как! Я живу в Свенборге, там-то меня знают. Достаточно написать только — Свенборг, Хакону Бранду. И все!
— Не пойти ли нам вместе? — спросил он меня. — Я с удовольствием приглашу тебя в молочный бар. Там, правда, нет пива. Или, может, ты хочешь есть? — И он сделал рыцарский жест рукой, которому, по-видимому, научился у своих оденсовских меценатов.
Я отказался:
— Спасибо, Бранд. Я тороплюсь. До свидания!
— До свидания! Будь здоров и не унывай, — крикнул он мне весело. — Поступай, как я: наслаждайся пищей. Не представляешь, как это важно.
Глава 12
А время шло. Я долго не видел Бранда. Да и он не давал о себе знать. Картины его ни разу не выставлялись в Копенгагене, только ближе к рождеству замелькали в витринах книжных магазинов цветисто размалеванные обложки рождественских журналов.
В Свенборге и в ближайших его окрестностях Бранд неизменно считался первоклассным художником. Но время сенсаций миновало. Религиозные картины его представляли лишь локальный интерес. Остальная страна как- то скоро забыла о художнике, поднятом «Оксфордским движением». Не могло же его «обращение» постоянно занимать умы. На одном пьянстве или трезвенности художник долго не продержится на поверхности.
Да и об «Оксфордском движении» больше не говорили. Газеты прекратили рекламную шумиху вокруг него. М-ра Бакмена и его команду потянуло в другие охотничьи угодья. В Дании движение пошло на убыль, а вскоре о нем и вовсе забыли.
Вместо этого стали увлекаться иной игрой под названием «Йо-йо». Но и это увлечение оказалось кратковременным, оно тоже было быстро забыто и даже вспоминалось с трудом, что же такое «Йо-йо».
Вольбека тоже забыли. Полиция заявила, что она провела тщательное расследование. О его исчезновении объявлялось по радио. Газеты помещали его фотографии, описание его примет. Однако его труп не удалось найти.
«Не что иное, как самоубийство, — заявила полиция. — Сомнений нет, самоубийство. У такого человека, как Поуль Вольбек, было достаточно оснований покинуть этот мир».
На том все разговоры и прекратились.
Фру Друссе я видел довольно редко. Она стала еще более загадочной. Всякий раз, когда я встречал ее, она заводила речь о переселении душ, о передаче мыслей, о магии, занималась вызовом духов и всевозможной колдовской тарабарщиной. А в промежутках между этим сочиняла кулинарные рецепты. Помимо кулинарной странички она обрела новое занятие — составляла гороскоп недели для читателей «Семейного журнала».
— Я составила гороскоп и для себя, — сказала она печально, когда я однажды повстречал ее на улице.
— Вот как! И что же он предсказывает?
— Я умру двадцать седьмого декабря этого года.
— Боже милостивый, что за страсти! Вы уверены, что составили его правильно?
— Звезды не лгут.
— Что ж, это очень прискорбно.
— Нисколько. Жизнь не представляет никакой ценности для меня. Я не боюсь смерти. Смерть — не безвозвратное исчезновение. Я с радостью жду двадцать седьмого декабря.
Пришло 27 декабря, а фру Друссе и не думала умирать. Она была в полном здравии, когда я столкнулся с ней в первых числах января на улице Норрегаде.
— Рад вас видеть, фру Друссе, живой и здоровой. Вы великолепно выглядите. А осенью прошлого года вы говорили, что умрете двадцать седьмого декабря. Как хорошо, что ошибся гороскоп!
— Жива? Кто сказал, что я жива? — Она поглядела на меня широко открытыми глазами. — Откуда вы знаете, что я не умерла в тот самый, названный вами день?
— Многое свидетельствует о том, что вы живы. Ну хотя бы то, что вы стоите здесь и разговариваете со мной. На вас новое пальто и шляпа, в руках — сумка, перчатки и зонтик. К тому же вы выглядите вполне здоровой.
— Здоровой! Могу вам поведать кое-что. Я мертва. Я действительно умерла двадцать седьмого декабря. Вы разговариваете с мертвецом!
Мы еще немного постояли, затем распрощались, и она пошла домой в сторону площади Фруе Пладс. Жила она по-прежнему на Фиулстреде. Прощаясь, она сказала:
— Заглянули бы как-нибудь. Только позвоните перед приходом!
Так что у нее был телефон, телефонный номер. Это после смерти-то. И она продолжала регулярно публиковать кулинарные рецепты.
Мир становился все более и более мистическим. При таких обстоятельствах не трудно составлять гороскопы.
Ну как же...
Однажды пожаловали приверженцы «Оксфордского учения» с песней, барабанным боем, трам-там-там. И «обращали» людей. Затем незаметно испарились, словно роса с восходом солнца. Учредилось великое братство народов во Христе. Но у людей по-прежнему разные доходы. Несколько тысяч человек стали обращенными, однако разницы заметить не удавалось. Фру Друссе утверждает, что она мертва, хотя разгуливает по Копенгагену, живая и невредимая.
Бранд утверждал, что он убийца, хотя не заикнулся об этом, каясь в своих грехах.
Вольбек исчез, и полиция считает, что его нет в живых, хотя труп его не найден.
Бранд же утверждал, что видел и прятал два экземпляра вольбековского трупа.
Что и говорить, удивительные времена...
Глава 13
Жил в Свенборге человек, который зарабатывал уйму денег, производя различные алкогольные напитки из датских плодов и ягод.
«Монастырский добрый ром из черной смородины» — назывался один из них. Причем на судебном разбирательстве было доказано, что он действительно был из черной смородины.
«Истинно старинное монастырское вино, — гласила готическая этикетка на бутылках с другим напитком, — изготовляется набожными монахами». На самом же деле это монастырское вино варили фюнские девушки из стеблей ревеня за 16 крон в неделю.
И хотя на завод не имели доступа ни один монах или пробст, — сам заводчик был человек набожный и благочестивый. Звали его Нильсен, и, несмотря на заурядную фамилию, он был широко известной личностью не только в Свенборге, но и во всей стране.
У него были огромнейшие плантации ревеня и черной смородины. Он владел отелями и кабачками. Так как Нильсен заседал в правлении туристской фирмы, то из его заведений каждое лето велись специальные радиопередачи, так что их знал каждый ребенок в стране.
Это Нильсен при въезде в Свенборг построил известный трактир «Старинный лесничий двор», где проезжие автомобилисты утоляли жажду монастырским вином, сидя под закопченными сводами у камина с потрескивающими углями, а официант в голубом жилете с желтыми рукавами и в шутовском колпаке напевал: «Так выпьем же, дорогие братья!»
И, уж конечно, Нильсен построил прославленный во всей стране кабачок «Древний монастырский погребок» в Оденсе. Здесь монастырский напиток из черной смородины подавали официанты в монашеских рясах. И, хотя они отказывались носить сандалии на босу ногу, атмосфера в погребке и без того была вполне приглушенной и мрачной. Вскоре кабачок стал первоклассным туристским аттракционом и серьезным конкурентом андерсеновского зала Трига.
Свой собственный дом Нильсен выстроил в Свенборге на открытой возвышенности. Здесь, неподалеку от памятника Кристиану, открывался прекрасный вид на зеленые буковые леса и голубизну Свенборгского залива.
Дом был величествен изнутри и снаружи. Он ломился от антикварных предметов и старинной источенной жучком мебели. Спало семейство Нильсен на мягких кроватях под балдахинами. Ели они в готическом зале с высокими потолками. Отправляли свои нужды в ватерклозетах, разукрашенных в стиле ренессанс. Во всех залах тикали, били, играли, гудели старинные борнхольмские часы и часы французской работы, украшенные позолоченными дамами.
В сводчатых погребах созревали превосходные вина. Ни монастырская черносмородиновка, ни старинное монастырское из ревеня не признавались в стенах виллы. «Торговое предприятие само по себе, а частная жизнь сама по себе», — любил говорить Нильсен.
Он был, как уже сказано, человеком набожным, знал, что все его блага — от бога.
Ежедневно за обедом, прежде чем служанка подавала на стол, он читал обеденную молитву. Глубоким хрипловатым голосом благодарил бога за все дары, посылаемые ему, в то время как все присутствующие, опустив головы, смущенно смотрели в тарелки.
В одной из городских церквей семейству Нильсен были отведены постоянные места. Здесь неизменно каждое воскресенье восседали супруги Нильсен, внимая словам божьим и зычно распевая псалмы. Всякий раз, когда Нильсен бросал взгляд на купол церкви, он думал, что немало его денежек пошло на реставрацию и позолоту храма. И деньги принесли не только орден рыцарского креста. Многообразные проценты с этих денег так и сыпались на него, словно манна небесная.
Но прежде всего Х.-Н. Нильсен был истинным датчанином. Во имя родины, а не в личных интересах он так широко развернул свою деятельность и зарабатывал большие деньги, утверждал он. Оба его заведения — «Старинный лесничий двор» и «Древний монастырский погребок» — служат идейным целям: они возрождают культуру далекого прошлого и наше историческое своеобразие, утверждал Х.-Н. Нильсен. А также привлекают туристов в страну...
Да и забота об охране природы не чужда его сердцу. Это он позаботился, чтобы на лугах и холмах, окружающих его виллу, не возводилось никаких построек, которые своим уродливым видом могли бы испортить пейзаж.
Когда посланцы «Оксфордского движения» появились в Свенборге, он стал их первым приверженцем.
Его инициатива и организаторские способности во многом предопределили успех уллерупской встречи.
«Обращение» Бранда пришлось ему по душе. А речь Бранда прозвучала так, словно шла от его собственного сердца. Х.-Н. Нильсен был одним из первых, кто позаботился о молодом, новообращенном художнике.
Для начала Нильсен заставил Бранда сделать эскизы цветных витражей для зубчатой башни его виллы. Когда запустили в продажу новый «Старинный монашеский ликер», он поручил Бранду изготовить этикетку позатейливей, чтобы выглядела этак благородно, как старинный пожелтевший пергамент. Не обошлось, конечно, без участия Нильсена, когда Бранд получил заказ на исторические фрески для восстанавливаемого из руин замка. Национальный музей, как известно, пытался воспрепятствовать, но это ни к чему не привело. Нильсеп и депутаты риксдага от Фюнского лена стали горой на защиту брандовских картин с изображениями Свена Вилобородого, рыцарей и всего прочего. Там они висят и поныне.
Фабрикант Нильсен оказался настолько великодушен, что не обиделся на Бранда, когда тот отказался пить монастырскую смородиновку. Нильсен сам ее тоже не пил. Его забавляло, что Бранд трезвенник, и он заверял, что в душе он, Нильсен, тоже враг алкоголя. Но его огромное предприятие дарует, видите ли, хлеб и благополучно тысячам и тысячам людей. Так имеет ли он право лишить своих рабочих хлеба насущного ради своего принципа?..
Как все трезвенники, Бранд любил поговорить о своих былых пьяных проделках. Анекдоты так и сыпались из него. А такого рода развлечения больше всего обожал ликерный фабрикант.
Бранд стал другом дома. Когда церковные витражи, монастырские этикетки и фрески были исполнены, Нильсен доверил художнику написать портрет фру Нильсен. Портрет не обманул ожиданий семейства. Светлые волосы отливали золотом. Рот с приподнятой верхней губой придавал лицу удивительно наивное выражение (фру Нильсен нашла его превосходным!). Светло-розовое шелковое платье обтягивало стан, а кольца и браслеты ослепительно сверкали.
После фру Нильсен наступил черед дочери, двадцатилетней Веры, добродушной смазливенькой блондинки со вздернутым носиком. Ее тоже надлежало запечатлеть. Бранд принялся за дело с воодушевлением.
Шли долгие споры: в чем ее рисовать? В наряде амазонки или в теннисном костюме?
Бранд выбрал теннисный костюм. Фрекен Нильсен изображалась на фоне залива Зунд с теннисной ракеткой, загорелая, белокурая. В руке она держала букетик незабудок, маргариток и маков, а вдали по голубому заливу плыли лодки под белыми парусами с даннеброгскими флагами.
Бранд тоже стал увлекаться теннисом. Он считал движение наилучшим лечебным средством от его теперешней полноты.
В белых брюках и голубой куртке разгуливал бывший представитель богемы по улицам Свенборга с красавицей Верой. Или же катал ее на новом, недавно приобретенном автомобиле. Когда они оставались наедине, он рассказывал ей о прежней бесшабашной жизни в Копенгагене; о знаменитостях, с которыми водился в ту пору.
— Если бы он не был так толст! — говорила Вера подружкам. — В остальном чертовски мил и привлекателен.
— Она — ангел, — говорил Бранд. — Невинный божий ангел! — И с содроганием вспоминал фру Друссе.
Теперь Вера должна служить ему моделью. Он решил рисовать с нее святую деву с нимбом вокруг головы. Купальная простыня на ее стриженой головке легко сошла за покрывало, огромная целлулоидная кукла, купленная на свенборгском базаре, изображала Иисуса-младенца на ее коленях. Веру разбирал смех от этой потехи. Бранд же писал с воодушевлением. Так работали великие мастера прошлого.
Глава 14
Все шло своим чередом. Вскоре директор Х.-Н. Нильсен в роскошном доме отпраздновал обручение дочери с Хаконом Брандом. За счастье молодых пили шампанское, что же касается Бранда, он предпочитал солодовое пиво, густое, темное, особо питательное.
Х.-Н. Нильсен произнес пространную речь, шутливую и торжественную одновременно. В заключение он взывал к богу, моля послать молодым, столь благородно и пристойно нашедшим друг друга, благословение.
Местная пресса много писала об этом: «Мы являемся свидетелями беспримерного события: соединяются, так сказать, противоположности — трезвенник и королева ликеров. Пусть же это принесет славу и процветание нашему городу!»
Заметка о помолвке появилась и в столичной прессе. Фру Друссе читала ее, плача навзрыд. Но потом утешилась: ведь, согласно своему гороскопу, она давно уже мертва.
— Будь я жива, наверное, лишила бы себя жизни после этого!
Всем, кто знал Бранда в прежние времена, трудно было представить его себе трезвенником и, возможно, вскоре отцом семейства.
Но выходило так, что «превращение», о котором поведал Бранд на «Оксфордской встрече» в Уллерупе, стало истинным превращением. Теперь в Свенборге жил совсем иной Хакон Бранд, ничуть не похожий на того, которого мы знали в Копенгагене.
Однако неожиданно что-то произошло и едва не погубило все. Это «что-то» могло одним ударом покончить с трезвенностью и религиозностью, с благосостоянием и обручением, с радужными перспективами на будущее. Рецидив, очень похожий на новое «превращение» в старое состояние, был вызван, видимо, какими-то мистическими обстоятельствами.
Сейчас трудно докопаться, что, собственно, случилось. Мы можем полагаться лишь на слова Бранда, а они в высшей степени туманны и загадочны. Я привожу их с той же предельной точностью, с какой сообщал обо всем, что предшествовало смерти Хакона Бранда. Однако я не собираюсь ни в какой мере толковать происшедшее.
Помолвка Бранда была в конце лета, свадьбу намечали сыграть в начале нового года. Все, казалось, шло так, как намечалось программой. Семейство Нильсен питало симпатию к энергичному молодому художнику. Белокурая Вера была счастлива и считала дни, оставшиеся до свадьбы. Сам Бранд пребывал в наилучшем расположении духа, был спокоен и уравновешен. Он усердно работал с утра до вечера. Писал красками, иллюстрировал и зарабатывал деньги. Тесть купил хороший участок земли, расположенный рядом с его поместьем, и готовился построить небольшую виллу для молодых — его свадебный подарок. «Вилла Оксфорд» — предполагалось назвать ее.
Никому и в голову не приходило, что могут возникнуть какие-либо осложнения. Никто не замечал за Брандом никаких странностей. Никто не слыхал, чтобы между обрученными пробежала черная кошка.
Ночь перед рождеством Бранд провел у родителей своей будущей жены. Это было, как утверждал Нильсен, «рождество в истинно датском духе». Восхитительная, вкусная рождественская еда. Дорогие подарки. Торжественное шествие в старинную церковь. По возвращении домой — пение рождественских псалмов.
Прислуге разрешалось войти и посмотреть па елку, каждый получил полезный подарок. Не забыли и птичек. На балконе и в саду поставили чудесные рождественские снопы.
Первый день рождества Бранд тоже провел с будущим тестем и тещей. И, как мне удалось узнать, был, по обыкновению, доволен и радостен. Собираясь вечером домой, он поцеловал Веру и сказал: «Спокойной ночи, мое сокровище».
— Это были его последние слова, — рассказывала Вера, рыдая.
На следующий день Бранд исчез. Он не дал о себе знать. Директор Нильсен свирепствовал, клялся, что свадьбе теперь не бывать.
— Все заберу обратно, — грозил он, — виллу и остальное! Не позволю безнаказанно дурачить себя и дочь!
А Вера плакала. Голубые ее глазки покраснели от непросыхающих слез. Исчез рыцарь ее сердца. Он ворвался в скучное, однообразное существование, подобно принцу из сказки о спящей красавице, и исчез.
О причине своего неожиданного исчезновения Бранд поведал мне. Между рождеством и Новым годом, к моему великому удивлению, я получил письмо от него, хотя, как я уже говорил, мы не виделись с Брандом все это время и не поддерживали никаких контактов. За исключением той короткой встречи в копенгагенском магазине, которую я уже описал.
Письмо было датировано: «Свенборг, 26/12». Однако на почтовой марке стоял штемпель Фредерисии. Почерк был неровный, неуклюжий, разобрать его было трудно. Встречались помарки, казалось, что автор был очень возбужден. А быть может, это обычный брандовский почерк. Ведь мне никогда прежде не приходилось получать от него писем.
Бранд писал:
«Дорогой Шерфиг!
Это случилось вновь... то, о чем мы говорили с тобой однажды, когда я жил в Копенгагене. Я теперь совершенно не пью. Я трезв и вполне нормален.
Ты должен помнить наш разговор в моей студии в Копенгагене. Я доверился тогда тебе. И я признателен, что при встрече в магазине, где я покупал краски, ты не обмолвился об этом.
Я рассказывал тебе о человеке, которого нет уже в живых и который сказал мне когда-то: «Тебе никогда не удастся убрать меня с пути».
Сейчас я опять нашел его. Вернее, я нашел это вновь.
Здесь, в Свенборге!
Мне здорово пришлось потрудиться, чтобы избавиться от него. Убрать его с пути. Теперь все уже сделано. Оно погребено. Ты знаешь, о чем я говорю.
Но я не могу больше сохранять спокойствие. Я думал, что все в порядке. Все складывалось так хорошо, я вскоре должен был жениться. Но вот это случилось вновь.
Если это повторится, я убью себя. Я не могу оставаться на месте. Я бегу. Я уезжаю. Заберусь куда-нибудь в глубь страны. Я еще не знаю, куда податься, но это все равно. Я должен бежать без оглядки.
Твой X. Б.»
Глава 15
Единственное, что я мог уяснить из письма Бранда, это то, что у него вновь появились галлюцинации и ему опять где-то в Свенборге почудился труп Вольбека. В третий раз.
Все это походило на сущий бред. Сомнений нет — парень свихнулся. Очевидно, его здоровье было так же неустойчиво, как и приверженность к «Оксфордскому движению».
Получи я это письмо в другое время или при других обстоятельствах, я отнесся бы к нему как к очередной браваде Хакона. Письмо было вполне в духе Бранда, который всегда готов пойти на все, лишь бы приковать к себе внимание.
Но в данной ситуации, когда Бранд покинул девушку, в которую был влюблен, на которой собирался жениться и которая в придачу была еще богатой, шутка показалась неуместной.
С какой стати ему понадобилось разыгрывать именно меня, когда у нас с ним давно уже кончены всякие отношения?
Он покинул не только Веру. Покинул и ту вольготную, спокойную жизнь, которая была так ему по душе, покинул добрых свенборгских меценатов, своих друзей по «Оксфордскому движению», свою строящуюся виллу. Разве пойдешь на все это только ради того, чтобы разыграть человека, с которым у тебя нет почти ничего общего?
Позже меня упрекали в том, что я не пошел с письмом Бранда в полицию. Раз он душевно болен и говорил о самоубийстве, его следовало разыскать и поместить в больницу.
Я нахожу эти упреки нелепыми. В то время я не имел возможности помочь Бранду. Не исключено, что больница пошла бы на пользу ему, но — как мне было поступить? Не мог же я тревожить полицию на том лишь основании, что получил глупое письмо!
Начнем с того, что, во-первых, о желании совершить самоубийство в письме не было сказано. Там только значилось: «Если это случится еще раз», — под чем подразумевалось столкновение в четвертый раз со злополучным трупом Вольбека. Во-вторых, Бранд не кончал жизнь самоубийством. Позже он делал несколько попыток, но избирал такие нелепые формы, что есть все основания усомниться в серьезности его намерения уйти из жизни. Во всяком случае, маловероятно, чтобы полиция приказала принудительно поместить Бранда в дом умалишенных только потому, что он послал мне сумбурное письмо.
К тому же у меня было куда меньше оснований вмешиваться в дела Бранда, чем у директора Х.-Н. Нильсена из Свенборга, а он-то пустил в ход все средства, чтобы разыскать беглеца.
Да это и не так трудно было. Его серую машину видели в нескольких местах, последний раз в Падборге, — он обращался в полицейский участок за паспортом и международными правами на вождение машины. Г-н Нильсен хотел, чтобы его незамедлительно арестовали и силой доставили домой, но полиция на это не пошла. Ведь люди в наши дни имеют право ездить куда им заблагорассудится. И это в полной мере относилось к Бранду. Если даже допустить, что он не в своем уме, нигде ведь не сказано, что он представляет угрозу общественной безопасности.
Исчезновение Бранда было предметом всяческих толков и пересудов в Свенборге. Чего только не говорили о сбежавшем почитателе «Оксфордского движения». Слухи ходили самые фантастичные. Дошли они и до переулка Фиулстреде в Копенгагене. Вот где воспрянула духом фру Друссе, почувствовала себя на седьмом небе.
— Я знала это! — говорила она, сверкая глазами. — Всегда знала. Нет, была убеждена. Он сбросил с себя колдовство этой гремучей змеи!
Под гремучей змеей она подразумевала белокурую фрекен Нильсен со вздернутым носиком.
— Любит он только меня! Он вернется ко мне! Я ждала его все время. И теперь он придет!
— Но вы ведь мертвы, фру Друссе!
— Мертва? Как так мертва? А ну-ка, поклянитесь, если можете!
— Да нет, зачем же, вы сами утверждали, что мертвы, прошлый раз, когда мы виделись. Это было в конце декабря, и это предсказал гороскоп, который вы составили сами.
— Смерти не существует — это только внушение. Человек не может умереть. Я живу сейчас, я жила в прошлых веках, много-много тысячелетий назад. Я помню древних египтян, народы майя, Атлантиду. Я сама была однажды принцессой инков. А Хакон Бранд — принцем инков. Его звали Амадафис.
— Амадафис? Занятное имя.
— Да, его звали так. О, каким прекрасным мне кажется это имя. Амадафис, Амадафис. Четыре тысячи лет назад. Разве я могла это забыть!
— У вас поразительная память.
— О, он вернется ко мне! Я знаю! Я жду его! О мой Амадафис!
И фру Друссе раскрывала объятия, точно готовясь принять в них невидимого принца инков.
Но Бранд не вернулся к фру Друссе.
Зато однажды он появился на вилле Нильсенов, словно ничего не случилось.
Не знаю, как он объяснил свое странное бегство разгневанному королю ликеров. Но Вера была счастлива. Значительно больше счастлива, чем на то были основания.
Вскоре состоялась свадьба. Их повенчал старый священник в старинной церкви, и событие отпраздновали в старинном кабачке. Затем молодые отправились в свадебное путешествие по старинным городам Европы.
После этого я ничего не слышал о Бранде. Не знаю, как протекало их свадебное путешествие. Но часто не без сочувствия я думал о белокурой Вере. По небольшой заметке, появившейся в прессе, о неудавшейся попытке Бранда совершить самоубийство в Венеции можно судить, что бедняжке пришлось немало пережить со своим эксцентричным супругом.
Об этом писали как итальянские, так и датские газеты.
Полгода спустя, когда я вновь повстречал Бранда, он все еще бережно хранил вырезки из газет об этом неудавшемся самоубийстве. И был преисполнен гордости оттого, что иностранная пресса писала о нем.
Правда, газеты описывали этот эпизод как юмористическое происшествие. Бранд решил покончить с жизнью громко и помпезно. Наняв гондолу, велел провезти его по каналам Венеции, чтобы, как потом заявил он репортеру итальянской газеты, «уйти из жизни, пресытившись созерцанием красоты».
Заплатив музыканту, чтобы тот стоял на корме, играл на мандолине и пел, пока гондола будет тихо скользить по воде, Бранд тут же распорядился направить гондолу к «Мосту прекрасного бюста». В свое время этот мост был излюбленным местом куртизанок, откуда они своими пышными бюстами соблазняли гребцов-венецианцев.
Когда гондола приблизилась к мосту, Бранд встал во весь рост и оглядел мир. Он поднял руки, прокричал что- то непонятное и под неумолкающие звуки мандолины бросился в зеленую воду.
Зрелище это наблюдала большая толпа. Бранда приветствовали восторженными криками и хлопанием в ладоши: ведь глубина канала едва достигала метра.
Бранд старался все время держать голову под водой, но когда не хватало воздуха в легких, он подымал голову, глубоко вдыхал и вновь погружался в воду.
Все же под конец ему пришлось вылезть из воды, и под громкие аплодисменты он поплелся к берегу, где его уже ждал полицейский патруль. Проверив имя и адрес, его препроводили в отель. Позже, как сообщалось в газетах, Бранду пришлось уплатить штраф, так как во время этого происшествия он был в сильном подпитии. Итак, Бранд покончил и с трезвенностью.
Газеты были достаточно тактичны и не упомянули, что на столь странные эксперименты он пустился во время своего свадебного путешествия. Ни о молодой фру Бранд, ни о том, как Вера отнеслась к эксцентричной выходке своего супруга, не было сказано ни слова.
Вскоре, после того как мне попалась заметка обо всем этом, я уехал в Париж. И позабыл о Бранде.
Глава 16
Впервые я прибыл в Париж в марте. Каштаны на бульварах готовились вот-вот распустить почки. Дети играли в скверах. Небольшого роста забавные мужчины с удивительными бородами сидели в кафе, расположенных на тротуарах, и потягивали аперитив. Красивые зеленые омнибусы мчались по улицам и мостам.
Все было так, как и в мой последний приезд в Париж и как должно быть всегда.
Тут же на тротуаре расположились силачи в красных трико со своими гирями. Они играют мускулами, подбегают к гирям и клянутся, что готовы поднять тысячу килограммов, если зрители не поскупятся. Когда же доходит до дела и на маленьком коврике оказывается изрядное количество су, они, шумя и жестикулируя, подымают самую маленькую гирю. Приземистые полицейские на перекрестках, ловко размахивая жезлом, запальчиво переругиваются с шоферами и целуют девушек, перебегающих улицу.
Консьержки при появлении солнца выставляют складные стулья на тротуар и лихорадочно вяжут, время от времени награждая своих ребятишек подзатыльниками.
В крошечных общественных уборных элегантные мужчины вежливо раскланиваются из-за перегородки со знакомыми дамами, проходящими мимо.
Старые подслеповатые женщины и мальчишки обходят почтовые ящики и вынимают письма. В летнее время мальчишки затевают драки, и тогда письма летят во все стороны. Некоторые почтовые ящики они не замечают, что вовсе не мудрено: те прикреплены на высоте не выше колена и закамуфлированы до неузнаваемости. Одна газета писала, что на такой маленький почтовый ящик наехала как-то автомашина. Оказалось, что из него не вынимались письма в течение тридцати лет, но теперь все они разобраны, рассортированы и будут доставлены адресатам, поскольку, как заверяла газета, все они так и живут по старым адресам.
На набережной Сены терпеливо стоят мужчины с удочками, устремив взгляд в светло-желтую воду. Поймать им ничего не удается.
Нищие старухи с усами, в причудливых лохмотьях, спят на набережной или под мостами или же, расположившись на тротуаре, пьют красное вино, заедают черствой пшеничной булкой, греются в лучах солнца. Нередко можно увидеть, как одна из них, настелив газету в сточной канаве, отправляет свои надобности, и это не вызывает ни у кого удивления.
Вдоль бульваров расхаживают почтенные пожилые господа в цилиндрах и фраках с красными орденскими лентами, в зеленых плюшевых туфлях,
В ресторанах элегантные дамы со своими детишками потягивают ликер, играют с ними в карты — на деньги.
На стенах домов и дощатых заборах висят плакаты величиной с человеческий рост. При помощи этих так называемых «открытых писем» политические деятели переругиваются друг с другом: «Вы альфонс, г-н министр! Вы живете за счет женщин!» — и ниже приводится выдержка из личного письма подруги министра. «Вы — неграмотный болван, г-н редактор! — отвечает на выпад министр в другом плакате. — Вы — корсиканский бандит, не умеющий ни читать, ни писать. Вы подкупаете других бандитов, чтобы те писали ваши оскорбления, слабоумный». И тут же ответ редактора на продолговатом плакате: «Вы — каналья, г-н министр! Вы — зверь!»
В Люксембургском саду пожилые господа сосредоточенно играют в крокет или пускают игрушечные кораблики в пенистую воду фонтана. Все они — рыцари Почетного легиона.
На некоторых перекрестках бородатые мужчины продают свежезажаренный картофель в пакетах из вощеной бумаги.
А на другом углу развязные девицы делают сногсшибательные предложения проходящим мужчинам.
Красивые смуглолицые марокканцы с белыми зубами и орлиными носами величественно шествуют от кафе к кафе, пытаясь всучить туристам шкурки каракуля и уродливые коврики.
Крестьяне с Пиренеев, страдающие малярией, в костюмах разбойников и широкополых шляпах, бродят вокруг, волоча за собой крохотных осликов и возвещая о продаже глиняных горшков и кувшинов в форме курицы.
Стекольщики, толкая впереди себя деревянные тележки, оглушают зычными выкриками округу, предлагают оконные стекла тем, кто в пылу супружеских размолвок перебил вдребезги свои окна.
«Либерте-эгалите-фратерните — свобода, равенство, братство» — гласит плакат на ломбарде и других официальных зданиях.
Из открытых окон идет запах подгорелого масла и жареного картофеля, видно, как обитатели домов смеются, жестикулируют и ведут через улицу оживленную дискуссию. Пахнет овощами, бензином и теплым асфальтом. Парижские кошки тоже вносят свой вклад в общую гамму городских ароматов.
Легкий сиреневый туман висит над Парижем. Окутанные этой прекрасной дымкой очертания домов, крыш, дымоходов приобретают мягкие контуры.
Я медленно бреду по улице с небольшим чемоданом в руке, жадно вдыхаю воздух, преисполненный радости свидания с городом.
Меня останавливает невысокого роста человек в синей блузе. Он просит огня для сигареты. Получив его, спрашивает:
— Не испытываете ли вы жажды, мсье?
И мы вместе заходим в соседнее бистро.
Глава 17
Я жил в маленьком дешевом отеле за Сорбонной, расположенном на такой узкой улочке, что доплюнуть до другой стороны не составляло большого труда. Хозяин величал его «Гранд-отель». Хозяина звали мсье Лу. Целыми днями просиживал он в крошечном отгороженном закутке и что-то жевал. Французы, содержатели гостиниц, почему-то все время что-то жуют. В какое бы время дня я ни заглянул в каморку мсье Лу, картина всегда одна и та же: он сидит за столом, перед ним длинный батон, салат и красное вино. У мсье Лу большие черные усы и черная щетина на остальной части лица. Ходит он всегда в сером жилете и в рубашке без воротничка.
Отель был замечательный. В моей комнате стояла зеленая плюшевая софа, красное плюшевое кресло и на полу темно-коричневый ковер. Обои в красных розах и голубых тюльпанах, большое зеркало; лежа на кровати, человек видел себя в самых удивительных положениях.
Окно доходило почти до пола. Заржавелая металлическая решетка перед окном из предосторожности привязана веревкой, чтобы не свалилась и не угодила в прохожих. Голова всегда немного кружится, когда наклонившись смотришь на узкую улочку, где всегда происходит что-нибудь интересное.
Хорошо было сидеть у открытого окна, покуривая трубку. На противоположной стороне улицы у окна время от времени показывалась девушка, с которой можно было обменяться шутками.
Мсье Лу был отменный хозяин, он неустанно пекся о здоровье своих постояльцев.
— Вы не ночевали вчера дома? — спрашивал он. — Почему же? Неужели кровать в вашей комнате недостаточно широка? Почему же вы не приглашаете свою подругу к себе? Это значительно удобнее!
Отель мсье Лу был истинно парижским, потому что все в нем как бы рассыпалось по частям. В лестнице отсутствовала ступенька. И всякий раз, подымаясь или спускаясь, постоялец слышал предостерегающий крик мсье Лу. Так было и четыре года назад, когда я останавливался у мсье Лу. Никому и в голову не приходило починить ее.
Нередко попытка включить электрический свет кончалась замыканием, и человек только радовался, что его не убило током наповал. Когда вы пробовали открыть дверь, отваливалась массивная ручка, вставить же ее обратно оказывалось невозможным.
Стоило в определенном месте потянуть за цепочку, как она обрывалась. Или тебя неожиданно окатывало водой. Или, бывало, защелкивалась дверь, и потом зови на помощь, чтобы выбраться.
Иногда мсье Лу выходил из своего укрытия и посыпал в коридорах желтый порошок с ужасным запахом. Считалось, что он хорошо помогает от клопов, я же опасаюсь, что паразиты поедали его в свое удовольствие.
Постояльцы отеля как-то не были видны. Это были главным образом иностранцы, студенты Сорбонны.
Жил здесь один англичанин — он часто падал на лестнице из-за отсутствующей ступеньки, в остальном же, будучи постоянно в подпитии, вел себя на редкость спокойно. В комнате подо мной жил румынский студент. Мадам Лу рассказала, что он безумно влюблен в девушку из дома на противоположной стороне улицы и что уже не один раз говорил о самоубийстве. Так что мне не следует пугаться, если я услышу выстрел внизу. Это всего лишь румын. Бледный молодой человек с угольно-черными волосами. Он так глубоко вздыхал, что его вздохи были слышны на лестнице.
Жил здесь и американец, который по ночам играл на банджо. Но его комната была далеко от моей, и ко мне доносились лишь слабые звуки. Просыпался же я часто по ночам из-за скандалов, которые устраивала супружеская пара французов из провинции. Правда, они называли это диспутом. Поначалу мне казалось, что они убивают друг друга, и я хотел мчаться на помощь, но мсье Лу заверил, что так далеко там не заходит. Всего-навсего «диспут».
Мсье Лу обожал называть свой отель «семейным». Под этим он, видимо, подразумевал, что со всей работой в отеле вполне справлялось его собственное семейство.Единственным служащим был маленький человечек в зеленом переднике, который убирал комнаты, разносил по утрам шоколад и охотно присаживался на край кровати, чтобы рассказать малоприличный анекдот.
Мадам Лу была необычайно остроумна и бойка, она обучила меня французскому языку куда лучше, чем сумел вколотить мне в голову учитель на протяжении ряда невыносимых школьных лет. Она была удивительной женщиной. Надо было только посмотреть, как трогательно относилась она к своему семилетнему сынишке Андре. По воскресеньям она надевала на него красивую матроску с белым шнурком и шелковым воротником, красную шапочку с большим помпоном. Семейство Лу усаживалось на стулья, стоящие вдоль узкого тротуара, и смотрело на проходящую публику.
А в иное летнее воскресенье мсье Лу надевал воротничок, и тогда все семейство отправлялось на трамвае в Булонский лес, возложив всю ответственность за отель на маленького человечка в зеленом переднике.
Я очень привязался к семейству Лу. И рекомендую его отель с самой лучшей стороны. Если мне доведется вновь приехать в Париж, то я обещал мсье Лу опять остановиться у него, несмотря на все случившееся.
Не его вина, что мое пребывание окончилось таким пренеприятнейшим образом. Не было и моей вины в этом. Виной всему оказался Хакон Бранд.
Глава 18
Знай я, что Бранд в Париже, ни за что бы не поехал туда. Ни с кем на свете я так не избегал встречи, как с Брандом.
Это от другого датского художника, которого я случайно встретил на бульваре Сен-Мишель, я узнал, что Бранд в городе. Все еще продолжал свадебное путешествие. Похоже, что ему трудно вернуться назад в Свенборг, к размеренной мещанской жизни в семейном кругу под пристальным надзором г-на Х.-Н. Нильсена.
— Не можешь себе представить, до чего он невыносим, — сказал мой соотечественник. — Умирает от скуки, поэтому от него не отвязаться. И при этом важничает, с презрением говорит обо всем здешнем. Время от времени куда-то пропадает, чтобы «познавать» жизнь, как он говорит. Он живет с женой в дорогом отеле на широкую ногу. Но нередко несчастной приходится сидеть одной дома, когда он отправляется в эти самые «познавательные» прогулки. Когда пьян, рассказывает о своих похождениях в борделях. Можешь представить, каково это выслушивать! И потом неожиданно превращается опять в почтенного господина. Чинно ходит с женой в датскую церковь, разглагольствует о грехе и свинстве в больших городах. То ли дело Свенборг, там все по-иному! А в общем, скорее напоминает прежнего Бранда. Только уж очень растолстел. К тому же отрастил окладистую бороду и носит берет, чтобы походить на француза.
— Где он живет? Надеюсь, не здесь, поблизости? Может быть, перебраться в другую часть города?
— Нет, его отель около площади Этуаль! Роскошный, в современном стиле. Сейчас там только его жена. Он же обитает где-то на полпути к Версалю. Живет под крышей какой-то деревянной башни. Просто бред. Притом хочет вернуться к жене, непрестанно говорит о ней. Но, должно быть, не может решиться. Ничего себе свадебное путешествие! Несчастная девочка!.. Не думаю, чтобы тебе удалось избежать встречи с ним. Я его встречал много раз. Он так радуется встрече с соотечественниками, с которыми может отвести душу, говорит, говорит без умолку. Отделаться от него почти невозможно.
— О чем же он собственно говорит? Его что-нибудь тревожит?
— Нет, он говорит о себе. О своей бессоннице. О своих пьянках. О своих похождениях в борделях. О своей жене. И потом вдруг становится сентиментален, морализирует.
— Пожалуйста, не проговорись, что я здесь!
— Ну конечно, само собой разумеется...
В Париже жило более ста тысяч художников. Казалось, можно избежать того единственного датчанина, встреча с которым была тебе ни к чему. Тем более что ты заранее предупрежден о такой возможности и можешь принять меры. Но опыт показывает, что встречаешь всегда именно тех, кого меньше всего хочешь видеть, даже в городе с трехмиллионным населением при всех принятых предосторожностях.
Большинство из ста тысяч художников, обитающих в кварталах Монмартра, — иностранцы, из них, пожалуй, только тысяча по-серьезному заняты живописью. Остальные стараются выглядеть сверхгениальными и ведут себя в высшей степени эксцентрично.
Нестриженые волосы, борода и длинные ногти — вот что необходимо, чтобы обрести мало-мальский престиж в кафе «Дом» или «Купол». Здесь можно увидеть самые причудливые способы отращивания волос. Буйные девственные, нетронутые чащобы, где птицы небесные могли бы преспокойно вить гнезда. Или тщательно ухоженные бороды, подстриженные на манер самшитовых кустарников в старинных голландских садах.
Ну, конечно, гениальность можно подчеркнуть и другим способом.
Один художник решил, например, вдеть кольцо в нос и, представьте, стал знаменит и почитаем!
Один скульптор всегда ходил босой, в тоге и рассуждал о теософских проблемах.
Раймонд Дункан, брат прославленной Айседоры, расхаживал в купальном халате и сандалиях, его постоянно сопровождали ученики и ручные козы.
Жан Тулип, автор криминальных произведений, целый день неподвижно сидел в кафе, придумывая потрясающие драмы с убийствами, которые потом ночью записывал на бумагу. У него также была великолепная борода, широкополая шляпа и неизменная домотканая накидка, которую он носил зимой и летом.
Датский художник, побывавший однажды в Гренландии, разгуливал по бульварам в наряде эскимоса, меховой куртке с башлыком, мокасинах, или как там они называются. Страдал он в летнюю пору невыносимо, но не напрасно — обратил на себя всеобщее внимание. Говорили, что он прячет свою байдарку под мостами Сены и что однажды гарпунировал полицейского.
Американская художница, чьи натюрморты едва ли были известны узкому кругу в Гринич-Вилледже, сделала татуировку на ногах и добилась, чтобы их засняли для международного фотоагентства. Таким образом она была представлена своими отдельными частями на последних страницах некоторых европейских и американских газет.
Если кому удастся напялить туфли на голову и ходить в шляпе на ногах, тот может быть спокоен: известность и почет обеспечены ему во всех кафе Монмартра.
Мне следовало предвидеть, что я встречу Бранда именно в этой среде. Он должен чувствовать себя как рыба в воде среди таких сверхгениальных личностей, несмотря на «Оксфорд», супружество и обывательскую респектабельность.
Глава 19
Был поздний вечер. Я сидел перед рестораном на Больших бульварах, пил белое вино и наслаждался жизнью. Магазины закрыты, на витринах и входных дверях спущены металлические жалюзи. Но движение так же интенсивно, как днем. Толпы людей заполнили тротуары. Мимо проносились машины, омнибусы.
В маленькой лавчонке напротив ресторана жалюзи были спущены не до конца. Оставался просвет примерно в полметра, можно вползти или вылезть, если проделать эту операцию, распластавшись на земле.
Вдруг я увидел хозяина лавчонки — невысокого роста мужчину с красивой козлиной бородкой: он в ночной рубашке выползал из-под полуспущенных жалюзи, В руках он держал пустую бутылку из-под вина. Рубашка доходила до колен, открывая худые кривые ноги.
Не вызывая никакого удивления, он пробирался через толпу на тротуаре, ловко маневрируя на широкой улице среди машин и омнибусов. Босоногий, в развевающейся вокруг тощих ног рубашке, он вошел в ярко освещенный ресторан. У стойки ему наполнили бутылку вином, и при этом никто не обратил на него внимания.
— Боже, да он же в ночной рубашке! — воскликнул я, обращаясь к своему соседу.
— Ну да, мосье. В ночной рубашке. Именно. — И он покачал головой, дескать, уж эти странные иностранцы, их всегда удивляют такие обычные вещи.
А тем временем мужчина получил свою бутылку, наполненную доверху вином, спокойно и невозмутимо прошел на цыпочках по ресторану, вышел из помещения и пересек улицу. Затем лег наземь и прополз внутрь под жалюзи, опустив их за собой. Одному богу известно, что там происходило за ставнями.
И правда, что удивительного в прогулке по улице в ночной рубашке? Ничего особенного. Я забыл, что нахожусь в Париже. Здесь такие вещи происходят постоянно.
Я невольно подумал о Бранде: должно быть, нелегко ему обратить на себя внимание в этом городе. Бог знает, что он может еще изобрести...
И стоило мне только подумать о нем, как я увидел его лицо в толпе на тротуаре. Несмотря на окладистую бороду и берет, я тотчас же узнал его. И не успел спрятаться. Он заметил меня и бросился к моему столу.
— Вот это да! Ты здесь? Я и не подозревал. Как здорово! Ты не представляешь, как я рад встретить человека, с которым можно поговорить!
Ну, пропала теперь моя спокойная жизнь!
Бранд был куда любезнее, чем тогда, при нашей последней встрече в магазине красок.
— Я так одинок здесь. Терпеть не могу этих французов. По-настоящему рад, что встретил тебя. Ты давно здесь? Почему не навестил меня?
— Ты же в свадебном путешествии, как же это одинок?
— Видишь ли, какая история — мне нужно немного изучить Париж. Самому, понимаешь? Не могу же я брать с собой Веру в малопристойные места. Она не должна и подозревать, что такие вещи существуют. Ну а теперь я зашел слишком далеко. Стал много пить.
— Ты больше не трезвенник?
— Нет, отнюдь. В этом нет никакой необходимости. Я следую моде. К тому же как можно изучать ночную жизнь Парижа, сидя в ресторане и потягивая молоко? Беда только, не могу остановиться. И теперь мечусь, как неприкаянный, как комета. Мне бы нужно вернуться к Вере. Она, наверно, в панике. И ей почти невозможно объяснить, что случилось. В общем, наше свадебное путешествие подходит к концу. Самое время готовиться к отъезду в Свенборг. Новый дом уже готов. Красивый дом, можешь поверить. Ты должен навестить нас, когда вернешься домой. Познакомишься с моим тестем. Колоритная личность. Вера... Позволь, ты ведь еще не знаком с ней!
— Я подожду, пока ты сам вернешься к ней. Где она сейчас? Одна в гостинице?
— Да. И это ужасно. Сидит одна и ждет. Наверно, плачет все время. Это просто преступно! Нужно непременно вернуться, только чертовски трудно. Пора думать о возвращении. Свадебное путешествие и так затянулось.
— А я-то думал, что вы в Италии.
— Я был там. Разве ты не читал обо мне в газетах?
— Читал. Потому и спрашиваю. Ты там отличился в Венеции.
— Сейчас увидишь. Вырезки при мне.
Бранд возбужденно рылся во внутренних карманах. Он действительно носил при себе вырезки из газет, где описывалась его смехотворная попытка самоубийства в венецианских каналах. Оказывается, он не расставался с вырезками, перечитывал их несметное число раз и теперь знал наизусть. Они были потрепаны и зачитаны.
— Но я не знаю итальянского.
— Ничего. Я переведу. Смотри, эта газета исказила мою фамилию. Ну, не нахальство?!
— Да! Неслыханное!
— Но зато все они пишут: известный датский художник, живописец. Гляди сюда: один из наиболее значительных датских художников — эксцентричный и своеобразный. Правда, хорошо?
— Восхитительно!
— Такова была судьба и Ханса Кристиана Андерсена. Его гениальность сначала открыли за границей.
— Он тоже родом из Фюна.
— Точно.
Некоторое время мы сидели молча. Бранд вновь перечитывал свои вырезки. Закончив это занятие, он сложил их бережно, спрятал, словно денежные знаки или ценные облигации. Я подозвал официанта и расплатился. Бранд ничего себе не заказывал.
— Ты ведь не собираешься уходить? — спросил он испуганно.
— Почему же нет? Я устал изрядно. Мне пора домой, в постель.
— Устал! Знал бы ты, как я устал! Почти не сплю.
— Та же история, что и в Копенгагене. Мы постоянно слышали, как мало ты спишь.
— Оставайся, посидим еще немного! Слышишь?
— Нет, мне пора. Увидимся как-нибудь в другой раз.
— Да, конечно. Позволь, а где ты живешь?
— Я живу, гм, в... отеле. А ты где живешь?
— В башне. В ужасной, наводящей страх башне. Это за городом, в Шаволье. Туда можно добраться на поезде. Но в Шаволье ходит и трамвай — зеленый трамвай.
Он начал подробно объяснять, как найти его башню. Ее нельзя не найти. Она видна издалека. Четырехугольная большая деревянная башня.
Мы договорились, что я приеду к нему на следующий день. К тому же мне действительно захотелось взглянуть на его мистическую деревянную башню.
Глава 20
Бранд и вправду жил в башне. Не мог же он жить, как все остальные. Он должен выбрать для себя жилье самое неудобное и странное.
Им оказалась высокая четырехугольная деревянная башня, в двух нижних этажах которой размещался кабачок, довольно милый, уютный, с балконами. Но, чтобы попасть в жилище Бранда, приходилось карабкаться по крутой лестнице, а потом пробираться и балансировать между балок и стропил.
Не понимаю, как это Бранд не сломал себе шею, когда пьяный возвращался домой. Удивительно, как он уцелел и не размозжил голову о балки.
Комната, огромная и совершенно пустая, скорее походила на чердак для сушки белья. Кровать и небольшой чемодан. Небольшой новый чемодан, купленный накануне. Стены, потолок — некрашеные, доски имели серовато-черный цвет. Всюду царило запустение. Во всех четырех стенах по маленькому окошку, но они не открывались и были так грязны, что не пропускали света.
— Теперь тебе понятно, что не бояться здесь нельзя? — спросил Бранд.
— Конечно, но позволь, почему ты избрал такое странное жилище?
— Я полагал, что тут тихо, можно спокойно спать. В отеле, где я остановился вначале, было слишком шумно. Совершенно случайно я наткнулся на это место. Я иногда заглядывал в кабачок, что внизу. Однажды так упился, что не мог двигаться. И хозяин разрешил переспать здесь. Вот я и остался. Плачу сто пятьдесят франков в месяц. Вид отсюда замечательный. Вот если бы открыть окна!.. Но по ночам все скрипит. Балки, лестницы, пол, стены, потолок — все скрипит и стонет. А когда подует ветер, даже незначительный, крышу сотрясает грохот и гул. Нет света. Я обхожусь огарком свечи. А когда нападает страх, никак не найти спички. В твоей гостинице есть электрическое освещение?
— Конечно.
— Послушай-ка, знаешь, что я надумал? Не перебраться ли мне к тебе в отель? Я хочу жить там, где нужно только нажать выключатель, чтобы появился свет, когда мне станет страшно. Решено, я переезжаю туда.
— Позволь, электрический свет есть во всех отелях. Тебе не к чему поселяться именно в моем. Я даже не знаю, есть ли там места.
— Попробуем. Я думаю, там хорошо. Ты такой спокойный, наверняка хорошо спишь по ночам.
— Как тебе сказать. В моем отеле довольно шумно. Я сам собираюсь оттуда съехать.
Я сражался изо всех сил, чтобы защитить от Бранда уютный маленький отель мсье Лу. Даже пошел на то, что оклеветал его. Но все бесполезно.
— Шум по ночам, который производят люди, ничего не значит. А здесь он возникает сам по себе. Это все древесина. Она скрипит, стонет, плачет во всей башне без вмешательства человека. Я лежу в этой дьявольски огромной комнате и покрываюсь потом от страха. Ночью тут нет ни души. Хозяин с женой живут в доме далеко отсюда.
— Отправляйся-ка ты к жене. Ну чего слоняешься где попало? Глупо! Чем дольше ты задержишься, тем труднее будет возвращаться.
— Я собираюсь вернуться домой. Только не сейчас. Надо передохнуть день-два, привести немного в порядок голову. Я ведь нигде не могу уснуть!
— Почему тебе не попытаться принять снотворное? Поговори с врачом, пусть пропишет что-нибудь.
— Ха-ха! Снотворное! Ты думаешь, оно избавит от страха?! Я сам не позволю себе уснуть! Всякий раз, как начинаю засыпать, вскакиваю. Я замечаю: когда начинает исчезать сознание, наступает какое-то странное состояние. Будто я исчезаю, превращаюсь в ничто. Тогда я встаю с постели и принуждаю себя бодрствовать. Уснуть — это словно войти в пустую комнату. Словно раствориться и рассеяться. Я смертельно устал, но я боюсь уничтожения. Я крепко держусь за существование, цепляюсь за жизнь.
— Ты хочешь сказать, что не засыпаешь преднамеренно?
— Вовсе нет. Я хочу уснуть. Но всякий раз нападает этот страх. Как бы тебе сказать, я боюсь оборвать связь с сознанием. Не позволяю себе провалиться в это «ничто». Всякий раз, когда мне кажется, что я как бы исчезаю из действительности, я приподымаюсь на постели. Понимаешь, я чувствую это. И тогда начинает колотиться сердце, раскачиваются стены, потолок, вся башня... Но я уверен, я мог бы спать, если бы жил в нормальном помещении. Я перебираюсь к тебе. Немедленно. Подожди минутку! Я спущусь к хозяину, переговорю с ним. Он очень славный.
Бранд исчез. Я ждал его в этом страшном жилье. Он прав, тут все скрипело. Должно быть, по ночам, когда человеку нужно спать, не очень-то здесь приятно. Неприятно еще и потому, что окна не пропускают света. Но тут уж вина Бранда, он мог бы помыть стекла или попросить хозяйку сделать это.
Заскрипели ступени. Возвращался Бранд. Он сиял от удовольствия.
— Все улажено! Я переезжаю, забираю чемодан, и мы можем идти.
Остановить его было невозможно. Бранд ходил, пританцовывая от радости. Он подобрал в углу какую-то грязную тряпку, вытер ею чемодан, присел на него, чтобы закрыть. Потом мы вместе стали ощупью спускаться вниз.
Немного погодя мы уже сидели в зеленом трамвае. Подумать только, Бранд будет жить в моем маленьком, очаровательном отеле!
Глава 21
Бранд получил комнату этажом ниже, подо мной. Рядом с румынским студентом, страдающим от неразделенной любви. Казалось, вначале он чувствовал себя хорошо, несмотря на недостающую ступеньку в лестнице и прочие мелкие неудобства «Гранд-отеля» мсье Лу.
По утрам я старался тихонько проскользнуть на улицу, чтобы избежать встречи с ним. Мне, как правило, это удавалось. Бранд не слышал тех, кто рано вставал.
По вечерам было труднее. Бранд питал отвращение к постели, спать не ложился и жадно искал собеседников. Требовалась искусная изворотливость, чтобы пройти в комнату незамеченным. Почти каждый вечер он был пьян, сносить его болтовню не доставляло особого удовольствия.
Но не прошло много времени, как он начал жаловаться. Он, дескать, и здесь не может уснуть. Румын в соседней комнате стонет по ночам, что ничуть не лучше скрипящих балок в деревянной башне.
Англичанин каждый день падал с лестницы. А однажды он летел так, что сорвал половину перил. Причем грохот был такой, что мсье Лу не на шутку перепугался в своей каморке, где он, по обыкновению, сидел и ел.
— Что за чертовские порядки в этом проклятом отеле! — свирепствовал Бранд. — Часы стоят. Дверные ручки отваливаются. Умывальник расколот. Электричество всегда неисправно. Ведь я только из-за света перебрался сюда! Среди бессонной ночи я хочу включить свет, нащупываю выключатель, но только дотронусь — сыплются искры, а света нет! Это дом с привидениями. Тут и рехнуться нетрудно!
— Ваш соотечественник беспокойный человек, — сказал мне мсье Лу. — Ну и нрав у него! Вы бы посоветовали ему быть чуточку поспокойнее.
Много раз я пытался уговорить Бранда вернуться к бедняжке Вере. Она, по его предположению, все еще сидит в гостинице и льет слезы. Ну конечно, он хочет вернуться! Как я дурно думаю о нем! Но не сегодня. Прежде ему нужно выспаться как следует, хотя бы один день. Привести нервы в порядок.
— Ты не представляешь, что за удивительная жена Вера! Не могу же я появиться у нее в таком нервном состоянии. Мне нужно немного успокоиться. О милая Вера! Сейчас она сидит и плачет. Но я вернусь к ней непременно. Вскоре мы опять заживем в нашем дорогом Свенборге. В нашем новом домике. О, какое счастье вырваться из этого проклятого города! Вот бы только поспать!
Я советовал ему переехать в другую, лучшую гостиницу, где больше удобств. Но он отверг мой совет.
Я рекомендовал ему уехать. Куда угодно, ну, скажем, на побережье, в Бретань, где он мог бы по-настоящему отдохнуть и успокоиться. Еще лучше — в Гренобль, в горы. Что может быть лучше горного воздуха для больных нервов!
Но прежде всего, конечно, ему нужно связаться с женой! Хотя бы позвонить ей.
Нет, нет. Он никуда не уедет. На побережье легко утонуть. В горах обычно люди страдают от головокружения. Нет, он останется здесь. А что касается его жены, то мне не следует вмешиваться в его личные дела. Он любит Веру, и она любит его. Они — самая счастливая пара на свете. Вот как только у него наладится сон, он пойдет к ней, и они вместе уедут в Свенборг. Но звонить — это невозможно. Должно быть, я не знаю, что такое французский телефон!
Избавиться от мучительного общества Бранда трудно не только в отеле. С ним сталкиваешься буквально на каждом шагу в этом квартале. Он посещал все без исключения кафе и кабачки в поисках собеседников. Ему все страшнее и страшнее становилось одному, и он говорил без умолку. Он и внимания не обращал на то, что каждому хотелось посидеть наедине с девушкой, без посторонних. Он был человеком назойливым и маловоспитанным.
Позже мне стало ясно, что мне самому следовало бы уехать отсюда, и немедленно! Но из-за бедной Веры, которую я даже не знал, не мог я допустить, чтобы Бранд вел себя так безрассудно. Я сочувствовал ей. Должно быть, это кроткая и терпеливая душа. Но что я мог сделать? Не мог же я по собственной инициативе посетить даму, с которой не знаком, и выложить все о похождениях ее мужа. Единственное, что оставалось, это ждать, когда Бранд немного успокоится и сам пойдет к жене. Он твердо обещал сделать это, как только у него наладится сон.
За все время пребывания в Париже Бранд ничем не занимался. Не написал ни единой картины, не сделал ни единого рисунка. Он нисколько не интересовался художественными выставками. Не посетил ни единого музея.
Наоборот, он предавался самым странным развлечениям и посещал самые мрачные из всех парижских достопримечательностей.
Он несколько раз побывал в морге и всякий раз возвращался оттуда сильно взбудораженный.
— Я хочу, чтобы меня сожгли, когда я умру! — требовал он. — Не желаю быть трупом. Я не хочу своим отвратительным видом вселять в людей страх и ужас. Теперь я не утоплюсь. Ты не можешь представить, до чего отвратительны утопленники. Как хорошо, что меня постигла неудача тогда в Венеции.
— Ну да. Ты бы не смог прочитать, что писали газеты по поводу этого события, — ответил я. — Обидно будет за тебя, когда ты действительно умрешь: ты не сможешь прочитать некролог и показывать его всем встречным.
Бранд посетил и крематорий. Он даже попросил показать ему весь процесс. Все увиденное произвело на него страшное впечатление.
— Трупы катятся вниз по рельсам в маленьком вагончике. Их сбрасывают в топку, где температура несколько тысяч градусов. Гроб и все остальное превращается в белый порошок. Как мел. А человеку, который это демонстрирует, — все нипочем: он ухмыляется, показывает пальцем... Я ни за что не хочу превратиться в пепел!
Бедняга Бранд не хотел быть трупом после смерти и не хотел, чтобы его сожгли. И рассказывал он мне все это всего за два дня до своей смерти.
Глава 22
Меня удивило, что Бранд ни разу не вспомнил о Вольбеке, не намекнул на свое письмо или наш прежний разговор. Но мне показалось, что мысли его постоянно вертелись вокруг этого.
Однажды вечером меня постигла неудача: я зашел в кафе, где сидел Бранд. Я сразу заметил, что он сильно пьян. И напоминает Бранда старых времен, завсегдатая «Пивного двора». Только здесь он пил не пиво, а сладкое зеленое «перно». Бывший трезвенник вливал его в себя, словно то была подслащенная водица, а не сорокапятиградусный напиток.
Час был поздний. Я не знал, когда закрывают это кафе, возможно, оно вообще не закрывалось. В Париже есть такие кафе, которые работают круглосуточно еще со времен великой революции.
Хозяйка мела пол, задевая ноги посетителей. Официант поливал пол водой. Но кафе не закрывалось, и, судя по тому, с какой неприязнью они поглядывали на Бранда, я догадался, что его хотят выставить.
Это было неподалеку от нашего отеля, и я решил увести Бранда. Но об этом не могло быть и речи! Он будет сидеть здесь всю ночь!
— Тебя сейчас выставят, — сказал я. — Хозяйка не даст тебе больше ничего.
Целая шеренга подставок на его столе говорила о том, что он выпил уже предостаточно.
— Пошли. Я провожу тебя домой!
Нет, он не решался. Точно так, как в тот раз в «Пивном дворе». Он дрожал от страха.
— Я не могу спать. Я не могу оставаться один. Я не выношу темноты.
Подошла хозяйка.
— Если вы знаете этого господина, уведите его отсюда! Мы не хотим терпеть его больше здесь. Если он не уйдет, я позову полицию!
— Слышишь, Бранд? Она хочет вызвать полицию. Поторапливайся!
Полиции Бранд тоже боялся. Он с трудом поднялся. Мне пришлось поддерживать его. Но домой он не хотел идти.
Нет, нет, нет. Ни за что на свете. Он боится оставаться один.
— Я снова найду то самое. Ты знаешь, что я имею в виду. То, что нельзя спрятать, то, что я хочу убрать с пути.
Его лихорадило. Быть может, он серьезно болен, а не только пьян. Глаза неестественно блестели, он дрожал, зуб не попадал на зуб.
Я пообещал довести его до комнаты. Даже остаться у него. Возможно, ему удастся уснуть, когда я буду сидеть рядом. Могу устроиться в плюшевом кресле.
Он немного успокоился.
— О да, если ты действительно останешься со мной, возможно, я смогу уснуть! Но ты не должен покидать меня!
Я обещал остаться. При одном условии: на следующий день он отправится к жене. Он согласился. Он готов был пойти на все, лишь бы не оставаться одному.
С некоторыми трудностями мы вошли в гостиницу. Замок входной двери, конечно же, оказался не в порядке. Мсье Лу, как обычно, сидел в своей каморке и ел. Рядом с бутылкой красного вина на столе стояла стеариновая свеча. Значит, электричество не работало.
— Пожалуй, вам без свечи не добраться, господа, — сказал мсье Лу и протянул нам по небольшому огарку.
Бранда буквально пришлось тащить вверх по лестнице в том опасном месте, где отсутствовала ступенька. Его комната точь-в-точь походила на мою: покрывало, кисти, зеркало... Я сел в кресло и прикрылся покрывалом. Стучащий зубами Бранд, ежась от холода, забрался в широкую постель.
Мы погасили свечи, и вскоре я задремал.
Но Бранд не спал.
— Я хочу пить, — проскулил он. — У меня жжет в горле, будто я хлебнул соляной кислоты. Дай попить воды.
На ночном столике стоял графин. Но он был пуст. Маленький человечек в зеленом переднике не всегда с должным усердием исполнял свои обязанности.
— Подожди минуту, — сказал я. — Полежи спокойно, а я схожу и принесу тебе воды.
— Нет, нет. Ты что, в своем уме? Ты не должен оставлять меня одного. Я так ужасно боюсь. Если ты оставишь меня... я умру.
Мы сошлись на том, что решили выйти вместе. Бранд был в пижаме, а я — в полном одеянии.
Ощупью пробрались мы к двери и спустились. Нам посчастливилось отыскать водопроводный кран и набрать графин воды. Ощупью мы двинулись в обратный путь и не без труда добрались до комнаты.
Бранд забрался в постель, а я вновь сел в кресло.
Вдруг Бранд закричал:
— Зажги свет! Свет! Зажигай! Скорее, ради всех святых! Скорее!
— В чем дело? Что стряслось? Успокойся.
— Свет! Свет! Зажигай! О боже, почему же ты не зажигаешь?
Я беспорядочно шарил в поисках спичек. В карманах, на столе...
— Подожди секунду! Сейчас зажгу! Куда, к черту, запропастились спички?
— Помогите! — закричал Бранд. — Помогите, помогите! Свет! Свет! Зажгите же свет!
— Сейчас, сейчас! Что приключилось? Скажи наконец, что случилось?
— Это он, он опять здесь! — прохрипел Бранд. — Зажги свет! А не то я умру в темноте. О боже мой, свет!
Голос его вдруг ослаб. Я метался, пытаясь найти спички. Опрокинул стул, графин...
— Сейчас! Успокойся, сейчас найду. Кто там? Из-за чего столько шуму?
— Он здесь! Здесь, в постели, рядом со мной... — Бранд задыхался, голос его совсем ослаб, скорее походил на хрип.
— Черт побери! Вот они, в кармане. Подожди секунду. Сейчас зажгу.
Бранд не ответил.
Я зажег свечу. Бранд был белый-белый, как простыня на его кровати! А рядом с ним... Рядом с ним в кровати лежал труп.
Я схватил Бранда и стал трясти.
Он не двигался. Он был мертв. Я закричал. Я звал на помощь. Сонный, что-то брюзжащий себе под нос мсье Лу с трудом взбирался по подагрической лестнице.
— Что произошло? Что вы здесь делаете? Это ведь не ваша комната и не комната мсье Бранда!
Мсье Лу еще дожевывал что-то.
Мы ошиблись комнатой. В темноте мы допустили ошибку. И Бранд забрался в постель к мертвому человеку.
— Он был студентом, румынским студентом, — объяснял мсье Лу, отчаянно жестикулируя. — Такой спокойный с виду человек. Что поделаешь с этими иностранцами!
Возможно, румын покончил жизнь самоубийством. А может, умер естественной смертью. Это дело полиции — внести ясность. Несчастный же Бранд умер от страха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом исчерпывается мой рассказ. Я записал все, что знал о смерти Хакона Бранда и о том, что ей предшествовало.
Мне предстояла мучительная миссия сообщить фру Бранд о случившемся. В то время как я рассказывал ей это, она сидела и играла с двумя парижскими куклами, которые купила накануне. Казалось, она не понимала, что произошло. Она была очень молода, светловолосая, с маленьким вздернутым носиком. У меня было такое чувство, что я говорю с маленькой девочкой, ребенком, который не понимает, о чем идет речь.
Предстояло выполнить необходимые формальности. Хотелось оградить от этого бедняжку фру Бранд. Я снесся с датским консульством, оно все уладило с французскими властями. Прах Бранда, согласно воле его семьи, отправили в Свенборг. Он покоится теперь на небольшом идиллическом кладбище с видом на Свенборгский залив.
Может, следовало бы упомянуть еще одно обстоятельство, хотя оно нисколько не уменьшает ни трагичности, ни невероятности описанных событий.
Во время последнего посещения консульства я встретил там высокого широкоплечего человека. Он стоял спиной к выходу, что-то возбужденно обсуждая с конторским служащим.
Я понял: он добивался денежной ссуды, но ему отказывали.
Что-то знакомое почудилось мне в этой спине. Коротко подстриженные волосы на затылке сильно приглажены. И вдруг я ощутил сильный запах. Ошибки нет — запах гвоздичной помады.
Я кашлянул, мужчина повернулся. Это был Вольбек.
— Ну, не нахальство! — обратился он ко мне. — Я собираюсь жениться, а они не дают мне деньги взаймы. Просят удостоверить мою личность. Послушай, подтверди им, что я это я.
Мы вышли из консульства и направились вниз по авеню дель Опера. Вольбек рассказал, что собирается жениться на хозяйке кабачка. Она вдова, хороша собой и пышет здоровьем. «Ну, теперь я стану собственником. Наконец-то осуществится моя заветная мечта!»
Я рассказал ему о Бранде.
Толстяк Вольбек лишь улыбался и качал головой,
— Ну и история! Похлеще всяких выдумок! Послушай, дай мне пятьдесят франков взаймы, только тогда я уверую в нее.




Notes
[
←1
]
«О практическом применении нитроглицерина» (нем.)
[
←2
]
«О динамите» (англ.)
[
←3
]
«Взрывчатые вещества» (нем.)
[
←4
]
«Об аэролите» (англ.)
[
←5
]
«Нитроглицерин» (нем.)
[
←6
]
Я – последний гуманист в Европе! С моей смертью исчезнет одна из благороднейших в истории личностей! (англ.)
[
←7
]
Хусмен – малоземельный крестьянин-бедняк.
[
←8
]
«Тиволи» - парк в Копенгагене, где устраиваются торжественные шествия, участники которых одеты в форму так называемых «гвардейцев».
[
←9
]
Лектор – старший преподаватель в датской гимназии
[
←10
]
Студенческая шапочка покрылась пылью (нем.)
[
←11
]
Все изменяется в этом мире (лат.)
[
←12
]
Х о л ь б е р г Людвиг (1684-1754) – великий датский писатель-просветитель, норвежец по происхождению.
[
←13
]
А д ъ ю н к т – младший преподаватель в датской гимназии или высшем учебном заведении.
[
←14
]
Р е к т о р – в датской гимназии один из учителей, выполняющий функции директора.
[
←15
]
А м т м а н – королевский чиновник, выполняющий функции начальника административного округа.
[
←16
]
П а р м о К а р л П л о у г (1813-1894) – датский писатель, публицист и политический деятель.
[
←17
]
Здесь и далее стихи в переводе М. Кудинова.
[
←18
]
Адам Э л е н ш л е г е р (1779-1850) – датский писатель-романтик.
[
←19
]
Бернхард Северин И н г е м а н н (1789-1862) – датский писатель-романтик.
[
←20
]
С в е н Ё н г е – предводитель «вольных стрелков», действовавших на стороне датчан в тылу шведов во время войны Швеции с Данией за провинцию Скопе в 70-х годах XVII века. Р о к а м б о л ь – главный персонаж многотомных «Похождений Рокамболя» французского писателя Понсона дю Террайля (1829-1871)
[
←21
]
Альфред Алоизиус Х о р н (1853-1931), прозванный «Купец Хорн» - английский коммерсант и путешественник по Африке.
[
←22
]
Генри Мортон С т е н л и (1841-1904) – путешественник, участник ряда экспедиций по Африке.
[
←23
]
Давид Л и в и н г с т о н (1813-1873) – английский путешественник, исследователь Африки.
[
←24
]
Йенс Христиан Х о с т р у п (1818-1892) – датский драматург.
[
←25
]
П р а к т и к а н т ы – студенты сельскохозяйственных училищ, проходящие практику в богатых крестьянских хозяйствах.
[
←26
]
Петер Адлер А л ь б е р т и (1851-1932) – министр юстиции Дании, был осужден за растрату.
[
←27
]
«Б е г с т в о о л е н я» - идиллическая поэма датского поэта Христиана Винтера (1796-1876)
[
←28
]
Сёрен К ь е р к е г о р (1813-1855) – датский философ-идеалист.
[
←29
]
Хенрих Х е р ц (1797-1870) – датский поэт и драматург, автор комедий из мелкобуржуазного быта.
[
←30
]
Йухан Герман В е с с е л ь (1742-1785) – норвежский поэт и драматург, сатирик и пародист. Писал на датском языке.
[
←31
]
Йоханнес Э в а л ь д (1743-1781) – поэт и драматург, предшественник романтизма в датской литературе.
[
←32
]
Перевод С. Тархановой.
[
←33
]
Л е о н о р а К р и с т и н а (1621-1698) – дочь датского короля Кристиана IV, находилась в заточении 22 года за участие в заговоре.

Последние комментарии
1 час 22 минут назад
1 час 42 минут назад
2 часов 37 минут назад
5 часов 35 минут назад
5 часов 36 минут назад
5 часов 44 минут назад