Шесть заграниц [Борис Николаевич Агапов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Шесть заграниц
ПОСЛЕ БИТВЫ. 1945 год
В КАПИЩЕ ФАШИЗМА
Мы прилетели на аэродром Темпельгоф, который находится близко к центру Берлина. Когда-то здесь была окраина, но грандиозный город поглотил не только ее, но и пригороды, отстоящие от центра на 20—30 километров. Был вечер. Мы летели более восьми часов. Болтало, и все пассажиры самолета находились в плачевном состоянии. Особенно это было забавно потому, что, за исключением нас троих, кинодокументалистов, все остальные были одеты в форму летчиков. Это были инженеры, летевшие производить обследование фашистской авиапромышленности. Над городом стояла хмарь, оставшаяся от знойного дня, огромный столб дыма высился за домами, — вероятно, какой-то пожар еще не успел кончиться. Аэродром был пуст. На его бесконечном пространстве, выложенном большими бетонными плитами, можно было заметить двух-трех велосипедистов — и только. Велосипедисты тоже были наши. Бойцы осваивали двухколесную технику, виляя и падая. Связь с городом была плохая. Нам пришлось долго ждать машины. Багровое солнце медленно то вылезало, то скрывалось за черными клубами дыма. Полумесяцем на краю аэродрома высилось длиннейшее строение. Это был комбинат ангаров, ресторанов и канцелярий, он производил впечатление какой-то бетонной абстракции, единственным оправданием которой была целесообразность. Ощущение духоты, не только физическое, но и моральное, охватило нас. Мы были в Берлине. В самом центре всех несчастий, которые перенес мир за последние четыре года, в средоточии самой неистовой жестокости, какую когда-нибудь знала история, в столице империи, претендовавшей на мировое владычество. Осознать это было невозможно сразу. Говорить об этом было странно. Ждать предстояло неопределенно долго. Тут Сергей Аполлинариевич Герасимов, известный наш кинорежиссер, нашел удивительный, казалось бы, в этих обстоятельствах выход. Оглядев нас равнодушным режиссерским взглядом, он высказал соображение, что военный наш вид оставляет желать лучшего и потому самым правильным будет расположиться на земле в наиболее удобных для отдыха позах. Потом он сказал: — Хотите, я почитаю вам из Лермонтова? Я давно подозревал, и в этом убеждали меня многие наблюдения при встречах, что из всех его одаренностей самой любимой им самим была актерская. Тут это сказалось с первых же строк. Он читал «Маскарад», читал наизусть и преотлично. Мы забыли и о дымах на краю аэродрома, и о машинах, которых мы ждали, и даже о голоде, который начинал нас покусывать. Конечно, это был спектакль, очень продуманный, очень кристаллический. Манера чтения, мимика, сдержанный, почти незаметный жест… и Арбенин — недобрый, дьявольствующий, картинный и вместе с тем глубоко несчастный, по-детски обиженный и на весь мир и на свою любовь человек — возникал перед нами в отвратительной картине пожара вокруг… И странно соответствовал ей. Как непросты и как страшны судьбы людей и судьбы народов, особенно когда удается вдруг отойти от них совсем далеко в минуты самого близкого с ними соприкосновения!Я смотрю во все глаза и заставляю себя поверить, что это и есть Берлин, что эти трибуны вдоль автострады — фашистские трибуны, что этот стадион — именно тот самый, на котором позировал Гитлер, что эта площадь и есть «Штерн». Да, это — Берлин, и сквозняк дует в нем, свистя. Он завивает пылевые смерчи у подножия высоченного столба, воткнутого в роликовый подшипник колоннады. На столбе — золотая ворона, изображающая богиню победы, а вокруг — никого. Только надписи. Русскими буквами по белой эмали синей эмалью со стрелами на концах:
Кати, куда хочешь! Дороги свободны. Вдоль крахмального асфальта Тиргартена — деревья без сучьев, похожие на пальмы с веерами расщепленной древесины наверху. Зенитки, мертво глядящие в небо. Тягачи, припавшие на колени, малолитражки, задравшие лапки кверху. Все тихо, все недвижимо. Чуть колышет ветер красный шелк грузовых парашютов, застрявших в деревьях. И вдруг в этой тишине: — Хальт! Ахтунг! Фейер! Детский голос. Ствол зенитки поворачивается, поднимается… Это — мальчишки. Двое сидят и крутят, третий приставил к глазам руки биноклем и, задрав голову вверх, командует: — Хундерт дрей унд зибцих! Фейер! Черный Бисмарк смотрит на них со своего пьедестала, как с кафедры. А вокруг — зубья зданий, из которых высыпаны на улицу каменные потроха, выгнувшиеся в предсмертной судороге рельсы надземки, шестиэтажные шкафы универмагов, превращенные в этажерки… …Мы движемся вместе с войсками, которые еще размещаются здесь. Огромные тягачи ведут орудия, с грузной ловкостью маневрируя между завалами и воронками. На танках стоят бойцы в своих блестящих кожаных шлемах, их лица сосредоточенны и серьезны — ни улыбки, ни любопытства не видно на них, они оглядывают город суровым взглядом очень много поработавших людей. Страшная сила чувствуется и в людях, и в бесчисленных машинах, грохочущих среди развалин. Это идут победители. Само присутствие их здесь, в центре гитлеризма, уже есть торжество — шум их машин, звуки русской команды, русская военная форма. Но проявление каких-нибудь чувств неуместно в городе, только что захваченном в боях, среди врагов, только что побежденных. Однако есть нечто, что выражает откровенно нашу радость, и ничто не может помешать этому. Это — наши, советские регулировщицы, те самые, которых видел всякий на дорогах войны в любую погоду, в любой близости от переднего края. Теперь они встали на «развилках дорог» в самом сердце фашизма, в Берлине. И нельзя не любоваться ими. В белых перчатках, в хорошо пригнанной новой форме, загорелые и сильные, они будто танцуют, управляя громадой движения. С ловкостью жонглеров они успевают принять каждую машину на желтый и на красный цветок своих флажков, указать ей путь, скрестить флажки в левой руке, откозырять правой, а главное — улыбнуться. Они не могут сдержать своих улыбок, хотя улыбки совсем не предусмотрены в инструкции. Они здесь не только бойцы ВАДа (Военно-автомобильные дороги), они — девушки нашей страны, и как бы от всех женщин и девушек Родины они в Берлине встречают победителей — братьев, мужей и отцов. Они — улыбка армии, и каждый, проходя или проезжая мимо, глядит в их сияющие счастьем очи, голубые и карие, озорные и серьезные, и не может не улыбнуться в ответ. Центр Берлина — это центр пруссачества. Поколения работали над тем, чтобы превратить его в символ немецкого могущества. Они не знали меры в этом стремлении так же, как были чужды всякого вкуса. Тщась утвердить единственность своей нации, неповторимость ее характера, они пришли только к полной безличности, плоской, как асфальтовая мостовая, однозначной, как верстовой столб. Абстракция солдатчины. Архитектура, лишенная всякого порыва, всякой радости, всякого гостеприимства. Каждое здание здесь отдельно. Несмотря на то, что все двери и все окна разверсты настежь бомбами и снарядами, эти дома кажутся запертыми. Они приземисты, как будто готика не торжествовала в Германии. Они неуютны, как будто не было Нюрнберга, мрачны, как будто не было Дрездена. Памятники топорщатся перед ними. Эти монументы составляют иногда целые бронзовые мизансцены. Несмотря на огромные деньги, которые вбиты в памятниковый металл, грошовую его символику можно разгадать с первого взгляда. Ангелоподобная Атлетика ведет под уздцы першерона в двести лошадиных сил, на першероне — император, на императоре — гогенцоллерновская каска, — так слава ведет Германию путем битв к мировому господству. Четыре льва обращены к четырем странам света и раздирают своими лапами знамена, на которых эмблемы Наполеона и Рима. Пики, пушки, штыки торчат из-под львиных брюх, и если посмотреть здраво, то кажется, что животные просто недовольны текстильной и железной пищей, которая попалась им вместо доброго теленка. Право, даже в баснях они более похожи на себя, чем здесь, на прусской государственной службе. Голые мужчины, как после бани, развалились на лестницах, колоннады обступили всех этих гигантов и завершаются триумфальными колесницами. Распахнуты орлиные крылья, круглятся короны, зияют пасти львов и змей — целый зоопарк хищников… Все это вытащено из известных мест — тут и триумфальные арки Рима, и бронзовые кони Генуи и Флоренции, и фижмы Людовиков, и латы крестоносцев. Теперь все это повержено. Огромные руки с зажатыми в пальцах мечами валяются на ступенях. Интересно, что будут делать с ними немцы? Неужели снова приваривать к торсам, получив разрешение восстанавливать «памятники культуры»? Вероятно, начнется именно с этого, как с наиболее безобидного на первый взгляд, если только умные люди не поймут вовремя, что это будет началом восстановления идиотской мании мирового владычества, мании, которая дорого стоила человечеству. Будем надеяться, что на месте разрушенного центра Берлина будет построен город для людей, а не капище империализма, каким он был до последних лет. Восстанавливать его в том виде, в каком он существовал, это значит восстанавливать пруссачество. В рейхстаге — хаос. Здесь уже нельзя разобрать, где заседали, где курили и откуда появлялось начальство. Единственно, что можно здесь увидеть в целости, — это надписи, которые оставили наши бойцы на стенах и колоннах:ДРЕЗДЕН
БРАНДЕНБУРГ
ВАРШАВА
ПРАГА
МОСКВА
«Жора Котляков свою мечту осуществил». «Барнаул — Берлин». «Вася Поздняков, летчики Громова за тебя отомстили!»Сюда, к рейхстагу, рвались наши войска с четырех сторон, и еще на расстоянии двадцати пяти километров артиллеристы знали точно эту цель. Прусская слава шарахнулась и покатилась. Шарахнулись кони на Бранденбургских воротах, извозчик с триумфальной колесницы был сбит снарядом, и сейчас это бронзовое сооружение похоже на моментальный снимок катастрофы на бегах.
Мы побывали в Саксонии, Бранденбурге, Штеттине, Лейпциге, посетили Австрию, и всюду, хотя бы в памятниках прошлого, можно было видеть что-то своеобразное, национальное, особенное… В Берлине — ничего. Здесь как будто в каком-то концентрате отцежена вся скудная геометричность прусского мышления, его оскорбительная однозначность, не позволяющая воображению или волнению вдруг загореться, исключающая всякую возможность открытия, всякий намек на неожиданность. Мистификация — вот чем заменено здесь искусство. Особенно это ощущается в творениях «нового режима» — в архитектуре фашизма. Неопруссачество, то есть нацизм, продолжало традиции Фридрихов и Вильгельмов, снабдив их только новой упаковкой, ибо «новое» имеет в Германии магическую силу. Если вам хотят преподнести что-нибудь в лучшем виде, — что бы это ни было, фокстрот, фасон брюк или архитектура, — вам говорят восхищенным шепотом: «Это модерн!» Против «модерна» никто не может устоять. «Модерн» в архитектуре заключался в том, что все львиные гривы и орлиные заусеницы были соструганы и вместо импозантности вычурности была утверждена импозантность «простоты». Вместо колонн с каннелюрами и волютами были поставлены бетонные столбы четырехугольного сечения, вместо куполов и карнизов были положены плоские, под линейку, перекрытия. Но суть осталась та же. Нацистская архитектура и скульптура прежде всего эклектичны. Они нелепым образом сочетали в себе Египет, Вавилон, готику и тот безрадостный функционализм, который возник от чиновного обращения с идеями Беренса, Гропиуса и Бруно Таута. Вся эта мешанина использована только с единственной целью: подавить воображение, испугать, создать впечатление непреодолимой мощи империи и ничтожества перед нею отдельных воль. Это была пропаганда страхом и страха. Тот самый метод, который применялся и в отношении кинематографа, когда гитлеровские культурмахеры рассылали по всем государствам кинофильмы вроде «Польша в огне» с единственным назначением — устрашить колеблющихся, покорить непокорных. Отвратительная утилитарность Треблинки есть во всей конструкции рейхсканцелярии. Она не создана, она выдумана. Это нечто вроде собачьего станка для производства экспериментов на рефлексы. Тут все предумышленно, и все с одним расчетом: вызвать рефлекс покорности. Фасад рейхсканцелярии ничем не примечателен. Среди прочих зданий трудно даже отличить его от других. Но когда вы входите во внутренний двор, на вас обрушивается первый удар. Вы заперты. Каре бетонных стен без окон и дверей сторожит вас. Два огромных каменных часовых в стиле «Кольца Нибелунгов» охраняют дверь, в которую вам предстоит войти. Этот вход узок. Он подобен дверям в египетских храмах. Он пропускает вас с неохотой, с презрением. Когда вы переступаете его порог, вас постигает второй удар. Вы оказываетесь в огромном зале, или, лучше сказать, в огромном коридоре, более сотни метров длиной. Девятнадцать грандиозных окон идут по левой стороне, по правой — двери в кабинеты диктаторов. Это — перспектива. Ее линии сходятся где-то вдалеке, на противоположной двери, которая кажется совсем маленькой. Но здесь нет ни праздной праздничности версальских анфилад, ни первородной гармонии Парфенона, ни торжественной отрешенности готических базилик. Это — строй, стоящий во фронт, вдоль которого шествует начальство, сквозь который прогоняют холопов. Здесь выстраивались приглашенные. Они прижимались к стенкам, изображая собою как бы живые барельефы. Раскрывалась дверь в далекой глубине, и там появлялся человечек с усиками и начесом на лбу. Он шел один, отражаясь в зеркале паркета. Пустота отделяла его от стен. Он был частью архитектурной мистификации, которая была рассчитана на то, чтобы эту тщедушную, напыжившуюся персону выделить и преподнести как эпиграф ко всей стране, даже к истории человечества. Он проходил между рядами поднятых рук, и громадные двери его кабинета распахивались и вновь закрывались. Там стояло его кресло, похожее на трон, и его стол, похожий на саркофаг. Перед столом стоял глобус громадных размеров. Скорлупа этого глобуса валялась среди обломков, когда мы в первый раз посетили рейхсканцелярию. Тут же посверкивали алюминиевые куски каких-то аппаратов, говорят — телевизоров, при помощи которых ему показывали его владения. Все здесь огромно, добротно и… жалко. Среди этих золотых мозаик, и бронзовых кулаков бра на стенах, и роскошных сафьяновых кресел вдруг вспоминаются слова, сказанные еще в начале войны, которые тогда прозвучали неожиданно и смысл которых теперь и особенно здесь, в этом беспредельном кабинете, становится абсолютно ясен: «Дурачки из Берлина». Теперь, когда все это валяется в обломках, химеричность замыслов очевидна, но тогда система представляла собою чудовищную силу. Целый этаж рейхсканцелярии с множеством кабинетов и грандиозным штатом был ассигнован на наградные дела. Мы ходили по щиколотку в медалях и орденах. Здесь были установлены аппараты, которые подписывались за Гитлера, чтобы каждый награжденный думал, что он обладатель собственноручной подписи фюрера. Мы нашли здесь ящики, полные лент и позументов, которыми увенчивались плечи и груди слуг режима. Внутренняя пустота этой системы должна была быть закрыта от глаз народа. Эту задачу выполняла не только архитектура из камня, но и архитектура всяких значков, знамен и эмблем. По всей Германии торчат флагштоки, древки и даже высоченные мачты для черных орлов и штандартов. Страну покрыли флагами, эмблемами, знаменами, символами, которые возвышались над толпами и застилали умиленные глаза населения. Благоговение немца к силе и власти было использовано и многократно увеличено. Видя все это дутое великолепие, немецкий обыватель приходил в то состояние экстазной готовности, которое было психологическим условием кратковременного успеха нацизма в Германии. Гёте хорошо знал немецкий характер, и не случайно в своих утопических построениях он считал, что главным средством правильного воспитания является чувство благоговения. Это чувство, по мнению Гёте, следует прививать людям прежде всего. Только тогда, когда оно сделается руководящим в душе каждого немца, можно успешно развивать все остальные стороны характера. Благоговение направлено к богу, но бог воплощается для человека в его руководителях. Следовательно, благоговение к руководителям и есть главное для воспитания и для создания общества. Что касается нацистских вождей, то они сами признавались, правда, еще до своего воцарения, в том, что пропаганда рассчитана на дураков, что обман масс есть естественное и необходимое условие успеха каждого политика и что для этого обмана все средства хороши. Вероятно, сами они не испытывали никакого благоговения перед своими эмблемами. Они хорошо жили. В этом легко можно убедиться, посетив множество мест, которые были избраны для резиденций главарей. До начала бомбежек Гитлер жил во дворце Гинденбурга, который находится недалеко от рейхсканцелярии. Вряд ли этот дворец претерпел особенные изменения со времен его прежнего владельца. Во всяком случае, он не стал беднее или скромнее, но зато его кухня была реконструирована серьезным образом. Она представляет собой чудо современной техники. Она напоминает не то операционную госпиталя, не то аппаратную какой-нибудь колоссальной гидростанции. Во всяком случае, инженеры, которые с нами путешествовали по этим апартаментам, затруднялись определить устройство и назначение многих агрегатов, там установленных. Мы посетили более трех дач Геббельса. Все они расположены в самых красивых местах, какие существуют под Берлином, — в древних лесах, на берегах чудесных озер. Они представляют собою небольшие замки с многочисленными службами и флигелями для свиты. Они наполнены лучшей мебелью, великолепными роялями, радиоприемниками, бронзой, фарфором. Там стояли ящики, полные визитных карточек доктора Геббельса, исполненных на драгоценном пергаменте, разными шрифтами и в разных редакциях. Фотографии, в неограниченном числе валявшиеся на дворах и в комнатах, показывали роскошную жизнь этих людей, окруженных женщинами в фантастических нарядах, множеством слуг, наливающих им вино, подающих им кушанья. Весь реквизит миллиардерской жизни присутствует на этих фото, которые были использованы нацистской прессой для бульварного восхищения публики. Они жили шикарно. Вероятно, они считали это вполне естественным. Думается, что цивильный лист Фридриха-Вильгельма был просто пустяком перед теми расходами, которые несла страна для содержания своих тиранов.
Мы бегло оглядели Берлин и отправились на юг по одной из многих автострад, пересекающих Германию по всем направлениям. Все время моего пребывания в Германии я любовался работой нашего ВАДа. Куда бы вы ни поехали, всюду перед вами русские надписи с точным указанием километража и маршрута. На некотором расстоянии друг от друга плакаты, на которых написаны правила движения. Пропагандистская работа ВАДа поражает своими размерами: если представить себе пространство от Волги до Эльбы, на котором по всем дорогам расставлены дорожные знаки, плакаты и указатели, то легко понять, какой огромный труд потребовался для этого.
«Опыт истории говорит о том, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, государство германское — остается». «Помни, что ты носишь форму самой могущественной армии в мире, строго сохраняй ее честь». «Водитель, не передавай руля в другие руки». «Слава советским артиллеристам». «Болтун — находка для шпиона». «Бензозаправка — 800 метров».Так проехали мы от Штеттина до Будапешта, и всюду нас сопровождала заботливая рука ВАДа. Может быть, бо́льшая часть жизни Германии после краха фашизма проходит на ее дорогах, во всяком случае — наиболее видная часть. Они заполнены не столько автомобилями, сколько пешеходами. Немцы бредут по дорогам. Они идут на север из Чехии, на восток с Эльбы, на запад из Восточной Пруссии, на юг из Штеттина… из всех концов Германии во все ее концы. Они тащат на себе, везут на чем попало свое имущество. Тут и детские коляски, которые наполнены картофелем или чемоданами, тут вдруг и шикарная черная карета, влекомая детьми и стариками, тут и просто строительные тачки, нагруженные до отказа… Старухи, согнувшиеся под тяжестью тюков с бельем, матери с детьми на плечах… Мужчины, сняв пиджаки и надвинув на глаза шляпы от солнца, нестерпимого на автострадах, толкают спаренные велосипеды, на которых утвержден стол вверх ножками, служащий грузовой платформой. Женщины идут в черных очках, чтобы не щуриться и тем предохранить лицо от морщин. Собаки тащат детские коляски с подушками или с картофелем. В этом шествии особенно видны инвалиды и калеки. Их множество. Безногие, сидящие на трехколесных креслах и двигающие ручные рычаги, хромые, к рукам которых костыли привязаны широкими ремнями, обезображенные черными повязками на лице слепые, безрукие. Странными кажутся привалы этих беженцев, когда на каком-нибудь зеленом откосе устанавливается пестрый зонтик диаметром метра в два и под ним располагается семья, только что перенесшая длительный и тяжкий переход. Яркие цвета платьев, непромокаемых плащей, лоснящаяся кожа чемоданов, блестящие части велосипедов — все создает впечатление какого-то пикника, хотя совершенно ясен драматизм этого отдыха, и люди не знают, к чему приведет их следующий переход и где, наконец, они найдут кров. Не развалины городов, даже не разбитая военная техника, валяющаяся на полях сражений, а именно эти бредущие по дорогам люди с мешками и детьми особенно ярко свидетельствуют о том, что случилось с немецким народом. Понимают ли они это, или они озабочены только личной бездомностью и измучены долгим путем? Вместилась ли в их головы мысль о том, что произошел не только проигрыш войны, но крах их представлений о Германии, об истории, о будущем, их установок, их традиций, потому что представления и установки были разбойничьими? Не знаю. Я не видел ни раздумья, ни печали на их лицах. Я не слышал и разговоров о прошлом и будущем. Они жадно читают все приказы и распоряжения и записывают их в блокноты. Может быть, они тоскуют по начальству и ищут применения своему чувству благоговения, которое сейчас безработно? Нелегко понять народ, отделивший себя от всех народов мира стеной высокомерия и пустыней ненависти. Во всяком случае, внешне из одной крайности они бросились к другой: из игры в господ — к игре в рабов. Иногда мне казалось, что им нравится быть побежденными, — настолько интенсивно предупредительно их поведение, так умильны их улыбки и сладки слова. Может быть, комплекс неполноценности, который немецкие психологи провозглашали чуть ли не генеральным для современного человечества, действительно генерален для немецких обывателей? Или, может быть, обыватели, с которых вдруг снята обязанность быть владыками мира, благодарны за возможность не заботиться о «новом порядке» на планете и обратиться к тому, что для них наиболее понятно, — к порядку в своей квартире? Или, наконец, возможно, что именно от комплекса неполноценности и мещанского благополучия весьма и весьма близко до бредовых идей о мировом господстве? Но каковы бы ни были черты и причины психологического состояния всех этих людей, одно несомненно. Для пользы всего человечества и для благополучия их самих надо, чтобы было разрушено не только капище империализма в самом Берлине, что уже сделано, надо, чтобы исчезли все те источники, которые питали преступное сумасбродство огромного количества людей, и не только при нацизме, но и задолго до него. Что будет с мальчишками, играющими в зенитчиков под присмотром чугунного Бисмарка? От этого зависит будущее Германии…
Вокруг Берлина — лес. Пол без сучка, без задоринки, на полу стоят сосны. Когда вы едете мимо, деревья выстраиваются в затылок по радиусам, и радиусы вращаются по часовой стрелке, отсчитывая длинные прямые коридоры между стволами. Здесь нет ни шорохов, ни тресков, ни зарослей, ни сгущений тени, ни дуновений влажной прелости, ни очаровательных вторжений лиственной зелени в хвойный бор, когда веселая орава березок, кудрявых и звонких, как детский сад, высыпает на полянку, разбрызгивая фонтаны папоротников, играя с бабочками, которые развешивают по воздуху белые фестоны своего полета. Есть ли в прусском лесу шишки? Возможно, но не обязательно. Лес находится на службе. У него отнято то, что и составляет его содержание: его самостоятельная лесная жизнь. Все это происходит вовсе не потому, что в Германии мало земли, ибо есть пространства, на которых вы не встречаете населенных пунктов в течение многих и многих десятков километров. Все это происходит от каких-то природных черт немецкого характера, который не допускает или не способен воспринимать многообразие мира в целом, а должен непременно разбить его на элементы и расположить их в некоторой последовательности, каждый в отдельности, каждый особняком. Вместе с однозначностью архитектуры, с убийственной целесообразностью всех строений, эта дрессировка природы вселяет уныние, создает ощущение бутылки, в которую вдруг загнали человека. Может быть, все это удобно, но невыносимо. Мир природы, в котором каждая минута созерцания готовит открытия, который потому и прекрасен, что равноправен с нами, к которому принято относиться с уважением, как к суверенному соседу по планете, — здесь низведен до степени каплуна. Он потерял все. Он недостоин ни любви, ни тем более удивления — чувства, без которого нет поэзии. Он приведен к однозначности. Это дурная однозначность, совсем не та, к которой стремится наука в поисках основных законов мира. Это практическая однозначность, когда живое и многообразное препарируется для удовлетворения двух-трех простейших потребностей. Властвовать над природой не значит расправляться с ней. Конечно, ее приходится превращать в продукцию, необходимую для человеческой жизни: минералы — в металл, древесину — в дома и стулья, — но ужасен был бы мир, где вместо лесов росли бы стулья, а вместо гор стояли бы болванки стали. А как же быть? Ведь нынче двадцатый век, и логикой прогресса природа обречена подчиняться человеку?! А быть надо так, чтобы это подчинение не становилось образцом красоты, идеалом душевного устройства. В разных случаях это может быть по-разному необходимо, и тогда порядок и чистота лучше, чем грязь. «Грязь стоит дорого!» — такой лозунг повесил в своих цехах Форд, и производственно это совершенно правильно. Но можно ведь сделать своего рода культ из единообразия и регулярности, так что и сама душа человеческая вдруг окажется подметенной под метелку. Такую душу очень легко мобилизовать для эсэсовских специальностей. Для нее главное — технология, а не человечность. В Чехии я видел отели в лесах, и это было подлинное искусство: новая архитектура прекрасных пропорций со всем блеском современных материалов была вкраплена в природу, которой была сохранена ее первозданность. От этого выигрывало и то и другое: природа приобретала еще большую яркость своей самобытности, архитектура возникала, как кристалл человеческого гения, среди этой нетронутости лесов, ущелий и бурлящей в скалах воды. А ведь немцы когда-то умели любить леса, и горы, и дикие реки.
«…Весь мир устлан таинственным зеленым ковром любви. Каждой весной он обновляется, и его странные письмена понятны лишь тому, кто любим, — как понятен бывает любимому восточный букет цветов. Он будет вечно и ненасытно читать, и с каждым днем ему будет раскрываться новый смысл, новые, все более чарующие тайны любящей природы…»Что сумел бы «ненасытно читать» в берлинских лесах этот голубоглазый юноша, живший в Германии полтораста лет назад? Надписи «запрещается» и указатели «красивый вид» или «только для пешеходов»? Какой «новый смысл» раскрывался бы ему, какие тайны природы — среди этих стандартных стволов? Новалис в ужасе бежал бы от такой природы, протезированной и стерилизованной. Может быть, так же поступил бы и Гёте, натуралист и поэт, гениальный созерцатель мира растений и животных.
НА СМЕРТНОМ ПОЛЕ
У обочины автострады — плакат, и на нем красиво и безграмотно выписано:А там, впереди, в розоватой дымке, — крылья ветряных мельниц и фабричные трубы: Лейпциг. Город-книгодел. В дофашистские времена в нем было более тысячи издательств. Для них работали фабрики красок и словолитни, типографии и литографии, сюда стекались заказы со всех концов Европы на самые роскошные и самые тонкие полиграфические работы… Мастера книги здесь были из лучших в мире. Я знал Лейпциг с детства: курс беглости пальцев Ганона, сонатины Клементи и Кулау были первые ноты, по которым меня учили музыке, и толстые тетради в зеленовато-голубых обложках лежали у нас на пианино — Лейпциг! Из Лейпцига дед выписал географический атлас Анри, на картах которого, красивых, как творения ювелиров, я до сих пор нахожу названия, каких нет в самых новых картах мира. Вероятно, этот атлас был издан не только для любознательных старцев вроде моего деда, но прежде всего для тех предприимчивых людей, которые в начале двадцатого века стремились утвердить немецкую торговлю на всех материках планеты. А «Фауст» Гёте с рисунками Каульбаха — книжища в аршин высотой и такой красоты, что до сих пор вспоминается мне как первый урок прекрасного, полученный мной и сестренкой в начале нашей жизни?.. …Отель «Фюрстенхоф». В полумраке великолепного холла с драконами на потолке и с громадной старинной печью цвета земляники в сливках мы ждем ордеров на номера. Очень отдельно от нас, в вальяжных креслах, окруженные мерцанием чемоданных пряжек и глянцеватой кожи, сидят две дамы, вероятно мать и дочь, с двумя одинаковыми собачонками на руках. Перед ними, весь в кремовой фланели, изогнутый и мягкий, как свежеочищенный банан, юлит метрдотель, готовый к любым услугам. По-видимому, дамы уезжают, по-видимому — на запад, по-видимому, они очень богаты. Интересно смотреть на натуральных и отнюдь не бывших богачей. Банан спешит к своей конторке, на раздраконенном потолке вспыхивают лампионы, стройный старик в гольфах и с трубкой появляется в дверях, из-за него выбегают молодцы шоферского обличья, они хватают чемоданы дам… Тут меня просят пройти к советскому коменданту отеля, и спектакль кончается. Кинодетектив кончается. Меня сопровождают в номер — «герр оберст, битте шён…» — и там, в номере, неограниченная кровать с кучевыми облаками простынь и пагодой подушек, с запахом сашеток, роскошная бумага для писем на раскрытом секретере, телефон — вот бы позвонить сейчас в Москву?! Но между пагодой подушек и Москвой — такое делается, что и вообразить невозможно, я это только что видел на дорогах… И тут меня охватывает тоска. Мне расхотелось смотреть Лейпциг, и мне противно сидеть в этом запахе сашеток, как если бы меня посадили в коробку с зубным порошком. Где-то рядом будут встречать моих товарищей и меня тоже, и надо идти. Я пошел, но не пришел к товарищам.АНТИФАШИСТЫ
ПРИВѢТСТВУЮТ
КРАСНАЯ АРМИЯ
Поздняя заря стояла над пространством, которое хотелось назвать пустым. Кажется, вокруг была равнина, она терялась в сумраке; на переднем плане отсвечивала вода, и в ней валялась каска. Над каской, над равниной, на фоне розовой зари и разорванных туч вздымалось нечто огромное, тяжкое, подобное курильнице или склепу, но невероятных размеров. Оно заполняло собой все в этом месте земного шара. Какие-то бастионы громоздились, нависая. Наклонные стены уходили вверх, и чудилось, что они все выдвигаются из глубин земли, все выдвигаются и лезут к небу. Между циклопических колонн я видел латника непомерного роста, выступающего из дикого камня цоколя. Булыжный покойник расставил ноги, одна рука на щите, в другой — меч барельефом. Ждет? Стережет? Угрожает? Нет, он страшен не угрозой и не ожиданием, а полной пустотой. Он НИЧЕГО не выражает. И растопыренные крылья каких-то гарпий на бастионах тоже НИЧЕГО не выражают. И вершина, которую стачивает черная туча, несомая ветром, не обозначает НИЧЕГО. Отдан долг погибшим. И НИЧЕГО более. Убитых и раненых было более ста сорока тысяч человек. Человек! Не собак, не овец, а ЧЕЛОВЕК! За четверо суток драки. В драку на этом поле было брошено полмиллиона человеко-единиц. Счетно-решающая машина «Наполеон I», лишенная каких-либо человеческих чувств, кроме жажды власти, действовала, как всегда, точно, однако десятки обстоятельств, от нее не зависевших, привели ее к поражению. Идиотский алгоритм «завоевание мира» начал показывать свою нелепость, как это было уже в России при операции «Барбаросса-1», если считать программу Гитлера «Барбаросса-2». Более ста сорока тысяч ЧЕЛОВЕК! За четверо суток побоища. Тарле сообщает, что в течение нескольких дней после этой так называемой «битвы народов» над Лейпцигским полем были слышны стоны и страшные крики искалеченных: не хватало людей для оказания помощи пострадавшим. Зловоние от трупов разносилось далеко вокруг. Великанская курильница, торчащая ныне над местностью, н и ч е г о не говорит о том, как надо относиться к подобного рода событиям. Хорошо уж, что она не возвеличивает их, как это задумано авторами знаменитой «Томбо» в Париже — грандиозного капища, где в разукрашенной ванне прямоугольного сечения хранятся кальциевые остатки упомянутой счетно-решающей машины, по гениальным командам которой многие миллионы людей были убиты ни за что и ни про что. Небо на западе угасало. Пора было ехать в «Фюрстенхоф». Я уже открыл дверцу машины, когда неожиданный, небывалый в этих местах звук заставил меня остолбенеть. Да, это была гармошка. Та самая, которая, по свидетельству песни, бродит по околицам русских деревень. Тут не было никаких околиц, а гармонь пела, да как лихо! А потом вступил женский голос, и его поддержали еще такие же голоса, и нам пришлось немного и тихонечко проехать, чтобы встать поближе и разобрать слова песни. Мотив был известный, а слова примерно такие:
«Писала пришедши с работы в 10 часов вечера и писала до 2 часов ночи».
Город был пустынен. Он был плохо освещен. Здание на площади показалось мне знакомым. Я узнал дом, в котором в 1933 году шел процесс Димитрова. Вот тут, за этими стенами, под этой башенной вышкой, фашистские главари, едва захватив власть в Германии, получили первый удар от коммунизма. Этот первый удар был сокрушителен, хотя его нанес один человек — арестованный, оклеветанный, окруженный лжесвидетелями, перед лицом липовых судей и под звериное рычание самого Геринга. Второй удар фашизм получил под Москвой. Потом пошли другие — один за одним, — и три недели тому назад последний шваркнул его оземь окончательно. Я стоял на том месте, где началось сражение коммунизма с фашизмом и где фашизм потерпел свое первое поражение. …В «Фюрстенхофе», конечно, уже не было дам с собачками. Они комфортно отбыли на запад на рессорах долларов и своего вислозадого «хорька», который считается наиболее надежной машиной в мире после «роллс-ройса». У стойки с грустным «бананом» возле висел плакат, написанный красиво и неграмотно:
ВЧЕСТЬ КРАСНАЯ АРМИЯ
СИМФОНИ КОНЦЕРТ
БЕТХОВЕН
ЧАЙКОВСКИЙ
МАЛЕР
ФЛОРЕНЦИЯ НА ЭЛЬБЕ
Автострада, как река, подчиняет себе ландшафт. На ней впереди — всегда мокрая, голубая от неба пленка, она все время сдирается с бетона метрах в ста от радиатора. Направо и налево все та же аккуратная красота. Иногда справа щиты с изображениями оленей, сделанными из рубиновых граненых пуговок: значит, звери могут выйти к машине, и надо быть осторожным. Никаких деревень или городов, только по холмам или на горизонте шпиль кирки, пунктир шариков — это деревья, посаженные вдоль старинной дороги. И всюду номера: на бетоне, на указателях, на хрустящей автомобильной карте, лежащей у меня на коленях. Спирали бетона вниз, спирали бетона вверх, свертки и разъезды… Все лишено особенностей, неправильностей. Тут — мир должного. Он воплощен, но он остался таким, каким был на кальке. Я знаю: мне необходимо остановиться, одуматься, вглядеться. Необходимо сесть за стол, прикрыть глаза, с карандашом в руках посидеть перед чистым листом. Ведь я все-таки литератор, я не турист и не командированный… — Может быть, остановимся, товарищ полковник? — Нельзя, товарищ подполковник! Вы изволите знать, что мы должны… — Ну, раз должны… Все время мы должны… Все время мы опаздываем… Скорее! Скорее!.. Дорога под нами — чирк налево! Дорога над нами — чирк направо!.. Автострады выстраиваются в три этажа. В просветах бетона — долина, в долине — лиловая дымка, над дымкой — шпили колоколен, над шпилями висят «У-2». От нашего движения они кажутся неподвижными. Так висят пчелы над цветами. Что ж, он цел — Дрезден? Десять минут — и мы на берегу Эльбы, возле моста Августа, под стеной Брюлевой террасы.Мы оторвались от всех и бредем вдвоем с Герасимовым по набережной. Молчим. Мы не смотрим друг на друга и не говорим ничего. Я делаю вид, что очень занят, — щелкаю моим «фэдом» куда придется. Он отворачивается от меня, я — от него. Потом мы признались один другому, что хотели скрыть слезы. Глаза были на мокром месте потому, что такой красоты ни он, ни я нигде не видали. И вся эта красота была раздолбана. Она была разбомблена, сожжена, разворочена. Но она была такой силы, что даже из развалин поднималась, как бы надевая на себя снова плоть каменной гладкости, скульптурной полноты, всех прелестных деталей орнаментировки, пусть орнаменты вместе с железом крыш валялись у цоколей зданий, если здания уцелели. Приехав в Москву, я написал об этом так:
«Дрезден справедливо считается центром немецкой архитектуры и искусства. Нельзя не верить в человечество, а значит, нельзя думать, что Германия навеки обречена и германский народ навеки останется в представлении людей как народ убийц и предателей. Он не будет таким, как он не был таким. Дрезден — тому свидетельство. Город этот — как бы полная противоположность Берлину. Я не знаю архитектуры прекраснее той, какую видел в Дрездене. Ее не очень много. Но она сияет здесь дивным кристаллом, и невозможно представить себе, что может превзойти ее в легкости, целостности и своеобразии. Каждый новый шаг открывает перед вами новые красоты, любое направление вашего взгляда встречает панораму, как бы специально задуманную именно для этой точки, хотя таких точек может быть бесконечное множество… Во всем этом есть наивность далеких времен, та прямота отношения художника к зрителю, которая не засорена никаким корыстным намерением сделать что-то с пришедшим сюда — подавить его, испугать, загипнотизировать, обратить в некую веру. Это отношение художника к человеку начисто отрицает архитектуру пруссачества и гитлеризма…»Когда эти очерки о послевоенной Германии прочел Всеволод Вишневский, бывший тогда редактором «Знамени», как известно, человек очень военный и участник многих главных событий Великой Отечественной войны, он сказал, что одна из целей написанного есть «борьба за душу Германии». Мне кажется, он сказал очень точно, — во всяком случае, касательно того, к чему я стремился. И как на один из примеров сослался на приведенный абзац о Дрездене. И вот я помню полуосвещенный коридор редакции, куда увел меня сотрудник, редактировавший мой очерк, и тихий голос этого человека, убеждавшего меня снять кусок. Я пытался возражать. Забываясь, я невольно начинал говорить громко, но он подчеркнуто переходил почти на шепот, осаживая этим мой пыл и давая понять, что именно он и есть настоящий мой литературный друг, предостерегающий меня от промаха, который может мне повредить. Что касается Вишневского, то, мол, он, — редактор, человек увлекающийся, возле которого всегда должен быть кто-нибудь, кто сумеет посмотреть на вопрос со стороны, объективно, учитывая все обстоятельства момента… Словом, я сдался. Я даже не знаю, почему я сдался. Я чувствовал, что правота была на моей стороне, однако этот полумрак, и этот полушепот, и эта с горечью забота о моем благополучии… Словом, кусок вылетел. Такие дела…
Казалось бы, люди моего поколения могли привыкнуть к развалинам. Но — не получается! Следовало бы издать книгу о развалинах, как создал сюиту о тюрьмах великий Пиранези. Такая книга была бы отличным пособием по истории человечества. Нельзя сказать, что, например, озеро Рица, одно из красивейших, есть развалины, хотя оно возникло от катастрофы. В природе нет развалин, их устраивают только люди. Как происходит, что они уничтожают то, что ими же создано, то, что они сами любят, чем сами гордятся? Парфенон был взорван, Дрезден разбомблен… Я попал в Пушкин сразу после войны. Я шел по знакомым с детства улицам бывшего Царского Села, и вокруг были только кучи угля и остатки обгорелых печей. Я вышел на бывшую Магазинную улицу и тут увидел чудо: посреди громадного пепелища стоял домик деда. Единственный. Такой же деревянный, такой же пятиоконный по фасаду, как в начале столетия. В нем прошло мое детство. Я приоткрыл двери тамбура, те самые, которые я придерживал, когда выносили гроб с дедушкой в 1906-м. Приоткрыл и не решился войти: оттуда слабым призраком прошел мимо меня запах — деревянный, мыше-ко́шечий, кухонный… Я помню его всю жизнь и, может быть, он почудится мне в мою последнюю минуту. Дверь закрылась, на ней желтел список жильцов — фамилий десять. Как они съютились там после гибели городка, в пяти комнатушках, непонятно. Я побрел к дворцам. Издали мне показалось, что они целы. Так часто бывает с развалинами. Потом я увидел, что слева от лицейской арки нет куполов. Потом я увидел всё. Ничего, кроме стен, не осталось. Вы знаете, как э т о выглядит. — Почему э т о было сделано? Сейчас я скажу фразу, которая вызовет улыбку у всех читающих: — На каком основании э т о было сделано? Смешной вопрос! На каком основании убивают? Взрывают? Мы же взрослые люди, мы все понимаем!.. Но ведь я помню этого белого лебедя с красным клювом, из которого, потрескивая, падала серебряная струя, и от нее начиналась система каскадов вдоль границы парка; там всегда были дети. И скамейку на берегу Большого пруда, где говорила Машенька Гринева с царицей о судьбе своего жениха. Машенька не знала, с кем она говорит, и в ответ на неприветливые царицыны слова вдруг воскликнула: «Ах, неправда!» — «Как неправда!» — вспыхнула царица… Помните? И еще: на такой же чугунной скамейке — самого́ Пушкина в лицейском садике, Пушкина из бронзы, совсем молодого, которого мы с сестренкой называли «черный дядя». Потом уже, совсем взрослым, читал я на граните пьедестала золотые на всю жизнь строки:
«Шлю крепкий поцелуй моим малышам из красивого, чистого города Дрездена, где есть прекрасная галерея картин. Приеду в четверг, зацелую в лепешку! Мама».Вот она, эта открытка. Треть занята светлой гладкостью Эльбы, которая поворачивает к мосту Кароля. Брюлева терраса направо. На ней рядами стоят деревья, прямые, как тореадоры на картинах Бюффе. Возле набережной — прогулочные пароходики, у них высокие трубы для тяги, — ведь это еще век пара! С террасы спускается широкая лестница. И по ней идет вниз женщина, молодая, в длинном платье, как бы даже с турнюром, в большой сложно накрученной шляпе, называвшейся «ток». Женщина проходит мимо знаменитых скульптурных групп — красавица мимо красавиц. Да, пусть будет так, пусть она красива, как была моя мать. А внизу, опершись о чугунную решетку, стоит мужчина, уже пожилой, некрасивый, в куцей гимнастерке с погонами, в высоких солдатских сапогах. Это я… И возле на доске намалевано:
Это уже Дрезден 1945 года. Сейчас, спустя почти тридцать лет, я разбросал по столу фото, которые были нащелканы в мае 45-го года, и пытаюсь склеить картину того дня — в мае, сразу после войны. И тут тоже происходит чудо, как с домом деда, и опять грустное: снимки склеиваются, как панорамы Луны, снятые с космического корабля, и получается площадь — та, самая красивая в городе, по которой мы ходили, чуть не плача. На нее выходит веселый королевский замок с праздничной башней и пятиступенчатой крышей, а рядом — дом с трехступенчатой крышей, а от него — бронзовый, как на гигантский письменный стол, — мостик-коридор, ведущий в главную церковь. А главная церковь — в торжественном барокко (строил ее Кьявари уже в середине восемнадцатого века), хотя и без крыши, без шпиля, но все прекрасная, с множеством статуй в нишах и на террасах, как-то уцелевших, полна спокойствия и достоинства! Ни один архитектурный стиль не заключал такого нерасторжимого союза со скульптурой, как барокко! И ни один не соединял в себе стольких противоречий. Невольно я вспоминаю его первого творца, мастера, столь же великого в искусстве, как был велик в науке Кеплер, и столь же странно обойденного пышной славой, постигшей Ньютона и Микеланджело. Сколько силы и слабости в его лице! Безумной отваги и безумного страха! Лоренцо Бернини, автор колоннад храма Петра в Риме, гениальный архитектор, скульптор и художник. Казалось бы, как сочетать безумие и соразмерность? Порыв и монументальность? Страдание и экстаз? Искренность и нарочитость? Действительно ли это было дыхание времени? Или такое чувствование мира есть свойство человеческой природы, готовое проявиться, когда к тому есть возможность: гармония в противоборстве! Есть мнение, что Ломоносов был таким. Я думаю, что вполне таким был Эйзенштейн. В пятом веке до нашей эры на огнедышащей Сицилии жил Эмпедокл, вдохновлявший романтиков еще в девятнадцатом и даже в двадцатом веках, удивительный поэт и ученый. Причудливость, парадоксальность, предельная, напряженная выразительность, убийственная сила образов, неожиданные между ними связи и безудержное воображение, забавность и серьезность, ирония и глубина… монтаж аттракционов! — зачем нам бояться этой взрывчатости искусства в нашем взрывчатом времени? В Дрездене барокко приглушено. В нем итальянский темперамент успокоен рассудительностью, гораздо более внимания отдано тут придворности, хотя прекрасный вкус нигде не забывает о границах. Кажется, из этих ворот замка вот-вот выльется процессия всей возвышенной немецкой культуры восемнадцатого и девятнадцатого столетий и двинется вдоль замковой стены на фоне золотых мозаик с конями и всадниками, полными не столько воинственности, сколько веселья. Чтобы разобрать, что же происходит в этот день там, у ворот, придется взять лупу. Да, это телега, вернее — фургон, запряженный двумя лошадьми. Он уже давно стоит тут: его видать и на первом снимке и на последнем… то есть в течение более чем часа. Но на третьем снимке возле фургона оказываются шесть грузовиков армии. Их водители расспрашивают о чем-то местных жителей. На грузовиках стоят ящики с консервами, — я хорошо помню их внешний вид — видал не раз у полковых кухонь. В двух машинах — буханки черного хлеба. Потом уж я узнал, что наши части кормили дрезденцев немалое время, пока удалось наладить снабжение города провизией. На шестом снимке через площадь проезжают саперные части: едут чинить мосты через Эльбу. А фургон все стоит. Вещей в нем уже не много. Двое стариков грузят чемоданы на ручную тачку. Вещи приехали откуда-то после конца войны. Найдется ли куда положить их? Более 75 тысяч квартир уничтожены полностью, более 15 тысяч подверглись тяжелым повреждениям, 81 тысяча требовали ремонта, и только 45 тысяч квартир уцелели. Более 35 тысяч человек — в том числе женщины, дети и старики — были убиты. Это произошло в ночь на 14 февраля 1945 года, то есть в то время, когда исход войны был решен. Советская Армия вела подготовку к окружению и взятию Берлина. Никакого стратегического смысла уничтожение Дрездена не имело. Никаких средств сопротивления у города не было. Английские и американские летчики сбрасывали свои бомбы с высоты 200 и 300 метров и расстреливали людей из авиапушек и пулеметов, зная, что солдат в городе, нет, что они стреляют по мирному населению. Центр города-музея был полностью разрушен. А ведь центр Дрездена — это сокровище архитектуры мирового значения. Это — только дворцы, храмы, музеи, парки, галереи скульптур под открытым небом. Ничего более, — только культура! А может быть, это тоже смешная фраза? Подумаешь, культура! Ричард Кроссман в английском еженедельнике «Нью стейтсмен» от 3 мая, ссылаясь на вышедшую в Англии книгу Дэвида Ирвинга «Разрушение Дрездена» и на некоторые другие публикации, пишет:МИН НЕТ
«…В городе находилось не менее 25 000 военнопленных из союзнических войск, а шестисоттысячное население увеличилось до миллиона за счет потока беженцев… Все это Черчиллю было хорошо известно. Но в это зимнее утро он узнал, что Красная Армия перешла Одер у Бреслау, всего в 80 милях от Дрездена. Обозленный, он позвонил в министерство авиации… Был дан приказ договориться с американским командованием о разрушении Дрездена…»А ведь он сам считал себя художником. Я видел его картинки маслом, весьма претенциозные, на одной из выставок в Европе! Так что он был вполне образованный солдафон! …Вот пачка фотоснимков Цвингера — гениального памятника барокко, в нем помещалась Дрезденская картинная галерея. Когда мы вошли во внутренний сквер… О, этот солнечный свет, который сияет из окон! Этот небесно-синий потолок, когда заглядываешь с земли в окна! Открытки с репродукциями мировых картин шуршали у нас под ногами. Я помню одну: злобный орел уносит в грозное небо ребенка — «Похищение Ганимеда» Рембрандта. Пушкин назвал ее странной. Вычурной формы бассейны были полны грязной водой. В них плавали дикие утки — плосконосые, радужные… Кувырк! — и то одна, то другая переворачивались вверх лапками, вниз головой и подергивали острым хвостиком, с которого слетали водяные капли. Кувырк! Они завтракали.
В ПРАГУ!
Путь от Дрездена в Прагу лежит по тем же превосходным дорогам, что и в Пруссии, но кругом все иное. Извилистые улицы маленьких городков, узкие и высокие дома с уступчатыми крышами и балконами, дома, которые шире наверху, чем внизу. Средневековье. Оно пробивается сквозь современность, поскольку оно художественно сильнее, его видишь прежде всего. Рядом с указателями автострадных маршрутов и автоколонками компании «Шелл» стоят вдоль дорог разнообразные святые, иногда целые группы, целые сцены, застывшие в скульптуре. Благовещение с золотым голубем, подвешенным над каменной Марией; Христос, два разбойника по бокам и петух, стоящий перед ними в позе шантеклера; коротконогий старик в развевающейся одежде баюкает крест, а над ним крыша из дубовых досок, черных от времени. Иногда дорога врывается в ущелье, где внизу шумит речушка, иногда она поднимается на перевалы и, как нитка в игольное ушко, втискивается в ворота высокой башни сквозь зубья поднятой решетки, когда-то защищавшей замок от врагов. Все засеяно кругом, все возделано. Нет ни одного клочка земли, свободного от человеческой заботы. Сложные сооружения из жердей и проволоки готовятся поднять на высоту второго этажа ростки фасоли; бесконечные грядки картофеля уходят к горизонту, по которому расставлены круглые шарики подстриженных деревьев: там идет дорога. Так мчались мы по последним километрам германской земли, приближаясь к границам Чехии. Тут был один крутой поворот, на котором нас обогнали тяжелые машины. Я видел, как один из наших автомобилей, шедший впереди, вдруг повернулся и сразу остановился. Дым и пыль вырвались из-под него. Я сначала не понял, что это и есть авария. Мы кинулись к машине. Я открыл дверцу, и оттуда прямо на меня, как будто в американском фильме о гангстерах, вывалился один из наших спутников. Его лицо было в крови, он был без сознания. Пока шофер выбирался из-под руля и осколков стекла, ощупывая свою грудь, мы возились над раненым, промывая ему рубцы на лбу и щеках. Кругом не было никого. Приближалась ночь. Вдруг в сумерках возникли перед нами люди. Они были одеты, как мне показалось, в тигровые шкуры. Они заговорили с нами на каком-то славянском языке, которого, однако, никто из нас не понял. Винтовки были у них в руках, гранаты возле пояса, маленькие шапочки на головах. Это оказались чехи-партизаны, еще стоявшие в здешних лесах. Они носили плащи с коричневыми разводами для маскировки. Партизаны мигом выставили караул возле разбитой машины, помогли нам пересадить раненых на другой автомобиль и объяснили, как доехать до ближайшего лазарета. Я остался на месте несчастья. Небольшая церковь стояла возле. Она была окружена кладбищем. Могучие надгробия богачей, глянцевитые, разодетые в золото надписей, и поодаль — камни бедных могил.«Спи, мой любимый. До свиданья».Слабый свет мерцал в преддверье церкви. Там стоял ночник перед мраморной доской и цветы в грубых глиняных крынках. На доске были перечислены имена тех, кто погиб в первую мировую войну. Маленькое селение потеряло пятьдесят два человека. В пределах ограды, но далеко, я нашел еще три могилы. На них не было памятников. На холмиках земли лежали увядшие цветы и камни, обвернутые алым кумачом. На одном из них я прочел:
«Карпенко Николай. Гвардии сержант».Высокая фигура вдруг возникла возле меня. — Огоньку не найдется, начальник? При свете спички я близко увидел курчавую рыжую бороду и белые козырьки бровей над выцветшими глазами, смотревшими на меня с любопытством. Это был пастух, белорус, один из тех, кого прислали в Германию, чтобы возвратить скот, угнанный немцами из разграбленных ими колхозов. Мы присели на холмик Карпенко, покурили молча. Мне не хотелось заводить беседу — расспрашивать, запоминать. Но хотелось посидеть со своим человеком. Уже два часа продолжалась ночь. Сильная луна освещала стрелу церковной колокольни, шифер на ее гранях отсвечивал зеленым, коровы вздыхали за оградой. — Мучается скотина, — сказал пастух. — Оббивает копыта об этот асфальт проклятый. Ведь сколько недель уж как гоним — и все по дорогам. Нельзя ж посевы травить. Часы над нами торжественно пробили три. Грохот мотора и гусениц послышался вдалеке. Вскоре из-за поворота появился тягач, на нем сидел замасленный и черный от копоти танкист. Увидев разбитую машину, он молча слез со своей громадины, выслушал, что случилось, и так же, ничего не говоря, взгромоздился вновь на свое место. Он подвел тягач к несчастному «ханомагу», зацепил крюком, развернул его и отволок в сторонку. Это была длительная и сложная операция, потому что колеса были исковерканы и машина застряла между двумя деревьями, откуда ее не так легко было выдернуть. Единственные слова, которые я услышал за все это время, были: «Прощайте, товарищ полковник». Я протянул ему руку, чтобы поблагодарить. Он вытащил какую-то тряпку, аккуратно вытер свою руку и подал мне. В грохоте и дыме он исчез. Вскоре мои спутники вернулись за мной, и мы поехали дальше. Наши раненые присоединились к нам через три дня, забинтованные, но здоровые. …Чехия несется у меня под правым локтем, слева — горный лес. Стволы, жилистые, как ноги альпинистов, упираются в скалы, карабкаются вверх по крутизне, уходят в непроглядную путаницу листвы, шарят ветвями по уступам, висящим над дорогой, покрытым розовым мехом мхов. Тут раздолье эльфам и гномам, тут заповедник сказок… но только не для тех, кого везут фронтовые шоферы. Каждую минуту мы ждем, что совершится наш прыжок прямо по параболе вниз, в долину, на тот свет. — Как видно, у тебя жизнь трофейная, что ты ее не жалеешь? — говорю я Воронкову, только что пулей проскочившему между встречным «студебеккером» и разбитым танком. Он оценивает мою мольбу по-своему: — Точно. Самый мой главный трофей за четыре года. И дает газу на смертельном повороте. Наконец мы спускаемся в долину — прямо к желтым платкам гречихи, прямо в яростный пурпур маков — и влетаем в деревню. Ограды из могучих камней без известки, дома, заросшие мальвами, аллеи черешен, десятины яблонь. Кончились белые флаги Германии, всюду трехцветные чешские знамена и алые полотнища советских флагов. Впрочем, не совсем всюду. Вот городок, и с площади, где стоит бронзовый Моцарт и толпы слушают русское радио, мы въезжаем в узкую улицу, а в ней по всем домам висят простыни, и платки, и скатерти из всех окон. Это немецкий квартал, и теперь он превратился в немецкое гетто. Даже вывески магазинов в белом: все фамилии немцев, все немецкие слова замазаны краской. Букет цветов летит нам в машину. Нам машут приветственно: «Наздар! Наздар!» Крутятся гигантские шаги. Горизонтально несутся канаты с пестрыми колоколами развевающихся юбок. Возле отдыхают «студебеккеры», на одном на крыше кабины сидят баянисты и наяривают Штрауса. Детвора облепила лейтенантов, в кругу идет пляс… Кончилась война! Наконец-то это чувство раскрылось в душе, как крылья. Как хорошо, что мы тут, что мы не в Берлине! Пришлось Воронкову сократить свой темперамент: по дорогам шли наши части, газовать было уже невозможно. Впрочем, теперь он и без необходимости притормаживал машину: — Ну и кони, ох, и звери! За дымящимися кухнями в рессорных экипажах ехали повара, и перламутровые звуки аккордеонов плыли над ними. Пехота шла вольным шагом со знаменами и командирами впереди. Желтые, как пшеница, усы светлели на загорелых лицах. Сбоку вели оседланных коней, и медленно двигались офицерские машины. Глянцевитые ремни, тугие скатки шинелей, ровное колыханье широких плеч… За пригнанностью обмундирования, за стройностью колонн, за всем блеском могучей армии — какие труды лежали в прошлом, какое товарищество! Сквозь эти ряды нельзя было проскочить не только потому, что они сбили бы всякого своим непреодолимым движением, но и потому, что в них между людьми не было свободного пространства, а была невидимая, но плотная среда, соединившая их, как поле сверхмощного магнита. Четыре года день за днем уплотнялась она — с каждым новым сражением, с каждой новой утратой. …Вот, наконец, и Прага. Она цела. Кое-где нет стекол, кое-где оббит угол дома, но город жив, и все население его — на улицах. Он весь в знаменах и стягах. Нет ни одного здания, которое не было бы украшено чешскими и советскими флагами. Каждые два дня находится предлог для того, чтобы превратить третий в праздник. Здесь торжество не только победы в этой войне, но освобождения от многовекового ненавистного ига германцев… Вероятно, из всех западноевропейских стран, переживших войну, Чехия наиболее благополучна. Западная ее часть совершенно сохранилась. Чехи получили вновь области, которые были отняты Германией. Их столица не пострадала. С востока вместе с Красной Армией к ним пришли чешские части, закаленные в боях, превосходно вооруженные. С запада, из Лондона, к ним также вернулись чешские дивизии. Бойцам Чехии была устроена фантастическая встреча. С рассвета стали к ней готовиться. На улицы вытаскивали столы, на них взгромождали стулья. Стремянки, пожарные лестницы, автомобили ставились на тротуарах, чтобы служить трибунами для публики при прохождении войск. Все улицы, прилегающие к магистралям, по которым должны были идти прибывшие, заполнились народом. Казалось, домов не стало: это были сплошные головы и флаги. Чехи обрели родину, которой они не имели в течение шести лет. Все, что связано с чувством национальной гордости, стало особенно драгоценным — песни, великие люди Чехии, памятники старины… Прага переживала праздник возрождения нации. Стояла прекрасная весна. Все было залито солнцем, и город казался карнавальным. Средневековье и современность соединились в Праге, пожалуй, наиболее ласково. Когда по узким улицам и по узким мостам через широкую реку, мимо статуй, сделанных из камня, от времени похожего на бронзу, движется процессия то с красными флагами, то с католическими хоругвями и иконами, когда тысячи детей, одетых в вышитые платья, все в цветах, под музыку или пение проходят, чтобы приветствовать президента или присутствовать на каком-либо молебствии под открытым небом, — это кажется мизансценами кино или театра, трудно поверить, что это взаправду. В Праге есть необыкновенные уголки, совершенно не тронутые не только двадцатым, но и девятнадцатым столетиями. Островерхие башни, узкие ворота, статуи пап на фронтонах храмов, гулкая высота готических соборов, наконец, старинные стены кремля, чем-то напоминающего московский, — все это придает городу особенный колорит. Становится понятным, почему эти пейзажи повторены в тысячах картин и гравюр во всех квартирах, во всех магазинах, во всех отелях. Чехи любят свою столицу, как мы Москву. Это были первые месяцы чешской самостоятельности после германского владычества. Мы жили в отеле «Алькрон», возле которого толпились всегда машины государственных деятелей и в котором можно было встретить запросто членов правительства в большом холле за столиками, за кружкой скромного ситро, поскольку иных напитков в Праге весьма немного. Там мне пришлось познакомиться с некоторыми из министров. Несколько часов я провел с министром пропаганды Копецким, выспрашивая его о чешской современности. Копецкий рассказывал мне о Москве не меньше, чем о Праге. Он говорил о ней с воодушевлением, с большой острогой наблюдательности и понимания. Вообще Москва для чехов — это открытие, долго ожидавшееся и наконец совершившееся. Искусственные преграды, возводившиеся всяческим политиканством между двумя народами, столь близкими по духу и происхождению, теперь разрушены войной. Много чехов побывало в Союзе, много русских — в Чехии, и эти личные знакомства обнаружили перед теми и другими их взаимную близость. Мы были на докладе профессора Зденека Неедлы, который рассказывал о Москве, о Советском Союзе. Вся интеллигенция Праги собралась в этот зал, устроенный глубоко под землей. Таких залов в Праге немало. Они созданы вовсе не на случай войны. Просто Прага очень тесный город, и там используется каждая возможность, чтобы отвоевать у тесноты еще несколько метров. В Праге можно ходить под домами, как если бы у них не было первых этажей. Дворов там нет. Вместо них — пассажи. Лифты опускают вас в подземные театры или поднимают вас в надземные магазины. Вы можете пройти в самый жестокий дождь из одного конца центра к другому, и ни одна капля не упадет на вас — устройство города, которое можно широко использовать в суровом климате нашего Севера. Зденек Неедлы рассказывал о Советском Союзе, и каждое слово его встречалось шумом одобрения. Когда-то так же интересовались Парижем, Лондоном или Нью-Йорком. Это был рассказ о народе, который стал для чехов самым близким в последние годы. Каждый из нас видел это всюду. На улице к нам подходили люди, совсем незнакомые, и дарили нам открытки с видами Праги или букеты цветов или спрашивали, скоро ли можно будет посетить Москву. Советские фильмы идут в Праге с неслыханным успехом. Бесконечные очереди стоят возле кинотеатров. Русская музыка торжествует на концертных эстрадах, русские стихи читаются в подлинниках и переводятся в огромном количестве. Многие изучают русский язык. В книжных магазинах Праги я не нашел ни одной русской книги — все были изъяты гитлеровцами. Нелегальной литературой считались произведения Толстого и Тургенева. Чешское искусство также подавлялось. На пражской киностудии разрешалось ставить не более пяти-шести чешских картин в год, причем это были картины, совершенно лишенные всякого политического содержания. Рядом с чешской студией немцы выстроили свою — больше и богаче. Вся чешская кинематография работала на немцев так же, как работала на немцев вся индустрия Чехии. Отсюда вывозилось все, что можно было вывезти. Ни в Праге, ни в других городах Чехословакии нет никаких запасов товаров, продовольственные склады пусты. Все надо начинать сначала. Но сделать это возможно и даже легко не только потому, что чехи превосходные работники, но еще и потому, что они получили сейчас вместе со страной, освобожденной Красной Армией, всю промышленность, которую эвакуировали немцы в Чехию для своих, немецких нужд. Незадолго до освобождения Праги Красной Армией в городе вспыхнуло восстание. Гитлеровцы подавляли его со всей жестокостью, им свойственной. Много чешских патриотов погибло в те дни. Сейчас на улицах Праги можно видеть как бы небольшие алтари, на которых стоят фотографии погибших и цветы. Мужчины снимают шляпы, женщины крестятся, проходя мимо. Часто люди подходят и опускают деньги в кружки, которые стоят возле. Это — помощь семьям погибших.
ВЕНА
Вена пострадала гораздо больше, чем Прага. В этом мы убедились в первые же часы пребывания там, когда нам долго пришлось колесить по городу в поисках дома, где жили наши товарищи. Мы знали только улицу и номер — название района нам было не известно. Какой-то прохожий предложил проводить нас и сел с нами в машину. Он оказался французом. Это был молодой человек лет под тридцать, хорошо одетый, с очень живым и веселым лицом. По дороге он успел нам рассказать, что был взят в плен в первые дни вторжения немцев во Францию, и что жена его живет с ним, и что он собирается уехать на родину, но для этого нужны некоторые запасные части для его автомобиля, которые он еще не разыскал. Я спросил его, как он жил это время. — Прекрасно! — ответил француз. — Я побывал в Чехии, в Венгрии, в Румынии. У меня родился сын за эти годы. — Как же случилось, что ваша жена оказалась с вами? — Я выписал ее из Руана, куда она переехала, когда Париж был захвачен бошами. — Но как вам посчастливилось избежать концлагеря и всех неприятностей режима? Он улыбнулся и протянул вперед свои руки. Это были руки слесаря с густой чернотой под ногтями, с большой мозолью на указательном пальце правой руки от напильника. Потом он показал на голову и сказал: — И то и другое устроено так хорошо, что я не пропаду нигде. — Что же вы делали? — Я инженер всех профессий. Я могу сделать все, что вы хотите. Например, у меня есть собственная система радиоприемников. Гитлеровские чиновники очень любили радио, а я могу чинить любые марки. Они приглашали меня для этой работы. Я быстро знакомился с ними, заводил связи. По одному поручению мне пришлось уехать в Бухарест. Там я закупил большое количество приемников и привез их в Германию. Гитлеровцы покупали их очень охотно. Так появился капитал. Взятка — движущая сила мира, в особенности у немцев. За взятку можно было сделать все, что угодно. Так, я выписал жену из Франции. Но я патриот. Я симпатизирую Объединенным Нациям, потому что только они могли спасти Францию. Я поехал в Югославию. Там я познакомился с некоторыми деятелями партизанского движения. Они жаловались мне, что у них нет оружия. Я решил устроить им это дело. Я взял несколько человек, которые находились на легальном положении, и поехал с ними в Берлин. Они везли с собой большие деньги, которые получили у партизан. Чиновник, к которому я их привел, сразу понял, кому и зачем нужны пулеметы. Но деньги сделали все, что было нужно. Мы купили у гитлеровцев пулеметы и автоматы для того, чтобы их же уничтожать. Эти люди вернулись в Югославию с хорошим грузом и хорошими документами. Благодаря мне немало гитлеровцев были отправлены на тот свет. Я тоже заработал на этом деле и положил в карман несколько тысяч долларов. — Почему вы оказались в Вене? — Именно здесь можно разыскать запасные части к моему «пежо». Французские машины не в ходу в Германии. Я знаю этот город теперь так же, как Руан или Париж. Сколько бы этажей ни было в домах, всякий европейский город делится на два: один — это тот, который видят все, другой — это тот, который видят умные люди. Если вам что-нибудь нужно, я могу вам помочь. Я скоро уезжаю, и лишняя сотня долларов мне не помешает. Вот и ваша улица. Между прочим, эта улица замечательна тем, что именно здесь жил один из самых знатных австрийцев — герцог Евгений Казерна. Я могу вам показать его дом. Француз высунулся из машины и стал оглядывать мелькавшие мимо здания. Это были особняки, затененные деревьями. Пышные решетки отделяли их от тротуаров. Зеркальные стекла сверкали на солнце. — Вот этот дом. Стойте! — воскликнул француз. Мы посмотрели на номер и увидели, что это как раз тот самый особняк, в котором мы должны были найти наших товарищей. Мы ничего не сказали нашему спутнику, и он проводил нас удивленными глазами, когда мы направились к подъезду. Квартира герцога Евгения Казерна оказалась весьма скромной. Большой кабинет был уставлен книгами. Их было здесь не менее пяти тысяч томов. Громадный письменный стол завален бумагами, очками и увеличительными стеклами. Скромная спальня, вся увешанная фотографиями и живописью, и только ванная была поистине роскошна — вся в голубом мраморе и с множеством приспособлений, в назначении которых не сразу можно было разобраться. Все здесь сохранилось так, как было при герцоге. Дом пришлось занять потому, что наша комендатура старалась не выселять жителей из их квартир и занимать только те, которые оставлены хозяевами. Вечер я посвятил изучению библиотеки герцога Евгения Казерна. Наиболее объемистый книжный шкаф был наполнен томами «Готского альманаха». Как известно, это почтенное издание, выпуск которого продолжался уже много десятилетий, содержит в себе перечень всех знатных фамилий всех аристократий мира. Здесь можно найти генеалогию Буаредонов, Юсуповых, Эристовых, Оболенских, Виндзоров, Черниных, Радзивиллов и прочих когда-то сверкавших домов. Трудолюбие герцога меня поразило. На полях сотен томов я находил отметки ногтем или карандашами разного цвета. Вероятно, владелец работал над ними упорно и со смаком. Вслед за «Готским альманахом» я нашел историю первой мировой войны в 35 томах, тоже проштудированную очень тщательно. Затем шли биографии полководцев, императоров, курфюрстов, герцогов и даже баронов. Сентенции, ядовитые, насмешливые или восторженные, пестрели возле всех имен, так что даже Юлий Цезарь не избежал дружеских упреков герцога, как если бы они жили через улицу или были женаты на сестрах. Альбомы фотографий занимали особый шкаф. Здесь герцог был представлен в любых видах. Это был мужчина великанского роста, в огромной шапке, увенчанной конским хвостом, и с палашом в полтора метра длиной, на специальном колесике, чтобы он мог кататься по полу без особенного скрежета. Герцог принимает парад французских войск, герцог здоровается с итальянскими генералами, герцог верхом на лошади объезжает строй австрийских кавалеристов — это была длинная биография, ибо герою ее было уже более семидесяти лет. Но и в преклонном возрасте он сохранил стройность фигуры и величественность осанки. Мягкая снисходительность не покидала его лица. Все фотографии, аккуратно наклеенные в альбомы, были снабжены краткими замечаниями и сведениями. Упоминались сорта вин, которыми встречали и провожали герцога, перечислялись титулы гостей и гостеприимных хозяев. Изучение библиотеки герцога Казерна помогло мне понять, что быть аристократом — это тоже довольно сложное занятие. Несомненно, для того чтобы запомнить хотя бы сотую долю всего того, что он прочитал и изучил в области геральдики и генеалогии высоких фамилий, нужен был бы пятилетний курс специального учебного заведения. К чести герцога следует сказать, что он был гоним фашистами. Отчасти это объясняется тем, что он оказался владельцем богатейших поместий, которые приглянулись нацистским руководителям. Поместья были реквизированы, а герцогу оставалось только нанять скромную квартирку в Хитцинге, которую он и занимал до последних дней. Меня поселили в одной австрийской семье. Я не знаю ни фамилии, ни имени моих хозяев. Это была комфортабельная небольшая квартира в двухквартирном особняке среди роз и соловьев. Хозяйкой ее оказалась женщина лет тридцати пяти. Она встретила меня холодным поклоном и проводила в комнату, которая была для меня предназначена. Наскоро помывшись и переодевшись, разбросав все вещи по диванам и стульям, я помчался осматривать город. Первый день был особенно насыщенным. Мы посетили Шенбрунн — старинную резиденцию Габсбургов, один из красивейших парков и дворцов Старого Света. Несмотря на то, что здесь также топорщат хищные крылья бронзовые орлы и со всех сторон торчат всякие гербы и эмблемы, все это имеет совсем не берлинский вид. Все это гораздо веселее, наивнее и скромнее. Все это больше гармонирует с штраусовскими вальсами, нежели с прусскими маршами.ФРАУ N
Вена — родина музыки Западной Европы. Мы побывали на венском кладбище, где есть площадка, на которой похоронены рядом Бетховен, Брамс, Шуберт и Штраус. Здесь всегда толпятся наши бойцы и офицеры. Я видел здесь русские надписи, сделанные нашими военными. У Шуберта: «Твоя симфония ге-моль бессмертна». У Бетховена: «Наконец я побывал у твоей могилы». У Брамса: «От всего сердца спасибо тебе за твою лиру». На памятнике отцу Штрауса написано по-русски: «Благодарим тебя за такого сына. Танкисты Н-ской бригады Миклохин и Альбов». Сын Вены — Моцарт похоронен не здесь, но венцы поставили ему памятник между могилами Брамса и Бетховена. В первый день осмотра города я вернулся домой поздно. Хозяйка открыла мне дверь, я поднялся к себе и не нашел никаких следов ералаша в комнате. Это не была просто уборка. В комнате появился небольшой туалетный столик, на котором в удобном порядке были расположены мои бритвенные принадлежности, под одеколоном была положена салфеточка, возле зеркала стояли цветы. Еще больше я был удивлен тем, что на письменном столе лежит лист промокательной бумаги, что мои карандаши очинены, что возле них стоит клей, лежат ножницы для бумаги, которых не было, когда я вошел сюда впервые. На ночном столике возле кровати стояла ваза, полная черешен, и несколько ягод как будто случайно упали на белый мрамор, хорошо выделяясь на нем своим красным цветом. На следующий день я хотел посетить музей техники, о котором слышал еще в Союзе. Я не знал, где он находится, и решил спросить об этом у хозяйки. Она вошла и, свободно расположившись в кресле, стала рассказывать. Она дала мне самые подробные сведения о музее. Когда я затруднялся в понимании ее речи, она легко переходила на французский или говорила медленно, перефразируя, чтобы я мог уяснить себе смысл. Она принесла несколько путеводителей и показала мне еще интересные места, которые стоило посетить. Я прожил в Венеоколо недели. Все это время неслышная и незримая забота меня окружала. Это были опытные руки, привыкшие все делать аккуратно и целесообразно. Все чистилось, стиралось и приводилось в порядок, причем с каждым днем все это более соответствовало моим привычкам и вкусам. Их понимали с необыкновенной чуткостью. При всей моей предвзятости я не мог обнаружить никакого следа подхалимства. Наоборот, холодность и достоинство сохранялись неизменно. У меня не было никакой охоты быть надменным, да это и не требовалось. Я знал, что этот дом не имел отношения к нацистам. Муж хозяйки, архитектор, уже пожилой человек, оказался интернированным в одной из союзных стран. Он был австрийцем и даже не работал в Вене во время гитлеризма. Особенно удивляла меня эта женщина, когда мне приходило в голову что-нибудь рассказать ей. О чем бы я ни говорил, я всегда встречал в ней чрезвычайно внимательную и напряженную слушательницу. Мне казалось, что она интересуется не столько тем, о чем я ей рассказываю, сколько самим фактом моего разговора с ней. У нее была культура выслушивания, особое умение быть внимательным и заинтересованным собеседником. Очень скоро она поняла круг моих интересов и уже совсем поразила меня, подобрав мне несколько статей и книг об австрийской литературе за последние десять — пятнадцать лет. Я не просил ее об этом, но она, вероятно, подумала, что это может интересовать мужчину. Мужчина в доме — таков был ее привычный рефлекс. Впрочем, может быть, я напрасно обижаю эту женщину, сводя ее жизнь к такой простой формуле. Против моего окна был четырехэтажный дом, и в каждом этаже по четыре квартиры, и в каждой квартире лоджия, куда выходила кухня. Шестнадцать женщин я мог наблюдать в течение всего дня. Вся их жизнь проходила передо мной. Утром они мазали руки кремом, натягивали резиновые перчатки, надевали фартуки и какие-то особенные головные уборы и принимались за работу, которую кончали поздно вечером. Стрекотали швейные машинки, урчали пылесосы, валил пар из посуды на плите, чистилось, мылось, стиралось и чинилось все, что может подвергаться этим операциям. Это был неутомимый, квалифицированный и — я бы сказал — вдохновенный труд. Вечером все шестнадцать фрау снимали свои перчатки, свои фартуки и кухонные шлемы и с достоинством людей, выполнивших свой священный долг, отправлялись на прогулку или в гости. Так шло изо дня в день без всяких изменений. Моя хозяйка не составляла исключения. Она вела дом с неутомимостью и искусством, и следы ее труда были видны всюду. На подушках и скатертях были ее вышивки. Кухня сияла чистотой в результате ее уменья. Цветы в саду выращивались ее руками, она украшала ими комнаты, расставляя букеты по столам или наполняя ими круглые стеклянные колбочки, висящие на кронштейнах по стенам. Я наблюдал ее ближе, чем тех шестнадцать фрау, которые, как птицы в гнездах, хлопотали перед моим окном. И я пришел к заключению, что здесь дело обстоит сложнее, чем если бы это было простое домоводство, чем рабство, покорность. Самое правильное слово для этого — служение. Оно состояло не только в обслуживании мужчины. Оно было еще соединено с какой-то идеей, — вероятно, оно представлялось ей как нечто поэтическое и прекрасное. Женщина отдавала мужчине свои труды, свою изобретательность, свой вкус, как если бы она была служительницей храма, где богом был он. «Алтарь семьи» — такова, должно быть, была та формула, которая позволяла ей сохранять достоинство и отличать себя от рабыни. По долгу своего писательского ремесла я попытался вообразить себя на месте такого божественного или обожествленного мужа. Ничего, кроме смущения и стыда, я не мог ощутить. Я подумал: как же самодоволен и эгоистичен должен быть тот, кому посвящаются все эти жертвоприношения и кто принимает их как должное?! И что происходит в душе женщины в те часы, когда она не занята своим служением? Какое одиночество, какая незаполнимая пустота. Легко вообразить, во что может выродиться этот субъект, этот объект поклонения, когда он привыкнет к своему божественному положению. Громовержец! Глава семьи, «патер фамилиас». А может быть, безразличный, вечно недовольный бюргер, толстеющий, требующий припарок, засыпающий после обеда, удостаивающий жену только двумя-тремя словами… Когда я уезжал и она подала мне большой букет своих роз и пожала мне руку маленькой крепкой рукой, я вдруг почувствовал, что расстояние, которое мне предстояло проехать до Москвы, уже легло между нами. Она оставалась в своем храме, в трелях соловьев, в молочном блистании священных сосудов кухни и ванной. Маленькая женщина с умными глазами, с живым воображением, с тонким вкусом… Быть может, она была достойна гораздо большего, чем то, чему обрекла себя, чему была обречена?«575»
Мы вернулись в Берлин через три недели. За наше отсутствие город претерпел перемены. Улицы были полны народу. Люди уже не стеснялись хорошо одеваться. Желтые вагоны надземки грохотали над улицами. Двухэтажные омнибусы с рекламами несуществующих предприятий проплывали мимо развалин, набитые пассажирами. Длинные очереди стояли в ожидании этого транспорта. В полуосвещенном метро ходили поезда в три вагона. В городе появилось огромное количество полицейских призывного возраста в зеленых мундирах и касках с рубиновыми стеклами над козырьками. Пока они только наблюдали, изредка вмешиваясь в толкучку или старательно помогая нашим регулировщицам приводить в порядок движение в особенно людных местах. На главных магистралях тротуары уже были очищены от кирпичей, которые лежали аккуратнейшими рядами вдоль стен. Всюду были видны наши саперы. Там они натягивали провода трамваев, здесь вкручивали лампочки в уличные фонари или возились в тоннелях метро, которые в Берлине проходят на глубине не более четырех метров и во многих местах продырявлены авиабомбами. Через Шпрее и каналы были уже наведены деревянные, но прочные и широкие мосты — тоже трудами наших людей. Наши грузовики и тягачи везли картофель, морковь и ревень для берлинцев. Мы решили посетить Моабит — знаменитую тюрьму, которой гордилась Германия и до Гитлера и при Гитлере. Мы не знали, где она находится, и, кроме того, никто из нас, как назло, не помнил, как по-немецки «тюрьма». Мы плутали по огромному городу. Наконец мы решили обратиться за помощью к прохожим: — Битте, во ист Моабит? (Где находится Моабит?) Какой-то старик пробирается к нашей машине. Инвалид поворачивает свое кресло к нам. Три дамы и пять человек подбегают с противоположной стороны. Мужчины снимают шляпы. Дамы умильно наклоняют головы вправо и влево. Дети смотрят на нас, как ангелы на римского папу. Начинается обсуждение, как лучше, как удобнее проехать русским офицерам в Моабит. Но беда в том, что Моабит — это не только тюрьма. Так называется и большой городской район, и где в нем тюрьма — неизвестно. Мы пытаемся объяснить, что нам нужна именно тюрьма. Мы скрещиваем пальцы, изображая решетку, скрещиваем руки, изображая наручники. Дети смеются, думая, что мы показываем им «козу». Взрослые ничего не понимают. Тогда кому-то из нас приходит в голову простой и, вероятно, безошибочный способ. — Дом, где погиб Тельман, — говорим мы. Полное недоумение. — Какой Тельман? — спрашивают нас. — Такой улицы в Берлине нет. Величайшее огорчение написано на всех лицах. Дамы грустно кивают головами, у мужчин вид такой, будто их поймали с поличным. Они зовут на помощь. Вокруг нас митинг. Все уже в курсе дела, и все озабочены сверх всякой меры. Мы еле продираемся сквозь толпу. Все снимают шляпы. Как это ужасно, что они не смогли помочь русским офицерам! Все-таки мы добрались до Моабита. Перед высоким красным зданием, напоминающим церковь, стоит бронзовый лев, который бьет лапой змею. Опять оскаленные зубы, топорщащиеся усы, яростный хвост с шишкой на конце — звериная эмблематика империи. Какие-то чугунные властители с плюмажами и саблями стоят у входа. Дальше — двойные стены, между которыми нечто вроде рвов, только без воды, и бетонные цилиндры с амбразурами для обстрела этих канав. Легко себе представить человека в полосатом, который мечется на глубине, укрываясь от пуль, и наконец падает, обдирая ногти о камень стены. Сквозь дверь, массивную, как в газоубежище, мы входим в тюрьму. Да, вот это — тюрьма! Вертикальная труба в шесть этажей со стеклянным куполом наверху. Вокруг нее внутри — шесть ярусов решетчатых мостков. Во все стороны идут лучи коридоров. Внизу, на дне трубы, — огороженный круг с металлическим конусом, решетками и тросами. Вид их имеет ту устрашающую значительность, которая присуща акробатской аппаратуре на арене цирка. С любой точки здесь можно видеть все остальные. Огромный птичник с нашестами и дверцами. Тут даже пахнет как в птичнике. В Моабите около 800 камер. Одну из них мы осмотрели особенно внимательно. Пять шагов в длину, три шага в ширину. Койка, стол, привинченный к полу, стулья, привинченные к стене. Радиатор отопления и уборная, ничем не огороженная. Окно под потолком, сквозь которое ничего не видать, номер над дверью — «575». Вот здесь и провел два года Тельман. Даже воспоминание о нем считалось преступным во времена нацизма.«НОВАЯ ПРОГРАММА»
…Среди развалин нарисованная от руки афиша:Мы идем смотреть смешные номера. Это варьете. В вестибюле много женщин, род занятий которых не вызывает сомнений, и молодых субъектов в темных брюках, в светлых пиджаках до колен и с волосами длинными, зачесанными на затылок, как будто их владельцы решили отрастить себе косы. Такова последняя мода. В Берлине не много целых домов, но существует мода. Какие-то почтенные дамы ведут на цепочках животных, морды которых напоминают о дальнем родстве с собаками. У них почти отсутствуют лапы, и они везут свое брюхо по полу. Несмотря на непомерное количество шерсти, они кашляют и хрипят, — вероятно, их рафинированные организмы дурно перенесли последнюю военную зиму. Большой зал еле освещен одной лампой под потолком. Все места заняты. Нам услужливо освобождают целый ряд, и мы сидим почти в одиночестве. Зажигается вторая лампа, и перед занавес выходит девушка в трусиках и в обрезанном до живота кимоно. Она проносит вдоль рампы доску с фамилиями артистов, занятых в предстоящем номере. Писавший думал, что он пользуется русским алфавитом, но мы с трудом разбираем лишь несколько букв, напоминающих русские. Начинается спектакль. Пожилой человек с супругой, синеватые ноги которой открыты значительно выше колен, потея и страшно напрягаясь, ставят один другого на руки и потом переваливаются друг через друга, тщась изобразить непринужденность на красных лицах. Они сдабривают свои усилия «смешными номерами», которые сводятся к примитивному неприличию. Публика неистовствует. Люди подпрыгивают на стульях от хохота. Артисты стараются, как могут, но, кажется, после этого номера им уже не встать. Внезапно гаснет свет. В наступившей тишине вдруг отчетливым становится шум дождя. Свет не загорается, дождь шуршит по крыше, и вот сперва слабо, потом все с большей силой льется куда-то в оркестр струя воды. Но оркестр играет. Он играет танго «Мария». Вероятно, это была популярная песенка когда-то. Вероятно, с ней у очень многих связаны воспоминания, — может быть, о юности, может быть, о любви, а может быть, просто о спокойной жизни. Зажигают несколько свечей в оркестре, и в их слабом свете я вижу перед, собой женщину, которая, уткнувшись в платок, сдерживает рыдания. Соседка успокаивает ее, прижимается щекой к щеке, обнимает, целует… Но не выдерживает сама и, припав к плечу подруги, плачет. Плачут и сзади, плачут рядом… Зал плачет и тихо поет танго «Мария». Оркестр доигрывает до конца. Лампы зажигаются снова. Дождь перестал. Перед занавесом конферансье. Он говорит какие-то пустяки, и зал смеется. Прижимая к глазам платки, зал хохочет, потому что снова начинаются смешные номера, потому что это — варьете, а в варьете приходят, чтобы смеяться. Мы опускаемся в подвал, где тесно, как в бомбоубежище во время тревоги. Вдоль стен там стоят столики, за которыми пьют какое-то пойло, изображающее пиво. Кельнер во фраке, надетом поверх белого фартука, балансирует подносом, подняв его над головами. Он движется плавно, как бы в каком-то сомнамбулическом танце, полузакрыв глаза, извиваясь и волоча йоги. — Цвай биир, цвай унд фирцих! Цааль! — поет он в темноту, и бас за стойкой повторяет его крик, как эхо в пещере. Посредине танцуют. Танцевать, собственно, негде. Поэтому люди просто подпрыгивают на одном месте и поворачиваются, если им это удается. Слабый свет из подвальных окон освещает лица, на которых полное довольство. Рядом с нами за столиком сильно похудевший старик и дама преклонных лет. Старик изысканно любезен с кавалерами, которые иногда приглашают его супругу потанцевать. Когда она вдавливается в толпу, он ведет с нами разговор. Он прилично говорит по-русски и очень свободно по-французски. Он коммерсант. Он бывал в Харбине и потому уверен, что изучил Россию: «О, это страна величайших возможностей, неограниченных запасов сырья!.. Шесть лет немцам не позволяли танцевать в публичных местах. Красная Армия освободила их, и теперь им можно танцевать. Сегодня первый день, как моя жена танцует. Я ждал этого шесть лет. Теперь начинается новая жизнь». Он расточает нам тривиальные комплименты, все время следя за тем, какое впечатление они производят. Мы покидаем это веселье. Мои спутники прошли вперед, мы с приятелем немного отстали. Они миновали группу молодых людей в белых пальто, руки в карманах, расставленные ноги, сигары в зубах. Те не заметили, что идет еще один русский офицер, и не успели заменить выражение глаз и лиц, когда мы поравнялись с ними. Да, это были они! Те самые, с которыми встречались наши бойцы в рукопашных схватках и представителя которых изобразил на своей картине один из фрицев — Фриц Фрелих из Ланца. Они исчезли, как только мы прошли мимо, их как сдунуло. Какая-то пожилая дама, которую вел на поводке безлапый пес, умиленно закивала мне, приветственно улыбаясь.ТАНЦЫ! НОВАЯ ПРОГРАММА!
БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ!
СМЕШНЫЕ НОМЕРА!
ЕЩЕ ОДИН РУБЕЖ!
Наши советские комендатуры в Берлине находить очень легко не только по указателям на улицах, но и потому, что перед ними всегда толпится народ. Перед входом двойной караул — наш боец и немецкий шуцман. Комендант обычно принимает по утрам. Это подполковник или полковник, кадровый военный, человек с организационным опытом и политическим чутьем. Наша страна воспитала много таких людей — умеющих организовать массы, разбирающихся в самых разнообразных вопросах, привыкших неутомимо работать. Кабинет коменданта — это, пожалуй, самое интересное место в Берлине. Здесь можно увидеть город, так сказать, в вертикальном разрезе, представить себе, чем живут сейчас немцы, что они собою представляют и — нечто еще более важное: что такое мы. Часами просиживал я возле коменданта, вслушиваясь и вглядываясь в тех, кто только недавно был нашим страшным врагом. — Следующий! — кричит адъютант, и в комнату входит следующий. Он снимает шляпу, он кланяется, он никого не видит, кроме офицера, сидящего за большим столом. Ему предлагают сесть, и начинается беседа. Иногда она бывает очень короткой. — Господин комендант, я хочу обратиться к вам с вопросом, который касается всей моей жизни… У меня есть сын… Он был мобилизован… Он, конечно, пацифист, он попал в плен к американцам. Я прошу, в виде исключения, сообщить мне о его судьбе. Комендант уже привык к подобного рода вопросам. — Переведи ему, — говорит он переводчице, — что я не американец и в плен его сына не брал. Пусть идет к американцам и узнает там. Посетитель встает, на лице его удовлетворенное выражение, он благодарит. Всю гамму звуков благодарности я изучил досконально в кабинетах комендантов, все разнообразие поклонов и улыбок. — Следующий! Сразу входят несколько. Это скромно одетые, с истомленными лицами и большими руками, приземистые люди. Они теребят форменные фуражки. Сесть им негде, и потому разговор ведется стоя. Они служащие метрополитена. Они вызваны в комендатуру для того, чтобы сообщить о состоянии подземных линий. Они принесли план, чертежи, перечень повреждений. — Есть у вас инженеры? — спрашивает комендант. — Нет, инженеров нет. Есть только мастера. — Спроси у них, могут ли они починить сами. — Мы можем починить сами, но нам нужно разрешение от магистрата. — А магистрат не разрешает? — О нет! Магистрат не дает ответа вот уже целую неделю. Он изучает этот вопрос. У них нет еще данных. Мы решили обратиться к вам. — И правильно сделали. Принесите мне план работ. Календарный план работ, вы понимаете? Чтобы там было сказано, к какому дню и часу какие работы должны быть выполнены. Сделайте график. Понимаете? — Комендант хватает карандаш. — Вот. Слева в вертикальный столбик пишется титул. Вы понимаете, что такое титул? Это объект работ. Ну, например, очистка от мусора какого-нибудь участка, или замена испорченных рельсов на этом участке, или еще что-нибудь. Наверху по горизонтали вы пишете число. Получается сетка. Вы затушевываете дни, которые потребны на производство отдельных работ. Получается наглядная картина. Понимаете? Немцы собираются вокруг стола, рассматривают, переговариваются, робко тычут пальцами в чертеж коменданта. Потом они отступают от стола: они поняли. — Завтра к шести часам, — говорит комендант. — План. — Он стучит пальцем по чертежу. — Сюда придете, хир. Ясно? — Следующий! Входит пара. Ему лет шестьдесят пять, ей — шестьдесят. Они одеты празднично. Он — в непромокаемом плаще, в мягкой шляпе, с палкой; она — под вуалью, с большой сумкой, вероятно для продуктов. Они садятся по обе стороны стола. Пауза. Наконец она говорит тихо: — Расскажи все, Готлиб. — Может быть, ты расскажешь? — говорит он тихо. — Видите ли, господин комендант, — начинает старушка, — я потеряла первого мужа в начале той, первой войны. Он был убит… После этого я жила совсем одна, и это было очень трудно… Я стала плохо видеть и не могла шить. Я свято чтила память покойного и не решалась изменить своего образа жизни… Она вынимает платочек из сумки и вытирает глаза. — Господин военный комендант, — вступает ее спутник, — я никогда не был убежденным холостяком, но так случилось, что я не мог себе найти подругу по сердцу… Вот сейчас… после всех этих великих событий я понял, что я могу устроить свою жизнь более счастливо, и поэтому я решил… Он опускает голову и подбирает слова. — Господин полковник, — говорит старушка, оправившись, — мы любим друг друга. Мы решили пожениться… Мы пришли, чтобы спросить: можно ли это? — А по вашим законам это можно? — спрашивает полковник, подумав. — Да, да, конечно. Здесь не встречается препятствий. Мы свободны… — Так чего же вы спрашиваете? — кричит комендант. — Женитесь себе на здоровье. Я не возражаю. Старики встают. Они не понимают, о чем кричит комендант. Они испуганы. Может быть, они совершили какую-то страшную ошибку? Переводчица переводит, и лица их приобретают райское выражение. — О, шён данк, герр оберст, шён данк! Может быть, мы могли бы пригласить… — Марта, пойдем, — говорит старик, — герр оберст занят. Он не может тратить времени на пустяки. И, кланяясь, пятясь к двери, они ретируются. Перед столом появляется высокий человек, уже седой, в золотых очках, подчеркнуто благородного вида. — Мне необходимо поговорить с господином комендантом по вопросу, имеющему государственное значение, — произносит он. — Пусть говорит, только поскорее. — Как известно господину коменданту, до сих пор Чикаго был главной мясной базой мира. Американцы концентрируют все жиры на земном шаре. Сейчас, когда мощная Красная Армия вызвала восхищение всего цивилизованного мира и явилась одним из залогов победы России, русским надо бороться за жиры. Разрешение продовольственной проблемы народов Европы может быть сделано только русскими. — Ближе к делу, — говорит комендант с тоской. — Чего он хочет? — Нет никакого сомнения, — продолжает посетитель, — что возрождение Европы зависит от того, насколько успешно удастся решить проблему жиров. — Скажи ему, чтобы не болтал зря. Пусть выкладывает, в чем дело. — Для решения этой проблемы должна быть привлечена порода немецкой благородной свиньи «Берквирс-расе». Она характерна исключительно быстрым ростом и плодовитостью. Мой отец и я добились того, что первый приплод эта свинья дает в возрасте от одиннадцати до двенадцати месяцев. Количество поросят колеблется от двенадцати до шестнадцати. После шести месяцев вы можете забивать уже готовых полноценных свиней, вес которых к этому времени достигает двухсот семидесяти фунтов. — Где эти свиньи? — спрашивает комендант. — Эти свиньи всюду, господин комендант, всюду в Германии, если внимательно вглядываться. Для того чтобы достигать этих результатов, нужно немногое. Во-первых, необходимо производить откорм по принципу Бейлке-отца. Способ запатентован и представляет собой мою собственность. Затем свиньи должны содержаться в лучших в мире свинарниках системы Бейлке. Передвижные ручные шприцы для дезинфекции, а также паровое отопление системы «Бейлке и сын» стоят дешевле, чем какие-нибудь иные приспособления. Я могу рекомендовать еще кормопаровик системы Бейлке. Им может пользоваться любой обитатель русской степи. После десяти лет паровик работает так же хорошо, как и в первый день. — Вы можете продемонстрировать ваши шприцовки и паровики? — спрашивает комендант. — Сейчас все разбомблено, господин комендант. Но если мне будет предоставлен завод и кое-какие преимущества в отношении питания, я ручаюсь, что через полгода вы получите все согласно вашему заказу. — Спроси у него, какое у него образование, — говорит комендант, вероятно желая выиграть время, чтобы обдумать услышанное. — Я инженер. Мой отец агроном. — У вас есть научные труды? — У меня нет научных трудов, но обо мне много писали. Он вытаскивает из портфеля кипу журналов. Он не долго роется в них, потому что о нем писали преимущественно на обложках, вместе с широковещательными рисунками и надписями громадными буквами в таком роде:Пока рабочие метро готовят график для коменданта, пока происходит свадьба двух стариков и раздел имущества бывших супругов, я провожу время в другой комендатуре. Характер этого района несколько иной, иные здесь и вопросы. Раскрывается дверь, и в комнату входит невероятно длинный человек с отсутствующим и удивленным выражением лица. Он идет слегка боком, выставив левое плечо, правая рука его оттянута назад — он ведет маленького полненького человечка, гладко остриженного, с круглой головой. Они становятся перед столом, переминаясь с ноги на ногу. Один достигает пояса другого. — Я — Пат, а это — Паташон, — говорит длинный. — Мы артисты. Может быть, вы слышали о нас, господин комендант? Нельзя смотреть без улыбки на этих людей — уже их внешность вызывает смех. — Прошу садиться, — говорит комендант. — Что вам угодно? — Мы хотели открыть театр. Сейчас, нам кажется, это очень важно. Может быть, наконец, нам можно будет посмеяться и посмешить. Сколько лет мы не имели этой возможности. — Почему? — спрашивает комендант. — О, почему?! За время нацистов мы не сделали ни одной кинокартины. Нас разъединили. — Да, нас разъединили, — говорит Паташон и смотрит на Пата влюбленными глазами. — Они даже заставили его поссориться со мной. Со мной, с Паташоном! Пат глубоко вздыхает. Он расстегивает две пуговки черной рубашки, которую носит под пиджаком. — Наш жанр такой, что мы должны быть вместе, — говорит Паташон. — Когда умер мой первый Пат, я долго искал второго. Вот я нашел его, наконец, — это было очень трудно, потому что такие встречаются не часто. Они поссорили меня с ним. Теперь мы опять вместе. Мы будем опять выступать с нашими номерами, хотя… Паташон встает. — Я прошу вас никому не рассказывать, господин комендант, но я несколько похудел за этот год. На сорок фунтов. Это очень много. У меня спал живот, вы видите? — Он становится в классическую позу Паташона, выпятив зад и подняв голову. — Вот тут должен быть большой живот. Только тогда это смешно. А его нет. И мне пришлось заказать искусственный живот, я его буду носить пока не потолстею. — Кроме того, у нас есть еще одна просьба, господин комендант. Мы написали сценарий для новой картины. Мы хотели бы ее поставить здесь. Как вы думаете, будет для этого возможность? — Если хороший сценарий, почему же! — говорит комендант. — Что мы должны делать? — Переписать его аккуратно, вложить в папку и переслать в центральную комендатуру. Мы посмотрим, что это такое. — Мы будем очень благодарны вам, если вы нам поможете. Мы бы очень хотели поставить его на немецком и на русском языках, чтобы русские зрители тоже могли увидеть картину. Может быть, вы поможете нам найти русских артистов? — Это надо делать через магистратуру. Вы были там? У Пата и Паташона вытягиваются лица. — Да, конечно. Но они еще ничего не решили, они сказали, что дадут нам ответ через месяц… Комендант пожимает плечами. — Ну, хорошо, принесите сюда ваш сценарий, мы посмотрим. Они встают. Пат берет за руку Паташона, и, кланяясь по-клоунски, они уходят. Через неделю я встретил их опять у коменданта. Они открыли уже свой маленький театр под названием «Оберун». Разговоры, которые можно услышать в кабинетах комендантов, не случайны. Иногда они имеют неожиданный характер, однако всегда в них есть отражение нашего отношения к побежденным и отношение побежденных к нам. Если к коменданту идут немцы буквально со всеми своими нуждами, со всеми своими волнениями и жизненными мелочами, то это происходит прежде всего потому, что население убедилось в деловых результатах таких посещений. Оно почувствовало за внешностью наших людей, лишенной всякого шика, так же как и всякой надменности, чистоту намерений и большое сердце. Случайно я подслушал разговор двух немок в очереди перед комендатурой. Одна убеждала другую не бояться. Она говорила примерно так: — У таких людей (то есть у русских) нет личных интересов. Они служат своему государству и выполняют его указания. Они ничего не хотят для себя. То, что нужно их государству, они выполнят, и здесь с ними ничего нельзя поделать. Но их личные интересы для них не существуют. У них это считается преступлением. Уверяю вас, что они не хотят никому из нас зла.
Как это ни странно, но из поездки по загранице я лучше узнал мою родину и из общения с немцами глубже понял наш народ. Пожалуй, подсознательно все мои впечатления не столько шли на создание какой-то концепции о Германии, сколько были как бы инструментом для сравнения и для познания нас, русских, советских людей. Наш народ совершил действие, которое поразило весь мир. Это была победа над сильнейшим противником, причем победа после такого положения, когда, казалось, все шансы были на стороне врага. Множество наших людей оказалось в Европе, в самом центре ее. Они столкнулись там не только с побежденными, но и с другими нациями планеты — американцами, англичанами, французами, чехами… Громадное поприще мирового порядка открылось перед нами, громадное количество совершенно новых дел, непривычных, в новой и сложной обстановке, навалилось на нас. Между тем наши люди остались все теми же, какими они были и дома, в своих мирных трудах, но с какой расторопностью и как быстро ориентировались они в своем новом положении и как свободно и точно повели себя. Я присутствовал на встречах наших офицеров с иностранцами, наблюдал деятельность наших комендантов, работу наших инженеров и техников за границей — и всегда дивился и любовался. Были во всем этом какая-то свобода, смелость и простота, сразу отличавшие нас. Тут, в иных условиях жизни, стали особенно видны, как на просвет, все качества, которые есть в русском человеке, и все особенности, воспитанные в нем советской системой. Говорят, у нас лучший театр в мире. С таким же правом можно сказать, что мы — наименее театрализованная нация в мире. Это касается прежде всего внешних проявлений. Часто путались два понятия — культуры и внешности. Теперь не только нам, но и иностранцам стала ясна разница между этими вещами в отношении нас. Никакого стремления к внешнему эффекту нет в русском человеке. Он выше этого, он пренебрегает эффектностью. Сейчас, когда его необыкновенные деяния стали очевидны для всех, мир начинает понимать, что русских надо оценивать по их делам и что мы сами ценим людей не по словам или манерам, а по результатам их деятельности.
ДОМОЙ, ДОМОЙ!
Приближалось время отъезда. Все чаще я сидел перед радиоприемником и слушал Москву, все скучнее казался мне подстриженный кустарник вдоль забора перед окном. Новые впечатления уже туго входили в сознание… Я жил в далеком предместье Берлина — Каролиненхофе. В последние дни машина, которую мне давали для поездок, испортилась, и я бродил по городу-саду, надоевшему мне, как олеографии, развешанные по стенам в квартире моих хозяев. Мои хозяева! Там было двое мужчин — один побогаче, другой победнее. Тот, кто побогаче, был директором какой-то папиросной фабрики и приезжал только изредка. Он пытался подарить мне коробку сигарет, а когда это не вышло, приступил ко мне с разговорами. Изысканно любезный, коротенький, в дорогом костюмчике, с сигарой в руке, он сидел, вытянувшись передо мной, на кресле, готовый каждую минуту услужить. Прежде всего он спросил меня, правда ли, что в СССР огромная смертность от голода. Я ответил ему, что такая смертность имела место в Ленинграде по известным ему причинам, но что вообще смертность в СССР меньше, чем в какой-либо другой стране в Европе. Тогда он спросил меня, с какого возраста государство отбирает у нас детей, чтобы выращивать их в специальных воспитательных домах. Он выслушал мой ответ, делая вид, что верит, и тотчас задал следующий вопрос: имеет ли право гражданин Советского Союза обладать собственным домом? Когда я сказал, что да, он спросил: — А можно ли иметь домашнюю работницу? — Можно. — А двух домашних работниц? — Ну, если это почему-нибудь необходимо, то можно. Он был удовлетворен ответом и вежливо простился. Подойдя к двери, он вдруг вернулся и спросил доверительно: — Скажите, а если бы в этом собственном доме при помощи этих двух домашних работниц я бы стал выпускать очень хорошие сигареты, это можно? Когда я ему сказал, что этого уже нельзя, он поблагодарил и удалился. Было видно, что он с трудом сдерживает торжество: он был уверен, что поймал меня и что все сказанное мною было неправдой. Особенно меня раздражала юная фрау с хорошеньким личиком, дочка папиросного директора. Она тоже приезжала не часто, но, приехав, тотчас наполняла дом шумом своих стремительных действий. Черная собачонка бегала все время за ней, как черная кошка за ведьмой. Один из моих приятелей как-то плеснул проявитель на маленькую скатерку, лежавшую на столе в гостиной. Несколько своих приездов фрау посвятила выведению пятна. Скатерть вымачивалась в особых растворах, потом сушилась, потом стиралась, потом ее раскладывали на столе и посыпали порошком, потом расстилали на траве и подвергали действию солнечных лучей! Бурная деятельность фрау была направлена на эту скатерть в течение нескольких дней, каблуки стучали по лестницам, грохотали тазы и корыта, лай собачонки яростно сопровождал все эти шумы, и мне стало казаться, что не собачонка, а сама фрау тявкает в кухне, в подвале и на дворе. Я уходил к озеру и сидел там в безлюдье. Пустые виллы на том берегу отражались в воде, пели птицы, одинокий старик бродил между деревьями общего пользования. Огромный и худой, он был похож на крест с надломленной с обеих сторон перекладиной. Этими длинными руками он шарил по земле. Изредка он находил шишку. Тогда он нес ее к розовому эмалированному ведру и бросал… Нет, клал ее туда. Его ноги в ночных туфлях без задников, его руки и даже его лицо были плотно опутаны черными веревками вен, как сетью, из которой уже не выпутаться. Его одежда была такой же дряхлой, как и он сам, — жесткая, будто пропитанная известью склероза… Он двигался неслышно и был вполне безобиден, но даже и он чем-то досаждал мне. Невольно я отмечал его излишнюю, как мне казалось, прямизну, весь он был скован той мускульной напряженностью, которая вообще свойственна немцам, он был подчеркнуто отъединен от всего окружающего. Он действовал так, будто ничего более важного, чем собирание шишек, не существует на свете. Мне не удавалось его не замечать. Почему-то мне представлялось, что он адепт какой-то науки — шишкологии, что ли, — и что за ним существует некая иерархия шишечников, которая простирается вниз со своими шишечными знаменами, шишкенфюрерами и шишкенюгендом. И вот он уже перед лицом вечности наполняет сейчас свое последнее, предсмертное ведро, чтобы передать его, как завет, будущим поколениям, столь же непреклонным, твердым и опытным в этом занятии, каким был он всю свою долгую и достойную жизнь. Это уже были галлюцинации мысли, или, попросту, тоска по родине.Как-то вечером, возвращаясь с озера, я встретил целую толпу наших офицеров, и они стали звать меня послушать концертную бригаду, приехавшую из Москвы. Я не соглашался, я берег свое желание вновь свидеться с нашим искусством по-настоящему — там, дома, в родном городе. Но они взяли меня под локотки, и мне неудобно было сопротивляться на улице, перед немецкими окнами. В пивном помещении с деревянной резьбой в простенках был устроен наш временный клуб. Мы расселись на разнокалиберных стульях, в тесноте, под режущим светом голой лампы. Я ничего не ожидал от программы и сидел больше из солидарности. Открылась дверь, и к нам вышел Сурен Кочарян. Он снял очки, устроился в большом кресле, как бы дома, перед камином, и стал рассказывать. Это были сказки из «Тысячи и одной ночи». Он был одет в прекрасный европейский костюм, он выглядел совсем так, как видел я его у друзей или на эстраде в Москве. Он читал хорошо, как всегда. Но тут и сейчас я слышал его как бы в первый раз и все понимал по-другому. Я увидел вдруг восточные черты его лица, уловил почти неуловимый, мягкий призвук его произношения, ощутил всю естественность особенной, только Востоку свойственной интонации фраз, которая звучала сильнее всего там, где сквозила ирония. Здесь было не только перевоплощение актера. Тысячелетия культуры, рукописи Матенадарана, пергаменты Самарканда, тишина восточных кабинетов Ленинграда стояли за этим. И Кочарян был уже не в черной тройке, при галстуке бабочкой, — перед нами в полосатом халате и в тюбетейке на ковре чайханы сидел сам Насреддин, возмутитель спокойствия, наш иронический друг, сын нашего Востока. Многими тысячами километров был отделен он от своей, от нашей родины. Но там, дома, мы и представить себе не можем, каким богатством обладаем. Только потеряв его на время, как случилось со мной, можно со всей силой ощутить, какой наполненный и просторный мир окружает нас на родине, на гребне Европы и Азии, слившихся в нас. Кочарян поднялся, надел очки и поклонился в ответ на наши аплодисменты. К удивлению своему, я услышал робкие рукоплескания из-за окон. «Это они от воспитанности», — подумалось мне. Потом была музыка. Виолончелист и пианистка исполняли Чайковского и Шумана. Они играли прекрасно, это был настоящий столичный класс игры. Между тем подобные концерты были не редкость в армии, и не только в дни мира, но и во время войны. После «Музыкального момента» аплодисменты из-за окон вдруг заставили нас всех повернуть туда головы. Я бы сказал, что лица немцев выражали не только удовольствие, но прежде всего удивление. Они уже подошли вплотную к подоконникам и не обращали на нас никакого внимания — их глаза были прикованы к исполнителям. Они переговаривались во время перерывов, оживленно что-то обсуждая, и потом все обращались в слух, когда начинался новый помер. Потом вышли три баяниста Радиокомитета, известные всему Союзу. Они уселись в ряд на три стула, и тогда быстрым шагом к ним подошла и встала перед нимипевица. Я не запомнил ее фамилии, к этому времени я был почему-то слишком взволнован и как бы находился уж не тут, не в Берлине. Она показалась мне высокого роста, что-то горделивое было в ее осанке. Лицо ее нельзя было назвать красивым, оно было ясное. Черный сарафан в красных цветах, красным платком повязаны волосы. Три музыканта рванули свои баяны, и она запела. Не знаю, что там было, в этой песне, в этом пении. Но как будто каким ударом весла отчалил я от твердой земли, и помчало меня — то ли по воде, то ли по воздуху даже, — во всяком случае, уже не было никакой плотности вокруг, и надо было только успевать набирать дыхание, а оно и было песней. Снова услышал я тот особый звук русского женского голоса, в котором будто и крик, будто и воркование, в котором мужская удаль, и бабье томление, и лукавство, и властность. Такая властность, что радостно ей сразу подчиниться, а еще интереснее — ни за что не поддаться, и пересилить, и настоять на своем. Что за мужчина для этого нужен? И какой простор требуется, чтобы всю эту песню вместить? Где ж и ступить ей в этих аллейках, в этой подстриженной, куцей природе? Она стояла тут, как великанша, как пришелец с другой, огромной планеты, эта женщина с ясным лицом и с сердитыми бровями. Вдруг залились и смолкли баяны. И остался в мире только один звук, все усиливающийся, все повышающийся, как будто с самих звезд ожидающий отзыва. Она вывела последнюю ноту, оборвала ее почти на крике и усмехнулась. Так оборвалось и все во мне. Вдруг страшная усталость на меня нашла. Я поднялся и пошел к выходу сквозь аплодисменты, плотные, как песок. Мельком я видел немцев, которые перепрыгивали через подоконник, сыпались в зал и что-то кричали и бросали цветы… На следующий день Воронков привел машину из ремонта. Только он подкатил к особняку и не успел даже разгудеться, как делал обычно, я уже бежал к нему с чемоданом. Пора было уезжать, надо было уезжать отсюда в столицу. Вечером я уже сидел в купе первого поезда Берлин — Москва и ждал, когда же, наконец, мы тронемся.
Берлин — Москва Май — июль 1945
ПОЕЗД НА КРАЙ СВЕТА 1945 год
НА ВОКЗАЛЕ
Провожание было бурным. Это объяснялось тем, что с нами был Симонов. (Вообще многое объяснялось тем, что с нами был Симонов.) Приехали актеры театра, в котором идет его пьеса «Под каштанами Праги». Я был в Праге как раз тогда, когда он писал ее там. Мне казалось, что он только и делал, что публично обедал и общественно ужинал, приветствовал и провозглашал… Между тем он работал. Он писал, и не только пьесу. Я же был адски занят и не написал ничего. Я все искал чего-то, что должно было объяснить мне 1945 год, какой-то ключ к Чехии, к войне, к фашизму… Я, конечно, никакого ключа не нашел. Надо было просто писать; надо было понимать, что выше себя не прыгнешь и лучше себя не напишешь! Пусть даже гений, но если он не осуществлен, кому он нужен? А уж обыкновенный человек и подавно! …На вокзал приехала Серафима Бирман, я помнил ее в «Вассе Железновой», а еще больше в ее постановке «Блохи», смешного и умного спектакля во Втором МХАТе, и еще — в страшном образе отравительницы Евфросинии из «Ивана Грозного» Эйзенштейна… Именно она и ставила только что «Под каштанами Праги»… Актеры и актрисы шумно толпились у вагона и были сразу заметны не только благодаря изяществу одежды, но и своей привычкой быть заметными. В предотъездные минуты Симонов откупоривал бутылки и наливал провожавшим шампанское. Они уже вывалились на платформу, и обнимались там, и хлопали друг друга по плечам, и хохотали, и хотели тоже ехать, и Симонова, как ребенка, убеждали надеть пальто, и выносили ему шубу, и нахлобучивали на него шапку, и умоляли не уходить далеко от вагона… А он уходил с кем-то в обнимку, не хотел ничего слушать, вывертывался из этих захватов и призывов, делал ручкой и вновь удалялся… Ветер успеха веял над перроном, шел первый год послевоенного времени, казалось, все страшное преодолено, все пути открыты — на запад и на восток, к творчеству и к славе! Мы стояли втроем на платформе — жена, я и Шурик Наркевич, замечательный библиограф. Верный мой друг и любитель благородных ритуалов, он, как всегда, пришел провожать меня. Среди присутствовавших он являл вид странный: узкое, потрепанное пальто, вытертая ушанка, портфель, из которого торчали махры бумаг и лоскутья порванного дерматина, наконец, палка на дециметр короче, чем нужно, — он таскал ее всегда с собой, хотя она ему только мешала… Когда-то он жил в том же доме, что и я, и после ученья в школе приходил к нам, садился на пол возле книжного шкафа и читал том за томом энциклопедии Граната и Брокгауза. Теперь он зарабатывал скудно. Ему давали статьи для энциклопедий, и он их рецензировал и правил. Огромная память и эрудиция затрудняли работу: все казалось ему недостаточно серьезно, сделанное вчера виделось наивным сегодня; каждая статейка, к нему попадавшая, обрастала библиографией, литературой, переводами, обобщениями… Он изучал тему так, как если бы готовил диссертацию, — вдохновенно и с наслаждением. Иначе ему было неинтересно. А потом сдавал жалкую страничку чужого текста, не зарабатывая ни положения, ни денег. «Бехайм Мартин (1459—1507), немецкий географ, создавший «земное яблоко» — первый глобус, известный в истории науки…» Сколько дней провел он в Ленинке с этим Мартином, сколько книг и статей на четырех языках прочитал, сколько передумал, перемечтал о великих путешествиях, как мечтает настоящий мальчишка, настоящий ученый! А жить-то не на что… Сам он был пристрастен прежде всего к детективной литературе, как к явлению нашего века, изучал ее литературоведчески и разбазаривал свои знания, не заботясь о личной пользе. Однажды, удрученный его трудным житием, я попросил Симонова взять его на работу в «Литературную газету» как референта: такой человек был бы незаменим в любом из отделов редакции. Симонов попросил познакомить его с Наркевичем. Мы пришли в кабинет редактора вечером, после сдачи верстки; на маленьком столике был накрыт чай, и редактор, как всегда веселый и любезный, завел разговор о том, что именно нам нужно. Шурик не поднимал глаз, обирал с рукава какие-то пылинки, дергал плечом и потом вдруг сказал: — А вот вы не видели Выставки собак в Парке культуры? И пошел. Он упрекал Симонова в том, что тот не поинтересовался таким замечательным делом, разъяснял нам прелесть собаководства, приводил данные о Лондоне как о столице, где собак немногим меньше, чем людей, проявил поразительное знание пород и способностей этих животных… Симонов отнесся с горячим интересом к теме, предлагал чай, печенье, потом вспомнил, что его ждут где-то, и принялся звонить по телефону. Мы с Шуриком удалились. Мне показалось, что и он и редактор были вполне довольны встречей… И только потом Симонов, покачивая головой, спросил меня с улыбкой: — Что это было, отец? Я развел руками. — Он, вероятно, хороший человек. Но — опасный. Так говорят о школьниках: озабоченно и даже с тревогой. Через двадцать лет Шурик — Александр Юлианович — покончил с собой. Жить так, как жил он, было, вероятно, невозможно. Мы стояли на перроне втроем, как бы отделенные от всех, и я был бесконечно благодарен Шурику, что он пришел: совершенно бескорыстно, вне всяких польз и планов, только по велению сердца. Между тем если кто-нибудь и заметил его, то уж навряд ли подумал, что именно этот задрипанный человек с покрасневшим от холода и плохого питания носом более образован, чем все люди на платформе, вместе взятые. Такие дела!РЕЛАКСАЦИЯ
Так по-научному называется восстановление нормального состояния эластичного тела после снятия натяжения. …Салон-вагон. Мягкое качание, слабый зимний свет в окне, там все бело, только черный низкий лесок на горизонте. Я один в купе с моей любимой машинкой, в которую заложена любимая бумага. Никаких обязательств на сегодня, никаких на завтра… Ровный шум колес, стук машинки в соседнем купе — там работает стенографистка Симонова. Уже работает! Ведь имею же я право на передышку! Сколько уж лет я не знал, что это такое! А последние недели в Москве были совсем бредовыми от работ и забот. Надо было закончить все начатые писания, они же — как бывает у меня очень часто — заколодили, не получались, а тут, после распределения обязанностей в нашей делегации, мне на долю выпало то, что менее, чем любое иное, мне знакомо, а именно — финансовые вопросы. Я писал письма и доверенности, я звонил по вертушке, я ездил в разные банки и наркоматы и изо всех сил влиял на решение проблем о сметах, валютах, паритетах и переводах, дрожмя дрожа от ответственности, ибо именно от этого всего и зависело, как и когда мы поедем. Помимо того, я собирал библиотечку о Японии для членов нашей делегации. И еще: я шил себе костюм. Это тоже было не так-то просто. Ибо режиссер костюма был сложной творческой личностью. Незадолго до этого он сшил мне пальто, которое действительно оказалось лучшим, что мне когда-нибудь приходилось надевать в жизни. Это был Журкевич. Да, тот самый! Громадный бодрейший старик с красным горбатым носом, с красными пятнами на щеках и с пурпурными губами в гуще седой заржавленной бородищи. Он был горд собой и своей профессией художника. Он любил говорить о почерке писателя и почерке портного и заканчивал каждую свою тираду словами: — Это вам говорит Журкевич! Он был сам для себя высший авторитет и любовался собой, особенно при заказчике. Вот вы являетесь к нему на прием. Он раскидывается в кресле и предлагает вам ходить, поворачиваться, поднимать руки, приседать… У него взгляд как у тигра, следящего за теленком. Наконец решение принято. Из снисхождения к уставшему клиенту задаются холодные вопросы о ваших пожеланиях, все пожелания тут же отвергаются, как дилетантские, и перед вами разворачивается картина будущих реверов и карманов с привлечением аргументов из опыта Фидия и адмирала Нельсона. Вы не вникаете в сомнительную грамотность этих рацей — вам бы сбежать поскорее. Впрочем, вы видите с несомненностью, что мастером движет только стремление к шедевру. Вы соглашаетесь со всем и предоставляете швейной музе руководить его вдохновением. — Можете быть спокойны, это вам говорит Журкевич! Во-первых, какое счастье верить в свой талант! Я подозреваю, что от такой веры талант только растет. Для меня это недоступно. Во-вторых, я не против мистификации. Наоборот. Наиболее восхищающее меня зрелище — это фокусники. Появление пяти там, где арифметика предвещает четыре. Исчезновение предметов. Прохождение сквозь. Возникновение из ничего. Рождение птицы из тряпицы… Я теряю всякое достоинство от волнения, когда вижу чудо. Все то, что будет делать физика через n лет, производится человеком во фраке сейчас — тут, возле вас, популярно, с улыбкой, неопровержимо и вопреки любой логике. А главное — только для вашего удовольствия. Мне вспоминается Эдуард Багрицкий, когда он выходил на эстраду читать стихи, грохоча громадными, выше колен, болотными сапогами. Сапоги в концертном зале были как будто бы уж совсем ни к чему, однако они содействовали стихам… Помните?«Делай только то, чего не можешь».Это — очень эффектно, очень мужественно, очень романтично. Я тоже пытался. Я умею не щадить себя. Но, к сожалению, это не для всех и не всегда выполнимо.
ГОРБАТОВ
Симонов стал нашим главным как-то само собой. Во всяком случае, мне не были известны никакие решения об этом. Как только поезд выскочил из Москвы и мы сидели вокруг стола в салоне и молчаливо перестраивались со столичной суетни на то межконтинентальное путешествие в девять тысяч верст, которое нам предстояло, вошел проводник, человек печальный и усталый, и, обращаясь к Симонову, спросил: чего бы нам хотелось выпить — нарзану, чаю или лимонаду? — Коньяку, — сказал Горбатов ругательным голосом. Проводник вежливо улыбнулся, но ждал указаний. Симонов поднялся, положил руку на плечо нашего вагонного хозяина и сказал: — Пойдем посмотрим, как там у нас все уложилось. И они отправились приводить в порядок наши запасы, которые были втащены в вагон кое-как в минуты отъезда. Легкий на подъем, он первый начинал всякое дело, пусть оно было даже самым неответственным. Слово «начальник» происходит от слова «начало», так надо понимать подобные вещи. Симонова мы назначили «вождем» нашей группы. Кудреватых, как самый покладистый и тихий, был признан профоргом, я по беспартийности и старости — комсоргом, а когда дело дошло до Горбатова и его спросили, кем он хочет быть, он сказал безапелляционно: — Я — масса. Должны же вы все кого-то обслуживать! …В сущности, я не знал никого из моих спутников. Я был знаком с их произведениями, слышал их выступления в Союзе писателей, читал о них, но близко видел впервые. Наиболее четко в воспоминаниях вырисовывается Горбатов. Его голова имеет форму шара, стремящегося к кубу, как к пределу. Она гладко выбрита, на ней очки в черной оправе, приплюснутый нос и рот, строго и красиво очерченный. Шея короткая, весь он плотный, короткий и — я сказал бы — тяжкий. Его речь состоит из быстрых очередей и пауз, нужных, вероятно, для зарядки словомёта. Он ходит в голубой мятой пижаме, на одном плече висит пальто, в которое он кутает ноги, когда сидит или лежит, — последнее бывает чаще всего. На ногах восточные вышитые туфли. Его рассказы неисчерпаемы. Он прекрасно помнит свою жизнь. Она началась в Донбассе, в шахтерской среде. Там начал он и свою политическую деятельность комсомольцем, рабкором, потом был избран и направлен в Москву, в РАПП. Это было в первой половине двадцатых годов. В те времена Горбатов ходил в синей косоворотке, в высоких сапогах, с чубом на лоб и был пареньком из Донбасса. Он представлял сразу и Донбасс, и рабочий класс, и нарождавшуюся пролетарскую литературу, причем все это была чистая правда: не много было в РАПП людей, столь близко живших с рабочим людом, столь точно знавших рабочую молодежь первых лет после Октября. Но о РАПП он говорить не любил, и это, вероятно, не случайно. Зато охотно рассказывал о своей журналистской и писательской работе, о своих скитаниях, в которых еще задолго до войны ему не раз приходилось видеть смерть возле самого носа и работать не столько пером, сколько лопатой, или спиной, или ногами, когда в адовых буранах Арктики надо было расчищать аэродромы, спасать запасы еды при ледовых передвижках или переть пешком через торосы в темноте, рискуя если не жизнью, то костями. Сам он считал лучшей своей книгой «Обыкновенную Арктику». О «Непокоренных» он говорил скорее с уважением, чем с любовью, хотя все в них рассказанное списано с его близких и каждый факт взят из свидетельств людей, которых он любил, — очевидцев и участников горестных событий войны. Мне нравилось видеть, что все им написанное он ощущал только как начало. По многим признакам я был уверен: мысли его главным образом во время нашей поездки были заняты не Японией и даже не минувшей войной. Он думал над романом. А роман — все о том же Донбассе, который всегда оставался его первой и на всю жизнь любовью. Он любил пикироваться. Шуточно, но со страстью. Он выискивал любые предлоги и любые сюжеты для игры в конфликты, как если бы какой-нибудь ученик Станиславского предлагал ему разыграть диалогическую сценку на острую тему. Симонов руководил нашим хозяйством мягко, но неуклонно. Так, он ни за что не хотел открыть ящики, предназначенные для Японии, особенно те, в которых были шоколадные наборы или «шикарные» московские папиросы. Он берег это — для гостеприимства. Он не терпел никаких поблажек — ни для себя, ни для других. Ко всем поводам для «фракционных выступлений» Горбатова прибавился еще один — шоколад. — Я не люблю сладкого, — стреляет Горбатов, — но я не могу пить чай без конфет. Я всегда пью чай вприкуску с шоколадом. — Обойдешься сахаром. Ешь сгущенное молоко. — Это невозможно. Оно напоминает мне твои произведения: сладко и неестественно. Я не могу питаться такой гадостью. Дай мне шоколаду. Симонов не дает. — Я всегда говорил, что ты скупец. Если бы ты был только плохой писатель, я тебе простил бы это — мало ли бездарностей. Вот, например, сидящий тут Леонид Кудреватых. Дело не в том, что он, как и ты, плохой писатель. Он чем плох? Он алкоголик. Однако и это бы еще ничего — мало ли алкоголиков… Но главное — он ханжа. — Ну почему же ханжа? — говорит Кудреватых, собирая в улыбчатые складки все выпуклости на лице. — Потому, что ты хочешь создать у нас впечатление, что ты не алкоголик. И для этого ты пьешь смехотворно мало. А между тем, по агентурным данным, именно ты и есть самый страшный пьяница из всех журналистов. Не говоря уже о разврате, грязнейшем, в котором ты погряз. Как все агенты буржуазии, ты стремишься усыпить нашу бдительность. Ты боишься, что я напишу на тебя заявление и ты вернешься в Москву уже разоблаченный. Я уже написал на тебя заявление одной даме, к которой ты неравнодушен. Я раскрыл ей глаза на ее ошибку. Этим она избежала еще более страшной ошибки. А то ты бы прельстил ее и навек погубил девушку. Ты мне скажи: сколько у тебя жен только по твоей Горьковской области? Я смотрел по карте место, где ты родился, и сразу видать, что оттуда ничего путного выйти не может. — Горбатов в своем репертуаре, — жмурится от добродушия Кудреватых. — Срывание всех и всяческих масок на глазах у публики! — Товарищи! Похлебка готова! — кричит Симонов, врываясь в салон вместе с запахами перца, мяса и чеснока из кухни. — Очередная отрава готова, — говорит Горбатов. — Дайте мне перед смертью хотя бы выпить пива. Мне точно известно, что Симонов получил директивы отравить всех нас, чтобы приехать в Японию со всеми долларами, которые у нас есть, и там обвенчаться с миллионершей. — Ты будешь пить свои сто грамм, как и все мы. Пива больше нет. — Я не пью водки. Я пью только пиво. А пятнадцать тысяч штук папирос, которые я закупил? Их тоже больше нет? Где шоколадный набор? Где вино? Где колбасы?! — Горбатов — прекрасный человек! — возглашает Симонов, картавя на всех «р» и «л». — П’ек’асный че’овек!! Он мог бы быть еще лучше, но и этого довольно. Друзья, к столу! В салон вкатывается Муза Николаевна. Она улыбается и кивает, как если бы кругом гремели аплодисменты. Она стенографистка Симонова, так что, вопреки традициям, тут не Муза диктует Поэту, а наоборот. Впрочем, Поэт называет свою Музу по-русски — чижик — за ее добродушный и веселый нрав. На столе дымится похлебка — волшебно-ароматическое творение симоновского искусства. Он всегда весело гордится своим чревоугодием, и всюду, куда бы ни бросала его судьба, пополняет и без того обширную кулинарную эрудицию. Откуда пришло к нам на стол это дивное блюдо? Из Венгрии? Из Монголии? Пиршество начинается. Горбатов быстро добреет. Примирительным тоном он отстукивает: — Я имею секретные инструкции вставить вам всем фитиль и написать о Японии лучше всех. Что я и осуществлю. Легче всего будет справиться с Симоновым. Поскольку своей дутой славой он обязан Музе Николаевне, я сделаю так. Завтра я выиграю у него в преферанс все его деньги, потом переманю Музу к себе и буду делать вид, что диктую ей всякие шедевры. И тогда от Симонова не останется ничего. — Друзья, хотите, я прочту вам стихи? Я сегодня перевел их с чешского. Очень хороший поэт Незвал, я с ним познакомился в Праге… — Если ты его переводишь, то, во всяком случае, он не может остаться хорошим. Теперь я понял: ты приковал меня к столу своей похлебкой, чтобы у тебя была побольше аудитория. Дьявольская хитрость!СИМОНОВ
Симонов читает из Незвала. Переводы удались. Сегодня с самого утра он, лежа на верхней полке своего купе, что-то картавил, дирижировал карандашом, промывал руки лекарством от нервной экземы, которая его мучает, снова бубнил, и вот — получилось. Я встречал Незвала в Праге. Полный, с большими добрыми руками, с круглым веселым лицом, всегда ожидающий чего-то хорошего от окружающих, человек храбрый, озорной и заботливый… Симонов полюбил его. Он вообще любит людей. Не как натурщиков, а попросту, от полного сердца. И когда он видит, что вы любите кого-то, он относится к этому всерьез, как к важному факту. Мне кажется, что наиболее противоположно ему то понимание мира, когда все окружающее берется под сомнение, все подвергается осмеянию, когда человек за всем видит второй план — план выгоды, хитрости, ловкачества. «Такова жизнь!» — говорится в таких случаях с грустно-ироническим пожиманием плеч. Вот это для него и невыносимо. Вот тут-то он и чернеет лицом, и закидывает назад голову, и становится начальником… Самое ненавистное слово для него — «филонить», то есть жить, ничего не производя, хотя и делать вид, что работаешь. Казаться деятельным. Ехать на казенных. Конечно, жизнь не сладкая водица. Очень редко она предлагает возможность комфортабельных решений, когда и долг сыт, и чувства целы. Важно, что эти чувства для него не окурок, а большое дело, так что если приходится ими поступиться, то только ради чего-то большего, что важнее всего не только для него одного. Словом, переводы получились, и день не прошел даром. Ни один час не должен пройти даром! Горбатов и я не прочь предаться философическому занятию — раскладывать пасьянс в бесконечные часы путешествия. В нашем поезде смешались времена, московское не хочет уступить новосибирскому, мы едем навстречу солнцу, мы встаем в полдень, ложимся спать утром… В конце концов, пасьянс — безобидное занятие, я видел даже изданные в красках книги, трактующие о пасьянсах. Сколько в них уюта! Симонов сперва заинтересовался было сложными карточными фигурами, которыми мы заполняли обеденный стол и пустое время. Но уже на второй день стало ясно, что это не для него. В карты — пожалуйста. На игру еще можно убить какое-то время. В карты он играет с азартом. Он заполняет собою всю игру. Он блефует, прикупает, дьявольски рискует. Он агрессивен, хотя без тени какого-нибудь недовольства партнерами. Он отдается игре, как соревнованию, бросается в нее, как в атаку… Так он устроен: отдача, безжалостная трата себя доставляет ему новые силы для действия. Вот бы подсмотреть: как получается такой характер? Гены это или воспитание? Можно ли делать всех детей столь же трудояростными, или это «от бога»? Конечно, никакие академии педагогических и любых иных наук ответить на сей вопрос не могут. Да и занимаются ли они подобными проблемами? Между тем тут одна из самых важных тайн нашего познания человека. Именно в преодолении внутреннего сопротивления труду — главный резерв творческих успехов и хозяйственного преуспеяния нашей Родины. Не зря писалось об Обломове, и не случайно Ленин — именно Ленин! — так горячо принимал к сердцу национальную беду, именуемую обломовщиной.ГОРБАТОВ
Когда в поезде я слушал сатирические импровизации Горбатова, передо мной вставали времена РАПП. Я уверен, что все его смешные обвинения и шутовские угрозы шли оттуда, из глубины двадцатых. Сейчас, когда пишутся эти воспоминания, мало кто представляет себе, каково было действие на писателей той группы людей, которые взяли на себя смелость судить литературу и претендовали руководить литературой ни более ни менее как от имени рабочего класса страны. Как воспринималось это многими писателями? В двадцатых годах, то есть совсем недавно, рабочий класс ниспроверг капитализм. Почти только что рабочий класс изгнал из страны интервентов и белогвардейцев. Теперь пролетариат приступал к небывалому созиданию хозяйства и культуры. Что скажет он о литературе? Вот тут-то и появилась РАПП. Когда Пролеткульт попытался говорить от лица пролетариата об искусстве, Ленин сразу же окоротил его претензии. Тут такого не случилось. Я помню, как многие литераторы в то время, обдумывая свою работу, приходили к выводу, что нелепо быть советским писателем и работать в отрыве от пролетариата, то есть от пролетарской литературы. А поскольку пролетарская литература есть РАПП, значит, надо идти в РАПП. Многие искренне уверовали в то, что с социальной точки зрения они неполноценны, что они — извините за выражение — выкормыши буржуазии, или — простите за слово — «исчадие интеллигенции» и должны смывать с себя «пятна прошлого». Некоторые были готовы вообще отказаться от каких-либо художественных критериев и отвечать только за соответствие текста требованиям нынешнего политического дня. Как будто все пути вели в РАПП. А там был бюрократический холод, подозрительность, начальническое покровительство… Нерадостен был этот путь! Для иных он стал роковым… С точки зрения нынешнего дня Российская ассоциация пролетарских писателей была странным учреждением. Конечно, не потому, что в комнатушках, где она располагалась, толпился народ в шапках, в пальто и в шинелях, как на вокзале, — в те времена вокзал был весьма оживленным и интересным местом действительности, — а потому, что, в сущности, литературой это учреждение не занималось. Оно занималось, во-первых, шкалой. Наверху шкалы значилось: «Пролетарский писатель», внизу — «Враг». Занятие состояло в том, чтобы помещать каждого писателя Советской страны на то или другое деление шкалы. Маяковский не дошел, Шолохов отошел, Горький вибрирует где-то на мелкобуржуазных делениях, а что касается Алексея Толстого или Андрея Платонова, то они прочно пришпилены к тем участкам шкалы, которые обозначают агентуру буржуазии и кулачества. Во-вторых, РАПП занималась директивами: как и о чем писать. То подавалась команда «срывать все и всяческие маски», то — изображать «живого человека», то — обучаться новому художественному стилю литературы, который был, оказывается, не что иное, как диалектический материализм. Наконец, РАПП неустанно проводила массовидные мероприятия. Из них самым козырным был нашумевший в свое время «призыв ударников в литературу» — кабинетная выдумка лиц, не имевших представления ни об ударничестве, ни о литературе. Самое страшное состояло в том, что РАПП присвоила себе стиль диктата в искусстве. Она говорила якобы от лица партии. Ее приговору и ее угрозы гнетуще действовали на всех пишущих. Как будто кто-то стоял за вашим стулом и пренебрежительно, но с подозрением косился на каждое слово, которое выходило из-под вашего пера. Я помню, как на одном собрании глава РАПП крикнул всеми уважаемому и самоотверженно работавшему писателю: — Мы еще разберемся, кто вы такой и кому вы служите! Наиболее ходким словом в РАПП было слово «документ». Так именовались и стенограммы выступлений, и резолюции заседаний, и директивные статейки в журналах, и чуть ли не романы, и даже стихи. На любого можно было найти документик! Кипела и пенилась каша взаимных подозрений и разоблачений. Все размежевывались и смежевывались; на поверхность, видимую читателем, все время всплывали какие-то новые группы и группки, «фронты», «бригады»… Заключались соглашения, подписывались программы… Вся эта писанина состояла из замызганных слов, уже потерявших значение, обличала только полное отсутствие элементарного литературного вкуса у составителей. А между тем в РАПП входили и подлинно талантливые писатели, причем многие из них верили, что так и надо, что этаким манером расчищается путь для подлинно пролетарской литературы. Среди них был и Борис Горбатов. И он бежал из рапповских канцелярий. «Сдал дела Фадееву и уехал домой, в Донбасс», — как написал он в своей автобиографии. Он был уверен, что этот поступок спас ему его творческую жизнь. Это, конечно, верно. Но мне кажется, что жалкое рапповское протокольство врезалось в него (и в некоторых его товарищей по несчастью) навсегда. Правда, будучи настоящим писателем, он перевел все это в план иронии, превратил в повод для шуток, для трепотни… Но он его сохранил. Может быть, это пародирование рапповского стиля в шуточных монологах было как бы местью за те нелепости, которым он вынужден был подчинять свой талант в самое горячее время юности?Партия распустила РАПП. И Горбатов весь отдался писанию. Он соединил свою судьбу с «Правдой». Это определило и широкий кругозор его тематики, и его жизненный опыт, и стремление к точности, и, наконец, многие черты его литературного стиля. Если бы я был историком литературы, я попробовал бы заняться исследованием той струи советской прозы, которую условно можно было бы назвать «правдизмом». Понятие это более узко, чем «социалистический реализм», и оно входит в широкое представление о партийности искусства. Однако оно имеет свои особенности, связанные с газетной близостью к жизни, с необходимой для большевистской печати проблемностью, наконец — и это очень существенно! — с демонстрацией положительного. Именно в этом плане были написаны и «Обыкновенная Арктика», и «Непокоренные», и великолепные «Письма к товарищу» Горбатова. Именно в этом плане по камертону «Правды» работали очеркисты советской прессы и в других газетах и журналах. Продукция правдистов и их последователей во всей прессе страны была громадна. Горький был потрясен силой и обилием очерков, он отнесся к этому как к знамению времени. Маститые писатели и начинающая молодежь — все были равны перед требованиями «правдизма», то есть реалистической, партийной литературы. Что и говорить, в газетах тех годов печаталось немало литературного барахла. Тут была и казенщина, и лапотность, и приспособленчество, нередко случалось, что иного талантливого новичка на корню превращали в послушного, лишенного собственной мысли воспевателя или хроникера… Тем более что один бездарный редактор мог свести к нулю десяток талантов. И все-таки баланс был в пользу новой литературы. Замечательно, что газетчики и журналисты, к которым принадлежал и Горбатов, не боялись говорить о темных сторонах нашей жизни и ставить перед страной вопросы, решать которые было и трудно и даже рискованно. И все-таки это был «правдизм»! Можно смело сказать, что как бы ни называть это течение художественной литературы, оно было противоположностью рапповской суетне и показухе, так же как и тому беспардонному хохмачеству, а точнее — очернительству, которое скорее смакует, чем диагностирует наши беды. Впоследствии, уже в Японии, я часто видел свет в комнате Горбатова в самые поздние часы ночи, и табачный дым выползал из-под закрытой двери, а между тем он не очень был занят собиранием японских материалов или обработкой японских впечатлений. Он думал над романом. Над пьесой. Может быть, над жизнью вообще — после того громадного по важности этапа, который был им только что пережит и который назывался «война». Он же был совсем молодой человек, ему едва исполнилось тридцать восемь лет, а сколько уже было написано и сколько надо было написать — срочно, немедленно! Словом, лучше было не трогать Бориса в странностях его поведения, тем более что странности эти были безобидные и часто даже смешные!
О войне он не любил говорить. Правда, в те годы среди литераторов было вообще не принято рассказывать о переживаниях на фронте. Это называлось «боевые эпизоды» и считалось неловкостью. Впоследствии, четверть века спустя, я прочел в воспоминаниях Мартына Мержанова несколько абзацев об одном дне Горбатова на фронте. Тридцатого апреля 1945 года Горбатов после долгих и трудных попыток все-таки обошел бдительность генералов, заботившихся о его безопасности, и прорвался, вернее — по-пластунски прополз под огнем к тем частям, которые атаковали рейхстаг. В Музее революции в Москве я видел записную книжку Горбатова, в которой он вел записи этого дня. Представить себе стратегическую картину того, как шел штурм рейхстага, по этим страничкам невозможно. Здесь нет ничего, кроме непосредственных восприятий записывавшего. Только то, что попадало в глаза и в слух одного человека, рвавшегося вперед вместе со всеми. Вперед, к последнему оплоту фашизма, к последнему символу гитлеровской Германии. Он лежал и полз где-то там, возле трансформаторных будок, возле статуи Вильгельма. Природа его работы требовала наблюдать, выхватывать существенное, находить для этого слова и заносить их на бумагу. Природа того, что происходило вокруг, была природой яростной борьбы, ежесекундной опасности, величайшего морального и физического напряжения человека на грани жизни и смерти. (То, что человек остался жив, было случайностью). Так возникали эти буковки на этих листиках. Они не впивались пулями в камень рейхстаговских лестниц, но, быть может, от этого было только труднее. …Десятки фамилий людей, с которыми удавалось перекинуться словом в аду сражения или сразу после боя, фразы неоконченные, фразы без подлежащего, отдельные слова, за которыми скрывается что-то очень сильное, очень грозное… Он был в самом пекле. Так понимал он свое назначение. И тогда, когда работал в Донбассе, и тогда, когда работал в штурме рейхстага, и тогда, в Токио, когда папиросный дым выползал ночью из-под двери его комнаты…
Написав кусок о Горбатове, я усомнился. И я прочел его сперва человеку, очень близко знавшему и очень любившему Горбатова, а потом — литературоведу. Близкий человек сказал об отрывке самые хорошие слова. Он считал, что все это настоящая правда. Литературовед лично Горбатова не знал. Прослушав кусок, он сказал, что Горбатов изображен мною неверно. Что он не мог быть таким. Что у меня он выглядит как человек неприятный и даже нехороший. А это невозможно, если он написал «Непокоренных». Кроме того, вообще т а к писать об известных писателях не годится: к ним следует внушать уважение и любовь. Эти слова несколько освободили меня от сомнений, Я решил, что я прав. Ибо если следовать совету означенного литературоведа, то о всех писателях как о людях придется писать почти одно и то же. И есть любителе этим заниматься. Я помню, как в одном из музеев я услышал от объясняющей дамы фразу: «Маяковский очень любил детей…» Может быть, так оно и было. Но он любил еще и картежную игру. Он в спорах бывал не только остроумен, но и несправедлив, а иногда и груб. Он был совершенно невыносим с бухгалтерами и даже с кассирами… Словом, ни он, ни Горбатов, ни — не знаю, кто еще из писателей, — не были пай-мальчиками для наглядного воспитания окружающих. Это во-первых. Во-вторых. Если писатель интересен тем, что́ он написал («Я — поэт, тем и интересен», — слова Маяковского), то он становится еще интереснее, когда изучаешь его жизнь и свидетельства других о нем. Тут раскрывается многое, что объясняет появление его идей и даже его стилистики. Тут проявляются те связи, которые роднят его с нами, с нашей личной жизнью (а ведь это — одна из важнейших причин нашей любви к искусству!). Тут, наконец, мы наиболее глубоко входим в эпоху, когда жил и работал писатель… Каждый из нас, кто не страдает художественной глухотой, невольно собирает в себе образ тех или иных художников. Особенность собираемого нами образа в том, что он никогда не бывает завершенным. Наше сознание не столько рисует его, сколько пробует, набрасывает варианты. Он не выступает перед воображением как готовый персонаж. Мы скорее можем сказать, что именно н е е с т ь этот образ, нежели наметить точно его границы и его формы. Больше того: именно в этой неполной завершенности таится наша страсть его творить, его дополнять, наполнять жизнью. В любой момент может засветиться нам какая-то новая черта, и это обрадует нас, как открытие. Причем то интересно, что на процесс нашего творчества образа влияют не только новые данные о любимом художнике, но и новые события нашей собственной жизни. Вот случилось со мной нечто важное, потрясло меня что-то, и я вдруг вспоминаю какие-то стихи или случай из жизни моего любимца и начинаю понимать, какая именно связь имелась между его строчками и событиями его биографии… Как сказали бы нынешние теоретики, образ писателя, творимый нами в нашей душе, есть о т к р ы т а я с и с т е м а, что-то отдающая и что-то принимающая непрестанно. Лично для меня неприятно и даже опасно, когда рядом с этим мерцающим и творимым образом возникает вдруг материально законченная и физически ощущаемая модель, как бы чучело моего любимца. Кто-то загримировался под него, вернее — под его портрет, кто-то его изображает. Причем, по законам ремесла, старается быть как можно более «похожим», как можно более «реальным». А вас он раздражает предельно. Инстинктивно вы начинаете возражать ему и опровергать его. И голос у него не тот, и лицо совсем другое, уж не говоря о жестах, которые кажутся вам ужимками, или о манере говорить, явно придуманной… Я боюсь трехмерности театра, цветности живописи и особенно боюсь фотографичности и динамизма кино, когда изображаются реальные, подлинно жившие люди. Тут происходит покушение на внутреннее и очень для меня важное творчество, которым я и каждый из нас занят долгие годы в отношении многих поэтов, музыкантов, художников. Мерцание творимого образа прекращается. В вас грубо и зримо вваливается некий тип, похожий как будто на «него» и вместе с тем совсем не он. Вы это сразу ощущаете, барьер несовместимости начинает работать, вызывает в вас тошноту, вы должны или оказать яростное и трудоемкое сопротивление незваному гостю, либо немедленно прекратить противоестественное созерцание, — иначе конец вашей любви! Я видел отличного актера в прекрасной пьесе в роли Пушкина. Говорили, что это было чуть не гениально. Но для меня это был удар в подвздох. Я долго не мог отделаться от тягостного чувства, что участвовал в чем-то незаконном, долго не был в состоянии извлечь из себя инородное тело, мешавшее мне вновь возвратить себе образ Пушкина, столь дорогой и столь важный для моей жизни… Все, что я написал тут о Горбатове, есть элементы того образа, который живет во мне и непрестанно меняется. Образ не «научный», образ субъективный, очень уязвимый, даже спорный, точнее сказать — только элемент образа, но, может быть, и он окажется нужным для людей как свидетельство, как документ.
ТАЙГА, А ЧТО ЗА НЕЙ?
…В стуках на стыках, в качании, в мелькании нечастых станций проходили наши дни, и печальный проводник изредка напоминал нам о том, что надо переставлять стрелку часов. Сибирь бежала мимо нас. Как непохожа она на Европу! О тайге нельзя сказать, что она стоит, так же как нельзя сказать, что она — лес. Лес — это часть природы, часть ландшафта. Тайга — это мир, это материк. И еще: тайга — огромное, необозримое живое существо. Она то бежит, наклонив стволы в одну сторону, то борется, оставляя на опушках навалы древесных трупов, то ползет вверх по склонам сопок, расставив черные лапы, забираясь ими в овраги, переваливая свое чудовищное тело через хребты… Она — хозяин и главный житель этих пространств. В ней есть нечто допотопное, как в лесах каменноугольного периода. Ее сосны похожи на гигантские хвощи — заостренная прямая палка ствола, и из нее, как из канделябра, выгибаются вверх ветви, тонкие, малохвойные. Эти великаны торчат над суматохой нижних этажей, как свидетельство о каких-то катаклизмах растительного мира, которые происходят здесь вне человеческого взгляда. Человеческое время слишком мгновенно для созерцания событий этого организма, чтобы мы могли ощутить его изменения. Тайга бежала мимо нас, мы врывались в нее, оназамыкалась за нами, как океан за кораблем. Казался странным яркий свет в нашем вагоне-снаряде, пронизывающем эту стихию. Крошечный кубик тепла и комфорта, кристаллик Москвы, в котором сохраняемся мы!Куда я еду? Что там? Кто там? Судя по книгам, которые я читал в вагоне, эта страна, именуемая Японией, «соткана из противоречий». Но разве есть на свете страна, о которой не писали бы, что она соткана из противоречий? Да и как я могу рассчитывать, что эти противоречия мне удастся разрешить? Вероятно, единственное доступное мне дело — написать о ней возможно точнее, то есть только то, что покажется мне бесспорной правдой. Я читал «Фрегат «Палладу» Гончарова. Это написано отлично и умно. Он служил секретарем вице-адмирала Е. В. Путятина, руководителя морской экспедиции в середине прошлого века. В двухтомном сочинении едва ли наберется и сто страниц, посвященных Японии. Дело в том, что в Японию их не пустили. В 1854 году им позволили только нанести визит губернатору Нагасаки, что было обставлено с опереточной помпой и не привело ни к каким результатам. Лишь через год был заключен так называемый Симодский трактат. Все это происходило за полтора десятка лет до так называемой «революции Мейдзи», в эпоху категорической самоизоляции Японии от почти всех иностранных связей. И. А. Гончаров писал о японцах:
«Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние, произвольные законы своего муравейника противоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде».И далее у Гончарова идет фраза, вольно или невольно приоткрывающая причины отделенности японцев от Европы:
«— Долго ли так будет?» — говорили мы, лаская шестидесятифунтовые бомбовые орудия…»Страниц через сорок писатель не может не вернуться к беспокоящей его теме — закрытости Японии для иностранцев:
«…От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично… ученики Лойолы (так именует автор иезуитов. — Б. А.) привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Всем известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и отчуждение от света…»Трудно сказать, знали или нет японские правители о страшной судьбе культуры Южной Америки, когда в середине шестнадцатого века кардинал францисканского ордена Диего де Ланда во главе испанских войск захватил страну народа майя, ограбил ее до нитки и во имя Христово разбил все скульптуры и пожег все книги, которые в огромном числе хранились в великолепных дворцах и храмах[1]. Скорее всего, японские правители об этом знали, ибо известно, что в конце того же шестнадцатого века Япония отправила своих послов в Рим и в Испанию. Во всяком случае, Япония нашла способ избежать участи народа майя. Попытки иезуитов повторить здесь художества тамплиеров в Иерусалиме или францисканцев в Южной Америке были разом пресечены японцами. Христианство было запрещено (1614 год). «Слуги Иисуса» подверглись сожжению на крестах и сбрасыванию со скалы, которая по этому поводу получила название «Паппенберг» — «Папской горы»; часть этих «культуртрегеров» была вывезена в Макао, и Япония закрыла все свои порты для почти всех иноземцев. Папе ничего не оставалось, как присвоить звание святых посмертно нескольким десяткам наиболее рьяных «миссионеров». Пожалуй, это был единственный случай в истории, когда посягательства колонизаторов получили достойный отпор от «некультурных аборигенов». Впрочем, руководители Японии достигали тут двойного результата: они не только защищали страну от хищных иноземцев, но и расправлялись с собственными крестьянами: крестьянские восстания, прокатившиеся по островам, зачастую имели на своих знаменах христианские лозунги. Интуиция писателя не обманула Гончарова, когда, не будучи совершенно знаком с Японией, он заподозрил, что за этими «мягкими, гладкими, белыми изнеженными лицами, лукавыми и смышлеными физиономиями, косичками и приседаниями» таится многовековая культура и даже великосветскость. Началось с того, что он был поражен «чистотой, опрятностью, отсутствием каких-либо запахов у людей». Потом он пришел в восторг от одного из гостей, прибывших на фрегат: «Он высок ростом, строен и держал себя прямо. …Он стоял на палубе гордо, в красивой небрежной позе. …В глазах, кажется, мелькало сознание о своем японстве…» Писатель отметил для себя не только деланное безразличие на лицах тех, с кем устраивал дипломатические встречи его шеф (как сейчас говорят — «контакты»), но и «изысканность высшего вкуса в подборе цветов, в одежде…». Присутствуя на лицемерных, фальшивых приемах, писатель все же сумел увидеть даже в чиновниках, испуганных и корчивших из себя невесть что, некоторые подлинные черты нации. Он писал: «Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча способностей, дарований…» Писателю стали ясны и те нелепые отношения между людьми, которые существовали в Японии в середине прошлого века. Переводчики, записывает он, — «лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с пола почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол». И тут же вспоминаются Гончарову его юношеские впечатления:
«…И у нас (в России. — Б. А.) у ног старинных бар и барынь сидели любимые слуги и служанки, шуты, и у нас так же кидали им куски, называемые подачкой…»Как видно, не очень-то много оснований для высокомерия к «азиатам» чувствовал европеец Гончаров! Но ведь он был художник. Он был обречен на особый вид восприятия и видел то, что для других было не более как несущественная мелочь.
БАЙКАЛ
— Проезжаем Байкал! — сказал печальный проводник, приотодвинув дверь моего купе. Я вышел в коридор, сел у окна на откидной стулик, положил блокнот перед собой. Вот запись: «Слева по курсу — Байкал. Говорят, это — самый глубокий водоем на суше — почти две тысячи метров! Такое впечатление, что здесь нет цвета. Холодные, стальные волны идут по касательной к берегу, и в них отражается туман. Светло-белый пар паровоза вваливается в темно-белый пар от воды. И вдруг вдали продырявилась мгла. В оплавленном круге — озябшее, распухшее, обвязанное шарфами туч солнце. Сейчас оно опять нырнет в свою темную ярангу. Но за мгновение оно успевает установить желтый мреющий столб от себя к моему окну. Вода внизу розовеет, скалы вспыхивают, возникает живопись. И сразу — грохот и тьма! — Грабят!! — кричит Горбатов, едва мы втянулись в тоннель. Почти сейчас же мы вырываемся из темноты, но видимости еще нет: поезд выталкивает перед собой гильзу плотного пара, и не сразу мы оставляем ее позади. Мы прошили очередной береговой уступ. Эти уступы, украшенные черными перьями сосен, стоят над водой, как шлемы великанов, идущих вброд. Ох, далеко отсюда до Москвы! Но если из коридора перейти в купе, в сторону берега, — там увидится много людей. Они бесполы от овчинных скафандров, медлительны, основательны, они трудятся над балластом пути, устанавливают столбы, натягивают провода… Конечно, далеко отсюда до Москвы… А как же иначе?»МОЙ ХЭЙАН
К середине путешествия я устал смотреть в окно. Я думаю, что даже в полете на Марс, — может быть, не на шестой, а на сто шестой день, — людям надоест льнуть к иллюминаторам. Я перестал замечать качание, поскрипыванье, стуки на стыках. Я ощутил наконец, что ведь мне предоставлен полный комфорт: одиночество, тишина, отсутствие всяких житейских забот, и, главное, я не могу ни под каким предлогом вильнуть на путь к суетности — покинуть мой вагон-снаряд! А значит, самой судьбой назначено, чтобы я отдыхал от суеты и погрузился в изучение. Хоть в чем-то способен же я подражать Ленину?! Он, когда обстоятельства отрывали его от общества, тотчас уходил в чтение, как в горы. Сказать по совести, больше всего на свете я люблю учиться. Возможно, это происходит потому, что в молодости, когда человек должен завершать свое первоначальное развитие, то есть быть учеником, все складывалось так, чтобы ни в коем случае, ни под каким видом не позволить мне заниматься этим физически необходимым для нормального юноши трудом. И потом всю жизнь, уже по-дилетантски, без наставника, пытался я восполнить губительный для меня пробел! Сейчас, просматривая свои записи тех вагонных дней и некоторые дополнения к ним, сделанные позже, я заподозрил, что, может быть, читателю, не знакомому с Японией, мои заметки окажутся небесполезными. Я обложился книгами из собранной мной библиотечки и попытался вникнуть в тот далекий мир, куда бежал наш поезд. Лучшие японоведы, начиная от Венюкова и Зибольта (XIX век) и кончая Николаем Конрадом и плеядой его учеников, читали мне лекции со страниц своих книг, а сам я записался на воображаемый семинар и начал с того, что стал сочинять японские стихи. Нет, конечно, это не были японские и это были отнюдь не стихи. Но так мне было удобнее. Я рассчитывал, что если буду писать под японского лирика, лучше пойму его мир. Я пробовал: нельзя ли японскими способами передать мое нынешнее состояние? Чтобы через природу и через мои неясные ощущения и задавая вопрос, на который не нахожу ответа, а главное — и не стремлюсь узнать ответ, то есть чтобы окольными словами внушить другому то, что я сейчас чувствую?Я благодарю судьбу и свою профессию литератора, что после возвращения из Японии мне посчастливилось встречаться и беседовать с Николаем Иосифовичем Конрадом, нашим крупнейшим японистом, не только авторитетным ученым, но и чутким к поэзии человеком, которому любой, самый тонкий литературовед и переводчик мог бы позавидовать в умении понимать и передавать по-русски тончайшие оттенки восточного искусства. Он отнесся благосклонно к моим рассказам и запискам о Японии, и это дало мне повод воспользоваться его работами, чтобы помочь читателю представить себе некоторые особенности японской поэзии времен Хэйана. В данном случае я привлек к моему тексту перевод, вступительную статью и комментарии к лирической повести древней Японии «Исэ-моногатари» («Всемирная литература», Ленинград). К сожалению, я вынужден был пожертвовать научной точностью цитат ради большей доходчивости изложения. Что было там, на расстоянии в десять веков, в столице маленького народа на острове Хонсю? Это так же невозможно постичь, как и жизнь людей на острове Сицилия две с половиной тысячи лет тому назад, во времена Эмпедокла, или — еще глубже — в века, когда жила в Египте Нефертити… До наших дней дошли ничтожные по сравнению со всей тогдашней жизнью черты, они и составляют тот фундамент, на котором историки возводят здание прошлого, — призрак, схему, причем даже этот призрак все время меняет очертания. Вглядываться в него так же мучительно, как смотреть на звезду. Там, за сотни световых лет от нас, происходит нечто, чего никто не знает, а ты тщишься представить себе тамошнее солнце и все, что вокруг, и такая невозможная тоска охватывает тебя, что, кажется, бросился бы наземь и проклял бы себя за то, что уже не имеешь дикарского права считать звезду просто красотой небесной или знаком вседержителя. Чувство невозможности войти в минувший мир похоже на стенокардию, болезненное стеснение в груди, предвестник смерти. Остановись, мысль, — ты ужасна! А она обтекает запрещение, она находит себе путь, и опять ты трешь лоб, хватаешь источники на всех доступных тебе языках, пытаешься разведать, как они там жили, на этой Сицилии, на этом Хонсю. Ведь они же были люди, такие же, как и ты, и они исчезли, как если бы и не было ни их мыслей, ни их страданий?! И остались только вот эти стишки, эти их бедные слова, которые мы спустя сотни лет, может быть, и понимаем-то совсем не по-ихнему?
Как бы воскресить мне Хэйан? Хоть частичку его, хоть приглушенно, хоть не в фокусе? Может быть, в моей жизни он где-нибудь, как-нибудь был или есть? Может быть, он рядом? Может быть, вообще все минувшее живет рядом, только надо его отыскать, вынуть, поставить перед собой и вглядеться? …Давным-давно, после сверхтяжелого года голодухи, бездомности и разного вида унижений, я оказался в имении состоятельного и ученого человека, куда меня привезли как будущего репетитора к сыну хозяина. И вот я после ванны — ванны, черт возьми! — и сытного — впервые за год! — обеда, сижу на широкой веранде над вечереющим садом под сенью гор, за которые только что зашло солнце… И у меня нет забот и нет насущных нужд, и я — впервые за год! — созерцаю: золото неба за горами, скрип арбы, далекий шум реки, вздувшейся от недавнего дождя… И лиловый запах глициний идет ко мне со столбиков, ею увитых… Вот внизу захрустел гравий… Прошла девушка… Боже мой, как истосковалось все во мне по книге, по рифме, по прелестным женственным химерам!.. Приблизительно это и был Хэйан. «Мир и покой». Два часа Хэйана. «В давние времена жил кавалер. После года странствий, полных опасностей и унижений, наконец он вернулся в столицу и милостью государыни был устроен в новом флигеле дворца в глубине западного парка. Хоть и был вечер, однако горячую ванну он принял и, обед, какого не знал уже целый год, вкусив, сидел на веранде, вдыхая запах глициний. Тут увидел он даму, которая шла почти бесшумно по плитам тропинки. Но лица ее разглядеть не мог. И он сложил:
ЗВЕЗДА ХЭЙАНА
…А поезд бежал на восток. Печальный проводник сказал, что скоро мы повернем к югу. И хотя в нашем вагоне-снаряде было почти жарко, но заклепки на внешних стенках были покрыты инеем, а в умывальной на кафельном полу — ледок. Я читал «Макура-но соси», эссе десятого века, произведение фрейлины императрицы. Фрейлину звали Сэй Сёнагон, а название в переводе означает «Записки у изголовья». От изголовья на тысячи километров к западу простирались вот эти снега и вот эта тайга, что бежали за моим окном; на тысячи километров к востоку — безмерный Тихий океан… …Полированный пол веранды будто облит водой. Веранда вокруг дворца без перил. Рейки из темного дерева — на них виден рисунок слоев, переплеты раздвижных стен забраны полупрозрачной бумагой. Всюду только прямые углы, — никаких ошибок и никаких украшений. Ступени в сад нисходят, как точная гамма струн, в саду же — произвол растений и диких камней во всем многообразии суверенной природы, воспроизведенной жрецами садоводства. Тут не может быть ничего прямого — ни углов, ни линий. Женщина. Когда она стоит, она похожа сразу и на бокал, и на цветок. Когда она лежит, она — совершенство явных узоров шелка и тайных округлостей тела. Книги, кошки, ветка с цветами, брошенный шарф на татами. Министр двора преподносит ее величеству тетрадь, в которой еще ничего не написано.«…Государыня сказала: — Что бы нам написать в ней? — В такую же точно тетрадь его величество соизволил переписать книгу Ино. — Я бы ее взяла для моих интимных записок, — сказала я. — Тогда вот она, берите, — ответила государыня и подарила ее мне. …И вот я стала записывать просто так, шутки ради, все, что придет на ум… Стараясь заполнить это совершенно неисчерпаемое количество листов разными удивительными историями, старинными преданиями и подобного рода вещами, я написала там, должно быть, немало пустяков…»— Ну как, друзья, возьмем Сёнагон в нашу Академию мечтателей, в наш цех поэтов, в нашу «Зеленую лампу»? Ирония, строгость стиля, скромность, никаких украшений, настоящая добротная проза… Она же наша ровесница, она не подведет! Сэй Сёнагон, красивое имя! Вероятно, она искренне обожает свою императрицу, которая моложе ее на десять лет: ее величеству всего двадцать. Вероятно, в этом обожании есть и чувство зависимости, ибо в те времена жизнь каждого при дворе зависела полностью от властителей, особенно жизнь женщины. Но она — талант, она не может этого не знать, она нравится государыне своим остроумием, своей — пусть и почтительной — свободой обращения и еще — я думаю — тем, что она озорная. Вероятно, смех Сёнагон часто раздается в этих бумажно-деревянных, в этих лакированных прямоугольностях дворцовых зал, таких холодных в зимнее время! Я уверен, она была хороша. Да и как могло быть иначе? Ведь это был изысканнейший двор! Широкое лицо ее было очерчено прелестным овалом, узкие черные глаза смотрели проницательно и непроницаемо, лучший фарфор не мог бы сравниться с гладкостью этой кожи. Как влажное вороново крыло, блестели волосы, убранные в сложнейшую прическу, горизонтально пронизанную маленькими шпагами золотых булавок и увенчанную большим лепестком гребня, привезенного из Китая. Все церемонии вежливости, все законы букетов, все тайны складок кимоно и все хитрости соединения слов в стихах и в прозе были известны очаровательной Сэй Сёнагон, и, вероятно, самая главная из этих тайн заключалась в умении использовать каноны так непринужденно, как будто их и не было никогда. Судя по ее прозе, она это умела. «Когда сочиняешь стихи, не думай, что сочиняешь их», — писал Сайгё в двенадцатом веке. Но о чем была проза? Вот несколько отрывков.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .То, что неприятно
Неприятно, если в тушечницу попали волоски и растираются вместе с тушью… Неприятен совершенно незначительный, незаметный человечек, вдруг ни с того ни с сего начинающий обо всем рассуждать с видом полного превосходства. Неприятно, когда кто-нибудь, греясь у жаровни, протягивает ладони к огню и разглаживает морщины. А какой ужасно неприятный вид у того, кто пьет вино и при этом кричит, засовывает себе пальцы в рот или поглаживает усы, если таковые имеются… Он и трясется, и качает головой, и растягивает рот до ушей… Мне кажется очень непривлекательным, если так ведут себя особы бесспорно высокого звания. Неприятны: ребенок, который плачет как раз тогда, когда хочешь что-нибудь послушать, или стая птиц, с криком летающих всюду, или собака, которая вдруг начинает громко лаять на того, кто тайком пришел к вам: такую собаку просто убить хочется! Или вы спрятали кого-нибудь в совершенно неподходящем, невозможном месте, а этот человек вдруг чихнет. Неприятно также, если резко открывают двери. А вот кто-нибудь едет в скрипящей коляске. Ах, как это неприятно! Неужели же он не слышит, как скрипят колеса? Неприятно, если кто-нибудь вдруг перебивает чей-нибудь рассказ на том основании, что ему лично будто бы все это уже давно известно. Очень неприятна возня мышей. Очень неприятно, если какой-нибудь новоиспеченный чиновник, притом еще обогнавший в чинах старых служак, слишком исполнителен и обо всем говорит в назидательном тоне и с всезнающим видом. Неприятно, если ваш близкий друг в вашем присутствии начинает хвалить какую-нибудь даму из своих прежних знакомых, даже если все это давно уже прошло. Неприятны также очень блохи. Они прыгают под платье так, что его приходится приподнимать…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .То, что приятно волнует
Видеть, как воробей кормит своих птенцов; идти мимо играющих детей; лежать одной, возжигая благовонные курения; узнать, что знакомый кавалер, остановивший коляску возле вашего дома, просит разрешения явиться к вам; вымыв голову и напудрив лицо, надеть платье, все пропитанное ароматом духов, — это очень приятно, даже если нет никого, кто бы в этот момент смотрел на вас. Ночью, когда вы кого-нибудь ждете, вдруг вздрагивать от шума дождевых капель и порывов ветра.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Можно бы выписать из творений Сэй Сёнагон еще много милых и забавных вещей — эпизоды из путешествий высочайших особ, маленькие новеллы о случайных встречах, которые кончаются ничем, портреты придворных, иногда смешные, иногда неприятные… Все это обнаруживает в авторе острое зрение и реализм восприятия, отличное чувство формы и композиции… Касательно же того, как жили простые люди, прелестная Сэй Сёнагон ничего не написала. И вообще литераторы Хэйана, вероятно, мало интересовались тем, откуда, собственно, происходит их дворцовый рай. Между тем Гончаров, видевший японцев не за тысячу, а всего за сто лет до нашего времени, писал, что народ в этой стране голый и большинство ходит только в набедренных повязках. И повторил это в своих очерках несколько раз. И о крови, убийствах, жестокостях не писали хэйанцы. Человек двадцатого века будет читать их творения с некоторой снисходительностью: без убийств все для него выглядит как-то не по-настоящему. Хотя я и понимал, что они писали далеко не всю правду о своем дворцовом существовании, мне нравилось читать их. Улыбка Хэйана немало значила для меня всю мою жизнь. Она была моим прибежищем с молодых лет, хотя я и не знал тогда, как ее называть. Она не требовала никакой тренировки, никакого насилия над собой. Она являлась в самые тяжкие минуты жизни, приоткрывая вдруг — вечер, горы, запах глициний и скрип гравия под легкой ступней… Потом уж в это спокойствие вошло имя, самое чужое для москвича, самое непонятное, как будто выдуманное и вместе с тем настоящее, только как бы с иной планеты: Сэй Сёнагон. Ребячество? А как же иначе? Обязательно. Что же касается Японии, то улыбка Хэйана, если ее берегут столько столетий, вероятно, сохраняет в себе очень много для всех, и в том числе для людей, почти всего лишенных. В месяцы, когда я жил в Японии, я не видел народных празднеств — то было время военного разгрома, — но эти процессии, эти танцы, фонарики, фейерверки, маски, поющие толпы — ведь это и есть Хэйан, все, что осталось от волшебства хэйанского бытия. А что было первым — народная улыбка или императорский двор, — пусть судят историки. Мне кажется, что народ всегда первее всех дворов. Улыбка Хэйана осталась. Но «мир и покой» кончились. Совсем под боком у Киото и даже в самой столице зрело, готовилось нечто иное, новое, страшное. Начиналась эпоха Камакура.То, что приятно
Хорошо нарисованный женский портрет с красивой и многоречивой надписью; приятно написать письмо не особенно тонкой кистью на свежей и белой митинокской бумаге; приятно то, как лодка скользит вниз по реке; приятно, когда очищение от заклятия на берегу реки совершает гадатель, который хорошо владеет даром слова; приятна вода, которую пьешь ночью, проснувшись…
СМЕРТОНОСЦЫ
Это был переход к феодализму, к власти военных. Где-то в исторических источниках рассказывается, как некий мужественный вождь, озирая прекрасную картину Хэйана с холма над городом, сказал с отвращением: — Если бы эта столица была в руках настоящего мужчины! Или что-то в том же духе. На арену истории, как принято произносить в таких случаях, вступали самураи. Раньше они были мелкие помещики, не больше, но вот пробил их час, и они стали основой власти. Это было зловещее появление. В идеале, как они виделись самим себе, они были грозны и прекрасны. Они походили на громадных и хищных насекомых. Зазубренные усики, подобно рогам, поднимаются над лбом. Ленты, как пламя, развеваются во все стороны. Оперение стрел торчит над колчаном за спиной. Из-под шелка всех расцветок блестят доспехи. Костяная бахрома, шелковые канаты, бронзовые пояса обтягивают волосатую и короткую мускулатуру ног и рук… Огромные, хищно изогнутые мечи и лук, похожий на громадную фигурную скобку, вылезают из-под бури складок, обувь покрыта шерстью… Ноги, согнутые в коленях, широко расставлены, руки, согнутые в локтях, широко расставлены — для устойчивости, для схватки. Что касается лица, то оно, судя по изображениям, подобно или маске злого духа в тигриной ярости, или надгробию, лишенному всякой жизни. Хэйан прогнил, и вот сила, которая его сметет! Банзай! Литература должна была переменить свои темы и свои формы. Академик Конрад называет искусство Хэйана женственным, а пришедшее ему на смену — мужественным. Хотя вождями самурайства оказались аристократы, владевшие всем богатством хэйанской культуры, основу нового движения составили рядовые дворяне, люди малообразованные. Поэтому в новой, рождавшейся литературе с изысканностью сочеталась вульгарность — просторечье, грубость, стилистический разнобой, наивные прикрасы, отсутствие стройности, — словом, варварство! Хэйанская гладкопись, изысканность оборотов, гармоничность построения, осторожность в выборе сравнений — все исчезает. И, однако, как пишет Н. И. Конрад, «создается характерный эффект живости, энергичности речи; изложение отличается совершенно неведомой для Хэйана силой…». В японском литературоведении первые памятники самурайской эпохи вызывают споры: может быть, это вовсе и не литература? Они называются «гунку», «военные описания», и — вероятно, по желанию и по свойству всех военачальствующих — наполнены послужными списками деятелей, их генеалогией, военными реляциями, подробным изложением хроникальных данных, выписками из официальных документов и протоколами церемоний. По-видимому, начальство не обходило своим вниманием составителей, лишь иногда снисходя к их желанию поэтически порезвиться. Известно, что военный режим требовал от живописцев изображения властителей, портреты коих должны были выражать спокойствие, непреклонность и мудрость, и даже накладывал свою твердую руку на музыкантов и актеров. Портреты эти я видел в Киото и в Токио — страшилища свино-бычьего обличья. Феодальный эпос, а говоря попросту — описание всеяпонской феодальной свары, повествует о потоках крови, волнах убийств, за которыми легко себе представить дикое ограбление простого народа. Страх, подозрения, злоба были главными чувствами людей, и они формировали характер времени. Пожалуй, именно тогда-то и закладывались черты, ставшие впоследствии якобы «национальными» для Японии. Как всякий ровесник двадцатого века, я достаточно всесторонне знаю, что такое убийство. Убийство массовое и индивидуальное, убийство открытое и тайное, со словесным гарниром или без, воспетое или обруганное… Я знаю убийство и с разных его изнанок. Например, с изнанки кошельковой. В наше время убийства совершаются зачастую не от страстей и не из-за семейных выгод, а от делового расчета тех, кто их оплачивает. В прошлом было не так. Зато другая изнанка убийства остается такой же, как во все предшествующие времена: изнанка материнская. До нее авторам чековых книжек или военных приказов нет дела. Мать, ждущая вздоха от куска кровавого мяса, которое только что было ее ребенком, не интересует ни пентагонцев, ни ловкачей из ЦРУ. Я знаю и еще разные изнанки убийства. Я трогал обугленные камни дворцов и галерей в городке, где провел юность Пушкин и где каждый аршин был мне памятен, потому что там прошло мое детство. Я был в комнате, где Толстой писал «Войну и мир» и где фашисты устроили нужник. И в рабочем кабинете Чайковского, где мотоцикл № 70029 лежал опрокинутым на разметанные по полу рукописи композитора. В лунном свете на льду залива видел я груды убитых юношей, только вчера прибывших на фронт, и они шевелились — так действовал мороз на мертвую мускулатуру. Конечно, все это только абзацы истории, а иногда только пометки на полях этих абзацев, и наука знает причины. Но для меня это — абзацы моей собственной жизни, хотя и я тоже знаю причины. Однако знать и рассуждать — одно, а видеть и жить — другое. Я научился не только з н а т ь, я теперь умею в и д е т ь кровь, пролитую даже тысячу лет тому назад. Она такая же, что и сегодня. И потому, когда математически точно мне объясняют, что такое феодализм, я принимаю все разумные объяснения, но шепчу совсем не научно: — Кровавые псы! Тупые мерзавцы! И я, извините, считаю, что самое правильное, что было написано о временах так называемого рыцарства, — это страницы Марка Твена, где идет речь о шайке неграмотных вралей, называвшейся «двором короля Артура». Прочтите эти страницы. А потом уж принимайтесь за чтение всяких эпосов, песен, баллад и «гунку» о «подвигах» рыцарей и самураев. Один мой знакомый крокодилец так объяснял секрет феодального охмурения. Главарей-феодалов кормили мужики. Они их содержали. За что? А видите ли, мужиков убедили, что если они не будут отдавать все военным, то соседний герцог или барон тотчас нападет на них и убьет всех, потому что защищать их будет некому. Хочешь, чтобы тебя не убили, — плати своему сиятельному защитнику, своему сюзерену. На деле, конечно, сюзеренный взаимограбеж выходил боком прежде всего мужикам, которых грабили и свои и чужие (у историков это называется «внеэкономическим принуждением»). Что касается «защитников», то у них только и дела было, что пировать, охотиться, заниматься любовью и время от времени устраивать сражения — для грабежа чужих и для острастки своих. — Кровавые псы, негодяи, блатное жулье! — шепчу я, хотя это было тысячу лет тому назад и в девяти тысячах верст от моей комнаты.…Роскошная эпоха самурайского героизма началась с того, что неукротимый Киёмори из могучего рода Тайра скрутил весь ненавистный род Фудзивара и стал сверхмогущественным. Он стал таким могущественным, что однажды отдал приказ, чтобы солнце остановилось. От этого или чего другого, он заболел и начал раскаляться. Он так раскалился, что когда его посадили в ванну и стали поливать водой, вода тотчас закипела, а по всему дворцу пошел дым. Но перед тем, как отдать концы, он приказал не устраивать никаких панихид, а только отправить войска к могущественному Минамото, чтобы отрезали тому голову и, привезя, водрузили эту голову на его, Киёмори, могилу. Знали гордые Тайра, как надо утверждать авторитет властителя даже после его смерти! Ну ничего! Этим Тайра тоже не поздоровилось! Неукротимые братья Минамото напали на неустрашимых Тайра и погнали их войско на юго-запад. Исполненные верности войска Минамото поколотили исполненных верности, доблестных воинов Тайра. Полные преданности войска его брата загнали Тайра в море и под воинственные крики в прославленной битве при Данноура уничтожили все вражеские силы. Ну да ничего! Через некоторое время наследникам этих братьев Минамото тоже досталось. Верные слуги трона, неукротимые Масасиге Кусуноки и Иосисада Нитта отважно набросились на столицу Минамото. Столица пала. Сколько тут было пролито доблестной крови и чистых, как утренняя роса на лепесткахцветущей вишни, детских слез! Ну да ничего! Навеки верный своим сюзеренам, низкий предатель сына богов Такаудзи Асикага напряг все силы, чтобы дать отпор верным защитникам трона. Заварилась величественная свара, полная подвигов и предсмертных криков. Много десятилетий вся Япония кипела в славной и самоотверженной драке. Трупы мощных воинов и еще не выросших детей, объятые огнем горящих домов, сливали воедино свой дым во славу воинской чести. По оригинальному выражению всех эпосов мира — «реки были красны от крови». Ну да ничего! Верные слуги трона получили свою долю бессмертия. Кому-то из них был поставлен памятник возле императорского дворца в Токио. Вот какое счастье привалило человеку! Во имя бессмертия и для прославления были созданы эпические произведения. Вероятно, они очень, весьма, захватывающе интересны. Судите сами. В «Повести о великом мире» описываются 2640 самоубийств, из них посредством вспарывания собственного живота — 2159! В «Повести о Тайра» предпочитают топиться. В «Тайхейки» применяется еще один новейший, входивший в моду метод — взаимное и синхронное протыкание мечами. 332 случая! Я тоже хочу, чтобы эта моя книжка была интересной. И для этого я включаю в нее рассказ о так называемом харакири, или сеппуку. Он приведен в книге профессора Инадзо Нитобэ, о котором сообщается, что сей автор — высокообразованный ученый, христианин, женат на американке и многие годы провел в Америке и в Европе. Иными словами — человек приличный. Этот доктор и профессор относится к рыцарскому кодексу самураев с нескрываемой симпатией, хотя книга его издана значительно позже ликвидации феодализма, а именно — в 1899 году. О ритуальном самоубийстве — харакири — Нитобэ говорит следующее:
«Изобретение средних веков, акт этот был прибежищем для воинов: совершая над собой сеппуку, они искупали свои ошибки, каялись в своих заблуждениях, избегали бесчестья, спасали своих друзей или доказывали свою искренность… Это было утонченное самоумерщвление…»Вот ведь как распрекрасно! Господин Нитобэ включил в свою книгу описание сеппуку, извлеченное из книги Митфорда «Рассказы о Японии». Вот оно.
Харакири
«Мы (семь иностранных посланников) были приглашены сопровождать японских свидетелей в «Хондо», или главную часть храма, где должна была совершиться церемония. Это была величественная сцена. Широкая зала с высокой крышей поддерживалась колоннами из темного дерева. С потолка спускалось изобилие золоченых ламп и орнаментов, присущих буддийским храмам. Перед главным алтарем, где пол, покрытый превосходными белыми циновками, подымался на три или четыре вершка от земли, лежал красный войлочный ковер. Высокие свечи, расставленные в правильных промежутках, бросали тусклый, таинственный свет, достаточный, чтобы видеть всю процедуру. Семь японцев заняли места по левую сторону возвышения, семь иностранцев — по правую. Больше не было ни души. После нескольких минут томительной неизвестности в залу вошел благородного вида человек лет тридцати двух, по имени Дзэндзабуро Таки. Это был осужденный. Дзэндзабуро Таки, одетый в церемониальное платье, с особенными, из льняной материи крыльями, носимыми только в больших церемониях, был сопровождаем тремя офицерами, одетыми в «дзимбаори», или военное верхнее платье, обшитое золотой бахромой, и «каисяку». Нужно заметить, что слово «каисяку» не имеет ничего общего с нашим «палач». Это должность дворянина, и притом близкого к осужденному; иногда она исполняется родственником или другом, и отношения между ними скорей старшего (осужденный) к младшему, чем жертвы к палачу. В данном случае «каисяку» был учеником Дзэндзабуро Таки и был избран друзьями последнего из их же среды благодаря ловкости владенья мечом. Дзэндзабуро Таки в сопровождении «каисяку», шедшего по левую сторону, приблизился к свидетелям, и оба они преклонили перед ними колени; затем, приблизясь к иностранцам, они приветствовали нас в таком же направлении, и даже, может быть, почтительней. С каждой стороны приветствие было торжественно возвращено. Медленно и с большим достоинством осужденный поднялся на возвышение и дважды пал ниц перед главным алтарем. Совершив эту церемонию, он уселся по японскому обычаю: колени и пальцы прикасаются к полу, тело же покоится на пятках. В этой позе, как наиболее почтительной, осужденный оставался до момента смерти. Тогда один из трех офицеров вышел вперед и занял место у жертвенника, на котором лежал завернутый в бумагу короткий японский меч или кинжал — «усукисаси» — девяти с половиной вершков длины (около сорока сантиметров. — Б. А.) с острым, как у бритвы, концом. Пав ниц, он подал его осужденному, который принял этот дар благоговейно, поднес обеими руками к своей голове и затем положил перед собой. После второго глубокого поклона Дзэндзабуро Таки скорбным и взволнованным голосом, как человек, делающий тяжелое для себя признание, но без малейшего изменения в лице, сказал: «Я и только я один виновен в том, что стреляли в иностранцев из Кобе, ибо я отдал этот приказ и снова повторил его, когда они спасались бегством. За это преступление я распарываю себя и прошу присутствующих оказать мне честь быть свидетелями этого акта». Поклонившись еще раз, Дзэндзабуро Таки позволил своим верхним одеждам соскользнуть до талии и остался, таким образом, обнаженным до поясницы. Заботливо, согласно обычаю, он подтянул рукава под колени, чтобы не упасть назад, ибо благородный японец, умирая, должен падать вперед. Обдуманно, твердой рукой он берет кинжал, лежащий перед ним, смотрит на него пристально, почти любовно, — казалось, что в этот момент он собирал все свои мысли за последнее время — и затем… вонзает его глубоко внизу талии с левой стороны, протаскивает спокойно в правую сторону, поворачивает его в ране, сделав легкий надрез кверху… В продолжение этой скорбной смертельной операции ни один мускул не дрогнул в его лице… Вытащив кинжал, он склонился вперед, вытянув свою шею… Выражение боли в первый раз проскользнуло у него по лицу, но он не издал ни одного звука. В это мгновение «каисяку», сидевший или, вернее, лежавший, скорчившись, с левой стороны и следивший зорко за каждым движением Дзэндзабуро Таки, вскакивает на ноги, мгновенье колеблет свой меч в воздухе… Виден блеск, слышен тяжелый, безобразный свист рассекаемого воздуха и грохот падения… Одним ударом голова была отделена от тела. Наступило мертвое молчание, прерывающееся отвратительным шумом бьющей крови из неподвижно лежащего перед нами тела… Это было ужасно! «Каисяку» отвесил низкий поклон, вытер меч приготовленной для этого бумагой и удалился с возвышения. Запятнанный кинжал, как кровавое доказательство казни, был торжественно унесен. Два представителя от микадо, оставив свои места, подошли к месту, где сидели иностранцы, и просили их засвидетельствовать правильное исполнение смертного приговора Дзэндзабуро Таки. Церемония была окончена, и мы покинули храм».
КОДЕКС БАНДИТИЗМА
Мне не хотелось бы больше обращаться к книге господина Инадзо Нитобэ. Она оставила во мне черное, как бы кровью опятнанное ощущение. Всякий нормальный человек, знающий, что такое фашизм и дела его, почувствовал бы то же. Но книга сия не только сочинение, но и директива. И, к сожалению, директива не умершая. В этом-то все и дело! Сам автор пророчествует, что кодекс самурайства не умрет, пока будет существовать Япония. Сей кодекс, видите ли, подлинный вождь японской нации — на все времена.ПОЧТИ НА КРАЮ
Как и предрекал печальный проводник, поворот совершился. Исчез ледок в умывальной, не было больше инея на заклепках. Мы катились на юг почти точно по меридиану — прямо в крымский климат. Всем надоело ехать. Все скучали, и томились, и молчали, даже за обеденным столом. Только Симонов писал стихи взахлеб. Он приходил ко мне читать новинки. Моим мнением он интересовался мало. Судя по всему, он считал меня человеком отживших вкусов, близких символизму, акмеизму, в крайнем случае — конструктивизму. По совести говоря, я не был этим особенно озабочен. Сам я стихов уже давно не писал, решив, что на это имеют право только подлинно одаренные люди, а прудить стихотворные болота — просто свинство по отношению к читающим людям. Лично у меня был и остался мой мир поэзии, который мне дорог, как часть моей Вселенной. Я не только не умею, но не хочу отворачиваться от музыки стихов, от их индивидуальности, от их необъяснимости, произвола, даже неясности… Поэтому, когда начинается рифмованная публицистика или тексты для романсов, меня корежит, и Симонов не мог этого не видеть. Между тем я искренне уверен, что «Жди меня» — лучшее лирическое стихотворение, которое было написано за время войны. Оно свободно от всякой патетики и вместе с тем полно подлинного патриотизма. Оно абсолютно правдиво. В нем есть жажда волшебства, надежда на чудо — остаться в живых, и улыбка над этой мальчишеской верой в добрый рок, и боль опасений за верность любимой, и гордость ее любовью, и нежелание нарушить строгость поэтического вкуса и наговорить грозных или горестных слов, и сквозь все это суровое, солдатское, взрослое — такая юношеская тоска по родному человеку, по любимому сердцу, которое бьется бесконечно далеко… Черт его знает, сколько слилось в этих строчках всего, чем полна была душа человека на фронте! Об этом я ему тоже не говорил. Но слушатель я хороший. И я старался, чтобы он не очень ясно видел, что его вагонная лирика мне не нравится. Я знаю также, что критика моя ничему не помогла бы. Но я по-прежнему твердо уверен, что стихи для того и стихи, чтобы не быть прозой. Первое, что я увидел во Владивостоке, была фотография в местной газете нас четверых — фотография неузнаваемая, сводящая скулы. И под ней были напечатаны новые стихи Симонова. Вполне под стать фотографии.ЛЕТИМ И ПРИЛЕТАЕМ
Наконец-то мы едем на аэродром. Пейзаж по дороге как в окрестностях Севастополя. Двухмоторная амфибия типа «Каталина» ждет на фоне восходящего солнца. Около хвостового оперения — прозрачный купол — боевая палуба для стрелков. Под взглядами экипажа лезу по лесенке. Как обычно, запутываюсь в собственных ногах. С ненавистью к их дурацкой длине хватаю одну из них и всовываю в ту дыру, которая должна заменять дверь в этом сооружении. Тут-то и раздается треск лопанья, и мой отлично сшитый пиджак разрывается вдоль спины на полметра. Я слышу хохот рядом, и мне слышится голос из Москвы: «Надо уметь носить вещи. Это вам говорит Журкевич!» Самолет. Теснота, как в будильнике. Прицелы, приклады, курки, парашюты, шлемы, унты, тулупы, бинокли, очки, перчатки… Моторы взвывают, но я уже нашел то, что мне надо, — узкую койку наверху, в проходе. Она завешена шинелями экипажа на распялках. Получив разрешение, устраиваюсь, задергиваюсь шинелями, забрасываюсь тулупами, принимаю таблетку добытого в Москве аэрона… Спать! Предстоит качка в течение более пяти часов, а это не для меня. Всю жизнь я мечтал о море как о высшем счастье, о соленом ветре, о брызгах волн, о безбрежности, об уюте каюты, о неведомых странах… «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина — моя любимая книга, всякие «бимсы», «брам-стеньги» и «галсы» — любимые слова моей молодости, однако… Даже качели вызывают во мне тошноту. Вероятно, если бы мой вестибулярный аппарат был приличного качества, вся судьба моя была бы иной. «Двоесудьбие», «троесудьбие» — постоянная уверенность, что разыгрывается не тот вариант жизни, который должен происходить, и постоянная возня воображения в другом, несравнимо более прекрасном варианте. Может быть, отсюда и проистекает романтизм? Но, несомненно, отсюда проистекают непрестанные огорчения, они и есть главная черта моей биографии. Спать, неуклюжий старик! Сплю. Знаю, что мои товарищи на стрелятельной палубе завели интересный разговор с экипажем, знаю, что внизу — Тихий океан, что я лечу над маршрутами великих путешественников… но — сплю, черт бы меня драл с моим вестибулярным аппаратом! Вдруг — крик. — Фудзияма! — кричит Кудреватых. Столько дней, столько часов было все неопределенно: как понимать Владивосток, как начинать утро, чем начинять полдень, зачем идти, куда ехать… И вот наконец — руководящий ориентир, целенаправленная точка на карте. Спасительная рубрика обретена. Ф у д з и я м а!! Госпожа Фудзи красуется, поддерживаемая амурами розовых тучек. Она плывет над горами, покрытыми серой дымкой. Я почти ничего не слышу, кроме выстрелов в ушах. Уши болят, будто в них накачивают воду. Сердце бьется с пугающей скоростью. Каждое движение вызывает пульсацию боли в висках. Мы идем на высоте более трех тысяч метров. К счастью, это длится недолго. Вираж. Моторы поют на октаву басистее… Подпрыг, еще подпрыг — и мы катимся по земле. Медленно выбираемся из «Каталины». Летное поле. Мимо, как толстая ночная бабочка, пробегает, крутя пропеллерными усиками, крошка самолетик. Еще такая же игрушка пролетает над нами, треща. Не обращая на нас никакого внимания, проходит красавец в спортивном костюме с погончиками на плечах, возле него — длинная красавица в голубой блузке… Может, мы в Сан-Франциско? По ошибке мы сели на американский военный аэродром. Американцы делали вид, что нас тут нет. Они не знали по-русски, мы — по-английски. Наконец привели какого-то поляка. Изо всех нас только Горбатов решился с ним разговаривать. Это выглядело так. — Здравству́йте, — сказал Горбатов, вглядываясь в поляка, как в далекую мишень. — Дзень добрый. Поляк поклонился. — Мы советски́е писате́ли, — продолжал Горбатов. — Далеко ли есть до горо́ду Токи́о? Несмотря на то, что все ударения Горбатов громко ставил на вторые от конца слоги, поляк не понял. Они заговорили сразу очень бойко и очень быстро, и мы отошли, чтобы не ставить их в неловкое положение: было ясно, что они абсолютно не понимают друг друга. Наконец на прыгающем самолетике подъехал какой-то человек и невозможным русским языком, с применением пальцев сообщил, что из Ацуги пришла радиограмма, нас там ждут и мы можем улетать. Так мы и поступили, по возможности тотчас.Мы приземлились в Ацуги уже вечером. Втюковались в машины и поехали «до горо́ду Токи́о». Все молчали. Я чувствовал себя скверно, что касается Симонова, он продиктовал на следующий день:
«…По бокам дороги мелькали бумажные окна и стены придорожных домиков, иногда темные, иногда освещенные изнутри… Первое ощущение — это теплынь, тишина, какая-то легкость, разлитая в воздухе. …Почему-то мне нравится приезжать в чужую страну, на чужое и новое место, ночью, вот в такую теплую ночь. Это как-то многообещающе, чуть-чуть таинственно, словом, хорошо».Несомненно, это было именно так. Во всяком случае, я хотел бы, чтобы это мог записать и я. Но я был занят своей усталостью. Самым радостным в поездке из Ацуги для меня был момент, когда в черном зеркале воды вдруг перед нами засияли какие-то буквы. Это было отражение неоновых надписей. Там сияло по-английски:
и рядом:МЕРРИ КРИСТМАС
ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО
Мне объяснили, что это генерал Макартур, новый владыка Японии, приветствует на всю столицу какого-то своего однокашника, который должен приехать в Токио. Нас подкатили к дому, источавшему свет окнами, стеклянными дверьми и витринами. В них серебрились колокольчики и веночки: кристмас. Мы были выгружены в невыносимую жару парового отопления, налитую в глянцевитость пластмассовых стен, в папоротниковые заросли пальм над стойками с коктейлями. На диванах, расставив ноги под нависшими животами, сидели американцы и заливали съеденное спиртами разного сорта… Там были барьеры из полированного кипариса, и переборки из полированного ореха, и никелевые перила, и бархатные приступочки, и кресла, прислоненные к основаниям коротких колонн. Фарфоровые японки кукольного вида и роста разносили что-то по столикам. Они были похожи на мальчиков, скрытно получивших женские формы. Полумальчик-полуженщина в брюках раздвинула дверцы лифта, и мы поднялись на второй этаж. Мы вышли прямо в луч кино и потом в темноту зала. На экране стреляли американские войска. В зале те же войска жевали резинку. Комната, которую нам предоставили, вчера еще была складом белья и пахла стиркой. В ней было жарко, как в лохани. Через нее все время ходили люди в военном. Четыре кровати высотой в стол были застелены чистым бельем и тремя одеялами каждая. Я хотел сразу лечь — так устал. Уши все еще болели от трех тысяч метров, с которых мы только что слезли. Но я знал, что́ надо делать. Я выяснил, где душ. Там были кафель и никель, горячая вода, запах хорошего мыла… Друзья! Учите ваших мальчишек, учите с самого раннего детства рефлексам душа, рефлексам растирания и дыхания! Всю жизнь они будут иметь под рукой безотказный способ приводить себя в полный порядок. Я спустился в ресторан, как победитель олимпиады. Мы были голодны до остервенения. На первое нам подали ананас с маслиной, на второе — мясо с фруктовым соком, на третье — немного супа таинственного состава, на четвертое — салат из зеленого горошка, кукурузы и спаржи, на пятое — мороженое с тортом и на шестое — кофе со сливками. Горбатов был взбешен. Он требовал шашлыка, он хотел борща. Он стал шепотом кричать на японочку, которая смотрела на него, как на рассердившегося Будду. «Бред! — шипел он. — Бред, черт бы вас подрал!» Возможно, потому, что «бред» по-английски значит хлеб, ему принесли хлеба целый поднос. Хлеб был белый, ватный, сплошной и безвкусный. Бедный Борис жевал его, как целлюлозу. Когда пришло время закурить, он попробовал сигарету «Кэмел» и скривился, как от зубной боли; мы тотчас предложили ему «Казбек», и с этого дня весь наш запас советского курева был ассигнован ему. Заправившись, мы пошли спать. Мы залегли на наши пружинные столы; неизвестно откуда у Симонова оказался номер «Русской старины», в котором была напечатана увлекательная история о ссоре саратовского губернатора с саратовским жандармским полковником, имевшая место в тридцатых годах прошлого столетия, и он заснул раньше других. Кажется, я угомонился последним. Я слышал, как в соседнем кинозале миллиардер любил таитянку и как сменялись офицеры в соседней с нами комнате. Комната эта была отделена от нас занавеской из тонкой ткани, так что каждое наше слово можно было там слышать без всяких микрофонов. Обитатели комнаты никогда не пользовались клубным рестораном.ПРИВЕТ ТЕБЕ, СТАРЫЙ ДРУГ!
НАШ ДОМ, НАШ «ДЖИП»
…Симонов был у Макартура. Он пришел от него иронически-злой и сказал, что обещал «владыке» никому ничего не рассказывать об их беседе.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ИМПЕРИИ
Симонов сдержал свое обещание Макартуру. Только через несколько лет после возвращения в Москву он дал мне прочесть свои записи об этом визите. Вот некоторые выдержки:«…Генерал Беккер на этот раз был любезнее, чем тогда, когда мы были у него в оффисе. Он сказал, что Макартур хочет меня видеть, но перед этим просил предупредить меня о двух обстоятельствах. — О каких? — спросил я. Во-первых, чтобы я не говорил никому из корреспондентов о своем посещении его… Я сказал, что, конечно, я никому ничего не скажу. — Кроме того, — продолжал Беккер, — просьба ничего не писать об этом посещении в прессе… Свидание будет неофициальным. Я, улыбнувшись, заверил, что я не собираюсь ничего писать, и это было истинной правдой. — Кроме того, — добавил Беккер, — я вас прошу ничего не передавать кодом, то есть шифром. Я пожал плечами… Это было, во-первых, бестактно с его стороны, а во-вторых, меня поразила глупость самой идеи, что я буду передавать к о д о м (?) что-то о свидании с Макартуром. Кому, зачем и о чем?.. Макартур, когда я вошел, стоял у стола, держа в зубах огромную трубку, такую огромную, что он все время поддерживал ее рукой. Это была подчеркнуто простая, солдатская трубка. Далеко отставляя трубку от тела, Макартур сделал два или три шага мне навстречу, энергично пожал мне руку и пригласил сесть… …Макартур — высокий человек, довольно широкоплечий… Он выглядел гораздо моложе своих шестидесяти лет. Лицо сухощавое, которое можно было бы назвать красивым, если бы не какая-то излишняя резкость во всех его чертах. Он, несомненно, был военным до мозга костей, это чувствовалось. Но в то же время в том, как он двигался, как слишком прямо держал корпус и голову, как слишком резко придвигал и отодвигал руку с трубкой, как тоже слишком резко и отчетливо попыхивал этой трубкой, и по тому, какая большая и грубая была эта трубка, и даже в подчеркнутой простоте его одежды была некая излишняя аффектация… Десять дней спустя, когда мы разговаривали со знаменитым актером театра Кабуки Оноэ, человеком его лет, и тот распахнул кимоно и потребовал, чтобы мы потрогали мускулы его ноги в доказательство того, что они действительно железные, мне вспомнился Макартур. Что-то от актера было в нем. По-моему, он в жизни беспрерывно показывал людям свою мускулатуру, конечно, не в буквальном смысле слова. …Разговор длился минут пятнадцать, был коротким и бессодержательным… В сущности, не о чем было мне говорить с Макартуром и тем более ему со мной…»Вот выписка из дневника Марка Гейна, одного из американских журналистов, с которым мы познакомились в токийском корреспондент-клубе:
«Вчера вечером обедал с членом «внутреннего кружка» генерала Макартура… Даже его сторонники соглашаются, что он эгоцентрист и позер, человек, который не терпит никакой критики и не способен признаться в ошибке; человек, который хочет, чтобы его признали великим героем и великим администратором в учебниках истории трех стран — его собственной, Японии и Филиппин…»И далее:
«…Человеку постороннему нелегко определить мировоззрение генерала, ибо он обладает обескураживающей привычкой приспосабливать свою речь к случаю. Один раз он может нападать на Россию с пылом крестоносцев, а другой раз требовать мира с Советами… Но он разделяет убеждение… что конфликт между «монголо-славянскими ордами Востока и цивилизованными народами Запада» будет разрешен на поле боя…»Как типичный представитель монголо-славянских орд, я заинтересовался таким видным образцом цивилизованных народов Запада, каким, несомненно, считает себя генерал Макартур. Я получил его биографию, опубликованную в Филадельфии в 1942 году. Она называется «Генерал Дуглас Макартур, борец за свободу» и начинается так:
«В крови Дугласа Макартура более чем тысячелетняя история его предков — сражающихся Макартуров. Их история уходит в глубь времен, к двум древнейшим шотландским кланам, известным по легенде о короле Артуре. Об этом же говорит и одна из старейших поговорок в Шотландии, которая звучит так: «Нет на свете ничего древнее Макартура и дьявола».Далее идет описание любви генерала к памяти его отца, тоже генерала, «дух которого всегда присутствует подле него». Потом написано: «Генерал Дуглас Макартур — сто наполеонов в одном». Эта фраза была первой, против которой я написал на полях для памяти: «выяснить». Далее сообщалось:
«Шести футов ростом, и каждый дюйм — это мужчина, сохраняющий свой вес на уровне 165 фунтов… Он говорит о больших умах и великих лидерах всех веков, как если бы они все жили сегодня и были его интимными друзьями… Макартур — солдат, храбрейший из храбрых: он был рожден и вскормлен под огнем, и грохот пушек всегда неизменно присутствует в его ушах… Однажды мать рассказала сыну, которому было шесть лет, об открытии статуи Свободы, и маленький Дуглас торжественно отсалютовал американскому флагу». «Когда мы осмотрели руки Макартура, то оказалось, что они обладают большей, чем у Наполеона, силой (?! — Б. А.) и выявляют сильный характер, оставаясь в то же время очень чувствительными и деликатными».Далее идет описание того, как во время русско-японской войны отец и сын Макартуры участвовали в сражениях на стороне японцев. Читателю должно быть ясно, что стоило юному Макартуру появиться в рядах японцев, чтобы они тут же побеждали. Кто в этой войне был прав, а кто виноват — не интересовало этих наполеонов. «В их головах вертелся другой вопрос, — пишет биограф: — не в опасности ли Филиппины?» По-видимому, это должно говорить о прочности патриотических чувств генералов: известно, что Макартур владеет акциями многих горнопромышленных предприятий на Филиппинских островах, — например хромовых рудников АКОХЭ, золотых приисков АНТАМОК и других. Так что когда в 1941 году генерал был назначен командующим всеми вооруженными силами США на Дальнем Востоке, он имел основание сделать свое знаменитое заявление, которое приводится как образец героизма и самоотверженности:
«Америка приказала мне защищать Филиппины. Я не должен пренебречь доверием Америки. Эти острова должны и будут защищены. Я нахожусь здесь волею бога. Таково мое назначение».Дуглас Макартур в начале столетия был адъютантом президента Теодора Рузвельта, автора политики «большой дубинки», агрессора, любимого персонажа желтой прессы с его африканскими охотами и приключенческими путешествиями. Биограф отмечает как важный в жизни своего героя следующий факт. Однажды президент был в плохом настроении и спешил на какое-то совещание. Но его окружили члены конгресса и журналисты. «Тэдди» весь кипел от отвращения.
«Неожиданно показался слуга с подносом прохладительных напитков. Макартур, как всегда наготове, подставил ему ножку, и слуга споткнулся. Поднос упал на пол, а жидкости выплеснулись на конгрессменов и журналистов. Пока они, отряхиваясь, расступились, президент скрылся. После этого случая Дуглас Макартур удостоился следующей похвалы своего шефа: «Мак, вы великий дипломат. Вы обязательно должны стать послом».Раскрыв таким образом перед читателем кое-что из методологии американской дипломатии, автор биографии устремляется дальше по пути восхваления гениального человека и его специальности, я же, следуя своей отметке «выяснить», обращаюсь к справочным материалам. Дело в том, что, дойдя до фразы «сто наполеонов в одном», я вдруг был пронзен подозрением: а что, если эта биография просто бойкий памфлет против американской военщины и столь видного ее представителя, как Макартур? Я же попаду в дурацкое положение, не поняв такой простой вещи… Но мне было жалко отказываться от яркого портрета человека, который, став диктатором Японии, сделал все, чтобы сохранить в целости самые реакционные силы страны. То есть покровительствовал людям, подготовившим Пёрл-Харбор, людям, начавшим яростную борьбу с его родиной. Мои подозрения были напрасны. Автором биографии оказался отнюдь не памфлетист, а некто Френсис Тревельян Миллер, профессор, считающийся авторитетнейшим историком военного дела в США. Так что «сто наполеонов в одном» или «каждый дюйм — это мужчина» мы должны принимать отнюдь не как издевательство и даже не как безвкусные метафоры провинциального репортера, а как научные формулы, характеризующие профессиональный идеал американских военных кругов и вместе с тем бросающие некоторый свет на уровень их культуры. Когда на следующий день после приезда мы впервые вышли в город, первое, что мы увидели, была толпа японцев перед американским штабом. Потом один из американских журналистов объяснил, что эти люди ждут выхода Макартура к завтраку. По мнению журналиста, главной чертой японского воспитания являлось благоговение перед власть имущими, так что после разгрома многие японцы перенесли свою восторженную любовь к властителям на нового «сёгуна» — американского генерала. Не знаю, насколько он был прав. Может быть, встречались и такие люди, однако мне лично не приходилось их видеть. Глядя на штаб «ста наполеонов в одном», мы не знали еще, что новый бонапарт прикажет закрыть 1212 левых газет, освободит большинство военных преступников, мобилизует 25 тысяч полицейских для розыска девяти деятелей компартии, объявленных им вне закона, и что вообще он и его двор будут, по существу, реставраторами японского империализма, а одновременно, конечно, губернаторской властью Соединенных Штатов наЯпонских островах.
ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА
УЭНО
Звук этого слова до сих пор сжимает мне сердце. Теперь там, конечно, наведен порядок, ведь это возле самого центра столицы. А тогда, в 1946 году, туда стекались те, кто не ухитрился сохраниться за страшные годы войны. Парк Уэно и вокзал Уэно… Я не буду обсуждать вопрос о том, считать ли с п р а в е д л и в ы м налет японских самолетов на Пёрл-Харбор, когда в результате внезапного нападения была почти полностью разгромлена главная база американского военного флота на Тихом океане и американцев погибло более двух тысяч человек, в десять раз больше, чем японцев, как и вопрос о том, признать ли с п р а в е д л и в ы м и налеты американской авиации на Токио, когда в этом городе было уничтожено 746 000 домов и осталось без жилья 2 857 000 человек, преимущественно бедняков или людей малого достатка. Я только хотел привести эти цифры, чтобы сравнить потери в войне и чтобы показать, из кого вербовались люди, населявшие в то время парк Уэно и вокзал Уэно. …Мы спустились в подземные коридоры вокзала. Для сохранения равновесия своей души лучше было этого не делать. Мы попали в тот круг ада, который не посетил Данте: ад беспламенный и безморозный. Ад без осужденных, без мучителей и без затворов. Нет в языке терминов для обозначения смертельного зловония, которое поднималось от пола, от луж мочи и фекалий, хлюпавших под ногами. Дыхательные пути не хотели принимать этой отравленной гущи, они сжимались, требуя немедленного бегства. Тьма. То там то тут в гулких трубах коридоров вспыхивали огни — зажженный мусор, сено или ветки, принесенные из парка. Свет вырывал людей вокруг — они сидели в более сухих местах, привалившись к стенам от слабости. Вместо лиц у них были маски из пепла и сажи. Ноги забинтованы в тряпье и газеты. На теле остатки чего-то, что когда-то было тканью, некоторые почти совсем обнажены. Я заставлял себя записывать скорее ради самодисциплины, чем для памяти, ибо забыть все это было невозможно. Тут были матери, раздутые от голода и маниакально обороняющие какие-то куски пищи, вытащенные из урн или украденные, чтобы подкормить детей… Дети, чьи отчаянные вскрики или — еще страшнее — смех, звучащий тут чудовищной нелепостью. (Это были единственные человеческие голоса, которые можно было услышать, потому что люди переговаривались шепотом.) Еще были слышны кишечные звуки и хрип стариков, умиравших от воспаления легких. Страдание как бы облепляло всякого, кто спускался сюда. Смерть была рядом… И тем более странным казалось то, что тут билась яростная жажда жить. Подростки не хотели погибать. Под зеленоватой кожей, покрытой грязью и струпьями, пульсировала молодая кровь, в головах лихорадочно работал мозг, не тормозимый никакой моралью. Страх смерти был сильнее страха поимки и наказания. Бесшумно и быстро, подобно уэллсовским морлокам, они шмыгали в полутьме, и было видно, что они заняты, что они действуют. Там, наверху, вокруг вокзала, шли непрерывные облавы, полиция свирепствовала — она привыкла обращаться с людьми, как со скотом, — но пока ловили одних, другие грабили и убивали. Подростки действовали группами, они нападали скопом и, разделавшись с человеком, тащили захваченное в черноту туннелей. Там начинался раздел. Награбленное становилось предметом быстрых и бесшумных драк, а иногда азартной игры. Мы застали одну такую игру. Когда мы подошли, раздалась короткая команда, игравшие замерли, один, бросавший кости, закрыл их руками: вероятно, таков был уговор на случай опасности. Два десятка глаз уставились на нас. Пламя костра отражалось в них. Корреспондент газеты, меня сопровождавший, быстро взял меня под руку и стремительно увел в темноту. Короткая команда опять упала в тишину, вместе с ней упали, вероятно, и кости. — Сюда надо ходить с пистолетом, — шепнул мне переводчик сердито. Возле выхода, на первой площадке лестницы, мы встретили мальчонку, который, хромая, спускался вниз. Я решил поговорить с ним: — Как тебя зовут? — Ёсиюки Хасегава, — сказал он скрипящим, но громким голосом. — Сколько тебе лет? — Тринадцать. Он не доходил мне до пояса. Почти голый, он был темно-серого цвета, какими бывают вараны — ящеры пустыни. Он был похож на варана, вставшего на задние лапы. Глаза, полуприкрытые веками, как пленками, и рот, выдавшийся вперед, безгубый, полный мелких зубов. Казалось, что сейчас он выстрелит длинным языком и слизнет муху. Он не смотрел на меня, стоял, поджав больную ногу, и улыбался. Это была улыбка вежливости. Иногда он чесался. — Где твои родители? — Мать уехала в деревню после того, как наш дом сгорел. Отец был в армии, я остался здесь, чтобы найти его, если вернется. — На что ты живешь? — Работал на заводе Мицубиси. — Что ты там делал? — Что-то завинчивал. Не знаю. Потом нанялся к американцам грузить маленькие ящики в их корабли. Но это было тяжело. Я решил идти в деревню к матери, но заболел. Полицейские привезли меня в Уэно. Теперь отсюда не выпускают. — Почему? Переводчик взял меня за рукав: — Я потом вам объясню. Нам пора идти. — А что у тебя с ногой? Тут он поднял на меня глаза. Черные, узкие, живые — это были глаза ребенка, мальчишки. И у меня дыхание прервалось от этих глаз. Они ждали доброты. Его надо было погладить, отмыть, накормить. И никакой он не был варан! Серый панцирь на нем — просто грязь, сцементированная дождем или по́том, а безгубость рта — от боли, от голода. Ногу же ему придавили, когда работал у американцев. — Ами сказал: «Не можешь работать — уходи», Дал шоколад. Вдруг наверху раздался свист. Мальчик исчез. Сразу, как если бы это был кинотрюк. Какие-то полуголые парни ссыпались вниз по лестнице. Мои спутники подхватили меня под руки, и мы оказались в парке. — Это полиция, — сказал переводчик, — лучше от нее подальше.Мы оказались в одном из разрушенных районов города. Над пожарищем, где ничто не возвышалось, стояли полуразвалины каменной школы. Серое драное тряпье сохло перед домом. На покрытой сажей стене были нацарапаны иероглифы — «имена тех, кого ищут», — сказал переводчик. Я вспомнил руины Сталинграда в первые дни после фашистов: «Мама, мы все ушли на Бекетовку». Это было всего два (два!) года тому назад. И это была все та же «ось Берлин — Токио», пронзавшая два континента, вернее — два народа. Народы были надеты на нее, как баранина на шампур, — немцы и японцы. И кто-то грел руки на этом и отлично ужинал! Когда видишь страдания людские, нельзя заставить себя не думать о тех, «cui prodest», как говорили латиняне, то есть «кому сие на пользу». И видя всю эту беду, чувствуешь, как злобой наливается грудь, будь ты и самый мирный человек на свете. В классах, продуваемых ветром, горели костры на листах железа. Сушилась одежда. Пахло горелым жиром, как потушенной свечкой. Посреди большого зала, вероятно для перемен, был построен шалаш из столешниц, парт, укрытых географическими картами, какими-то портьерами и картинами в рамах. Там сидели люди, выставив голые ступни к горшку, в котором тлели угли. Я думал, что это как раз и есть те, кто занимается помощью бездомным. Однако это оказались рабочие морга. Они объяснили, что их обязанность вывозить отсюда трупы. Я спросил, много ли они вывозят. — Бывает, что и по два десятка в день, — ответили мне. В глубине зала, в полумраке, какие-то фигуры как будто занимались гимнастикой, сидя на полу. Когда мы подошли ближе, мы разобрали, что это были женщины, укачивающие своих малышей. Тут мне представили господина Татебэ. Щупленький, бледный, в очках с толстыми стеклами, в шляпе и пальто, которые, судя по виду, служили ему и подушкой и одеялом, в ботинках солдатского образца, Татебэ был заведующим этого пункта частной благотворительности. Показывая глазами на женщин, он сказал: — У них пропало молоко. Им дают по четыреста граммов молочного порошка на месяц… Очень мало. Он сказал это таким голосом, как будто и в отсутствии молока и в малости пайка виноват только он, Татебэ. Это был один из тех удивительных людей, которых я много встречал среди японской интеллигенции. Он юрист по образованию, но вот уже десять лет, как, оставив свою специальность, он всецело отдался помощи безработным к нищим. Может быть, какая-нибудь из махаянистских сект буддизма натолкнула его на эту деятельность, а скорее всего он, как и многие культурные люди Японии, был воспитан в традициях гуманизма и справедливости, в традициях, очень близких русским демократическим направлениям прошлого и начала нынешнего века… Мне казалось неуместным устраивать в этой обстановке интервью о его душевной жизни. Впрочем, сам он сказал, что это отец завещал ему такую работу, как подвиг жизни. — Но ведь это значит самому стать нищим? — задал я провокационный вопрос. Он виновато моргает и оглядывается вокруг, как бы ища поддержки. Окончательно смущенный, он лезет в карман и достает сигареты. Он предлагает мне закурить. Неловко, что я спросил его так прямо. Людей его склада очень легко смутить и обидеть. Кланяясь, он приглашает нас к себе мягким, восточным жестом. Вот и его кабинет. Это была забранная досками каморка под лестницей. В ней помещалась узенькая койка Татебэ и три гнутых, венских стула. Тут горела слабая лампочка, на ящике, заменявшем стол, лежали документы и книга, похожая на бухгалтерскую. Мы уселись, и Татебэ приступил к объяснениям. Он говорил голосом хриплым и тихим, почти шепотом. Я, кажется, никогда не слышал такой убежденной, тихой, убеждающей речи. Я это чувствовал, и этому я подчинялся даже независимо от перевода. Некоторые фразы он произносил быстро, как бы уверенный, что я с ним безусловно согласен, другие вдруг останавливали его речь, и он смотрел на меня испуганно, ожидая, что иностранец может слишком разволноваться, когда он воспалялся скорбью или гневом… Я видел, что он совершает свой подвиг от полноты души, от сознания величия своего дела. Едва началась его речь, в дверях возникли люди. Они с неподвижностью глины слушали его, он полностью поглотил их внимание. Это не была речь рабочего вождя или государственного деятеля. Я потом, когда узнал, что Татебэ умел безошибочно понуждать людей к пожертвованиям и этим спасал жизнь сотням несчастных, понял характер его выступлений перед нами. Он выступал перед нами, как перед представителями прессы. Он говорил о войне. О преступлении войны — главной причины ужасов, которые его окружали. Он говорил о маньяках агрессии. Об особом, казалось бы — непредставимом, ореоле, которым они ухитрялись себя окружать. Да, все эти сухонькие генералы, бароны, виконты и князья, все эти толстенькие министры и богачи и их советники — все они, по словам Татебэ, изображали из себя мучеников долга. Они поступали так, как поступали, — почему? Не из каких-то там собственных выгод они вели миллионы людей к тому, что можно видеть здесь, в парке Уэно, и в тысячах подобных мест в Японии, не по своему капризу, не от каких-то дурных страстей. Они, видите ли, были вынуждены. Ответственные перед народом, перед потомком богов императором, перед историей, они, страдая под бременем полного знания о всех несчастьях, прошлых и предстоящих, выполняли предначертанное роком. И не боялись возмездия. Они-то, виконты и богачи, и составляют, мол, главных мучеников нации. Таким ореолом они окружали себя. Они пользовались тем, что народ привык верить тому, что исходит от трона и от начальства. Но если они это сделали, пусть отвечают?! — Не мое дело, — говорил Татебэ, — судить их и наказывать их. Это сделают другие. Но пока в их руках деньги и власть, они обязаны хотя бы отчасти помогать тем, кого они обездолили. Татебэ вздохнул устало. — Мне приходится их пугать, — сказал он. — Иначе они не дадут. Но я распространяю сведения и о их подачках. Это тоже стимул. И тут раздался голос, очень злой, но девичий. Это была Мацутани. Она училась в этой самой школе, куда сейчас полиция привозит так называемых «бездомных», а на самом деле разгромленных войной людей. У нее было лицо, какие часто можно было встретить у нас в Узбекистане или в Туркмении в первые годы советской власти, — лицо убежденной и очень много работающей женщины, не заботящейся о своей внешности. Большие очки в черной оправе, жесткие морщинки около рта, провалы похудевших щек, глянцевитые скулы и общее выражение — готовность к отпору, к спору, к жестким, непримиримым действиям, отчаянность и бесстрашие. Она перенесла много неприятностей во время войны, о них она не хочет говорить, но после капитуляции она сразу явилась в свою школу, нашла нескольких подруг и организовала группу помощи. Они хотели назваться как-нибудь благонамеренно, вроде «Мир и труд» или что-нибудь со словом «любовь», но она не позволила. Она настояла, чтобы они назывались «Отряд обороны против голодной смерти». Именно «отряд», и именно «обороны», и именно «смерти»! Все это — военные термины, понятия, связанные с войной. — Я бы назвала нас дивизией, но это была слишком маленькая группа: могли бы посмеяться над нами! Когда Татебэ кончил свое выступление, Мацутани вмешалась. — Я вас очень уважаю, Татебэ-сан, — сказала она сердито, — но ваших «мучеников» я изучила очень хорошо. Конечно, я не бываю у Мицуи или у Токугава, но мы с моими подругами ездим по городу и выявляем запасы. Сейчас все торгуют. Такой спекуляции не было нигде и никогда. У «мучеников» сколько угодно продуктов. Они умеют их приобретать и хранить. И вы думаете, они дают с удовольствием? Нет, просто они отлично знают, что скрыть запасы от наших мальчишек почти невозможно. А уж если мы их нашли, наши матери устроят им такую жизнь, что все равно им придется жертвовать. Позавчера мы вырвали у одного целый грузовик батата (сладкий сорт клубней) только за наше молчание. — Но ведь это шантаж? — прошептал Татебэ. — А что надо делать иначе? Ведь кормить людей надо? И кормить надо сегодня, завтра уже будет поздно. Дети — это дети. Они умирают. Где взять? Вчера полиция привезла еще тридцать четыре человека… — Может быть, — сказал Татебэ умоляющим голосом, — я попробую обратиться в «Кооператив…», — он стал перелистывать свою бухгалтерскую книгу, — в «Кооператив благородных земледельцев»? Они только что организовались, это все бывшие генералы и полковники… должно же у них быть сознание своей вины… — Я знаю, что вы сделаете: вы опять выдадите им расписку с вашей подписью. Но ведь все ваши собственные деньги уже кончились. Чем вы будете расплачиваться с долгами?! По-видимому, это была не первая вспышка полемики между Татебэ и Мацутани. Но они гасят ее тотчас же. Мацутани встает, берет бутылку с цветком, стоящую на полочке-дощечке, пристроенной возле койки, выливает из нее воду в ведро с дезинфекцией, наливает свежую из кувшина и ставит в эту бедную вазу лиловый с желтым ирис с двумя узкими, острыми листьями, его охраняющими. Прелестный цветок, изысканный и меланхоличный. Татебэ тоже призывает светскость на помощь. Он вытаскивает пачку сигарет и предлагает мне. Теперь я вижу, что сигареты у него только для других, сам он не курит. Теперь я вижу также, что в подлестничном этом карцере, в желтом сумраке, в запахе карболки — существует токонома. На полочке-дощечке над койкой стоит ирис. А за ним, прибитый к доскам переборки, — продолговатый кусок оберточной бумаги, и на нем, как в каждом состоятельном доме, как во дворце, повелительными мазками кисти брошенные иероглифы, долженствующие сказать сегодня нечто важное и хозяину и гостям. — Что тут написано? — спрашиваю я переводчика. Как всегда, в ответ на такой вопрос мой знаток литературы медлит с ответом: изречение старинное, надо быть точным, это дело чести профессора. Наконец он переводит: — «Отдать жизнь любви к другим». — Пойдем посмотрим? — говорит Татебэ.
Мы пошли по несчастной школе. Это была Япония без прикрас! Я помню очередь в коридоре — стариков, подростков, женщин с детьми на руках. Все они стояли, как бы подпирая стену, вроде барельефа смерти. Они были еле одеты, но все же одежды на них было больше, тем тела. Каждый получал по комку чего-то бурого, как мне объяснили — риса с очистками картофеля. Усевшись на полу противоположной стены, они начинали сосать полученное, как видно, чтобы не сразу поглотить порцию, которая полагалась им на день. Я помню длинный гимнастический зал, где на полу лежали люди в тряпье и обернутые газетами. Они жались к двум горшкам, в которых тлели угли. А вдоль всех четырех стен стояли гробы. Наклонно прислоненные к стенам. Небольшие: японцы — люди невысокие. И в глубине, перед опрокинутым ящиком, сидит человек в черном кимоно. Он стар, но не дряхл. У него гладко выбритая голова, белое, меловое лицо, редкая, длинная, пегая от седины борода, а когда он поднял на нас глаза, они были такими страшными, что я отвел взгляд. В черных провалах глазниц как бы светилось что-то красное с белым. Он сразу надвинул на это веки, опустил голову… Он клеил конверты. Медленно, аккуратно, медленно, аккуратно… — Говорят, он святой, — тихо сказал Татебэ. — И много он успевает склеить конвертов в день? — Я не знаю. Это неважно. Мы все сожжем. — Почему? Вот и выход на улицу. В грузовик грузят гробы. Татебэ останавливается, сгибается в поклоне, потом еще раз и еще раз… Потом подходит к переводчику и что-то тихо говорит ему. В машине переводчик объяснил мне, что тут район черной оспы и отсюда никого не выпускают. Мы, конечно, проедем, корреспондент позаботился об этом. — Но ведь сюда привозят людей со всего города? — Да, конечно… Куда ж их девать?
АБЭ-САН
Когда-то я много бродил по горам, я жил в горах не однажды, это была моя юность. Я люблю горы не как задник, повешенный для красоты над горизонтом, а как форму пространства, в которой мне удобно существовать. Непрестанные изменения расстояний до границы зримости мне необходимы: то скала перед носом, то бездна вниз, то пропасть вверх до неба, то, как выстрел, ущелье вдаль, то уют междускалья, будто нарочно устроенный для костра, — чтобы не задувало, чтобы уводило дым вверх. Но все это — лишь первый шаг любви к горам. Потом начинается такое многообразие чувств, какого никогда не может приготовить никакая равнинность, пусть это будет сам океан… …Бесприютность и напряженность вершин, и по ним — ветер, словно дует из космоса. Он свищет и воет, вминая в трещины камня тампоны тумана. А ты утверждаешь ступню на ско́ле скалы, ты становишься на самую твердость, на самую древность Земли. Вот они, каменные когти, высунутые из мантии планеты! Ты сам уже костяной, готовый расколоться от ударов зашедшегося сердца, но тебе надо у в и д е т ь: что там? Что за карнизом? Что за уступом? Ведь не в том же дело, чтобы вскарабкаться выше предшественника (ненавижу чемпионство!). Но — у в и д е т ь! Но — раскрыть вокруг себя, как зонт, горизонт и оказаться в куполе той неземной — планетной красоты, какую можно постичь только в горах. Не в грохоте вертолета, не из иллюминатора самолета, а распластавшись на камне, содрогаясь от тумаков сердца, задыхаясь от бескислородности, медленно погашая усталость, — постигать, что какие бы ни были пейзажи в галактике Андромеды или в созвездии Пса (конечно, любопытно бы посмотреть), — но вот она, твоя планета, и для людей прекраснее ее нет во Вселенной. Однако и это не последний шаг любви к горам. Чтобы нащупать следующий, придется рассказать о маленьком эпизоде, тоже из юности, о запахе овечьего сыра. Вместе с кадетом Тифлисского корпуса Сачино, приехавшим в Белый Ключ к родным на каникулы, мы решили пойти в Манглис. Мы знали, что это не дальше двадцати километров по прямой и что надо идти вон в том направлении. Больше мы ничего не знали. Но нам было по четырнадцать лет, и мы считали, что такой поход — это раз плюнуть. Мы вышли перед часами дневного зноя. Через четыре часа мы заблудились вполне. Густейший лес, ущелья, множество едва заметных тропок, может быть звериных, — и ни одной дороги и ни одного человека, чтобы спросить… Вдруг мы вышли к одинокому дому. Он был сложен из дикого камня, с высокой крышей, под жердями которой лежало сено. Собаки бросились нас загрызть, хозяева бросились на собак, те успокоились тотчас… Мы поспели как раз к ужину и не могли отказаться от угощения. Помню овечий сыр и годовалое вино, которое мы вкушали на балконе без перил, за столом из толстых досок, а о чем шел разговор, пусть вспомнит Сачино, если он жив: меня валили с ног зной, усталость и холодное ароматное вино, — оно не казалось крепким, а на самом деле требовало осмотрительности. Нас уложили в доме, но я не мог уснуть: бараний дух там был невыносим. Когда сон сморил всех, мы с Сачино выскользнули на балкон, а оттуда по стремянке забрались на сеновал. Однако тут нас ждала еще горшая беда — блохи. Они облепили меня, как тмин булку. Куры спали спокойно, а я не мог сомкнуть глаз. Едва забрезжил рассвет, мы отправились в путь, мечтая только об одном — помыться. Наконец речонка забулькала перед нами в нагромождениях валунов. Мы вымыли друг друга, вытрясли одежду и улеглись спать. А проснулся я, вернее — очнулся, в седле. Кто-то шел рядом и поддерживал меня. Голова раскалывалась от боли. Грудь, ляжки, живот саднили и горели. Они были бордового цвета. Впереди покачивался круп лошади с вьюком. Сзади тоже стучали и оскользались копыта. Мы взбираемся по крутому склону в горном лесу, и пятна солнечного света елозят по воспаленной моей шкуре. Я опять впадаю в забытье, и счастье, что привычка к езде не дает мне сковырнуться. Обеими руками держусь я за луку седла, обшитую тканью паласа. Я провел на яйле дней пять. Командиром большой семьи овцеводов была женщина с лицом Демона и Тамары сразу, она была матерью трех мальчишек, и все звали ее дэда Нина — мама Нина. Посмеиваясь над моим мальчишеским приключением, она рассказала, как все случилось. Они везли к себе на яйлу всякие запасы. Возле речки к ним выбежал Сачино, который был как сумасшедший, махал руками, кричал и плакал. Оказалось, что после купанья мы заснули так крепко, что я не заметил, как тень от валуна с меня сошла, и пролежал под зенитными лучами горного солнца столько времени, сколько нужно для серьезного ожога и теплового удара. Счастье, что овцеводы проходили как раз в это время! Потом Сачино говорил мне, что горцы сразу, не раздумывая и не обсуждая, свернули со своей тропы, спустились к речке и взгромоздили меня на седло, хотя могли не брать на себя никаких хлопот. Но они поступили как родные. Для них не могло быть сомнений, что́ надо делать. Сачино дали лошадь и отправили в Белый Ключ, к нашим семьям. Он вернулся на следующий день с мазями и деньгами, но только обидел моих спасителей, дэда Нина сделала вид, что не слышала его предложений о деньгах. Я лежал в большом сарае близко от входных ворот. В сарае были детишки, дым, ягнята и царила грандиозная чесночно-баранья вонища. Но хотя мне было больно шевельнуться, я вспоминаю об этих днях, как о счастливых. В солнечном квадрате я видел синий от дальности Ляльвар, прекрасный не только по звукам имени, но и по мощности очертания, кудлатейших собак, которые, свесив мокрые языки и лежа на брюхе, колотили хвостами по утоптанной глине перед входом в ожидании подачки, крутой склон, покрытый низкой серо-голубой растительностью. По этому склону время от времени сбегали мои хозяева, волоча на толстых веревках невысокие стожки накошенной наверху травы: там ее тотчас сдуло бы ветром вершин. Она сушилась возле входа и пахла. Все работали от темноты до темноты, и вместе с тем я никогда не замечал никакой измученности на лицах, никакой раздраженности в поведении. Можно было подумать, что усталость для них норма, что любая другая жизнь им не только не нужна, но была бы даже неприятна. Они были вправлены в эту среду, как ласточки в свод небесный. Участие ко мне незнакомых людей было настолько сердечным и искренним, что я до сих пор не могу подыскать для него ни названия, ни причины. Я чувствовал себя счастливым от своей полной свободы. Их песни в вечернем спокойствии гор, их молчаливость за столом, их непререкаемое уважение к старшим, их медлительность — все это было не только красиво, достойно, сильно, но еще и удивительно удобно. Странно, но в первозданной дикости горной жизни заключается совершеннейший комфорт для души, — впоследствии я никогда и нигде не испытывал такого! Что же касается того, что дэда Нина ставила на ночь кувшин со свежей водой возле входа, всегда открытого настежь, я не задавался вопросом, откуда и зачем эта магия. Во всяком случае, так было лучше, чем по вечерам запираться на сто засовов! Удивительнее всего оказалось то, что чесночно-бараний запах, так меня потрясший в первый день, как бы исчез уже на вторые сутки. Хотя им было пропитано все вокруг — от одеял до чурека, — я перестал его ощущать. Точнее сказать, он как бы проник в меня и стал моим собственным. Сейчас, если вдруг и случится ему возникнуть поблизости, я невольно вхожу в воспоминания о шести днях в грузинских горах, в воспоминания о добрых и чистых людях. …Я давно не бывал в горах, поэтому, когда мне предложили поехать в горную префектуру Яманаси, с радостью согласился. Горы занимают в Японии три четверти всей территории островов. В тех местах, где они обитаемы, это прежде всего деревня, то есть крестьяне. В самые давние времена именно трудом крестьян была поднята страна из дикости. Тогда их как бы не существовало, — они не имели фамилий, они должны были носить только хлопчатобумажную или соломенную одежду, они не смели менять место жительства, им не разрешалось даже есть тот самый рис, который они выращивали для своих начальников, им запрещалось строить для себя удобные жилища и даже устраивать в деревне какие-нибудь увеселения и развлечения. Все им запрещалось! Чтобы лишний раз порадоваться глубине ума властителей, приведу документ — выдержку из завещания Иэясу Токугавы, знаменитейшего главы Японии. Он хозяйничал не так уж давно — помер в 1616 году. «…есть императорская музыка, — поучал сей просвещенный господин, — есть музыка владетельных князей, есть музыка военных и есть музыка низших чинов… Нельзя дозволять нарушать чинопочитание в музыке и низшему сословию пользоваться высшими родами музыки…» Впрочем, другой великий политический мыслитель, премьер царства Цинь в Китае, уже в четвертом веке до нашей эры сообразил на этот счет более точно, без ревизионизма. Он писал, что если крестьяне не будут слушать музыку, они не будут изнежены и пустующие земли будут непременно обработаны. Назначение крестьян в Японии было строго определено афоризмом, широко известным здесь всюду: «Крестьянин — что кунжутное семя: сколько из него ни выжмешь, всегда можно выжать еще немножко». Да, их как бы не существовало, и все-таки они были. И не только как создатели всего материального благополучия страны, но и как постоянная угроза спокойствию начальства. В десятилетие перед так называемой «революцией Мейдзи» (то есть до 1867 года) историки отметили 64 крестьянских восстания, когда тысячи людей, доведенных нищетой до отчаянья, шли на верную гибель, не будучи в состоянии терпеть ужас своей жизни. И уже совсем недавно, в 1918 году, вероятно как отклик на события в Советской России, по всей Японии прокатились волны так называемых «рисовых бунтов», в которых участвовало в общей сложности около 10 миллионов человек. Десяти миллионов! Войны в Юго-Восточной Азии и последняя война, закончившаяся разгромом империи, были страшны для жителей деревень. Красные повестки требовали все новых поставок пушечного мяса. Но еще более ужасными были повестки белые. Они не считались ни с полом, ни с возрастом. Это была мобилизация на принудительные работы. Ей подлежали все — женщины, девушки, старики — все, от семнадцати до семидесяти лет. Белая повестка означала гибель. В первые же месяцы принудительных работ всю страну облетела история молодого рабочего из Кобе, который, получив белую повестку, написал письмо губернатору и ночью лег под поезд вместе с двумя маленькими сестрами и бабушкой. Полиция разгоняла и хватала тысячи людей, пришедших на их похороны. Так что, когда император в своей капитуляционной речи обратился к народу с призывом: «Вынесем невыносимое», он несколько опоздал: к концу войны народ, и особенно крестьяне, вынесли уже все, что мог бы вынести человек. В 1946 году, когда американские оккупанты устанавливали в Японии свой «новый порядок», разные проекты земельной реформы отпадали один за другим: владельцы земли не хотели расставаться со своим старинным правом грабить крестьян, и те по-прежнему отдавали хозяевам шестьдесят процентов своего урожая. Цель моего путешествия — маленькая деревня, в шестьдесят дворов, в префектуре Яманаси, в уезде Китацуру-гун, находилась не очень далеко, километрах в ста двадцати от Токио, но она была в горах, а горы в Японии — это всегда глушь. Мы плотно позавтракали, шофер Витя уложил в «джип» несколько коробок с продовольствием, мы вышли на крыльцо; день был ясный, но ветреный и холодный. Тут Симонов высказался, что не может отпустить меня в осеннем пальто, и тотчас же засунул меня в свою полушубу — бобриковое сооружение до пят, похожее на медвежью доху. Мы простились и вынеслись на магистраль. С нами был и корреспондент «Асахи симбун» с «Контаксом» на груди. Я не знаю ничего лучше утренней езды, когда мчишься из города, а ветер, полный каких-то разно пахнущих свежинок, врывается в нос, горло, и кажется, что еще немного — и вдруг сделаешь какое-то необходимое тебе открытие и столь же вдруг, беспричинно и незаслуженно, — но наконец-то! — станешь таким, каким надо быть! Может быть, следует немедленно приказать Вите повернуть в первый переулок первой деревеньки и остановиться у первого домишки, никем не предусмотренного, и войти, и начать разговор?.. А как же быть с корреспондентом «Асахи симбун», который оказывается к тому же заведующим отделом?! Он ведь коллега, он поехал не только чтобы описать советского писателя в деревне, но и для того, чтобы рассказать читателям о встрече с таинственной женщиной, «матерью горного ущелья», которая живет в покинутом храме Хориндзи и сейчас ждет нашего прибытия? И тут сам «Асахи симбун» обращается ко мне и сообщает, что мы проезжаем недалеко от мавзолея императора Мейдзи, того самого, который устроил «революцию Мейдзи» в 1867 году и направил Японию по индустриальному пути развития. Нельзя отказаться! Разумное, газетно-целеустремленное предложение. Витя, поворачивайте! Мы свернули вправо и сразу попали на широкую аллею, усыпанную мелким гравием, обсаженную по бокам конически подстриженными кленами, которые сейчас, лишенные листьев, стояли, как серебряные канделябры. Мы миновали станцию специальной императорской ветки — по ней сюда приезжали высокие посетители, чтобы поклониться праху предка, — и мост с каменными фонарями по бокам. Теперь по берегам аллеи стояли сосны, похожие на ели; их длинношерстая, коричневого цвета с зеленоватым отливом хвоя была сформирована как бы шарами, и эти шары глянцевито круглились на солнце. Далее надо было идти пешком. Аллея все время сворачивала вправо. Каждую минуту следовало ожидать появления чего-то, к чему вел этот путь, но мы долго шли, а путь все сворачивал, и ожидание все нарастало. Тут уже земля была покрыта снегом, и только узкая тропинка темнела вдоль спины дороги. Наконец мы вышли на площадку, окруженную колоннами сосен. В одном месте стволы расступились, и перед нами поднималась лестница, сложенная из грубых каменных плит. На первой ее площадке, очень широкой, возвышались тории — ворота без ограды и без створок, как бы гигантский иероглиф, означающий вхождение вообще. Символ этот был сделан из бревен громадной толщины, растрескавшихся от времени, коричневато-серых. Дальше вновь поднималась лестница, и наверху могучая арка, или, лучше сказать, половина каменного круга, втягивала в себя наши взгляды. Но подниматься выше было запрещено, и мы не видели мавзолея. Мы познали только ПУТЬ к нему. Однако, вероятно, это и было традицией архитектуры и целью архитектора. П у т ь — слово, особенно любимое японцами. Впрочем, образ пути вообще близок Востоку — и Китаю, и самой Индии — с очень давних времен. Путь постижения… путь святого… путь воина… путь дружбы… наконец — путь самоусовершенствования, словесное сочетание, без которого не обойдется ни один разговор на философские темы в Японии. Конец этого п у т и неясен, он, пожалуй, даже невидим, во всяком случае он всегда невыразим — будь это нирвана, будь это тема стихотворения. В классической японской поэзии строчки стихотворения — это лишь путь к собственному творчеству читающего, то есть к лично твоему внутреннему решению лирической темы, тебе предложенной. Поэт открывает перед тобой только п у т ь к ней. Написанное стихотворение кончается, и вот лишь тут начинается поэтическое постижение темы. Ее как бы и не было в самих строчках — в словах или ритмах. Вернее, она существует невидимо, как ультрафиолетовая или инфракрасная волна существует в спектре. Но именно эти-то волны и есть наисильнейшие! Справа и слева от лестницы были откосы, которые один за другим уходили все выше и выше, и по их снегу были разбросаны ковры растений. Там виднелись светло-зеленые, там темно-коричневые — с листьями круглыми и с листьями острыми, с зеленью, то бурной, то успокоенной. Все это было расположено по законам живописи и графики, может быть даже — каллиграфически. Все это было нарочно и вместе с тем натурально. Точнее сказать — бесспорно, как правительственное решение. Никто не мог опровергнуть обоснованность сочетаний, ибо это были сочетания, как в природе. Никто не осмелился бы обвинить авторов в неумелости, или в новаторской смелости, или в личном отношении и уж тем менее — в модернизме… Все было государственно правильно. Американские надписи сообщали нам, что здесь нельзя курить, и нельзя сниматься, и нельзя идти дальше… Два японских юноши показались в безлюдье. Еще издали они сняли свои картузики. Это были студенты — золотые пуговицы и значки на воротниках, книжки в руках. Студенты остановились и смотрели на нас без всякого интереса. Они ждали, когда, наконец, мы очистим это место от нашего присутствия. Едва мы двинулись уходить, они пошли к лестнице. Уже перед поворотом я обернулся и увидел, как они сложились пополам и застыли в поклоне. Я не принадлежу к людям, которые воспринимают ритуал с религиозной истовостью. Может быть, это неправильно, но мне как-то более близка английская традиция. Я помню, например, церемонию «передачи знамени» в Лондоне с участием королевы, когда какая-то гвардейская часть в архаических медвежьих шапках дефилировала по площади под популярный комический мотив счетом на три четверти, то есть вальсируя… Я помню еще, как после международных лодочных соревнований некий лорд произносил заключительную речь, которую посвятил страсти его престарелых тетушек к игре в преферанс. Торжественность ритуала нерушима, но все понимают, что это не более чем игра для взрослых. Восток такого не любит. Здесь все всерьез. Здесь благоговение и почтительный трепет — столь же обиходное состояние, как и готовность к смерти. Созерцая эту мемориальную картину, я представлял себе величественные этапы ее созидания. Я вообразил себе архитекторов, которые, окончив проект этого парка и этого сооружения, согласно всем правилам тысячелетней придворной традиции, низко кланяются и ретируются, потом строителей, сделавших лестницу, и плотников, восставивших тории, — как они удаляются, пятясь, потом садовников, завершивших подстригание кустарников и уползающих, трепеща и задыхаясь от почтительности… Они исчезают, и остается этот пугающий своей огромностью комплекс благоговения и покорности, красивый и бесчеловечный. Мы вобрались в «джип», который дрожал всем своим железом от готовности броситься вперед, — послушное, наглое и кургузое существо, способное пролезть всюду. Он понес нас по крутым асфальтовым тропам, аккуратно огибавшим горы. Мы проскакивали сквозь тесноту огородных грядок, на которых выращивалась пшеница, и осторожно, чтобы не наскочить на детей, протискивались в путанице дерево-бумажных жилищ, казавшихся порождением той соломенности, что составляет как бы материальную основу японского деревенского быта. Как писал Шингарев о царской деревне: «Солома играет в обиходе местной крестьянской жизни необъятную, универсальную роль». В Японии эта роль необъятна: в дни своих отчаянных восстаний крестьяне шли на смерть под знаменами, сплетенными из соломы. Крыши и полы́, шляпы от солнца и плащи от дождя — все из соломы! Подбрасываемый на волнах дорожных, я думал о странной стране, куда я попал, и, естественно, искал ключ к ее контрастам. Все это мемориальное величие, и неподвижность, и огромность мучительно противоречили облику народа, их создававшего. На одном полюсе — соломенность, на другом… Сколько красоты видел я в Японии! Эти храмы — единственные в мире, хотя бы уже потому, что они выстроены из деревьев и пышностью, роскошью своей могут затмить любые из самых драгоценных материалов. Вероятно, не случайно в Японии существовали философские системы, которые среди главнейших элементов Вселенной числили наряду с огнем, водой, воздухом так же и дерево, точнее сказать — древесину! Какая совершенная резьба покрывает их карнизы, украшает их фасады, вьется фризами по панелям! Танцы алых петухов с золотыми хризантемами… Бронзовые драконы пикируют из голубых облаков… Колонны, как бы налитые древесинной силой, балки, как чертеж из стереометрии, и над всем этим — крыши, полные волшебства, намекающие и на полет бабочки, и на военный шатер… Иногда, бродя по храму или уединяясь в уютном холле монастыря с окнами, открытыми на миниатюрные пейзажи, где водопад в метр высотой падает в зелень сосен высотой в полметра, я следил за подробностями вещей и видел, что совершенство японского вкуса и виртуозность японского мастерства не тривиальность для обихода туристов: храмы создаются краснодеревщиками, дверные ручки — ювелирами. И недаром на недавней международной выставке Япония построила свою экспозицию вокруг одного главного символа — руки человеческой, руки мастера! В храмах часто можно видеть и скульптуру. Золотой женственный Будда с мизинчиком на отлете, или грандиозный Будда, застывший в созерцании, или целая компания будд и других божеств над могилой какого-то принца — искусное искусство, лишенное, однако, всякой человечности. Оно вполне под стать только что виденному мемориалу. Оно церковно и аристократично. Головы обриты наголо, вокруг нимбы, величественные складки одеяний оставляют обнаженной сытую грудь, физиономии гладки, взоры устремлены поверх всего, пальцы рук раскрыты в благостном деянии, — все это бронзовеет, костенеет, сверкает, орнаментировано тривиально, рассчитано на благоговение толпы… Конечно, есть не только судящие и одаряющие боги. Существуют и карающие. Среди них Фудо-мёо — один из страшнейших: он, видите ли, охраняет от врагов и потому имеет все основания быть чудовищем. Бог небесного гнева не лучше. И еще всякие. Но мне кажется, что самое страшное, виденное мной в японской скульптуре, — это гранитные святые. Они сидят в позе созерцания и изваяны с таким чудовищным реализмом, что их каменная неподвижность кажется притворством. Кажется несомненным, что гранит не более чем скорлупа. А в ней — живой. Это было преступление? Или тут готовится ужас? Лучше не глядеть… В тот зимний день сорок шестого года я не мог еще думать об Энку. Тогда я не знал о его существовании, как в последние годы гимназии не знал о том, что существовал Нико Пиросманишвили, хотя и мог столкнуться с ним нос к носу где-нибудь в улочках Авлабара или Сололак в Тифлисе. Произведения этого гениального живописца отнюдь не были укрыты в запасниках, отнюдь не подвергались гонениям. Наоборот, они были у всех на виду. Я помню, в каком-то духанчике на Цхнетской улице на стойке хозяина была нарисована картина, на которой в чинных позах сидели горожане — папа, мама и дети и тут же бабушка в старинном лилового бархата сакрави, из-под которого волнисто ниспадали локоны, тронутые сединой. С этой седины и началось мое знакомство с живописью Пиросманишвили. Тут было нечто больше, чем просто картинка для украшения духана. Подпись под живописью гласила: «Семенная кампания», что значило: «Семейная компания». Семейность была видна сразу, компания же была украшена алостью редиски, зеленью ароматических киндзы, тархуна и цицмати и стаканчиками с красным вином, только что налитым из бурдюка, запах которого как бы шел от картины. Когда Кирилл Зданевич начал собирать живопись Пиросманишвили, мы увидели, что он открыл нечто небывалое. Тут был целый мир людей, гор, зверей и растений, окружавших всех нас в Грузии и теперь вдруг изображенный навсегда и в прекрасной полноте. Мастер был одним из беднейших людей в Тифлисе, он писал даже не за деньги, а за обед, за шашлык для друзей, за вино на общий стол. Он влюбился в женщину, которая казалась ему воплощением всей красоты человеческой, но она не хотела с ним знаться. Тогда он собрал деньги, какие мог при своей нищете, где-то занял, что-то продал, и купил цветов. Уйму цветов. Ими он усыпал мостовую перед ее домом, тротуар, двор, веранду перед ее комнатой… Всюду сияли и пахли цветы. Всюду, но не в ее сердце. Память об этом, сага об этом сохранилась, а он вскоре умер. Тихий Кирилл Зданевич, художник и страстный любитель искусства, устроил его посмертную выставку в бывшем «Храме славы», где до революции под орнаментами из секир и трехгранных штыков висели громадные полотна, посвященные торжеству русского оружия и написанные по всем академическим канонам, подобно статуям Будды на могиле принцев Фудзивара, — красиво и бесчеловечно. Приходившие на выставку улыбались. Они думали, что улыбаются наивности и простодушию грузинского художника, не учившегося у Брюллова или у Бруни, а потом начинали понимать, что их улыбка — от доброты и правдивости, исходивших от картин и приглашавших их радоваться жизни людей и зверей. Обо всем этом я не мог вспоминать в «джипе» на дорогах префектуры Яманаси, потому что я не знал тогда Энку. Его открыли уже после войны, хотя жил он в семнадцатом столетии. Первые выставки его работбыли устроены в конце 1957 года, а уже сейчас множество людей интересуется и его творчеством и его судьбой. Конечно, и ранее работы Энку были известны отдельным искусствоведам, однако они считались искусством «низшего сорта», о них не принято было писать. После выставки в Камакура в 1960 году Энку стал знаменит. Я прочитал книгу Георгия Евгеньевича Комаровского, одного из наших дипломатических работников в Токио, она называется «Пять тысяч будд Энку», и это очень хорошая книга. Георгий Евгеньевич не только изучил уже обильную ныне литературу об Энку, но и сам принимает участие в разыскании и анализе его работ.«Помню, как-то вблизи одной деревушки в Мино я наткнулся на спрятавшееся в густой, высокой траве крохотное строение. По форме оно напоминало храм. Мне объяснили, что это Якусидо — часовня, посвященная Будде-целителю. Открыв дверцу Якусидо, мы обнаружили миниатюрную статуэтку Будды-целителя. Это была работа Энку. Постройки типа Якусидо, высота которых никогда не превышает 70—80 см, встречаются на перекрестках сельских дорог, среди полей, на горных перевалах. В таких часовенках очень часто находят работы Энку. Скульптор оставлял их также в алтарях безвестных сельских храмов, в домах крестьян, в пещерах, служивших ему прибежищем на ночь. Никогда не вырезал он своих будд для больших храмов…»Так началось увлечение Комаровского японским скульптором семнадцатого века. По нашим современным понятиям о ваятелях, Энку был человек странный. А если сказать точнее и шире — Энку был странник. Пожалуй, любой народ любил и любит странников. (Может быть, в каждом из нас сидит бродяга?) Странниками были и Одиссей, и Дон Кихот, и многие наши богатыри, а после них и многие наши русские искатели правды, а у японцев странствие по стране стало основой многих литературных произведений; в стариннейшем в мире японском театре Ноо главный ведущий спектакля — странник; что же касается странствующих монахов, то таковые были и остаются персонажами всех религий и всех церквей. У Энку не было ничего, кроме рубища и мешка с инструментом для резьбы по дереву. Он скитался по горам, поднимался на вершины, освященные преданиями, созерцал красоту озер и лесов родной земли и молился. Эти молитвы были у него особенные: он брал чурбак, разрубал его на три или четыре полена и вырезал из них свою скульптуру — Будду или иное божество. Так он воздавал хвалу господу и созерцал божественную сущность природы. Вероятно, деревянные молитвы свои он творил непрерывно, ибо уже сейчас найдено более пяти тысяч сделанных им скульптур. Он происходил из бедной крестьянской семьи, с молодых лет стал монахом, другом бедняков, их советчиком, их наставником, врачом, заступником… Подобно древнегреческому Эмпедоклу, он был окружен поклонением простых людей и легендами, которые они о нем создавали. Там он освободил от туманов горы, где крестьяне должны были рубить лес, там, вырезав изображение Будды-целителя, спас от дизентерии детей большого селения… До сих пор люди, живущие возле горы Норикура, ежегодно поднимаются на одну из трех ее вершин, где стоят будды Энку, чтобы совершить благодарение за то, что он избавил их от повальной болезни, когда-то поразившей деревню… Вероятно, Энку был образованным человеком. Он писал стихи, работал над священными текстами, умел рисовать, был каллиграфом. Но, как можно заключить из книги Комаровского, духовный облик Энку был изваян двумя стихиями: это были — горы и крестьяне. Там, в ущельях и долинах Японских Альп, в местах, тогда еще почти не обжитых, родился культ гор — особое понимание мира, вне логики, далекое от науки не менее, чем и от строгих канонов церкви, и переплетенное с мифами, приметами, легендами, наблюдениями природы и страхами перед силами, которыми полны ущелья, горные реки, вершины хребтов, долгие зимние ночи, безжалостные ураганы… (Дэда Нина могла бы об этом порассказать, если бы захотела!) Энку был заступник перед враждебным человеку миром — друг боящихся, утешитель скорбящих. Своим истовым и непрестанным трудом художника в поте лица он зарабатывал милость богов для своих бедных братьев. Он был народный художник в самом прямом значении этих слов. Скульптуры его необыкновенны. Они свободны от всякой зализанности церковного пантеона, от красивости и высокомерия небесных аристократов. Это все люди свои в доску. Боги и богини — те же мужики и бабы, силы природы — те же звери, которых можно было встретить в горах, — лисицы, волки, ежи… Или клубящиеся облака. Никакой злобы в них нет. Никакого высокомерия. Никакого аристократизма. Иногда они улыбаются с хитринкой, как настоящая деревенщина, иногда сердятся, как бывает с крутыми отцами, когда они недовольны детьми, иногда они хороши ядреной прелестью молодых крестьянок, иногда грустят, как, может быть, грустил их создатель. Но все им созданное — прямая противоположность придворному Хэйану, как и противоположность военщине. Есть мнение, что художественный стиль Энку топорный. Я думаю, что это — топорное определение. Энку сохраняет первозданность материала. Он не пытается лишить дерево слоистости и даже трещиноватости, столь же диких и естественных, как фактура скал, поднимающихся над горным потоком. Никогда Энку не унижает свое искусство попытками толковать естественную форму пенька или сучка как руку, или спину, или клюв — обыкновение, приводящее в восторг многих обывателей от искусства. Материал должен быть только материалом, наиболее удобным для воплощения художественного замысла. Для замысла Энку подходит дерево, подвергнутое решительному и резкому жесту резца, — ничего, кроме резца и древесины: ни краски, ни шабровки, ни лака, ни политуры… Мгновенное выполнение замысла, колдовская импровизация, десяток ударов и срезов — и вот еще одна «молитва» странника: Будда, одиннадцатиликая богиня Каннон, дух Фудо-мёо… а по существу люди, которых встречает Энку на своем пути, крестьяне его родных гор, одаренные любовью художника, не ждущего от жизни никаких иных благ, кроме воплощения своей любви к народу. Эмпедокл отказался стать властителем, когда это было ему предложено: он предпочел остаться странником, поучать и творить чудеса в помощь простым людям. У Энку тоже были возможности замкнуться в тишине монастырского академизма. Но он отверг путь Хинаяны и избрал противоположное. Что-то ироническое есть в его творениях — веселость, лукавство, а может быть, даже скрытая, косвенная насмешка над дворцовой прилизанностью и парадной красивостью искусства, завербованного властителями. Нет, он не был дрессированным слоном, завлекающим своих сородичей в коварный плен, в ямы покорности! Он был художник, взращенный горами и чуждый конформизма! Как хорошо, что в истории японской культуры он существовал! Он существовал, хотя его и забывали, и делали вид, что его нет, что он топорный. Но ведь в истории великих цивилизаций есть тема, пока еще мало разработанная, а между тем необычайно интересная и важная: тема о том, как замалчивались, как искажались — и даже уничтожались! — материалистические учения, демократические школы в искусстве. Материализм обычно был связан с демократическим мировоззрением. А властители, от которых в большой мере зависело распорядиться судьбой философской или научной школы, обычно были на стороне идеализма, то есть антидемократии. Примеры тому можно найти и в древней Греции и в древней Индии. Так случилось и с художественным стилем великого Энку. Только после разгрома всей полицейско-генеральской Японии, когда разжались и ослабли наручники, в которые были закованы руки творцов, удалось освободить Энку из тюрьмы забвения. И тогда его замечательное творчество стало достоянием великого японского искусства — не меньшим, чем творчество времен Хэйана и позднейших эпох. Это не значит, конечно, что не было других путей демократизма в истории искусства Японии. Но Энку — один из самых гениальных.
Мы тряслись по разъезженной дороге, вдоль которой ютились деревни. Тут было тесно. Каждый горизонтальный клочок земли был возделан, так что горы держали себя столь отвесно, несомненно, от необходимости: им негде было разложить свои склоны. Это было мне очень понятно на основе собственного горького опыта: сидишь в японском домике на полу на собственных коленках и час и два, ноги уже занемели, а вытянуть их нельзя — некуда! Людей мы видели мало. Только изредка большие и старые грузовики, треща и дымя, проплывали мимо, нагруженные чемоданами. На чемоданах, а то и в креслах сидели женщины, одетые в бархат или укутанные в меха. Мне перевели, что это эвакуированные дворяне перевозят барахло из своих деревень в город. Наконец забрались в самые глухие места; железная дорога осталась где-то справа, синяя река внизу исчезла. Узкая улочка очередной деревни вдруг кончилась, и здесь мы увидели большую толпу детишек с флажками, сделанными из бумаги. Мальчики были одеты во френчики и длинные, из военной ткани брюки, застиранные, но отглаженные, на головах у них были солдатские картузики, лица серьезные, как у взрослых мужчин. У девочек длинные волосы, обрезанные челкой над самыми бровями, платьишки тоже старенькие (или из старого), зато их мордашки над безупречно белыми и выглаженными лепестками воротников сияли откровенным любопытством. Дети махали флажками и что-то кричали. Они бросились к машине, окружили нас и сразу смолкли, зная, что нечто должно состояться. Они смотрели на нас глазами, блестевшими, как черный лак. Тогда из толпы вышел невысокий человек с длинными волосами и могучим, красивым лбом и низко склонился в приветствии. Оказалось, что он возглавлял встречу. Он пригласил нас следовать за собой. Тропинка вела вверх. Мы перешли по мостику, сделанному из трех неотесанных бревен, миновали холодок и речное бульканье ущелья, поднялись еще выше, прошли мимо маленьких тутовых деревьев, мимо рисовых полей с обеденный стол величиной, мимо виноградника, который уместился бы в комнате и был устроен так, что лозы создавали крышу на уровне человеческих плеч, как в Узбекистане. Улица в деревеньке была чисто подметена, узенькая, не более чем в три метра. Вдоль нее топорщилась неразбериха заборчиков, навесов, пристроек к пристройкам, как бы птичников, из которых и впрямь доносилось квохтанье кур. Основательных домов не замечалось: все шестьдесят дворов жили плохо. Над низкими, толем крытыми крышами близко стояли конические горушки, по-верблюжьи клочкасто покрытые кустарником, — вулканята. Наконец за поворотом, на склоне, мы увидели настоящее строение, над ним поднималась крутая черепичная крыша. Это и был буддийский храм Хориндзи, покинутый, потому что у деревни не хватало денег на содержание священника. Мне предложили войти. Там было полутемно и пусто. Там был только один человек — женщина на коленях у края подмостков, как бы на сцене. За нею белели оклеенные бумагой рамы дверей. Она оставалась в таком положении, пока я не подошел к ней близко. Тогда она поклонилась еще раз, по женскому этикету приложившись лицом к полу, и отодвинула передо мной створку двери. Я снял обувь и вошел. Это был маленький дом, построенный внутри большого храма. Все было черно вокруг от копоти. Посредине в полу была четырехугольная неглубокая яма, полная золы; в ней горел костерок, и над ним на обуглившемся шесте, захваченный грубым крюком, висел чайник невероятной давности. Я чувствовал себя неловко, не знал, что делать, и спросил переводчика, удобно ли сейчас поднести шоколад. Он кивнул утвердительно, и я передал ей коробку. Она опять стояла передо мной на коленях. Она приняла этот пустяк как благословение, склонившись, положила его на низкий столик возле и потянулась ко мне руками. Ее лицо вдруг сморщилось, из глаз потекли слезы. Она схватила мои руки и прижалась к ним щекой. Рыдания сотрясали ее маленькое тело. …Спустя три дня я получил от нее письмо. Она писала:
«…Агапов-сан! Когда ваша большая ладонь ласково погладила меня по плечу, она связала меня прямо со всем народом Советского Союза, и больше того: это было свидетельством связи с французскими, американскими, английскими, индийскими, немецкими, китайскими товарищами… Несколько лет одиночной камеры — печальной и холодной, годы оторванности от всех… Но сейчас…»Я видел черные волосы, аккуратно разобранные на пробор, в них уже светилась седина. Я гладил их, не зная, что должен сказать или как поступить. Вероятно, тут происходило нечто гораздо большее, чем то, что называется «заграничными контактами писателей»!..
«…Агапов-сан! В этот момент я была не в состоянии выразить свою бесконечную радость. Забыв вежливость, я заплакала… Извините меня. Я вспомнила вдруг весь мой длинный, трудный путь и увидела, какая мне еще предстоит борьба…»Наконец она успокоилась. Она поднялась с колен, на лице ее засияла улыбка, глаза сузились по-молодому, и я увидел, что она еще совсем не стара, что на лице ее нет морщин и сквозь загар проступает румянец.
«Агапов-сан! Сейчас я уже не одна. Я крепко, сильно связана с товарищами всего мира…»Мы расселись вокруг огня, опустив ноги к золе. Дым ел глаза. Кругом было темно настолько, что костер был самым сильным источником света, и только тонкий луч солнца, как большая вязальная спица, был воткнут в клубок этой дымной темноты: где-то в крыше была маленькая дырка. За нашими спинами началась возня, шепот, прерываемый иногда сдержанным смехом. Переборки начали раздвигаться и сдвигаться, во всех просветах, куда ни обернись, блестели детские глаза, — как вишенки, положенные на полускорлупки миндаля. Мы были окружены настолько плотно, что я чувствовал дыхание и прикосновения этих маленьких существ. Я полулежал, как Гулливер среди лилипутов, боясь пошевельнуться, чтобы не прищемить кого-нибудь. Женщина смотрела на меня не отрываясь, потом опустила глаза к огню, поправила чайник на крюке и что-то тихо сказала по-японски. Потом она опять подняла свое лицо ко мне, и я увидел на нем счастье, какое никогда не видел на японском лице. — Она говорит, что вы очень похожи на Ленина, что вы, как Ленин, который пришел к нам после долгих лет ожидания. Еще того не легче! Я не знал, что сказать в ответ. Я почувствовал, что все, что происходит, не имеет никакого отношения к работе журналиста, что я — совсем не журналист, не писатель сейчас, во всяком случае, в сознании этих людей. Мое появление здесь имеет для них особый, иной смысл, иное значение. — Сколько вам было лет, когда началась революция? — спросила Абэ. Я сказал. — Расскажите мне, прошу вас: что вы тогда чувствовали, что тогда делалось кругом вас? С этого началась беседа. Спрашивала она, а я отвечал. Мне казалось, что она задавала вопросы не для того, чтобы узнать что-нибудь новое для нее, а для того, чтобы ближе, вплотную прикоснуться к тому, что стало для нее уже мифологией, легендой, но было самым светлым в ее душе. Она расспрашивала меня о Ленине, о том, как живут крестьяне в России, о том, какие налоги я плачу и как удается предупредить возникновение богатства и власти одного человека над другим, что такое пионеры… В ее глазах я был посланцем иного, светлого мира, к которому она стремилась всю жизнь и которого не могла достигнуть. Я как будто оказался вдруг в начальных годах революции, я опять застал революцию здесь, в далекой японской деревушке, — такой, какой она была двадцать пять, почти тридцать лет тому назад в моем собственном сознании. В семнадцатом году Абэ было только одиннадцать лет. Через четыре года она вступила в Партию рабочих и крестьян, в ту, которой руководил Икуо Ояма, впоследствии получивший советскую премию за укрепление мира между народами. В первый раз Абэ арестовали в 1930 году. Потом начались многочисленные аресты, тюрьма, болезнь… Иногда отпускали через месяц, но бывало, что она сидела больше трех лет. Однако ведь коммунисты должны быть тверды и оставаться коммунистами, где бы ни были — в больнице, в подполье, в одиночной камере? Так говорил ей ее муж Ювата. Он был лучшим из лучших, он ничего не боялся. Он знал хорошо, что если его арестуют, его убьют. И каждое утро, когда они вставали, они прощались навсегда. — Я говорила ему, что умру, если его убьют. Но он сердился в ответ. «Самоубийство не дело коммунистов, — говорил он. — Меня убьют, но тебе остается борьба». Я и сейчас слышу его голос, он звучит в моих ушах. Нас арестовали вместе. Его увезли к начальнику полиции, а меня посадили в камеру. На следующий день узнала от товарищей, которые были со мною, что его били и что от побоев он умер… Случилось то, чего мы ожидали и о чем мы знали с первых лет нашей совместной жизни. Его больше не было, а мне осталась борьба. Я объявила голодовку. Я должна была обязательно быть на его похоронах. Я требовала этого. И они наконец согласились. Когда я похоронила Ювату, я уже знала твердо, что теперь ничто не заставит меня свернуть с моего пути. Я поклялась продолжать его работу, — пусть меня бы убили или замучили. Как я хочу быть в Москве! Она говорила очень тихо, подтверждая каждую свою фразу утвердительным кивком головы. Она улыбалась в самых неожиданных местах своего рассказа, но это не коробило меня, как со мной обычно бывает в разговоре с японцами. Ее улыбка происходила не от этикета, а от сердечной ясности и от непосредственного, простого чувства. В этой женщине была жизненная сила, которая ощущалась во всем ее облике и словах, даже в движениях маленьких энергичных рук, о которых я знал, что ладони их жестки от работы. — Я вышла замуж во второй раз. Мой муж зоолог. Его угнали на войну. Сейчас он в плену на острове Ява. Я не знаю, что с ним. Но вот Майя и Марико — память о нем. Майя спасла меня от тюрьмы. Я была беременна, и меня отпустили на поруки. Я уехала на Кюсю и там стала жить среди крестьян. Я работала, как работали все. Я поняла тогда, что место мое — с ними. Я узнала все их несчастья и решила, что страдать с ними лучше, чем жить хорошо без них. Только если я буду знать их горе, я смогу вместе с ними находить способы, чтобы облегчить его. Я знаю, что самое горячее желание их — иметь землю. Я сама хочу этого. Мне, как и каждому из них, нужно иметь один чо и пять тан, чтобы быть сытой и прокормить детей. Но мы все имеем не больше одной четверти того, что нам нужно. И это не наша земля, она принадлежит другим, и мы должны отдавать им шестьдесят процентов всего урожая. — Вам очень трудно жить? — спросил я. — Да, очень. Это было правдой. Об этом свидетельствовало угощение, которое было нам предложено: лепешки из капусты и катышки из муки, лишенные соли и всяких признаков жира. Я понимал, что это лучшее, что она могла предложить гостям. — Многие люди знают, что я коммунистка, что я живу и работаю, как крестьянка. Они присылают мне письма. Особенно много писем я получаю от демобилизованных. Все они спрашивают, что будет с ними дальше, что они должны делать. Все они ищут чего-то, ждут чего-то, а чего — и сами не знают. Может быть, вы научите меня, как ответить им всем сразу, и что я должна сказать им? И она и ее товарищи смотрели на меня, ожидая решающего ответа. Что я мог сказать им? Я спросил: — Что-нибудь изменилось в деревне за эти последние месяцы с того момента, как рухнула империалистическая Япония? Они переглянулись, потом она улыбнулась мне грустно. — Самое большое изменение — это то, что вы сидите сейчас перед этим костром, и я сижу перед ним, и мы можем разговаривать с вами, не опасаясь ареста. — Ну, а с землей, с арендной платой? — Нет, пока ничего не изменилось, все как было. Но я думаю, что будет лучше. Коммунисты всегда должны надеяться на лучшее. — Почему вы живете в этом храме? — У меня не было средств для того, чтобы построить себе домик, и я поселилась тут. У меня почти нет никаких вещей, а хозяйство совсем маленькое. Сначала у меня были только кролики, они давали мне удобрение для поля. — Кролики? Какое же они могли дать удобрение? — Конечно, очень мало, но очень хорошее, это не хуже, чем птичий помет. А потом мне удалось купить козу, и у нее скоро будет козленок. Тогда я стану совсем богатой. Кроликов я не могу решиться резать, мне жалко, и я их отдаю, когда бывает приплод. Все время рождается новая жизнь. Коммунисты должны стараться, чтобы то, что рождается, выросло хорошим. Вот — дети, я с ними провожу все свободное время, я учу их, как умею. Самое главное, что я хочу в них развить, — это человеческую гордость. Они должны понимать, что они сами имеют большую цену. Они должны сами уметь думать, а не ждать, чтобы другие думали за них. Они должны сами уметь решать. А ведь до сих пор народ ничего не решал, за него решали другие. Пока я могу научить их только немногому, потому что мои знания еще очень малы. Коммунисты должны верить в будущее. Они должны принимать самые большие решения, иметь самые большие желания. Я назвала моих дочерей Майя и Марико. Майя — это мать Будды, а Марико — это мать Христа. Я хочу, чтобы они были матерями самых великих людей на земле, таких же великих, как Будда и Христос. Народ должен сам родить человека, который сможет руководить им, — большого человека, потому что до сих пор нами управляли маленькие люди. Она подбросила поленце в костер. Посыпались искры, вспыхнуло пламя. Я увидел множество лиц, которые составляли как бы мозаику вокруг нас, они были почти неподвижны. Детские глаза смотрели неотрывно на женщину. Я чувствовал, как маленькие руки гладят мою спину, щупают пуговицы на моем пальто. Внезапно детишки заволновались, стали выстраиваться по какому-то им известному порядку: они готовились петь. Абэ взмахнула рукой, и началась песня:
ПОЧТИ ОТОВСЮДУ МЫ ВИДЕЛИ ФУДЗИ…
Американское командование обстоятельно объяснило нам, что ехать на машинах в Южную Японию не следует. Дороги, видите ли, плохие, возможны инфекционные заболевания, наконец — американское командование не может дать гарантию безопасности русских, да и гостиницы полны блох… Словом, необходимо подождать. Между тем украинское упорство адмирала Стеценко наконец увенчалось успехом, и штаб генерала Макартура предоставил ему возможность посетить военно-морские базы Японии, расположенные на западе и юго-западе. И он взял нас с собою — Симонова и меня. Накануне был банкет в нашу честь в газете «Асахи», было крупно пито (проклятое обыкновение превращать друг друга в больных!), ночь прошла тяжко от рентанов — печек дифференциального действия, которые выпускают тепло на улицу, а вонь в комнату, и вот мы оказались в раю — в специальном вагоне адмирала. Это был японский вагон первого класса, но по борту он имел белую полосу и надпись «Цинциннати». Рядом шел такой же вагон с надписью «Гарвард». Чтобы как можно больше Америки и как можно меньше Японии. Во избежание теоретически мыслимых покушений на русских со стороны «туземцев» у нас в вагоне оказался пост «Эм-Пи» — «милитэри полис» — военной американской полиции: четверка молодцов под управлением толстяка, курчавого брюнета с лицом пожилого амура турецкого происхождения. Все они были снабжены, увешаны и напиханы огромным количеством всяких вещей, что является вообще национальной особенностью американцев: фотоаппараты, бинокли, вечные ручки, термосы, трубки, сигары, сигареты, жевательные резинки, шоколадные брикеты, ножи с ручками в виде голых бедер эмалевых гёрлс, бумажники с «молниями», карманные детективы опять с голыми бедрами гёрлс, очки против солнца и очки против пыли, записные книжки с листиками мыла вместо бумаги, бумага вместо носовых платков, кожаные обшлага на рукавах и штанинах, всякие пряжки, застежки, ремни, карабинчики, браслеты с часами и без часов, — и все это «лучшее в мире!». Все это как бы вращалось вокруг них, образуя некий электронный рой «высшей культуры», отделявший их от окружающего, и прежде всего от «джапов», что по-американски значит «япошки». Поскольку и этот вагон и все наше путешествие являлись частью какой-то военно-дипломатической игры, я должен дипломатически оговориться, что сопровождавшие нас лица были отменно милы и в пути не обращали на нас внимания, занятые изучением местных порнографических изданий и пивом. Мужественный амур был озабочен тем, чтобы все было «о’кей». Поэтому в вагоне топили так, что нам грозило превратиться в тушенку, из кранов умывальников хлестал кипяток, лампочки менялись каждые два часа, ибо они перегорали от сверхнакала, и японские бои, милые испуганные мальчуганы, не давали нам покоя со своими щетками и метелками… То и дело нас приглашали к столу, где нам предлагались всевозможные пищевые препараты, тоже лучшие в мире, — во всяком случае, столь яркой окраски, как будто они были сделаны посредством цветной фотографии. Я устроился за столиком у окна и смотрел на Японию из «Цинциннати», как из космического корабля. Что же еще оставалось?! Впрочем, Симонов с его беркутовой хваткой сразу стал интервьюировать мистера Д., американского переводчика, и сразу узнал массу оригинального. Оказалось, что у Д. домик в Огайо, там у него жена, он в отчаянье, что из-за поездки с нами десять дней не будет читать от нее писем… но зато в Токио он прочтет сразу десять штук, командование предоставит ему прямой телефонный разговор с Огайо… и он скоро демобилизуется и наконец заживет всласть в Огайо! Только бы скорее убраться отсюда! Поскольку совершенно такую же историю и с тем же припевом «скорее отсюда» я слышал в Токио от другого американца, только там было не Огайо, а Техас, я предложил Симонову составить одно интервью из двух. Мы посмеялись, хотя, в сущности, ничего веселого в этом не было. Круиз со строгой изоляцией начался. В оконном иллюминаторе мчалась Япония, и глаз от нее нельзя было оторвать! Конечно, с ходу все кажется лучше, чем есть, — это один из секретов туризма, — но ведь без какой-то дозы иллюзий и мистификации не обходится ни одно путешествие. Однако тут картины были так своеобразны, так выдержаны в особом, целостном стиле, что каждую минуту хотелось дернуть вестингауз и остановить «Цинциннати». Мы мчались в горы. Чем западнее, тем горы становились все выше, все круче. Горы есть свойство Японии. Как известно, они занимают три четверти всей территории Японских островов. От моря к основаниям гор ведут широкие и низкие ступени. Это — поля. По лестнице полей я поднимаюсь взглядом, и у верхней ступени крутая стена горы преграждает дальнейшее восхождение. И это движение взгляда вверх по ступеням так привлекательно, так человечно, что, столкнувшись с препятствием, хочется огромной лопатищей врезаться в цоколь горы, поддеть гору и вместе со всей дикостью стволов и листьев вывернуть ее в море. Пусть будет еще одно новое поле для риса, пусть поднимется из моря еще один остров для сбора ракушек и морской капусты!.. Поля абсолютно горизонтальны, ибо их надо время от времени покрывать слоем воды. Их границы извилисты, так что легко видится, как шли когда-то складки горных хребтов. Поля отвоеваны у гор крестьянскими руками. В течение тысяч лет без машин и почти без рабочего скота люди в соломенных юбках и под соломенными зонтами шляп, наклонившись, мотыжили и выглаживали землю, наклонившись сажали в воду рис, наклонившись его убирали… «Тех, кто таскает детей за плечами, не следует убивать, но не следует и давать им жить!» — эти слова, полные величия и мощи, были сказаны каким-то сёгуном (то есть властителем) и остались директивой на долгие века: даже в 1946 году крестьяне отдавали шестьдесят процентов своих урожаев землевладельцам! По-видимому, в Японии, о которой Эйнштейн сказал «изящный народ в живописной стране», подобный грабеж в середине двадцатого века был освящен и философски. Еще в пятом столетии до нашей эры Конфуций писал: «Простолюдины повсюду со своими детьми за спиной работают, а богатым людям незачем заниматься земледелием». Японская земля сделана крестьянами, как атоллы сделаны кораллами. Все дворцы Японии и все картины, все фарфоры и лаки, все стихи и все кабуки — на их скелетиках. Они и сейчас ходят в тех же соломенных робах, живут под той же соломенной крышей, что и тысячу лет назад. …Тьма. Грохот. Туннель. Из туннеля — сразу на мост. И вонзаемся в городишко. И продергиваемся сквозь него, как нитка сквозь иголку, — только-только. Мчимся сквозь клетушки из жердей и бумаги, будто вот-вот сдерем с них крыши, сорвем белье, которое шарахается от нашего вихря, насмерть перепугаем детей… Но дети и не смотрят на наш ураган: в Японии почтенные дети. Они — гордость нации, и они заняты своими делами. Большеголовые бутузы, полные достоинства и сдержанного любопытства, они знают, что им позволено все. Вероятно, поэтому они не шалят и не плачут. И главное — не боятся. А в городке посередке, в суматохе домишек, ухоженный, повязанный зеленым кашне бамбуковой рощи, стоит небольшой вулкан. На макушке у него храмик с загнутыми вверх полями крыши. Внутри храмика — я знаю — пустота, чистота, круглое зеркало, бедность. Человек заскочит сюда по дороге, сложит руки ладонь к ладони, опустит лоб на кончики пальцев — думает? молится? или просто отделяет себя от забот на минутку?.. И — скорее снова вниз! Вой он (а может быть, и не он?) уже бежит на согнутых ногах, коромысло на плече, руки на коромысле, две бадьи пружинят на концах. …Тьма. Грохот. Туннель. …Свет. Синяя эмаль чернил, вылитых в каменную ванну между двух гор. Серые авторучки прислонены к бетонному обрыву. Гидростанция. Уж не она ли мчит наш «Цинциннати»? У японцев ведь своей нефти нет, угля своего мало, так что главный транспорт — железные дороги — на гидроэлектричестве. …Кладбище. Если живым тесно, то мертвым и подавно. …Храм. Уже большой. Он опоясан белой стенкой. Тории — ворота без створок и без ограды — просто ворота, никуда и ниоткуда. Они похожи на схему гидросамолета. Пагода — как набор ящиков с высокими крышками, поставленных друг на друга. Образ поднятия вверх? Оно все ускоряется от одной крыши к другой, завершается шпилем, на котором тоже есть свои ступени восхождения в виде зазубрин… И вот он уже летит в небе, он уже стрела. Образ бабочки, готовой взлететь? Образ бесконечных повторений?.. Сколько угодно символики, а глядеть — не наглядеться! И вся постройка — как игрушка: кусочек легенды, обитель наивности и послушания. Что-то очень древнее. Эллада? Или собственное детство? …Тьма. Грохот. Туннель. Замедляется наш полет. Выходит «Цинциннати» на свет, медленно покачиваясь. Станция. Еще на ходу соскакивают эмписты на перрон. Расставив длинные ноги в огромных бутсах, жуя резину, белея глянцем касок с буквами «M» и «P», стоят эмписты у дверей. На целую голову, а то и более возвышаются они над толпой. Толпа отступает от «Цинциннати». Я вижу картузы из выгоревшего сукна, с темными кружками над козырьком, там, где была военная кокарда, шляпы из войлока, ватники бурые и ватники синие, военные кителя без погон, женщин с мешками за спиной, с детьми за спиной… На женщинах, как и на мужчинах, толстые штаны, только с завязками у щиколоток, — во время войны было запрещено носить кимоно, — на ступнях деревянные гета. На спинах у многих мужчин — большие иероглифы фирм, в которых они работают… На лицах большинства марлевые повязки, как будто они все ранены в челюсть или больны сифилисом, но это — против инфекции. Абсолютная нищета. Точнее сказать — безвещность. Если и есть мешки или корзинки, то мало и маленькие. Усталость. Особенно на лицах женщин (ведь до этой войны было пять лет войны в Китае!). Измученное лицо женщины, а возле него, у плеча, круглое и спокойное лицо бутуза. Как бы двуголовочки-бицефалочки. Маленькие, по виду слабенькие, но ведь они — опора нации, особенно в проклятые военные годы. Какие тяготы перенесли они, а овал лица сохранился. Даже у пожилых от виска к подбородку и от подбородка вверх к виску — прелестный росчерк женственности и уютности…(И. Томодзи)
«Не тащи багажа, которого хватило бы на троих. Помни о соседях!»…Утром появилась река. Мы мчимся с ней наперегонки. Нигде, ни на Кавказе, ни на Урале, не видал я такой веселой реки. Я ее не слышу (окна закрыты), но я уверен, что, подбегая к эстакаде, она кричит нашему «Цинциннати»: «Лови меня!» И бросается вправо. И убегает. И тотчас выпрыгивает из-за скалы и уже мчится под нами, перебегая на левую сторону… «Ищи меня!» — и ее нет как нет, она где-то в соседнем ущелье? Что вы! Вот она, опять тут. И сколько пены, и сколько солнца! Она, несомненно, японка, — я видел, как возле нашего отеля после работы девушки-подавальщицы играли в волан, перебрасываясь шариком с розовыми перьями, — вот было хохоту, как будто им по десять лет! Там впереди через реку перекинут мост. Опасный путь! На двух канатах висит выгнутостью вниз нечто вроде лесенки с множеством перекладин, как бы шпал. А к ним прибиты две доски. Они, конечно, тоже выгнулись, так что ходить по ним трудно, тем более что перил у моста нет. Я вижу, как примерно с трети моста к берегу, пятясь, идет женщина-бицефалочка. У нее за спиной ребенок и целый сноп соломы да еще несколько досок, довольно длинных, вправо и влево по метру, — подобрала где-то на топливо. А пятится она потому, что с другого берега начинает идти мужчина. Он еще только ступил на мост, а она уже дает ему дорогу, хотя он молод, а она пожилая, он без поклажи, а она… словом, японская река, японский мост, японская вежливость… И вот — плоты. Они из каких-то тонких стволов, соединены в цепочку и чудом выдерживают озорную игру реки. На плотах — люди. Плотовщики стоят, расставив ноги, согнув их в коленях, наклонившись вперед, как борцы. Они держат рулевые доски, опущенные одним концом в воду. Они так ловко и сильно правят, что плоты плавно огибают скалы, проскакивают по порогам и только колышутся волнисто, как чешуйчатый браслет. Скалы подступают к реке. Мы мчимся как будто мимо архитектуры — мимо призматических колонн, мимо мшистых пилонов, а из их трещин как бы толчками выкарабкиваются угловатые стволы — или корни? — каких-то допотопных деревьев, питающих зеленую пушистость скал. …Она ведет себя, она чувствует себя, как ребенок, которого любят. Ей хорошо. Ею любуются, приезжают и смотрят. А она резвится, а она не боится… То она клокочет, ревя от счастья жизни, то разливается — вся одно спокойное лоно: приляг со мной рядом, погладь меня взглядом… Может быть, и вправду она — живая? И гора живая, и корни, выступающие из горы, и рощица бамбука на горе, — не говоря уж о птицах, о зверях, о рыбах?.. И все они участвуют в круговороте душ, и никого из них нельзя обижать?.. И каждого надо любить, как учит Будда? Надо омыть себя душой реки, вдыхать в себя душу цветка… И раскрывать красоту в каждой ветке, в каждой посудине, в каждом камне… Все переходит во все, и в каждом есть душа другого, и каждый обязан беречь ее, как свою собственную. Путь же к этому — красота! А Пёрл-Харбор? А Дрезден? А Хиросима? Красота атомного гриба? Красота белокровия? …Скалы отступают, раздвигаются, открывают декорацию: залив реки. Над ним — белые полушария пара или брызг, и сверху, с отчаянной высоты, невидной за рамкой окопного экрана, вывешены голубоватые полотенца водопада: река принимает приток. И хижина внизу, у самого грохота воды, хижина бедная, а крыша загнутая, — говорят, чтоб черт не мог с нее скатываться на землю, а так и взлетал обратно опять на конек… И лодка — у нее высоко поднят и обрезан втупую нос… Не хватает только странствующего монаха с голым пузом и с блаженной улыбкой на толстом, лукавом, столетне-детском лице. Теперь для меня совершенно ясно: никакой стилизации, никакой условности в японской живописи нет. Она — реализм. Да, в Японии все именно такое, как рисуют ее художники. У каждого, конечно, своя манера, есть разные школы и разные направления… Но подлинная Япония именно такова, какой знаем мы по ее искусству. Фотографии, конечно, похожи на природу. Но природа похожа на живопись. Художники учат нас, как надо Японию видеть. И когда мы уже научены хоть немного, мы начинаем понимать ее красоту — особенную, какой нет нигде в мире.
Вот уже вечер, окна задернуты темнотой, все готовятся спать. Муза Николаевна уже сказала нам свое «о’ясуми насай» — «спокойной ночи»… Как и у всех, у меня тоже есть что почитать на сон грядущий. Мой ежевечерний спутник — тип не больно приятный. Хорошо, что я засыпаю быстро, а днем читать удается только когда едем, так что я встречаюсь с ним урывками. Это офицер ниппонской императорской армии — поручик Коносукэ Хирабаяси, командир десятой роты из отряда «Бяккотах», названного так в память подразделения «Белыйтигр», оросившего кровью склоны горы Иймориама еще в первом году эпохи Мейдзи. С этим человеком я знакомлюсь благодаря XIX книжке «Восточного обозрения» за 1944 год (лето). Журнал выходил в Харбине и был рассчитан на русского читателя, а косвенно, вероятно, и на американцев, ненависть к которым на его страницах была особенно пламенной. Истории поручика Хирабаяси посвящена половина выпуска. Она изложена в виде расширенного донесения сотрудником информационного отдела императорского военного министерства Тосиро Такаги, таким образом, имеет официальный характер.
«…В двадцатых числах марта 15 года Сева (1940 год) в штаб отряда, находившийся на передовой линии фронта в провинции Цзянси, в Центральном Китае, прибыли прикомандированные к отряду три минарай-сикан’а, окончивших военное училище. Особенно выделялся среди них юноша, во всей квадратной фигуре которого чувствовался большой характер. Из-под надвинутого козырька глубоко сидевшего на голове военного кепи его узковатые глаза излучали непреклонную волю. Резко возвышавшееся правое плечо говорило о незаурядной силе, развитой упорной тренировкой в фехтовании».Это и был Коносукэ Хирабаяси…
«…В тот день Хирабаяси, еще подпоручик, неподвижно стоял на вершине Хуанфынлин, держа в руках полковое знамя. Не меняя позы под ожесточенным огнем противника, он величественно стоял во весь рост, преисполненный воинского духа, и гневно взирал на расположение врага. Его фигура была подобна изваянию божества…» «…По утрам, надев доспехи для штыкового боя, он, как бы утаптывая землю, поджидал учеников-кадетов. Благоговейно прочитывалась Высочайшая инструкция военным, и начинались упражнения с учебной винтовкой. Он с мечом в руках с громадной силой наступал всем телом, издавая бычий рев. Кадеты отлетали от него, как перышки. Страшный рев фехтовального азарта эхом разносился вокруг, пугая жителей ближайшей местности…» «…Когда после тяжелого дня военного обучения и охранной службы все солдаты и офицеры отряда спали, бодрствовал, кроме часовых, он один. Учебный штыковой бой производился и после большой выпивки и сильного хмеля. Хирабаяси был большим любителем сакэ и в отношении количества выпиваемого считался первым в отряде, а охмелев, начинал громко распевать…» «…Ночные занятия Хирабаяси производил по тревоге в течение одной ночи два-три раза, а иногда и четыре-пять раз. Однажды такие занятия продолжались целую неделю. Даже самые крепкие из кадетов чувствовали себя совсем разбитыми».Из дневника Хирабаяси:
«13 мая. Не есть ни утром, ни днем, не пить воды. Начальник отряда должен быть бесом. Такими же бесами должны быть его подчиненные…» «…Предел воспитания только в смерти…» «…Мы учимся смерти и обучаем смерти. Человек, познавший истинную цену человеческой жизни, несмотря на свои двадцать три года…» «…Никогда не пользоваться даже тазом для умывания. Водой из фляжки полоскать рот и ею же, выливая ее себе на ладонь, полоскать лицо…» «…Аккуратное складывание одежды является признаком того, что на душе нет волнующих сомнений». «…Воин — это бог. Что такое бог? Это — воин, без слов выполняющий свой долг…» «…5 декабря. Плохо мечтать. Что бы ни случилось, нужно только действовать». «Не думай, что есть завтра!..» «…Живи с великим заветом: умереть с чистым сердцем младенца за его величество тэнно». «…Безупречно умру на поле брани… Недалеко то время, когда можно будет выявить подлинную цепу моего меча Масатоси. Хотя и слаба тренировка моей руки, она поет в предчувствии действия…»
«…В самый разгар боя он не допускал никаких послаблений. — Что ты делаешь?! — кричал он провинившемуся. И прежде, чем закончить грозный окрик, уже давал волю своим рукам. Сознающим свою вину и просящим прощения попадало сильней. — Когда тебя бьют, думай о том, кто бьет: «Черт! Сволочь!» Нужно всегда иметь вид человека, готового в слепой ярости начать драку. Просящим прощения Хирабаяси всегда добавлял два-три удара». «…Как только началась Великая восточноазиатская война, Хирабаяси закончил последние приготовления к смерти. Он привел в порядок все свои дела и написал завещание. Последними словами перед вечной разлукой он освятил свое небытие».Слова эти были такие:
«Пламенно надеюсь, что и впредь вы будете так же усердны и не посрамите традиций вашей роты. Берегите свое здоровье. Болезни рождаются настроением. Верь в победу! Ха-ха-ха!Ротный командир (печать)»
«…Поручик пехотных войск Коносукэ Хирабаяси пал славной смертью героя в Бирманской операции (незадолго до взятия войсками Японии столицы Бирмы Рангуна). Наименование сражения: бой в восточном районе Ситтанг. Дата и время: Сёва 17 год (1942 год) февраля месяца 22 дня, 13 часов 40 минут. Наименование ранения: сквозное пулевое ранение в левую часть груди, с вылетом в нижней части левой лопатки (ранение сердца)».
Офицеры и солдаты роты Хирабаяси замечали, что во время своих бессонных ночей «поручик часто стоял на коленях перед табличкой, которую носил всегда с собою, и что-то шептал, тяжко рыдая». Навряд ли он рыдал в предвидении близкого будущего своей страны. Он, конечно, не мог и отдаленно представить себе то полное, тотальное поражение, которое увидели его ровесники спустя каких-нибудь четыре года после его гибели. Не думаю также, что его приводила в отчаянье мысль о горестной нелепости его существования… Впрочем, мера человеческого лицемерия и притворства бывает гигантской, и — может быть — железный поручик избрал для себя единственный путь, какой казался ему осуществимым?!
По-видимому, по всей трассе нашей поездки была дана инструкция, как с нами обходиться, ибо метод обхождения был везде один и тот же. Вот останавливается «Цинциннати». Эмписты уже на перроне. На всю длину наших вагонов асфальт очищен от «джапов». Обмен рукопожатиями с встречающими, нас вываливают в машины и мчат с возможной скоростью на «парти». «Парти» — это специальный вид военно-дипломатического кретинизма. Он состоит в том, чтобы как можно меньше выпить самому и как можно больше влить в другого. Выпивание производится под примитивные остроты (с участием переводчика) и под междометия и деланный хохот (без переводчика). Обе стороны отлично понимают, что занимаются чепухой, но так приказано нашим хозяевам, а нам остается только «быть на высоте». Эта высота выдерживалась вполне вследствие крупного перевеса питейных способностей с нашей стороны, но я не видел в том особенной чести. В смутных воспоминаниях мне мерещится жилистый и, вероятно, милый полковник, который держался довольно прочно в течение первого часа, но потом, видимо не вынеся окружающего, нашел выход в том, что в присутствии своего генерала встал на четвереньки и пошел кружить вокруг стола, правдоподобно лая. Тут его начальство, возможно ощутив смущение, принялось заворачиваться в портьеру, пока не сорвало ее с карниза… В другом месте был очень длинный и загорелый морской капитан, казалось бы обязанный противостоять морской болезни, однако я помню его в состоянии весьма печальном возле лестницы, с которой он только что съехал на собственном заду. Подчиненные старались не пустить его выползти на улицу, где мы садились в машины, а «джапы» стояли вокруг. Я дивился на Симонова. На этих проклятых «парти» он бывал всегда залихватски весел и выглядел простаком, которому некуда девать молодую силу, хотя я знал отлично, что он, во-первых, дьявольски устал после четырех лет фронта, во-вторых, отнюдь не чемпион здоровья и, в-третьих, все замечает, все понимает и сегодня же вечером или завтра утром будет диктовать очередные из тех полутора тысяч страниц, которые он привез с собой после ста дней пребывания в Японии. Только однажды я видел, как после нескольких часов вот этакого идиотского провождения времени он пришел в ярость. Он встал с кресла и предложил кому-то из американцев сыграть в пинг-понг. Несмотря на выпитое, он играл как зверь. Я знаю за ним это свойство — чернеть от гнева. Так вот — черный, с поджатыми губами, не замечая ничего кругом, он колотил по очереди одного за другим наших хозяев, — непонятно, откуда у него брались силы. — Уж очень осточертели, — сказал он в машине. Начальником военного порта в Сасебо был коммодор Даффи. Мне жаль, что время с ним прошло в дурацкой выпивке, ибо он, несомненно, мог бы порассказать немало интересного. Это был невысокого роста, одетый в отлично сшитый штатский костюм человек лет пятидесяти с нервным, несколько слабым лицом, с быстрыми движениями, с веселой улыбкой; как мне показалось, он был рад увидеть русских, и мы — как мне показалось — ему понравились. Он жил в домике японского типа, который был построен по его рисунку на остатках какого-то каменного строения недалеко от пирса. Тут не было никаких украшений — струганое дерево, стекло, прозрачная бумага, циновки… Центральное отопление придавало этому гнездышку изящного отшельника уютную теплоту. На стенах висели окантованные толстым морским канатом карты Японии и Океании. Это были рельефные карты, вылепленные с большим искусством и отлично иллюминованные, так что, если бы не надписи, они очень походили бы на пейзаж, который расстилается под высоко идущим самолетом. Сделанные из резины, они легко сворачивались, так что коммодор Даффи мог их возить с собою. На одной из фотографий я увидел коммодора Даффи возле свайной постройки, тоже сделанной по его рисунку где-то в тропическом лесу. Немного поодаль стоял голый и могучий индеец в стиле Майн Рида, с вампумом на голове, — так сказать, верный Пятница при изящном бродяге. Тут же висела цветная японская гравюра, где был изображен развеселый старикашка, сидевший на корточках и тихонечко совлекавший кусок ткани с большой редьки, лежащей перед ним. Редька была шелковисто-розовая, с раздвоенным корнем в виде женских почти ног, хотя из головы ее рос зеленый пучок ботвы. — Вам нравится? — спросил меня Даффи. — Хорошо придумано, правда? На полках и на низком японском столе, покрытом стеклом, стояли бутылки драгоценного рома, коробки сигар «Черчилль», сигареты «Кэмел» и «Честерфилд», табаки «Данхилл», трубки всех форм и мундштуки на любой вкус, буддийские боги и порнографические статуэтки. Все это было очень мужское и очень одинокое. Когда коммодор заметил, что я смотрю на портрет милой девочки лет восьми, стоявший на комоде, он наскоро мне объяснил, что это дочь одной его приятельницы, и принялся за ромовые бутылки. Была приведена в действие превосходная радиола, и хозяин выразил сожаление, что к рому и музыке он не может предложить нам «японскую редьку», которая, как известно, имеет очень приятный вкус. Это было покрыто мужественным хохотом хозяев и гостей. Коммодор рассказал нам, что радиолу он получил в подарок от одного норвежского капитана, которого он спас во время шторма. Радиола играла бравурные джазы, и не сразу я разобрал, что это — Шопен, переделанный для модных танцев. Даффи подвел нас к окну и, показывая на полуразрушенный порт, сказал: — Не правда ли, унылый вид? Я решил выкрасить все это в белый цвет. — Но это же будет стоить страшных денег? — спросил адмирал. — Ноль, — сказал Даффи. — Ничего. В этой стране мы получим все, что нужно. Несколько позже я узнал, что в первый год оккупации содержание американской армии обходилось японцам более двух миллионов долларов в час. Одна только школа игры в гольф, построенная в Киото для американских военнослужащих, стоила 13 миллионов долларов… Окраска порта в белый цвет, вероятно, должна была бы войти в расходы по «украшению парков и резиденций армии». Общая сумма этой статьи за восемнадцать месяцев составила 60 000 000 долларов! Потом мы еще пили и смешили друг друга при помощи гренадерских анекдотов, и коммодор был недоволен мной, что я мало пью, он утверждал, что он на десять лет старше, но на двадцать лет моложе меня, и в конце концов сказал: — Я знаю, какой напиток вам надо пить. Одну минуту! Он исчез и тотчас появился вновь, а за ним шел Пятница, тот самый, что был на снимке, только без вампума, и нес большой ящик. С лицом непроницаемым, как у джинна из «Лампы Аладдина», он отодрал крышку, и мы увидели консервные банки с надписью: «В о т е р». — Вода, — сказал Даффи. — Из Миссисипи. Что и говорить, это было изящно, и теперь нам следовало только словчиться, чтобы не тащить подарка в вагон. Коммодор подарил нам по платку, сделанному из грубой солдатской бязи, в углу был напечатан красный эллипс с кулаком посредине и надписью: «Порт-директор. Сасебо. Япония». Это было тоже в стиле нашего нового знакомца. Коммодор Даффи проводил нас до машин. Он шел своей быстрой, подпрыгивающей походкой, в красивой глянцевитой куртке на белом меху, с иронически заломленной флотской фуражкой на голове и великолепными двухцветными перчатками в левой руке. Мне показалось, что в нашем прощании было больше сердечности, чем предусматривалось инструкциями американского штаба. Как-то грустно было оставлять его здесь одного с его экзотическим комфортом и искалеченным Шопеном… Впрочем, возможно, Пятница хорошо заботился о нем.
На одной из баз возле пирса были пришвартованы большие подводные лодки, и одна из них — немецкая, длинная, острая… так сказать, «ось Берлин — Токио». Вероятно, она привезла в Японию то ли документы, то ли какие-нибудь приборы и уже не вернулась в Германию. В один миг Симонов оказался на ее палубе. Вот его запись об этом, которую он продиктовал Музе Николаевне вечером и потом позволил привести в моих воспоминаниях:
«…Взяв фонарик, я спустился в люк и добрался до центрального поста. Все подводные лодки похожи друг на друга, и здесь, в Японии, на немецкой лодке, мне невольно вспомнилось начало войны и мое плаванье по Черному морю в Констанцу на нашей лодке. И боже мой! — как все это сейчас далеко! И странно, что я жив и что нахожусь вот здесь… Необъяснимое чувство тоски охватило меня в этой лодке. Странно было еще и то, что внутри горел свет… почти через полгода после капитуляции. Он горел всего в двух отсеках. Видимо, эти лампочки были подключены на питание к аккумуляторам, и они могли гореть тут не только полгода, но еще год, учитывая громадную аккумуляторную мощность на подводных лодках. Хотя это было очень простое объяснение, но в том, что внутри свет горел, было в то же время что-то странное. И рождалась какая-то опаска. И казалось, что из соседнего отсека через дверь вдруг вылезет какой-то немец, подполковник, прячущийся здесь все эти полгода. Это, конечно, глупость…»
У человека, сидевшего на чугунной тумбе и курившего маленькую трубочку с длиннейшим чубуком, я спросил через переводчика, не моряк ли он. — Он служит на транспортном судне, которое перевозит японских солдат из Азии на острова, — перевел мне наш японист. — А раньше что он делал? Во время войны? — Он был военным матросом. — А где сейчас его товарищи по экипажу? — На том же судне, на котором он сейчас плавает. — А капитан военного корабля? — Он назначен помощником капитана их судна. — Так что он сейчас среди своих военных друзей? Радостная улыбка освещает худое лицо человека. Но я уже научился понимать японскую мимику. Это никакая не радость, это вежливость. …На одном из японских эсминцев, которые мы посетили, оказались люди. Все они были в вязаных кацавейках, в замусоленных штанах, молодые, молчаливые. Казалось, в этих нищеобразных парнях еще была жива ярость войны. Они плыли домой в отпуск — отдохнуть, по-военному повеселиться, побыть на родной земле, а не на волнах, где все грозило смертью. Они наработались, на-боялись, недоспали за месяцы… И вот они — без земли, без родины, три десятка бывших матросов! — Вы служили на этом эсминце? — Да. — Сколько человек было в экипаже? — Пятьсот. — Кто был командир корабля? Один из людей выступил вперед с радостной улыбкой. Он ничем не отличался от своих товарищей. — Где же остальные матросы? Ведь тут не более тридцати… — Мы не знаем. — Как назывался эсминец? — «Фуюдзуки». — Что это значит? — «Зимняя луна». Изящное название. Нежное.
Здесь я хотел бы забежать вперед и вспомнить о некоторых встречах, которые произошли уже в конце нашего пребывания в Японии.
…Мне представили его как вице-министра министерства демобилизации. Это и было раньше военное министерство. Генерал-лейтенант Дозуки. Хаки китель, хаки пуговицы, стоячий ослепительно белый воротничок из целлулоида, розетка императорской хризантемы на левом нагрудном кармане. Сухая кожа, обтягивающая кости черепа, страшное беспокойство, зажатое железной волей в узких глазах, в страдальчески сомкнутых губах. Дипломатия, вероятно, не из числа склонностей генерала, но именно ему поручено говорить с русскими журналистами, и он должен выполнить приказ, как всегда и везде выполнял приказы командования, наилучшим образом. Я пытаюсь ввести беседу в тон непринужденности между двумя немолодыми мужчинами, но это не удается. Вероятно, он обдумал свою партию и не принимает моего дебюта. Он сидит прямо, смотрит сквозь меня. Он начинает с приготовленной фразы: — Ликвидация армии доставляет мне большое сожаление. Я воспитан как военный человек. Я принадлежу к командному составу и должен думать не о себе, а о стране и о подчиненных мне людях. Дебют красивый. Он свободен от трепета, от мести, от лицемерия. — Но новая конституция… — говорю я. — Хэ! — говорит он тихо и утвердительно. — Если уж она принята, ее надо выполнять. Я хотел бы, чтобы в этом была новая гордость Японии. На земном шаре нет государств, которые установили бы в своей конституции отказ от армии и от войны. Если в будущем другие страны пойдут по этому пути к всеобщему миру, Япония будет первой в этом движении. — Считаете ли вы, генерал, что этот путь реален? Он, вероятно, не ожидал такого вопроса. Быстрым движением он прижимает подбородок к груди, показывая, что мой ход понят и надо подумать. — Да, считаю, что такой путь реален, но он очень труден. Почти шепотом он повторяет: — Очень труден. — В чем видите вы главную трудность? — Прежде всего — вся экономика Японии построена на военном производстве. Без военной промышленности Японии грозит экономический крах. — Я полагаю, что с этим она справится, как справятся и другие страны, которым тоже предстоит реконверсия. А вот что вы скажете об армии? Его лицо неподвижно, но кажется, что он закрыл глаза. Потом, встрепенувшись и как будто найдя ответ, он продолжает почти вдохновенно: — В мире есть много проблем, которые можно решить математическим путем, как дважды два или даже пусть гораздо сложнее. Но здесь мы стоим перед проблемой, закрытой для математического мышления. Ее решение относится к области чувств. — Что это значит? — К области поэзии. Этого не было в мире, но это должно быть. Хороший ответ! Но он рассчитан только на полных профанов. — Не думаете ли вы, генерал, что если этого даже и не было в мире, то в Японии это встречалось слишком часто? Все воспитание народа и особенно вся политическая работа в армии были обращены к чувствам людей, к мифам, к иллюзиям. Он опять прижимает подбородок к груди. Молчит. Потом тяжело вздыхает. — Да, это правда. Положение этих людей ужасно. И не только материальное положение. Они привыкли быть стойкими в своих убеждениях. Они не могут их изменить. А между тем мировоззрение Дарвина они должны сменить на мировоззрение Кропоткина — теорию борьбы к а теорию сотрудничества. Он умолкает, продумывая ход. Потом, размышляя вслух и оживляясь: — У народа есть очень старинное обыкновение — еще от времен Хэйана — закон лилигосейдо, или система взаимной помощи соседей… Может быть, на этой традиции можно построить нечто новое… — Вы имеете в виду создание нового мифа? — К сожалению, без идейной основы… — Неужели вы всерьез полагаете, что все эти мифы о божественности императора или о законе взаимопомощи тысячелетней давности могут успокоить миллионы людей — бездомных, не имеющих профессии, работы, поддержки? — Нет, я не думаю. Но что-то надо делать!.. Искать выход… Все было так прочно, и вот… недавно американские журналисты спросили меня, что я буду делать, когда закончится работа по ликвидации армии, и я им сказал, что сделаюсь священником. Но теперь я понимаю, что учиться чтению молитв уже поздно. Что ж, я готов стать земледельцем. Ведь любовь к труду не запрещена новой конституцией?.. Тут я увидел, что продолжать беседу бессмысленно. Я понял также, что передо мной — очень умный человек, который сумел быть искренним и вместе с тем не сказал ничего. Чтобы как-то закончить встречу, я рассказал ему о моем разговоре с демобилизованными моряками на эсминце «Фуюдзуки». Он с грустью покачал головой: — Да, да! Их миллионы. Вот один из них. И он кивнул в сторону человека, которого я считал его переводчиком, — бритоголового с деревянным лицом, не выражавшим ничего, кроме внимания. Тот вскочил, вытянулся, крикнул: — Хай! (есть!) — и обратился ко мне, готовый рапортовать. Уже в конце моего пребывания в Японии один из дружески настроенных корреспондентов спросил меня о том, что я думаю о ликвидации японской армии. Я ответил ему, что сам хотел бы задать ему тот же вопрос. — А вам известно, — сказал он, — о «сельскохозяйственных коммунах» под руководством дивизионных генералов и состоящих из кадровых офицеров? Вы думаете, они занимаются выращиванием риса? — А вы слышали о полицейских отрядах, полностью укомплектованных офицерами в чинах не ниже капитанов? Корреспондент любил окружать таинственностью свою осведомленность и сказал в заключение: — Вам было бы интересно посмотреть на работу филиалов министерства демобилизации. Например, на Хоккайдо. Говорят, именно там организован консервационный центр для сохранения офицерских кадров, специально знакомых с условиями войны на русском Дальнем Востоке. — А кто бы и что рассказал мне там об этих тайнах? — спросил я его риторически. — Да, конечно. Тем более что между концом войны и приходом американцев на Японские острова прошло достаточно времени для того, чтобы успеть сжечь, а главное, надежно упрятать всю главнейшую документацию главного штаба и принять меры к сохранению наиболее ценных военных кадров… Вам известно, например, что Макартур освобождал многих японских офицеров, обвиненных в военных преступлениях, в то время как его подчиненные рыскали по Японии в поисках нескольких крупных коммунистов?[3]
БЫВШЕ-БУДУЩИЕ БАЗЫ
Вероятно и даже несомненно, это пленительные уголки страны. Глубоко входящие в берега спокойные синие бухты, как бы озера, окруженные горами, отороченные исчерна-зеленой листвой, защищенные от грохота и ветров океана, благоухающие морским воздухом. Словом —Железом обитые ворота прямо в скале, как туннель в ад. Вентиляционная дыра в каменном откосе: внутри горы что-то есть. Железный шкаф, из его живота вывалились кишки кабеля. Разверстые глотки громкоговорителей на столбах. Кровавый восклицательный знак перед проволочными заграждениями. Нас мчат на возможной скорости по бетонному шоссе вокруг бухты. Цеха завода. Они совершенно целы. Мы просим остановиться. В цехах пусто. Только фундаменты от станков, и на них торчат, как кнопки, болты; на болты навернуты гайки, все обмазано тавотом. Кто увез? Куда? Кто подмел? Мы знаем по опыту, что нашим радушным американцам не надо задавать подобных вопросов. Ответ будет один: «Выпьем!» Высокие поленницы, запорошенные снегом: одна, пятая, десятая… Это — пушечные стволы. Что с ними будет дальше? — Выпьем?! Поленницы пулеметов. Штабеля торпед. Броневые колпаки. Шлагбаум: «Японцам вход воспрещен». Наши машины поворачивают обратно. Почему? — Выпьем?! И мы катим опять мимо подземных складов, мимо электростанций, врезанных в гору, мимо пожарных сараев, выдолбленных в скале, мимо госпиталей, которые можно заподозрить там, где специальные знаки намалеваны на вывесках, прибитых к деревьям… Гнездилища смерти. Они все похожи друг на друга — Майдзуру, Сасебо, Кобе, Куре, Модзи, Нагасаки… Их сердце — акватория. Она прочно закрыта. Она природой замаскирована, ее можно увидеть только с воздуха. Она обязательно глубокая и часто очень большая. Обычно нас сажали на катер, и мы совершали медленную прогулку, как в венецианской гондоле, мимо полного разрушения, мимо раздыренной, заржавленной железной злобы, которая недавно готова была пожрать весь Тихий океан, злобы, на время умерщвленной. Чувство, что это — только клиническая смерть, нас не покидало. Мы объезжали трубы военных кораблей, погруженные в воду, проплывали под наклоненными бортами линкоров, под торчащими к небу носами миноносцев, вставших на обрубленную взрывом корму, шли узкими каналами между мелкими подлодками и всякими военными посудинами, часто лежащими на воде килем вверх, как рыба, всплывшая после взрыва. Мы задирали головы к палубам огромных авианосцев, которые ремонтировались, чтобы перевозить солдат разгромленной японской армии с континента на острова. «Касаги»… «Юнио»… «Асами»… Красивые названия. Музыкальные! Сколько миллионов людей работали, чтобы возвести эти железные громадины для покорения мира!«ОСТОРОЖНО!»
«НЕ КУРИТЬ!»
«ВЫКЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЕ!»
«К СКЛАДУ №…»
На всех базах, которые мы посетили, было развернуто строительство подводных лодок. Впечатление такое, что оно прекратилось только после капитуляции, а до этого шло полным ходом. Особенно мне бросилось в глаза производство лодок-малюток, в которых человек нормального роста не мог бы выпрямиться. Они предназначались для смертников, это были как бы живые торпеды, взрывавшиеся вместе с экипажем. По-видимому, как строительство лодок-малюток, так и производство подводных судов небольшого тоннажа — на шесть человек — было переведено на поток. Во всяком случае, они делались из стандартных частей, и стапели, где их собирали, обладали оборудованием для почти конвейерной сборки. Кольца из стали, вымазанные суриком, стояли штабелями, тут же лежали какие-то кронштейны, скобы, накладки и прокладки, висели кабели для аппаратов электросварки. В одной из бухт мы видели гигантские подводные крейсеры по пять тысяч тонн водоизмещением. О них американцы рассказали нам следующее. Они были предназначены для уничтожения шлюзов и сооружений Панамского канала. Успех подобной операции мог принести серьезные затруднения военному флоту Соединенных Штатов. Четыре подводных крейсера должны были пройти около пятнадцати тысяч километров туда и столько же обратно. Возможно, что бо́льшую часть этого пути им пришлось бы плыть под водой, поскольку Америка контролировала пространства Тихого океана в этих широтах. На близком расстоянии от канала они должны были всплыть. От них отделялись гидросамолеты — по четыре машины от каждого крейсера. Каждый самолет нес на себе две тонны бомб. Они летели к каналу и врезались в его сооружения. Они были обречены на гибель. Трудно представить себе, чтобы подводные гиганты могли избежать той же участи, поскольку после налета американская авиация без особенных усилий обнаружила бы столь крупные цели и уж не пожалела бы ничего для мести. Но те сотни людей, которые находились на борту подводных линкоров, могли иметь хоть проблеск надежды на жизнь, — во всяком случае, так, понятно, внушали бы им их начальники. Что же касается шестнадцати, а может быть, и сорока пилотов — они должны были знать, что погибнут, ибо вернуться на подлодки у них не было никакой технической возможности. Значит, в течение долгого пути в несколько недель эти люди, сидя в своих железных каютах, украшенных разноцветными бумажками и куклами, должны были, ничего не делая, ждать предназначенной им неминуемой смерти, а все остальные вокруг них — знать, что они везут их на казнь. Навряд ли миниатюрный настольный храмик, каковые полагались на всех подводных лодках империи, или консервированный рис с красными бобами — лакомство, которым подбадривали подводников после удачных попаданий и в особенно трудных походах, или духи, которыми самураи душились перед подвигом, — могли скрасить смертникам эти недели. Может быть, им должны были впрыскивать какие-нибудь барбитураты и хиропоны (психические последствия этого уже не имели никакого значения!) или применять особые приемы внушения — одно несомненно: «панамский проект» был невероятным по жестокости психологическим экспериментом. К счастью, операция не была осуществлена. Остался цел канал, и остались целы люди. Но план существовал. Он не мог быть взят с потолка, не был капризом безответственной фантазии уже хотя бы потому, что подводные крейсеры были построены и на них были истрачены громадные средства. План был основан на реальных качествах людей, которые должны были участвовать в операции. И это надо знать. И не мешает задуматься над тем, как это было возможно.
Размытая голубизна бухты… В ней потопленный старый крейсер о трех трубах и паруса рыбачьих шхун, взвешенные в сырости утренних испарений… Надо бы постоять над этим заливом, вглядеться в эти уступы берегов, возле которых копошатся по колено в воде люди, вылавливающие ракушки. Их велосипеды лежат тут же, на пляже, грудами, как выкинутые морем водоросли. Япония не только первая страна в мире по рыболовству, японский народ живет морем. Подводные растения, рыбы, всевозможные раки, осьминоги, угри — все это пища каждого японца. Вместе с рисом то, что дает море, — главная еда рядового жителя. И эти люди, шарящие в воде, — вовсе не профессионалы рыбаки, они просто собирают себе на обед, потому что иначе могут остаться голодными… По совести, я бы пошарил вместе с ними, подышал бы воздухом йода и соли, забыл бы на минуту о недавнем ужасе того, что тут происходило, что тут готовилось, что бросило в смерть миллионы таких, как эти искатели пищи… Однако нас везут в академию, где владыки Японии готовили офицеров военного флота. Нечто похожее я видел в Германии. Это вроде парка со стадионами, возле которых стоят корпуса аудиторий, общежитий, мастерских. Таких морских академий в Японии было три, и каждая из них выпускала по тысяче командиров в год. Действительно, здесь все было умно приспособлено, чтобы учить мальчишек морскому пиратству и вдалбливать им в голову идею непобедимости японского флота. Сюда стащили все, что осталось от царских военных кораблей после цусимской ловушки. Даже позолоченные двуглавые орлы и целая командирская каюта были тут представлены. …Нам показали казармы воспитанников. В их пустынной унылости мне вспомнился мой поручик Хирабаяси, тоже только что окончивший училище. Он был пехотинец, а тутошние были моряки. Но и к этим коридорам и спальням так подошли бы ночные рыдания, когтившие несчастного вояку после его дневных упражнений! Потом мы поехали в Хиросиму.
В ХИРОСИМЕ
В то время мы еще ничего не знали ни о последствии атомной бомбы, ни о том, как ее изобретали ученые под начальством генералов (которые считали ученых дураками), ни о том, как она была сброшена и как только счастливая случайность уберегла от той же участи Киото, столицу всей древнейшей культуры Японии, убежище ее прекрасного искусства. (Американские генералы, видите ли, считали, что Киото наиболее подходил для атомного взрыва — и по обширности территории, и по громадной населенности, и по рельефу местности!) Обо всем этом мы еще ничего не знали через полгода после взрыва, хотя и понимали, что атомная бомба — это оружие, не похожее на любое иное, и что в ней есть нечто более серьезное, чем только непомерно увеличенная мощь разрушения. Мы знали, что едем в ту точку планеты, где в течение одной секунды без всякой борьбы и с полным комфортом для убийц было убито 70 тысяч человек. Что я запомнил? Прежде всего — бетонный дом этажа в четыре и над ним железный скелет купола. Где я уже видел этот купол-скелет? Точно такой же? В Дрездене. Над ратушей. Конечно, никаких дверей, оконных рам и полов в доме не было. В отдалении, на больших расстояниях друг от друга, стояло еще несколько таких же домов. Вокруг меня было очень далеко видно. Ровная местность была покрыта слоем мелко битой черепицы и мелко битого стекла. Стекло было оплавлено, казалось, мы ходим по стеклянным фигуркам — птичек, лошадок, елочных украшений… От города, построенного из дерева, не осталось ничего, кроме деревьев. Деревья лежали выдранные и стояли полувыдранные — без листьев и ветвей. Торчали только толстые сучья, похожие на судороги. На сучьях сушилось белье. Вся местность разграфлена прямоугольниками кирпичных фундаментов. Внутри прямоугольников — огородные грядки. Возле, как надгробия, несгораемые шкафы. Кладбище. Среди этого пейзажа —ТАЙНА ДЗЭН
«БУДДИСТ-ДИАМАТ»
Утренний завтрак подходил к концу. Мы все были злые от бессонной ночи и собачьего холода в нашем особнячке. Наши рентаны напустили угарного газа, пришлось устроить сквозняки через все окна и двери, и никакой кофе не мог нас согреть. Тогда Леонид Кудреватых сбегал к себе наверх и принес написанное за ночь. Это оказалась поэма в прозе. Она называлась «Мои плоскогубцы». Речь шла обо мне. Дело в том, что по привычке постоянных путешествий еще с первых пятилеток, когда очень редко удавалось устраиваться в более или менее удобных гостиницах, я всегда возил с собой электрошнур с патроном, изоляционную ленту, несколько гвоздей, кое-какой инструмент полегче — отвертку, нож, плоскогубцы… Вот плоскогубцы и увидел у меня на столе Кудреватых. Поэма была написана смешно и метко. Тут доставалось и моей обстоятельности, и моей предусмотрительности, и моей аккуратности, и вообще тем чертам человеческим, на которые приходится рассчитывать людям, не слишком убежденным в своей гениальности и слишком знающим, что такое невезение. Мать моя, очень меня любившая, была противницей всяких иллюзий и мужественно презирала любые обольщения; она была интеллигент-скептик, считала, что между фактом и его словесным гарниром всегда пропасть, а следовательно, движение вперед осуществляют обыкновенные, рядовые люди, к которым всякие высокие наименования подходят как корове седло и которым они не только не нужны, но и смешны. Она сказала мне однажды, но, как потом оказалось, навсегда, что «способности твои, Бобочка, слава богу, не превышают средней нормы». Это была абсолютная истина, однако плохо то, что я ей абсолютно поверил. А кто поверит такой истине, уже никогда ее не нарушит, — помните этот сугубо практический совет, милые мальчишки и девчонки, вступающие в жизнь! Так вот, Кудреватых очень точно во мне разобрался, и мы сперва этой точности улыбались, потом смеялись, а под конец уж стали и хохотать. Так что Леониду, как это не раз случалось, удалось рассеять общую меланхолию. — В общем, — сказал Горбатов, обращаясь ко мне, — на сей пашквиль вы можете ответить только одним способом. Показав ему «козу», быстрым движением растопыренных пальцев выколоть ему глаза и, положив его на свое согнутое колено, быстрым движением сломать ему позвоночник. Это называется дзю-до — чисто японское развлечение. — Ну зачем же позвоночник? — скромно сказал Кудреватых, собирая особенности своего лица в улыбку. — В общем, — заключил Горбатов, — я вам завидую. Я бы хотел, чтобы обо мне написали так искренне и так дружески. В это время возле двери возник Исио. Он приветствовал нас общим поклоном (японские длительные здорованья у нас были не приняты) и, неслышно подойдя к столу, положил передо мной записку. Хотя тут не могло быть никаких секретов, Исио любил излагаться письменно, чтобы пощеголять своей русской грамотностью. Кажется, такова была единственная форма самоутверждения, которую позволял себе этот тишайший человек. Вот что было в записке:«Пункт, который я хочу Вам передать, — это то, что мы встретились на собрании с товарищем Гэн Хирогава, который, услышав от нас, что один из советских писателей заинтересован Дзэном, отзвал, что он тоже заинтересован тем же предметом. Он является у нас в ассоциации шефом философско-исторической секции и уже перевел много марксистско-ленинских произведений на японский язык. Самым известным из его переводов является «Немецкая идеология» Энгельса. Вчера этот диамат Хирогава прислал мне письмо и просит, чтобы я устроил для него встречу с уважаемым буддистом товарищем Агаповым… Хирогава в своем письме заявляет: «Когда я был студентом, я на некоторое время занимался Дзэном. Несколько лет тому назад я опять начал заниматься Дзэном с известным усердием. По утрам и вечерам я сижу ежедневно, желая повысить свою повседневную жизнь до уровня искусства. Я думаю, что у меня уже готово свое собственное понимание Дзэна, и потому прошу оказать хлопоты…»А Леня Кудреватых и не знал, что я «уважаемый буддист»! Вот бы ему это в «Плоскогубцы»! Тюрьма… Энгельс… «Немецкая идеология»… Дзэн… буддист-диамат… Словом, свидание состоялось.
Гэн Хирогава оказался невысоким человеком с красным влажным носом, с красными занавесками век, с нечистой кожей на небритом лице. Одет он был в хороший европейский костюм, но галстук, ногти, волосы — все было неаккуратно. В руках у него был маленький заношенный чемоданчик, он с ним не расставался. — Почему вы вообразили, что я буддист? — начал я разговор. Он откинулся на спинку кресла и, обнажив желтые зубы крупного формата, испустил несколько коротких кашляющих выдохов, — это, вероятно, был смех. — Но ведь о вас известно, что вы доктор богословия? Почему бы вам не быть буддистом? («Армии нет, но разведка работает, — подумал я. — Однако она разболталась и доносит уже полную чепуху!») Я решил тоже рассмеяться в ответ и предложил ему «Напареули» и «апельсинные дольки». Пожалуй, действительно не стоило серьезничать. — Но я уверен, что и вы и я прежде всего материалисты. Именно потому я и стал последователем Дзэн: это — типичный материализм. — Однако ведь Дзэн — секта буддизма, то есть он религия? — Для простого народа — да. А в действительности Дзэн — это путь к совершенствованию научного мышления. — А мне говорили… — Легко себе представить, что вам могли говорить, особенно те, кто считает вас другом патриарха Алексия. Но меня это не интересует. Я — против Судзуки. — А это кто такой? — Это светило дзэнской философии, профессор буддийского университета Оотани, главный авторитет по Дзэн, весьма известный в Англии и в Америке. Он считает, что наука, построенная на логике, — чепуха. — То есть он считает чепухой всю современную науку Запада? — Да. Для Судзуки это чепуха. А для меня Дзэн — это старт в науку. Это гимнастика духа. Лучший путь к постижению всех возможностей современного знания. Я ничего не знал о Дзэн в то время. Даже слово «Дзэн» было известно только немногим специалистам как в России, так и на Западе. Но что-то в этом человеке напомнило мне о многих встречах со всякого роданеофитами и обращенными, и вдруг мне показалось, что я точно знаю, какие слова он должен сейчас произнести. И он их сказал. — Я был неврастеником, почти шизофреником, хилым, больным человеком… — начал он. — Я боялся людей. Я не мог работать. Я все забывал… — И тогда вы обратились к Дзэн? Он метнул на меня быстрый взгляд из-под красных занавесок своих век. — Я поехал в Камакура, в монастырь Дзэн… Впоследствии, когда я уже познакомился с этим странным явлением, именуемым Дзэн, я узнал, как это происходит. И я представил себе сцену у «Ворот просящего о входе». Пришедший постучал, но никто ему не ответил. Перед ним была невысокая стена, ворота с крышей, загнутой вверх по углам, узкая калитка и могучие столетние деревья, как бы прячущие вход под своей листвой — от суеты мира. Он снял свою коническую шляпу из рисовой соломы, сбросил на пол заплечный узел и сел на ступеньку, блестевшую лаком. Прошли часы. Начался вечер, и голубой лунный свет стал наполнять собой небольшую площадку перед воротами. И выгнутый мостик через канаву, и черепица на загнутой крыше, глянцевитая, как бы от дождя, и гранитные маячки с отверстиями для лампад — все было безукоризненно. Отодвинулась створка калитки, и тихий голос сказал: — Ждите. Он уселся, как положено, на колени и погрузился в размышления. Вероятно, они не были особенно веселыми. Он знал, что суровость свойственна Дзэн, но ведь ночь, холодно, одиноко… Неужели нельзя было впустить его, хотя бы чтобы он не сидел на улице? Так провел он сутки… Так провел он вторые… Наконец он услышал слабый удар колокола и почему-то понял, что это относится к нему. Действительно, он был впущен за ограду. Но прошло немало дней прежде, чем он обрел свое место и свою задачу. Первая беседа с мастером Дзэн должна была повергнуть его в смущение. Мне рассказывали, как это бывает. Беседы начинаются как бы вполне логично: новичок должен сообщить некоторые сведения о себе. Но, вероятно, не они интересуют мастера. Иногда беседа сразу удовлетворяет спрашивающего. Например: М а с т е р. Имена, которые вы сообщили, не ваши собственные имена. Как же вас зовут по-настоящему? — Так же, как и вас, — не теряется пришедший. — Но я хочу знать ваше подлинное имя. — Когда река Хан потечет обратно, я скажу вам его. — А почему не сейчас? — А разве река Хан уже потекла обратно? Мастер доволен подобной беседой: она оказывается по ту сторону логики, она, в сущности, абсурдна, то есть она отрицает самое себя. Но так происходит не всегда. Чаще новичок еще не понимает стиля Дзэн. Например: М а с т е р. Откуда вы? Пришедший подробно излагает, откуда он явился. — Где провели вы минувшее лето? Пришедший тщательно вспоминает и по возможности кратко излагает последовательность летних событий. — Где ваша родина? Пришедший сообщает точный адрес и даже объясняет, как туда попасть… Тогда мастер протягивает к нему свою руку и задает вопрос: — Чем вы объясните, что моя рука так похожа на руку Будды? Новичок не знает, как следует понимать сказанное. Он мнется, он молчит. М а с т е р. Ваши ответы были так точны, так непосредственны. Какие препятствия вдруг возникли перед вами сейчас? Что мешает вам высказать ваши мысли о такой мелочи, как моя рука? Пришедший бормочет что-то вроде: — Я бессилен понять… — и т. д. М а с т е р. А между тем перед вами нет никаких препятствий. Перед вами открыто все. Нет ничего такого, что вы должны были бы изучать. Нет никаких запрещений. Никаких угроз. Почему бы вам не отбросить все препятствия, которые мешают вам говорить любое, что приходит вам в голову? Может быть, этот разговор написан (или записан) как пример тех качеств неофита, которые противоречат миропониманию Дзэн с его оправданием абсурда и даже призывом к абсурду? Я не знаю, какова была первая беседа Хирогавы с мастером Дзэн, но думаю, что образ мышления моего гостя никак не совпадал со стилем его дзэнских учителей. Кажется, целью его было не столько уничтожать науку посредством Дзэн, сколько заставить Дзэн служить этой науке. Он продолжал свой рассказ. Вскоре он получил свои полтора квадратных метра в так называемом Дзэндо. Если в веселый весенний день вы попадете в монастырь Дзэн, вам покажется, что вы уже в раю. Тишина, только слышится мелодия, далекая и нежная, не то японская, не то джазовая… запах глициний, цветущие ветви каких-то плодовых деревьев, зеленые ковры лужаек, гладкие, но как бы неправильно положенные плиты камня для босых ног, разноцветные мхи, покрывающие выступы скалы и круглые крыши маленьких маяков вдоль тропинки, переходы по выгнутым мостикам или по галереям, сделанным из старых стволов, на которых как бы выдавлены орнаменты, столь же простые, как древнегреческие, и столь же не похожие на них — иной мир, иная душа, хотя и одинаково архаическая… Там журчит ручей, там трепещет водопадик, тут черный ворон вдруг подлетает и прыжками следует за вами, вероятно ожидая еды. Сквозь листву и могучие ветви, кажется, тысячелетних стволов вдруг видится нарядный фасадик храма, весь разграфленный коричневыми балками по белой штукатурке и с толстой соломенной крышей над ним — как коттедж Энн Хаттвейс в шекспировском Стратфорде-он-Эйвоне! Нет, совсем, совсем иная душа!.. Иногда в этом спокойствии шорох метлы, подметающей дорожку, звяканье серпа, подрезающего траву, — монахи совершают свой «подвиг труда». Тут все ухожено, все выращено, все обновлено… По этому раю и шел Хирогава начинать свой монашеский путь. В Дзэндо он долго лежал перед часовенкой-алтарем посредине зала. Потом ему было указано его место. Потом наступила ночь. Если это было в знаменитом Энкакудзи в Камакура, то тамошний Дзэндо — один из самых больших в Японии. Это зал более чем в двадцать метров в длину и около одиннадцати в ширину. Место, где монахи спят и совершают упражнения. Я бы сказал, Дзэндо — это казарма духа. Что может быть печальнее, непригляднее, неуютнее этой большой комнаты, которая ярко освещена единственной лампочкой, подвешенной к потолку? Вдоль длинных стен идут как бы дебаркадеры сантиметров на шестьдесят выше пола, как бывает в узбекских чайханах, на них — циновки, на циновках, укрытые футонами, спят монахи — как сардины в банке, по двадцать пять с каждой стороны. Утром они убирают футоны в стенные шкафы и после завтрака садятся на тех же местах, где и спали. В установленной позе и под руководством мастера они начинают размышлять. Время от времени устраиваются хождения гуськом вокруг зала, чтобы предупредить всякие нервные приступы, которые происходят от неподвижности и психических усилий. За спинами сидящих все время ходит один из наставников, вооруженный большой палкой: он бьет тех, кто сидит неправильно или начинает засыпать. Вообще палка — это единственное учебное пособие при изучении системы Дзэн. С ее помощью осуществляются те встряски, которые считаются необходимыми для того, чтобы в человеке произошло так называемое сатори, то есть озарение, когда вдруг ученик якобы начинает понимать весь мир. Никаких книг, рисунков, моделей Дзэн не признает. Палка — лучший инструмент воспитания. Обо всем этом мой гость мне не рассказывал. Он сказал, что во время одной из бесед с мастером Дзэн тот предложил ему думать о му. — А что такое му? — спросил я. — Му — это пустота. Надо было выучить сутру о пустоте и размышлять о ней непрестанно. — Не могли бы вы привести мне отрывок из этой сутры? Хирогава закрыл глаза и стал бормотать текст, как мы когда-то в гимназии готовились к экзамену по закону божию, зубря молитвы. — О Шарипутра! — бормотал Хирогава. — Здесь форма пуста, пустое есть форма; форма есть не что иное, как пустое; пустое есть не что иное, как форма; то, что есть форма, есть пустое; то, что пустое, есть форма… О Шарипутра! Все вещи здесь, внизу, имеют характер пустого: они не рождены, не уничтожены, они не запятнаны, они не создаются, и они не разрушаются. Отсюда следует, о Шарипутра, что в пустом нет более формы, нет ощущения, нет мысли… — Простите, — перебил я его, — это — большая сутра? — Да, это большая сутра. — И все в этом роде? — Конечно. — Что же было потом? Хирогава сказал, что мастер, предлагая думать над пустотой, предупредил, что ему придется бороться с сомнениями, которые обязательно должны накинуться на него, как только он начнет свою практику. Эти сомнения имеют такую силу, что некоторые не выдерживают и сходят с ума. Кроме того, первые дни прошли в мучительном привыкании к позе медитации. Тут гость мой вдруг сбросил туфли и в носках не первой чистоты и значительной дырявости взгромоздился на большой стол, стоявший посредине комнаты. Оттуда он и вел свой инструктивный монолог. — Спина должна быть совершенно прямой, — требовал он, — простираться от земли до неба. Все мускулы должны быть расслаблены. Ноги должны лежать пятками вверх, а это сначала бывает очень больно, так что ему даже разрешили сперва закладывать на колено только одну ступню. Большие пальцы рук следует направить вверх, к ноздрям. Глаза полузакрыты, смотреть вперед… — И долго надо пребывать в таком положении? — спросил я, проникаясь снисходительным сочувствием к Хирогаве. — Вначале не более десяти минут. Потом больше и больше… — Что же вы чувствовали после длительных упражнений? — Мне казалось, что все мои внутренности опускаются вниз, что я весь постепенно ухожу в землю… — А потом? Оказалось, что потом уже ничего не было, потому что началась война, его мобилизовали на переводческую работу… Словом, обучения он не кончил. Я подозреваю, что тут виновата не столько война, сколько он сам, — вероятно, человек безвольный и боящийся трудностей. Он объяснил мне, что заниматься с таким упорством, как та группа офицеров, с которой он начал практику, он не мог — не позволяло здоровье. — А офицеры? — спросил я. Хирогава улыбнулся. Он прочел мне еще один отрывок из сутры. Там было сказано: «В духе Бодисатвы, который существует на основании Прайны-Парамиты, исчезают все препятствия. И потому, что в нем нет более препятствий, о н н е и м е е т б о л е е с т р а х а». В этом и состояло, вероятно, задание офицеров: уметь побеждать страх. — Какую же пользу принесло это учение лично вам, Хирогава-сан? — спросил я, взирая снизу вверх на странную фигуру, возвышавшуюся на столе. — Я пришел к важному заключению. — Он поднял костистый палец к потолку и повысил голос: — Работающий мозг должен работать в пустоте. Пустота, му, есть условие настоящей научной работы. Ученый должен уметь освобождать свой мозг от любых посторонних препятствий. Никакие воспоминания, никакие желания, никакие страсти, никакие мечтания не должны мешать работе мозга. Всякая мысль должна мгновенно освобождаться от мусора, который засоряет наше мышление. Только тогда можно поднять умственный труд на какую-то новую ступень… Я даже уверен, что это будет новый шаг в истории развития мозга, как одного из органов человека[6]. В это время приоткрылась дверь и в ней появилась наша старенькая ама, она была у нас как бы сестра-хозяйка и относилась к нам с большой заботливостью. Мне показалось, что сейчас она вбежит в комнату и потребует, чтобы гость снял свой зад с нашего обеденного стола. Хирогава заметил аму и мое беспокойство. Неуклюже он сполз на пол и опять ввалился в кресло. — Именно это я и пришел сказать вам. Как марксист и дарвинист, я считаю долгом предложить марксистам возглавить движение за продолжение эволюции мозга. Человечество должно использовать опыт воспитания психики, выработанный сектой Дзэн много столетий тому назад. Ученики Ленина должны стать также учениками Дзэн. Он посмотрел на ручные часы, вынул из чемоданчика пластмассовую коробку и принялся за еду — было двенадцать часов. Я предложил ему позавтракать, и он согласился только на чашку горячего чая. Дальнейшая беседа как-то не клеилась. У меня возникло чувство, что гость мой человек со странностями и занят главным образом собой. Только собой он и был заинтересован. Мне же это не казалось интересным.
КИОТО: ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
После того, как Симонов провернул множество организационных мероприятий, а я успел принять душ, мы ввалились в вагон. Зеленый бархат кресел с откидными спинками, как в самолете. Жара. В креслах разные части человеческих тел — разваленные, разложенные, согнутые, вытянутые. Солдаты пьют, вскрывают разноцветные консервы, надевают и снимают разные элементы обмундирования и обувешивания, свистят и хохочут. Эти парни совсем мальчишки — то ли немцы, то ли датчане, то ли норвежцы… словом, американцы. Очень промытые, розовые, с чересчур надраенными щеками. С нами Елена Павловна — Леночка, трясогузка, у нее прическа, занимающая четверть ее роста, рыженькие, почти альбиносные реснички и носик, у которого курносость приставлена как будто искусственно… Она родилась в Харбине. Ее папа и ее мама умерли, она живет с бабушкой в Кобе. У них был хороший, совсем европейский дом в восемь комнат. Даже пианино было, она два года училась играть. Но все сгорело. Теперь они живут в развалинах, в одной комнате. «Но ничего, нам хватает. Потому что мы только двое». Тут она делает усилие и не плачет. — У вас бабушка злая? — Нет, она очень добрая. Только если я что-нибудь сделаю, она злая. О, тогда мне пролетает… очень. — Влетает очень? — О да! Влетает. А так она добрая, ничего. — Она по-английски вас ругает или по-русски? — Нет, что вы, конечно, по-русски. Она хохлушка. Она по-английски ни бе ни ме… Ну, так немножко по-японски, что надо бывает купить — или яйцо, или что другое… — Вам в Россию хочется? — О, конечно. Только я сначала хочу поехать в Америку. Я хочу поехать в Голливуд. — Сниматься? — Да, я хочу поиграть. У меня там знакомый есть. Он артист. Но только я еще письмо от него не получила. — А если он не пришлет? — Ой, нет, почему не пришлет? Он обещал… ведь. А если не пришлет, туда можно послать карточку, и если им понравится, они позовут. Она сидит в своем шиньоне, вытянув ножки, положив на колени белые пухлые ручки с малиновыми ногтями (стирает и готовит бабушка). Носик ее вытянут вверх и вперед. Губки намазаны под цвет ногтей. На шее жемчуг и прыщики. Симонов, привалившись к боковой подушке кресла, спит, и она вынимает из своего чемоданчика чистое полотенце и нежно подкладывает ему под щеку. Ее приучили быть заботливой. Около нее лежит апельсин. Она получила его от соседа-американца. Тот молча положил его перед ней, сел на свое место и, откинув назад спинку кресла, заснул с открытым ртом. Все заснули, а мне не удается. Я вижу — просыпается Симонов. Он открывает глаза и незаметно окидывает взглядом соседей. И я вижу: Муза Николаевна не спит. Она поглядывает на него и уже не таится. — Подиктуем? — спрашивает Муза шепотом. — Конечно, — говорит Симонов и обминает потеплее свой плед, а вернее — свое медвежешерстое пальтище. Я закрываю глаза, чтобы не мешать. Но разве тут помешаешь? Он смотрит на меня, видит, что я не сплю… Взмахивает рукой возле глаз, как бы отбрасывая все лишнее. — Мы едем в Киото, — начинает он. — Против меня сидит Агапов и с присущей ему наивностью делает вид, что спит… Агапов, несомненно, готовит очерк: он хитрый… Он решил вставить всем нам фитиль… Симонов тут же забывает обо мне и диктует записи сегодняшнего дня. Что ж, диктуй, старина! В истории поэзии это редчайший случай: не муза диктует поэту, а поэт — музе!Киото. Озеро Бива — красивейшее в Японии. По его перламутру — чаинки лодок. Над ним — лесистые горы. Там — монастыри Дзэн. Крестьяне в соломенных конусах на головах и соломенных макинтошах, как длинношерстные медведи, везут на тележках бочки с удобрением. Волы в сбруях тянут возы. На сбруях и на рогах разноцветные банты. Все шарахаются от «шевроле», шофер жует резину, у него на левой — золотые часы о пяти циферблатах, на правой — литой золотой цепной браслет. Ему пятьдесят, он даже не посмотрел на меня: «джапы», русские, филиппинцы — ему все равно. «Бивако-отель», превращенный в дворец отдыха американских оккупантов. Пурпурные драконы по черному лаку. Золотые капители на серых колоннах. Лира лифтов, струнно летающих вверх и вниз. Утро. Холл. Над креслами — только одна голова: седой полковник читает узкий карманный волюмчик. Я видел такое же издание: «Сенсационный адюльтер XIX века. Анна Каренина». Мальчишка-лейтенант, стройный, как кий, играет сам с собой на бильярде. В ночное дежурство им никто не сыграл, но завтра — могут. Продавщица пирожных возникла в своем стеклянно-лаковом киоске, сама фарфор и лак. Девушки в кимоно пробегают по коврам — они играют? Они убирают? — Хя? — Хя! — Хэ? — Нэ! На коромысле пронесли два ящичка с двухсотлетними соснами по полметра высотой каждая. Плеснула рыба в бассейне. Японский радиоблюз еле слышно льется из-за колонн вместе с запахом не то духов, не то буддийских благовоний… Вот бы отдохнуть!.. Но приходит Анри. Он француз. Он давно в Японии. Уже шесть лет он изучает чайную церемонию. Он считает, что ее можно изучать всю жизнь, достигая высшего совершенства. Он говорит, что высшего совершенства можно достигнуть, даже играя на барабане в театре Ноо, всего четыре тона, но и жизни не хватит, чтобы постичь всю сложность искусства этих четырех звуков. Что же говорить о флейте? О составлении букетов? О фехтовании? И особенно о чайной церемонии?! — Для европейского сознания важен прежде всего результат, — говорит Анри. — Для японца — сам процесс. Процесс постижения. Процесс достижения. Процесс приближения к идеалу. А если так, то сам идеал оказывается не главным. Во всяком случае, его содержание не так интересно, как путь к нему. Он одет небогато, этот Анри. Он, несомненно, знает о Японии очень много. Я был в его рабочей комнате: стекло, бетон, мебель в стиле Гропиуса… Записи в тетрадях, записи на фонопленке, фотографии, чертежи, рисунки, схемы… Он стремится постигнуть душу нации, а душа эта, по его мнению, совершенно иная, чем наша, европейская. Он свободно говорит и даже пишет по-японски. И готов мне помочь разобраться, хотя времени у нас с ним почти нет. И он утверждает, что для постижения японского духа «Тяною» — чайная церемония — лучший путь. Ну что ж! Раз путь, пойдем! Вход в «Коннити-ан» похож на описанный выше вход в монастырь Дзэн. Тот же полукруглый мостик через канаву, та же крыша над воротами, такая же калитка… Только тут не надо ждать. Анри дважды бьет в деревянный гонг, висящий у ворот, что обозначает, что нас двое, и я смело устремляюсь навстречу тайне. И сразу чувствую, что устремляться здесь не надо, что смелость тут ни при чем. Хотя сад невелик, он распланирован так, что кажется, — вы попали в лес. В разнообразии деревьев (более чем ста пород), кустарников, мхов нет цветения. Традиция утверждает, что великий Рикю (XVI век) приказал срезать в саду любые цветы, чтобы вся красота цветущей природы была сосредоточена лишь в одном-единственном цветке — в том, который должен присутствовать во время чайной церемонии. Ибо:
«В день, назначенный для принесения самого себя в жертву, Рикю пригласил к себе своих лучших учеников на последнюю чайную церемонию. В указанный час приглашенные встретились печально около портика. Они глядели вдоль аллеи сада, и им казалось, что деревья дрожат, и в шуме их листвы слышатся как бы вздохи бесприютных призраков. Ряд фонарей из серого камня напоминал фронт почетного караула перед входом в обитель вечного мрака… Но вот волна тонких благовоний донеслась до них из чайной комнаты: это был призыв, приглашавший войти. Один за другим они входят и занимают места. Они видят, что в токономе висит какемоно, на котором написаны прекрасные мысли одного старого отшельника о неизбежном исчезновении всего земного. Тонкий звук чайника, кипящего на углях, напоминает песенку сверчка, полную грусти, что лето проходит. Но вот появляется Учитель, и, как всегда, каждый получает свой болл с чаем и каждый в молчании вкушает приготовленный Учителем напиток, и Учитель — вслед за всеми. Потом, согласно обычаю, наиболее уважаемый из гостей просит позволения рассмотреть обстоятельно предметы, которые участвовали в церемонии. Рикю ставит перед гостями чашки, из которых они пили, чайницу тончайшей работы, кисточку для сбивания чая, ковшец для горячей воды и разворачивает на татами свиток какемоно с мыслями о неизбежности конца. Когда они выразили все душевное волнение, которое возбудил в них тонкий выбор всех этих предметов искусства, Рикю подносит их в дар гостям на память о себе. Для себя он оставляет только ту чашку, из которой пил сам. «Пусть никогда этот болл, которого коснулись уста несчастья, не послужит ни одному человеку!» — говорит учитель и разбивает его на тысячу кусков. Церемония окончена; приглашенные, с трудом сдерживая слезы, говорят Учителю последнее «прощай» и покидают комнату. По просьбе Рикю один из них, наиболее близкий и наиболее дорогой из всех, остается, он будет ассистентом при его кончине. Рикю снимает одежды Тяною, заботливо складывает их на циновке и возникает теперь уже в одежде смерти, в ее незапятнанной белизне. С печалью глядит он на сверкающее лезвие рокового ножа и обращает к нему строки стихов:Так кончается «Книга чая» Какудзо Окакура. Так началась история японской чайной церемонии — самоубийственной казнью и кровью. Я опасаюсь потворствовать своей склонности к постоянным отвлечениям от темы. Они милы мне, но могут раздражать иного читателя, привыкшего к регулярности еще со страниц учебников геометрии и грамматики. Но я хотел бы все же напомнить рассказ о другой казни, тоже посредством предписанного самоубийства. В произведении Платона «Федон» описаны последние часы Сократа. Ему предстоит выпить чашу яда, и перед смертью он беседует со своими любимыми учениками. Ощущение необъятности духовного мира Сократа — таково главное чувство, которое испытывает всякий читающий эти страницы. Величие человеческого духа на границе жизни так безгранично, что всякая театральность немыслима, всякая поза исключена. Торжествует предельная простота, прекрасное и наиболее трогательное спокойствие, проистекающее от глубинного понимания всего окружающего, спокойствие, восходящее до иронии, до полной естественности… Торжествует улыбка дружбы и человечности, без всякой мысли о том, как все это может выглядеть, как об этом могут судить, что об этом напишут или скажут. Ничто из известных человечеству средств облегчения не призвано на помощь: ритуальность отсутствует совершенно, никаких красивых слов, никаких специальных жестов! Это и есть красота человеческого духа, открытая греками, как ими же была открыта красота человеческого тела. Ни от Платона, ни от Какудзо Окакура мы не ждем документальной точности описаний. Их точность состоит в их искренности, каждый выражает характер своего народа и своего времени. Элементом открытой греками духовной красоты оказывается общение людей: для нашей культуры духовная красота невозможна без общности. Она есть нечто прямо противоположное одиночности, когда каждый замкнут на себя, — даже если один эгоист вынужденно пристегнут к другим эгоистам и они составляют стадо, стаю или, в высшем случае, когорту с иерархической структурой. Сократ у Платона есть образ не столько индивидуальной личности, сколько человечества. Для него истина есть цель существования, которой можно достигнуть только сообща, только вместе. К ней до́лжно идти без фраз, без ритуалов, без мистификаций, ибо всякие иллюзии противны истине. Перед этой идеей даже мысль о собственной жизни каждого отступает на второй план… А последние слова Сократа? Как известно, в Афинах было принято приносить в жертву богу врачевания Асклепию петуха, если больной выздоравливал. Сократ почувствовал, что онемение от яда уже подступает к сердцу. — Критон, — сказал он, — мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте. «Выздоровление от жизни» состоялось. Об этом грозном и страшном факте он не мог не сообщить друзьям, но он сообщил о нем без призвука патетики, в заботе об их сердцах, уже пораженных горем, скромно и даже с иронией возвращая их к делам обыденной и продолжающейся жизни. …В чайной комнате, где нас принимали, царил полумрак. Мы, то есть гости, были посажены на пол на подушки рядком: я, потом Анри, потом еще двое североевропейцев — молчаливых и белобрысых. Против нас, возле утопленной в пол жаровни, сидели под углом друг к другу два ближайших ученика главного учителя: помоложе, с загадочным лицом сфинкса — господин Симамура и старый господин Омада, оба в черных кимоно. Омада был глуховат и часто подносил ладонь к уху. Все время входили и выходили молодые женщины, одна другой красивее, в богатых кимоно, но причесанные по-европейски. Они приносили какие-то ритуальные сладости — круглые и ромбические, зеленые и коричневые — или курильницы с синим дымком для благовонного успокоения, или палочки угля, окрашенные в белый цвет, ибо даже уголь в чайной комнате, прежде чем обрести огненную красоту, должен быть приятен для глаз и в холодном состоянии! Предварительно нам объяснили, что разговоры во время церемонии не приняты и что только после последнего глотка можно и даже поощряется спросить, откуда посуда, как давно ее делали, кто мастер, и отозваться хорошо о чашках, о кисточке, о качестве чая… Вскоре глаза привыкли к полумраку, и я различил, что в комнате не было никаких украшений и она полностью отвечала буддийскому философскому понятию «пустоты», венцом которой был бледный маленький цветок горной лилии, стоявшей в токономе, и какие-то листья, нарисованные тушью на свитке бумаги, висевшем над цветком. Я уловил также ровный гул кипящей в чайнике воды, он напоминал шум дождя по соломе над маленькой хижиной в горах, и я ощутил, что и это молчание, и шум кипения, и малость бедной комнаты, и скромность лилии, единственного цветка, который я видел в «Коннити-ан», — все это некий спектакль или, вернее, действо, в котором я принимаю участие и которое я, по писательской своей профессии, должен как-то определить. И единственным словом, которое я мог подыскать, было слово о т ъ е д и н е н н о с т ь. Недаром тропинка запутывала мои следы, недаром иллюзорный лес обступал меня, не случайно был нарисован иероглиф, в смысл которого входило слово «прятаться», не напрасно тут не было никаких предметов, привязывающих к себе внимание, кроме бедного цветка и серых листьев на бумаге. Отъединенность! Все бывшие тут обязались не обижать друг друга, доверять один другому, и теперь каждый мог отдыхать от самого себя: военный — от готовности к смерти, коммерсант — от заботы о деньгах, один человек — от всех людей.С улыбкой на лице Рикю отошел в непознаваемое».Привет тебе,О меч вечности!Ты открываешь мне путьК Будде.
САД КАМНЕЙ
Я бродил по Киото. Мне удалось каким-то образом высвободиться из-под офицерской озабоченности американцев, обязанных меня подозревать, — вероятно, они хорошие, в сущности, люди, даже тот колонель с воспаленным ротовым отверстием и другой, в непрестанной готовности к чему-то… Несомненно, они ответственные отцы и стараются для семейств, — но без них мне куда легче. Они ни в чем не виноваты, они выполняют. Ну и бог с ними. Я бродил по Киото свободный. Конечно, я находился в напряжении. Я должен наблюдать, впитывать, разбираться, записывать: я — литератор. Как мешающую и демобилизующую, я гнал от себя мысль (впрочем, вполне справедливую), что нужны годы и специальные знания, чтобы как-то понять нацию и суть этого ее стариннейшего главного города. Я собирал книги, фотографии, рисунки, вел беседы, записывал, набрасывал и все время сверялся с календарем: сколько мне еще осталось? Успею ли хоть что-нибудь? Обрывки пятнадцати столетий… аристократы, феодалы, капиталисты… кусочки событий, капризы непонятных обычаев, иллюзии двух религий и десятков сект… чистые звуки поэзии и честные откровения живописи поверх всяких идеологических гарниров… и на все на это — сверхдавнее, давнее и недавнее — наложена сетка нынешнего, пахнущая кровью и спермой: драка за существование после многолетней и безрезультатной войны, кишение спекулянтов, хитрости офицерья, шахматные диверсии дипломатов и стратегов… Вторжение американства. Но в моих прогулках по Киото было и еще нечто. Оно принадлежало уже лично мне: вот я упал в Японию, она вокруг меня такая, как есть, не в описаниях и не в научных комментариях, а я такой же, как был два месяца тому назад, — усталый, весьма пожилой интеллигент российский, немало переживший и вдруг ввергнутый в быт и в прошлое совсем неведомых и абсолютно чужих людей. И невольно, неизбежно примеряю все к себе лично, персонально, фамильно… Мне бы шляться, покуривать, поглядывать на девушек, пить виски со льдом и кока-колой, любоваться, удивляться… Забросить карандаш. Никаких обязательств. Отдых. Когда тебе возле пятидесяти, разве нельзя иметь таких желаний? Я просил моих товарищей об этом: недельку безделья! Куда там! Они такие шибко деловые, у них каждая секунда на счету. Да я и сам понимаю: всю-то жизнь я только и делал, что впитывал, записывал и вдумывался. Вот разве лихости у меня не хватало, всегда опасался, что еще не все понял, и вороха заметок, горы материалов оставались втуне, вместо того чтобы тотчас превращаться в прелестные стихотвореньица, увлекательные романчики и в публицистику, приносящую немедленную пользу и окружающим, и, конечно, автору. Я бродил по Киото, а вспоминал Царское Село. Городок моего детства: тоже парки, пруды, аллеи, дворцы, аркады, памятники… И тоже — покинутость. Хотя в те времена там жили цари и на перекрестках стояли не черные городовые, а чины в серых офицерских шинелях, этот мир был как бы неживой и как бы оставленный. Как будто статуи, и галереи, и кариатиды, и фонтаны ждали чего-то, вспоминали кого-то. Екатерин? Николаев? Александров? Нет, потом уж я понял, что тут навек остались присутствовать Кваренги и Растрелли, Чевакинский и Старов — те, кто все это рисовал на бумаге, и тысячи безымянных — резчиков, лепщиков, орнаментистов, живописцев, ткачей, лаковых дел мастеров, претворявших нарисованное в камень, бронзу, ткани, лепнину, золоченую резьбу… От их искусства, их культуры зависели все красоты; и совершенство их было не меньшим, чем тут, в Киото… Что касается царей (а в Японии «тэнно»), то мне приходилось читать всякие их письма, размышления, мемуары, и, читая, я всегда вспоминал рассказ Гарина-Михайловского о его посещении Николая II (рассказ записан Горьким). Гарин, как инженер, был участником строительства Великого Сибирского пути и немало мог бы рассказать интересного для повелителя России. Но повелитель ничем не интересовался. — Это — провинциалы! — недоуменно пожимая плечами, говорил Гарин после приема во дворце. Именно провинциалами были и властители Японии, хотя жили они в самом центре центра империи. Творили же красоту города совсем другие люди. Тут происходило то, что в истории искусства являет собою на протяжении столетий путающую тайну. Заказчики и владельцы искусства — цари, богачи, главные начальники — вкусом своим не выше, чем Николай из гаринского рассказа, сами ничего не умевшие, требовали удовлетворения их спецнужд, а уж искусство, как элемент престижный, само собой разумелось. Например, в Царском Селе им понадобилась уединенная столовая, где в обжорстве и пьянстве можно было бы вытворять все, что угодно, без прислуги. Требование было выполнено проектировщиками, и я видел это устройство, будучи еще пятилетним мальчишкой. И, как мальчишка, я запомнил его навсегда: на четырехгранных железных штырях можно было подавать снизу в верхний едальный зал любые супники, тарелки и подносы — прямо на громадный срединный стол. Говорят, рядом с залом были даже подъемные канапе для подачи дам на второй этаж. Что касается Растрелли, то уж его худзадача состояла в том, чтобы сделать из этого убежища императорский «Эрмитаж» (что значит по-французски — отшельное местечко). И он действительно создал одно из лучших произведений архитектуры восемнадцатого века. За то ему и деньги плачены. В Киото было нечто вроде этого. Например, императорам или охранявшему их ведомству понадобилось усовершенствовать сыск. И вот проектировщикам дворца предлагается так построить царское жилье, чтобы из одного пункта можно было слышать все, что говорится и даже шепчется в любом помещении. По ночам же доски пола каким-то хитроумным способом включались на писк, и никто по всему огромному пространству императорской резиденции не мог пройти бесшумно.Много понаписано об этих местах — исторических, эстетических, туристических творений… В частности — о философском саде камней Рюан-дзи в храме Мирного Дракона. Этот сад тоже порождение Дзэн. Его создал в конце пятнадцатого века знаменитый архитектор, мастер садового искусства Соами, автор Серебряного павильона. Это — странное, но многозначительное явление. …Сняв обувь, я ступил на полированный черный пол высокой деревянной галереи. Одна ее сторона была стеной, а другая, не ограниченная ничем, кроме нескольких деревянных колонн, выходила в пустоту. В пустоте пребывал сад камней. Обведенный невысоким серым дувалом, из-за которого теснилась листва, сад был абсолютно неподвижен. Это — первое, что внедрилось в меня, едва я сел на пол и начал глядеть. Плоскость в 336 квадратных метров была покрыта белым крупнозернистым песком. По всей ее длине, строго параллельно краю галереи, шли четкие бороздки, проведенные граблями. Они расступались в пятнадцати местах, обтекая группы черных камней. На камнях, вернее, на маленьких скалах, лежали пятна солнечного света и лишайников. Там, где у подножий камней были пляжики, скупо бархатился мох — то розоватый, то серо-голубой. Но в общем цвет почти отсутствовал. Было впечатление, что схвачен и остановлен момент движения камней справа налево в некоей светлой среде. Когда-то я читал, что эта картина обозначает тигрицу (самая большая группа камней), которая переводит вброд своих тигрят. Мне показывали также фотографии прибрежных ландшафтов острова Хонсю, и там тоже посреди водной глади возвышались силуэты островов… Словом… — Анри, как вы думаете, что именно изображает этот сад? — Я думаю, что ничего. Давайте лучше сидеть и смотреть. Он снисходительно поглядел на меня. — Вы видите перед собой пятнадцать камней. А их — шестнадцать. Но откуда бы вы ни глядели, вы всегда будете видеть пятнадцать. Может быть, хотя бы эта загадка поможет вам найти предлог для размышлений? Анри злился на примитивность моего мышления и едва скрывал свое презрение. Мне на это было плевать. Я хотел только одного — уразуметь. За низким дувалом пенилась зелень. Она была вполне обыкновенной: нашего мира зелень, слегка шуршала, слегка качалась, то открывала, то закрывала перспективы своей глубины… Перед ней стоял серый дувал, и перед ним начиналось нечто совершенно другое. Как будто в нашем привычном мире вдруг возник п е р е р ы в. Возникла дыра в другие измерения. В мир без цвета, без звука, без движения, без времени… Даже без предметов. Конечно, камни чуть-чуть изменялись: двигалось солнце, двигались тени. Но это только подчеркивало, что форма камней не имеет никакого значения, что она — призрачна, что ее нет. «…О Шарипутра! Здесь форма пуста, и пустое есть форма… Все вещи здесь, внизу, имеют характер пустого, они не рождены, они не разрушаются…» Форма пуста. Формы нет. Что же есть? Есть темное на светлом. Или — светлое на темном. Есть приподнятое над плоским: есть разности высот. Есть последовательность элементов, как бы отмечающих нечто. Есть разнообразие. И его можно приводить к единству — как придет в голову; например: все камни идут по следу; или: все камни разбросались от какой-то первопричины; или: все камни случайны. Есть тяжкое и вечное безразличие материи. Есть возможность ее измерения. Возможность ее исчисления. И — полная ненужность того и другого. На фото прибрежных ландшафтов Хонсю я видел скалы и на них сосны. Сосны сразу показывали, что это море и каков масштаб. Здесь не было никаких подробностей, никакого масштаба, никаких мерок. Все было абстрактно. Категории количества, последовательности, цвета, сравнительных размеров, направления и любые другие, которые нам необходимы для познавания мира, здесь ощущались отдельно от предметов, ибо предметов, в сущности, почти не было. Нельзя себе представить в искусстве ничего более «сухого», менее телесного, ничего более беспредметного. Минимум средств: песок, камни, бороздки на песке. И ничего больше! У Мараини я прочел, что японцы открыли абстрактное искусство на несколько столетий раньше европейцев. Не думаю, чтобы это было так. Если первым абстракционистом в живописи был В. Кандинский с его мчащимися по диагонали разноцветными странностями, то существо его картин состояло в экспрессии, то есть в попытке передать собственное волнение. Соами, создавший сад камней, имел противоположную цель: он стремился освободить свое произведение от всякого подобия взволнованности. Наоборот, оно возникало как отрицание человеческих чувств. Оно стремилось стать нулем (му), пустотой, только возможностью для созерцания. Субъективным было не то, что выражено в картине песка и камней, а то, что может возникнуть в человеке при созерцании этой картины. Как совместить сад камней с военно-феодальным строем, в котором он возник, с постоянной грызней властителей, с кодексом Бусидо, идеалом которого был храбрый рубака? Ни книги, ни люди не могли ответить мне на этот вопрос. Сад камней бесконечно умнее пресловутого Бусидо, глубже, тоньше. Возможно, что одним из достоинств сада было то, что для некоторых он был п е р е р ы в о м в нашем обычном мире и погружал их в философские размышления, а для других он оказывался просто п е р е р ы в о м в драке. И тут, вероятно, возможны были разные степени перехода.
ПИР
Киото — творец и хранитель старинной идеологии Японии. Старинной? В том-то и дело, что нет. Действительно, культура эта рождалась в старину — за тысячу и до ста лет тому назад. Однако она была жива и в 1946 году. Может быть, кто-то решится утверждать, что она умерла через тридцать лет после войны? Я этого не думаю. Ее сохраняли бережно и ревниво — не в музеях, не как экзотику прошлого, а в повседневной жизни. Она жила в семьях простых людей, прочно сплетенная с множеством домашних обычаев, примет, предрассудков, преданий, связанная с ландшафтом — с горой, с сосной, с источником… Народные праздники, поднимающие тысячи людей на процессии, пляски, хоровое пение… Хитрецы, управлявшие страной, поощряли все эти традиции, искусно направляя их к представлениям о единственности Японии, о миссии народа, об избранности его, и стремились соединить воедино архаический обиход и военно-наступательный патриотизм. Это им удавалось. Старинная культура с ее утонченностью иероглифики, стихотворного искусства, древнейшего в мире театра, сложных ритуалов, вроде чайной церемонии или аранжировки цветов, служила, как духовное сокровище, и для интеллигенции. Люди культуры находили в ней, особенно в годы агрессий, утешение и прибежище. Здесь был своего рода духовный заповедник, где можно было не очень трепетать в ожидании кары за самостоятельное мышление… Наконец, исходя из тысячелетних мифов и культов, легче было оправдываться и перед собственной совестью, которая, вероятно, бунтовала при виде чудовищного произвола и беззакония военной власти. Из всего этого вовсе не следовало, что в Японии военных времен везде трещали барабаны, люди предавались шагистике и звуки команд и фашистских приветствий заглушали человеческую речь. В том-то и дело, что нет.Мы были в университете Отани, в одном из крупнейших центров буддистской науки в Японии и вообще в мире. Это большое каменное двухэтажное здание голландско-японского стиля, отлично оборудованное, с огромной библиотекой. В ней собрано все о буддизме, на всех языках мира, и я думаю, что это не меньше, чем все о физике. Здесь редактируются и издаются журналы, альманахи, фундаментальные монографии и пропагандистские брошюры, работают различные общества и группы, здесь учатся тысячи студентов… Любезные люди в кимоно и в пиджаках окружили нас, приветствовали нас, угощали нас чаем и готовы были ответить на любой наш вопрос с той степенью точности, которая была возможна при разговоре с иностранцами, да еще красными. Нас провели по этажу, где были расположены комнаты аспирантуры. …Радостная улыбка, как приглашение дружить всю жизнь. — Над чем вы трудитесь, коллега? Полная готовность посвятить день, неделю на полное разъяснение своей темы и собранных материалов. — Я работаю над биографией принца Тайси Сётоку… Он хватает ручку и пишет иероглифы, выражающие это имя. Он начинает доказывать, что именно этими знаками лучше всего изобразить имя священника. Анри благодарит его и берет меня под руку. С благостной улыбкой митрополита я выплываю из кельи, сопровождаемый нижайшими поклонами будущего профессора. — …Как подвигается ваш труд, коллега? — Я работаю над очень интересным открытием, сделанным не так давно. Как вам известно (поклон), в 1930-е годы было опубликовано сообщение профессора Пейпингского университета Ху-Ши о находке в пещере Тун-Хуанг новых, неизвестных ранее буддийских манускриптов. Недавно в той же пещере были обнаружены еще некоторые материалы, и профессор Судзуки отметил ряд несовпадений в изречениях Чен-Гуэя, относящихся, как вам известно (поклон), к седьмому или восьмому столетиям… Анри разыгрывает сцену подобострастной озабоченности моей занятостью. Он касается моего локтя. Он объясняет коллеге, что доктор (доктор — это я!) торопится на лекцию… и мы покидаем пещеру Тун-Хуанг. В третьей комнате очкастый бакалавр погружает нас в оттенки смыслов при сравнении непальских текстов профессора Хёкеи Идзуми с текстами Кембриджа, на что обратил внимание профессор Судзуки… Может быть, они смеялись надо мной, может быть, и впрямь принимали меня за доктора оккультных наук, но я вздохнул с облегчением, когда в одной из комнат меня познакомили с профессором Кавара, человеком уже немолодого возраста, и он, отложив в сторону французское издание Декарта и потягиваясь отнюдь не великосветски, сразу предложил мне выйти на свежий воздух. Тут подошло время обеда, и мы втроем оказались в японском ресторане, в отдельной большой комнате. …Профессор Кавара. Круглая, большая, лысая голова. Давно не бритое лицо, по-женски сшитый, бумазейно-мятый пиджачишко, брюки, как портьеры, с бахромой от изношенности, маленькие ручки не первой чистоты. (Впоследствии Кавара убеждал меня поменьше мыть руки, — по его мнению, от мытья они теряют свою естественную способность противостоять грязи.) Но самым главным в его облике была улыбка. Она происходила не от обязательной для японца вежливости, а от постоянно благостного расположения духа, от доверчивой симпатии к людям, от детской любви к общему. Эту улыбку видел я на портретах древних дзэнских монахов, — например, Кокуси Кандзана (1277—1360), который, стремясь освободиться от власти формы, от команды канонов, ушел в пастухи. Едва мы вошли, как появился хозяин ресторана, элегантный, в кимоно из темного тяжелого шелка с маленькими белыми гербами возле плеч, с очень юным и каким-то академически-спокойным лицом человек, которого Кавара представил не только как великого гурмана, но и как ученого филолога и искусствоведа. Извинившись, оба японца и Анри принялись обсуждать меню, причем я видел, что главным в этом разговоре оставалось мнение хозяина. Потом мы все уселись на подушки, крытые шелком фабрики Кавасима, известной далеко за пределами Киото, просунули ноги под стол высотой в сорок сантиметров, чернолаковый шедевр фабрики Нисимура, известной далеко за пределами Киото, и нам сразу стало очень хорошо, потому что под столом действовала электрогрелка и мы только сейчас почувствовали, что на улице, да и в ресторане было холодновато. Появились официанты, преимущественно девушки, и в течение нескольких минут на столе оказалось множество всяких блюд, маленькие фарфоровые кувшинчики с сакэ, издававшие при наливании мелодичный свист, бумажные салфетки, деревянные палочки вместо вилок и ножей… И мы приступили к еде. Обед, как сказал нам великий гурман, был эллиптический, то есть он имел два центра — улиточный суп и сукияки. На длинном подносе были принесены большие спирально-конические раковины. Зазубренный черный гребень с острыми рогами вился по ним от острия конуса до раструба. Из раструба ножом надо было убрать заглушку, сделанную из чего-то вроде цемента, и тогда вам в лицо раковина пускала горячий пар такого призывного аромата, что надо было немедленно отложить любые проблемы и разговоры на потом, а сейчас как можно скорее устремить алчущие губы к краю этого посейдонова супника и сделать первый глоток; дальше уже нельзя было оторваться. Мне стало ясно, что, испробовав сей супус впервые в возрасте сорока семи лет, я провел предшествующие сорок семь лет буднично и малокультурно. Когда я положил на поднос пустую раковину и она блеснула полированным нутром, розовым, как ушко фарфоровой красавицы, я увидел улыбку Кавары. Теперь она уже принадлежала не только ему. Несомненно, она была отражением нашего общего удовольствия. Я решился спросить, из чего был сварен спиральный бульон. Оказалось, что в нем не было ничего, кроме той улитки, которая сделала себе и нам эту раковину, плюс некоторые овощи и травы по особому реестру, которые засовывались в раструб перед тем, как его запечатать. Я спросил: — А соль? — Чем больше соли, тем меньше истины, — высказался Кавара. — Применяя это положение к гастрономии, — сказал хозяин, — надо утвердить, что соль, как и сахар, отбивает истинный аромат. Вы можете использовать природные кислоты, естественные горечи и даже ароматы, но только очень искусный мастер имеет право дозировать соль. В улитке достаточно минеральных веществ, ровно столько, чтобы мы были счастливы. — Ведь улитка — это море! — заключил Анри. Я видел, как переглянулись Кавара и хозяин при этих словах. Заключение Анри было, казалось бы, верно, однако я оценил мгновенную критику японцев. Во-первых, слова Анри были ошибочны даже с обычной европейской точки зрения: можно представить себе морской организм, не пропускающий в себя соль. А во-вторых, — и это главное, — обобщение Анри находилось ниже уровня, свойственного Каваре. Оно было тривиально, хотя и не лишено журналистской броскости. Конечно, мы причастились морю, но, в сущности, мы просто вернулись на какие-то минуты в благостный круговорот природы, для участия в котором мы так отлично приспособлены. Вот почему мы были счастливы. Счастливы без слов. Мой этнографический вопрос о соли был нетактичным. Афоризм Кавары об истине перевел его в область иронии, между тем как слова Анри возвращали разговор к разумным обобщениям, достойным государственного деятеля, но не философа Дзэн. К счастью, именно в это время начался второй акт обеда. Посреди стола появился круглый сосуд с пышущими углями, на него была поставлена большая сковорода, и тотчас возле хозяина возникло нечто привлекшее сразу все взоры. Это был очень большой щит, сплетенный из желтой соломы и поставленный наклонно, как картина на мольберт. Щит был разделен невысокими переборками на отсеки. Внизу значительное место занимали тонко нарезанные ломтики багрово-красного мяса. Выше начинались ячейки трав, корнеплодов, водорослей, салатов, луковиц… зеленых, кремовых, серо-голубых, красных, желтых… Это был источник излучений проникающей частоты. — На что это похоже?! — воскликнул Кавара, исполненный восторга. — Ваша концепция, Акапофу-сан? — обратился он ко мне. Боясь брякнуть что-нибудь невпопад и нарушить поэзию обеда, я сказал: — Это — палитра чревоугодия. Теперь все зависит от художника. — Хип-ура! — вскричал Кавара. — Отличная метафора, уходящая в бесконечность! Что думает Анри-сан? — Это — харакири природы, — сказал Анри. Кавара зашелся хохотом. — Ваш образ ярок, но век его краток. Попробуйте продолжить эту метафору, и вы потеряете аппетит! — А что предложите вы сами, господин профессор? — скептически улыбнулся Анри. — Это — кармы, — сказал профессор, ставший вдруг серьезным. — Кармы, готовые воплотиться в новые существа. И мы поможем им в столь важном деле! А что думаете вы, мастер? Хозяин был непроницаемо внимателен. Он сказал: — Это — самые свежие продукты, которые можно сейчас найти в Японии. — А еще говорят, что нет абсолютных истин! — ударил по столу кулаком Кавара. — Вот она, абсолютная и очевидная истина в стиле Дзэн! Мастер, мы ждем акта творения! С нежным свистом пошло сакэ из белых кувшинчиков в золотые рюмочки, украшенные изнутри стихами, сковорода защелкала, а овощи на ней запели, и хищные клювы палочек хаси стали хватать ломтики мяса и бросать их на сковороду, овеваемую легким и ароматическим дымком. Если бы вы захотели выиграть пари, что съедите за один присест три килограмма мяса, не опасайтесь, вы выиграете, стоит вам поставить условием, что это будут сукияки, да еще в изготовлении такого мастера, как друг профессора Кавара. На сковороде лоснился и морщился овощной сок, в нем трещали, брызгали и пахли полоски мяса, каждый из нашего квартета палочками хватал полоску, обмакивал ее в соевый соус, отправлял в рот и ждал, жалея проглотить, — так это было вкусно, так необходимо душе! Это было нечто большее, чем гурманство и чревоугодие. Казалось, тут возникало то, чего мне не удалось почувствовать во время чайной церемонии. Мы сообща отбросили всякие мирские заботы, всякие светские желания, мы — как нам казалось — были способны только на самые высокие идеи, выражать которые словами было совсем не обязательно, поскольку без слов они выглядели наиболее убедительно. Потом мы отдыхали. Мы обсуждали свойства вина и свойства чая. Хозяин, подняв брови и опустив глаза, снисходительно утверждал, что вино — символ христианства, экстаз, вознесение, переполненность духа. Его предел — детскость. А чай — наоборот: он опустошает душу, освобождает ее для главного. Чай — символ буддизма. Его предел — свобода от мысли и чувства. Вот как разбирался этот повар в пище! Мы умолкали надолго, потом мы читали стихи — по-японски, по-французски и по-русски, а также на странно звучавших языках Индонезии, их знатоком оказался наш хозяин. Мы курили великолепную «Герцеговину-Флор», табак которой, свободный от всяких духов и кумарина, пришелся очень в масть натуральности обеда. Мы курили и сбрасывали пепел в бедную пепельницу, стоявшую возле жаровни. Это была черная снаружи посудинка в виде сжатой с двух сторон пиалы из толстой и грубой глины. Несмотря на пупырчатость ее поверхности, на подпалины, как бы намазанные черной икрой, на неправильность формы, на полное отсутствие всяких украшений, если не считать неровной бороздки вдоль верхнего края, несмотря на трещины и мелкие кратеры, посудинка чем-то заявляла о себе. Я не мог противиться искушению, подвинул курильщикам изящное блюдце клуазоне с белым лотосом на голубом эмалевом поле, высыпал из глиняной пепельницы окурки и пепел в хибачи и принялся знакомиться со старушкой. Она удобно легла мне в ладонь. Оказалось, что вдавленности ее стенок были сделаны как бы моей рукой, захотевшей, чтобы ее удобнее и даже уютнее было брать. Один ее бочок так и подыгрывал большому пальцу правой, а другой был приспособлен для захвата остальными четырьмя. Можно было представить себе деревенского гончара, человека, не обученного изяществам, но знающего, зачем он эту чашку делал, а также тех, кто будет ею пользоваться. И он хотел им угодить, как себе самому. А зачем он ее делал? Вся чашка слегка изгибалась влево, и там, где изгиб выходил наружу, я увидел носик. Он был пришлепнут к борту немного ниже верхнего края, а потом гончар взял палочку и проткнул бортик, чтобы через эту дырку дать выход жидкости? А может быть… Я провел большим и указательным пальцами вдоль бортов к носику, пальцы не только следовали закраинам чашки, но как бы сами их формовали, они сошлись у носика и проследовали немного дальше в жесте любителя скульптуры — изящно и четко. В этом двуперстии я как бы держал красивый чертеж этой грубой вещи. Я взглянул на Кавару и увидел не только его улыбку, но и влюбленный взгляд, следивший за моими исследованиями. Конечно, в них принимали участие сакэ, и улиточный бальзам, и животворящие ломтики сукияки? Но разве это плохо? И тут я невольно спросил себя: зачем над носиком оставлена эта перемычка? Фитилек! Вокруг нее надо было обвить фитилек, чтобы он не сползал в масло, налитое в чашку. Конец фитилька высовывался из носика и горел золотым пламенем. Вероятно, это было очень давно… Кавара смотрел на меня с детским любопытством. Он был разомлевший, как ребенок, которого ласкает материнская рука. — Это не пепельница, — сказал я Каваре. — Тебе это нравится? — спросил Кавара, переходя на «ты». — Я вижу, ты начинаешь понимать. — Это светильник, — сказал я. Он погладил меня по рукаву. — Возможно. Это — ваби-саби. Так сказать, неотесанность. Предмет без претензий. Он удобен, как жизнь без притворства. Как жизнь без вещей. Надо научиться любить нищету. Я и не заметил, как исчез архаический светильник со стола. Когда же, счастливые, успокоенные и приобщенные к планете, мы прощались с хозяином и я не уставал еще и еще раз согнуться под прямым углом, еще и еще раз пуститься в причмокивания и пришептывания всяких добрых слов, хозяин передал мне аккуратно завязанный шелковой тесьмой ящичек. Дома я увидел в нем светильник. «Вы его открыли, вам он и принадлежит», — было написано на шелково-бумажной ленте, его обвивавшей.
Вечером наш высокообразованный переводчик читал мне по-русски выдержки из сочинений профессора Кавары. Профессор писал книги в выражениях выспренних и туманных. В них было много добрых пожеланий — о том, чтобы все стали честны, все забыли об эгоизме, чтобы давние идеалы храбрости, справедливости, скромности, душевной чистоты, созданные Конфуцием и Толстым, синтоистами и Ницше, Лао-Цзы и Моисеем, наконец объединились в гармоничной душе Нового человека, коего профессор именовал «Окс-ориентом», то есть «Западо-востоком». Как и все последователи Дзэн, он был уверен, что мир плох и от него надо п р я т а т ь с я, о чем и возвещали иероглифы возле трехсотлетнего домика в «Коннити-ан». Другой генеральной идеей Кавары оставалось самоусовершенствование. Он был уверен, что решением всех проблем была бы международная чайная церемония президентов, королей, руководителей партий и философов, проводимая ежегодно для полного взаимопонимания и для всеобщего мира. Но для этого надо создать народы, достойные этих встреч! А это значит, что каждый должен воспитывать себя и сознательно готовить себя к созданию совершенного общества. Я слушал, я все понимал, даже больше — я все как бы и раньше читал где-то. И мне виделся стальной взгляд сквозь сигарный дым. Кто-то кивал этой милой Каваровой ахинее — кивал поощрительно и деловито.
СУМИЭ
Профессор Кавара жил в узкой деревянной улочке старого Киото. В первом этаже утлой постройки под низким потолком было угарно, запах рыбы мешался с запахом серы и резины, и какие-то парни в брезентовых передниках, надетых на голые торсы, чинили велосипеды, вулканизировали камеры, что-то красили, полировали и клеили на скорую руку — после армии надо было как-то зарабатывать на жизнь… Профессор жил наверху. К нему вела узкая, в полметра шириной очень крутая лестница, как бы стремянка из черных от старости досок. В его комнатентке главное место занимали стеллажи, на которых лежало все его имущество, и прежде всего картины. Кавара преподавал философию и писал книги, однако основой его жизни была коллекция картин, которой он отдавал все заработки и все свободные часы. Он нисколько не был смущен перед гостями ни нищетой, ни беспорядком в его деревянной пещерке. Тут царили сырой холод и скверный запах. В углу стояли бочковидные доспехи из лакированной кожи со стальными нашлепками на груди в виде иероглифов, означающих «счастье». Усики-рожки устрашающе торчали над шлемом, бахрома из костяных шариков висела внизу, шелковые канаты были завязаны узлами над животом… Хотя все это представляло собою чудо гармоничности и изящества по сравнению с доспехами нынешнего хоккейного вратаря, но все-таки имело противный вид. Заметив, что я рассматриваю сей убойный наряд, Кавара вытянул из ножен один из мечей, лежавших тут же, и предложил мне попробовать лезвие. — Только чуть-чуть коснитесь пальцем, очень осторожно, — сказал он. Я коснулся. Да, несомненно, рассказ об испытании мечей не был басней: меч ставится в быструю реку, и опавшие листья, которые она несет, наплывая на меч, разрезаются им надвое. Казалось, нажми я хоть еле-еле — и палец был бы отрезан. — Это мой брат любит оружие, — сказал Кавара. — Мы из старого рода самураев, и он остался верен родовому презрению к науке. Но я хочу показать вам мои картины. Было видно, что ему не терпится. Он устроил меня на просиженной подушке на полу, сам примостился рядом и принялся за ящички, которых уложил около себя целую поленницу. Ящички были из очень слоистого и пахучего дерева, с небрежно намазанными на них иероглифами и содержали свитки, обвернутые дорогим гобеленовым шелком. Длина каждого свитка была около ста восьмидесяти пяти сантиметров, но из них только около метра занимала собственно картина, остальное — снизу и сверху — составляла бумага, похожая на шелк, одноцветная, с золотым тиснением вместо рамы. Ширина свитков была не более сорока сантиметров, так что высота рисунка почти втрое превышала ширину. Своими маленькими широкими ручками Кавара вынимал свиток из ящичка, снимал с него шелковый футляр и зацеплял шкурок, прибитый к верхнему ролику, за гвоздик в стеллаже. Потом отнимал пальцы, и картина развертывалась сверху вниз с еле слышным грохотом бумаги. Кавара бросался на свою подушку, и мы начинали вглядываться. Мы оба одинаково плохо говорили по-французски, поэтому, во-первых, понимали друг друга без особого труда и, во-вторых, были немногословны. Японская живопись широко известна, о ней написано много ученых трудов и туристических капризов, так что иногда вас почти убеждают, будто и весь европейский импрессионизм вышел из японцев, но тут я не об этом. Кавара был особенным коллекционером. От отдавался какому-то экстазу, глядя на свои сокровища. Он ежился, покачивался в такт неслышимому ритму, как бы внутренне танцевал, замирал в восторге, потом перебивал себя внезапным прыжком к картине и судорожно сматывал ее в ролик, как бы считая невыносимым длить созерцание. Он все порывалсяобъяснить мне что-то, но у него не хватало слов или волнение не позволяло ему сосредоточить мысль. Хотя все это было утомительно, я начинал понимать, что искусство может оказывать физическое воздействие на людей, что иногда (или для некоторых) оно значит больше, чем факты жизни. Для меня становилось возможным утверждение, что в Японии искусство может формировать поведение людей, заменять им науку, деятельность, семью, мировоззрение… Уж не было ли оно единственным прибежищем людей в периоды феодальных драк? Может быть, и слово «п р я т а т ь с я» сопровождало чайную церемонию потому, что это богослужение без божества тоже было искусством и оно уводило испуганные кровью и страданиями души в обитель иллюзий эстетического наслаждения? Там, в искусстве, человек обретал устойчивость против страшного мира непрестанных опасностей и калечеств… Отвратительную реальность там одевал он в волшебные одежды красоты. А сам и не замечал, как становился безразличен к стонам и слезам других и мог даже кичиться своей духовной неуязвимостью. Тут, между прочим, возникает еще одна мысль, которая, может быть, помогла бы разобраться в тайне. Мысль об аристократизме. Самурайство, как и Дзэн, дает своим адептам чувство превосходства над теми, кто к ним не принадлежит. Люди, для которых не должен существовать страх смерти, видят себя особой расой — расой избранных. Именно такими были военные в эпоху феодализма, вероятно, Кавара-старший таким и остался до наших дней, пусть он и живет в комнатушке над мастерской: его мечи и его доспехи остались с ним, как и его мировоззрение. Сам же он оказался за флагом во времена империализма. Продолжением военных поколений выдвинулись другие люди, многие из них воспитывались если и не в заграничных офицерских академиях, то, во всяком случае, у себя в Японии изучали последнее слово так называемого «военного искусства». Однако воинский дух самурайства был сохранен как духовные дрожжи армии. Кавара-младший, по-видимому, оказался потомком иных групп феодализма, а именно — художников. Они создавали искусство Дзэн, они были носителями этой странной, но очень стойкой и завершенной идеологии, которой оказалась проникнута вся японская культура. Он утратил, пожалуй, мистическую, религиозную подоплеку дзэнизма и вместе с тем приблизился к тому облику человека, который в чем-то близок Платону Каратаеву из «Воины и мира». Он воспитал в себе духовную независимость и внутреннюю устойчивость, каковы бы ни были внешние обстоятельства жизни. Он жил, как хотел, не боясь ни окрика, ни бедности, с улыбкой глядя на тех, кто ангажировался для выполнения правительственных приказаний. Улыбка была его оружием, картины и книги — его прибежищем. Он абсолютно не интересовался ни славой, ни положением. Может быть, во мне он вообразил похожие черты и потому был так ко мне расположен. Он вообще был склонен преувеличивать свои провидческие способности, и это чуть было не привело к ссоре между нами. — В Японии, — сказал Кавара, — не принято наполнять жилище искусством. Комната — это не музей, это только му, то есть пустота. Она — как бы сцена для жизни. Только стены, пол и потолок. Каждую минуту я могу сделать ее выражением новой мысли. Сегодня еще зима, а я люблю осень и хочу приобщить моих друзей к этой любви… Он говорил тихо, любуясь своими словами. «Сцена», на которой он сейчас выступал, была захламлена всяким барахлом, но он приглашал меня забыть об этом. — В начале осени, когда так часты дожди, — говорил он, как бы читая наизусть, — возникает соответствие природы и моей души. Мир вокруг становится воплощением Великого Одиночества. Ветер уже сорвал листву с деревьев, ручьи успокаиваются и становятся прозрачнее, общение птиц, цветов и облаков прекращается, человек остается наедине с самим собой… Одинокий путешественник в этой Вселенной, я начинаю думать о моем предназначении… Тут Кавара вынул из ящичка свиток и повесил его на гвоздик передо мной. Это был вертикальный пейзаж, черно-белый — только тушь и бумага. На нем громоздились грозные скалы, обведенные ломаными зигзагами туши. На переднем плане нахохлившаяся пичуга мерзла на голой ветке. А где-то внизу, на непомерной глубине, возле реки, сидел человечек в позе созерцания. И огромная белая пустота туманом стояла над миром. Я смотрел на картину то с моей подушки, то с берега реки, у которой я сидел в позе созерцания, то с голой ветки — глазами продрогшей птицы, — и осень входила в меня. Вероятно, я не мог скрыть этого удивительного чувства перемещения в мир картины. Кавара смотрел на меня и, как тогда, в ресторане, переходя на «ты», сказал: — Я вижу, ты понимаешь. Возможно, ты никогда не напишешь ничего своего собственного, но не свое ты понимаешь замечательно! Я сразу очнулся. Он попал в самое мое больное место — жестокий и проницательный азиат! — Я предпочел бы наоборот! — Пробурчал я злобно, готовый тотчас же встать и уйти. — Подожди сердиться, — сказал Кавара родительским тоном, — управляй своими страстями. Мы говорим об очень важном, а не о тебе. Я подобрал бы скромный увядающий цветок для токономы и посуду для чая — не тонкую, какую подбирают для летних месяцев, и не толстую, как для зимы… Ты понимаешь? И написал бы стихи, чтобы гости читали, как, например, у Басе:«…Если на первых шагах танца приходят мысли, то, чтобы от них избавиться, я вспоминаю какую-то фразу и… начинаю в ритм музыки твердить эти слова, пока не собью себя с мыслей… …И бывает другой вариант. Выдохнешь на старте и с этим последним выдохом прогонишь все постороннее. Зрители — какая-то общая масса… Судьи — вообще их нет… Н и о д н о й м ы с л и — н и о д н о й, н и о д н о й, н и о д н о й. Только внутри музыка. И чувствуешь свое тело, его радость… Я не вижу партнера, не вижу, я и он в танце — одно целое… И когда танец кончен, последний аккорд, ты ничего не видишь и не слышишь, и откуда-то издалека гулом наплывают аплодисменты… Ты возвращаешься в мир, садишься в реверансе и чувствуешь, что нет сил встать…»А вот слова японского мастера сумиэ:
«…Чуть только кисть коснется бумаги, я перестаю дышать, мозг мой освобождается от всех мыслей, мышцы руки напрягаются, как при физическом усилии. Я не чувствую ничего, кроме линии, до тех пор, пока линия не кончается, пока кисть не отрывается от бумаги. Тогда я вздыхаю свободно и вспоминаю, кто я такой».Есть ли что-либо удивительное в том, что творческим людям Запада и Востока знакомы одинаковые ощущения? Нельзя представить себе идею, более вредную и более нелепую, нежели та, которая в свое время была выражена в словах: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут». Десятки десятилетий идеологи той и другой стороны на разные лады стремились доказать правоту этого положения. Оно было выгодно по многим причинам: оно излучало таинственность, романтизм по всему спектру, от мистики до военного собачества, оно оправдывало сволочное отношение европейцев к азийцам и наоборот, оно было пикантнее, а значит, и прибыльнее для самих идеологов, то есть для поэтов, художников, философов и так далее; по сравнению с ним представление о дружбе народов казалось просто преснятиной. На частном примере сумиэ можно видеть, насколько обязательны аналоги в культурах Востока и Запада, насколько раздуты и надуманны так называемые «несовместимости». Эскиз, набросок — необходимый элемент всякого живописного творчества всех художников Запада. И часто приходилось читать и слышать, что этюд боится переделок, что эскиз любит внезапность… Да мало ли что бывает в творчестве художника? Я помню рассказ знаменитого Хуана Миро о том, как создавал он свои керамические панно для Дома ЮНЕСКО в Париже. «Трудность, — говорил Миро, — заключалась также и в больших размерах той поверхности, которую я должен был расписать. Некоторые фигуры и линии нужно было наносить одним движением, чтобы сохранить их динамичность и порыв. Одна моя ошибка могла погубить труды многих месяцев…» Владимир Орлов в одном из своих лучших эссе рассказывает о творчестве замечательного мастера микроминиатюры Н. С. Сядристого. Пример работы Сядристого: на торцовом срезе человеческого волоса лежат, как на столе, два замка, запирающиеся ключами. По своему объему замки в пятьдесят тысяч раз меньше булавочной головки! В подобной работе, пишет В. И. Орлов, «осмотрительно-медлительные движения опасны — их собьет помеха, тут важнее фехтовальное (! — Б. А.) проворство, находчивость и безапелляционность действий…». Да, в работе над разными материалами могут быть необходимости быстрого, даже стремительного действия. Но в сумиэ силен и еще один момент: бессознательное. Ему, и только ему, предлагается доверять. Когда-то Шопенгауэр писал, что наибольшей силой должны обладать те творения искусства, в которых проявили себя импровизация, мгновенное озарение, экспромтность. Многие мастера джаза стремились добиться свободы в импровизации, нынешние танцы без правил тоже основаны на этом… Однако, вероятно, нет более фундаментального искусства бессознательного, нежели сумиэ. Его произведения живут века. Уже потеряв свежесть, покрытые морщинами старости, они до сих пор действуют на смотрящего, побуждая его к сотворчеству с художниками, которые умерли триста и более лет тому назад. Но может ли сумиэ вместить все безграничное разнообразие видимой природы — с ее красками, полутонами, далями, подробностями, может ли распознать человека, его сложный внутренний мир, его судьбу, наконец — его будущее? Сумиэ и не ставит подобных задач! Это искусство не хочет подменять природу или имитировать людей. Цель сумиэ — выразить дух художника, движения его души. А как же мир? — Поднимите вверх палец, и вот весь мир — вокруг него, — говорил мне Кавара. — Вся вселенная. Ваш палец разве не элемент мира? Одна травинка, изображенная художником, может сказать о природе больше, чем тысяча ее фотографических изображений… Так сопротивлялся Кавара моим наскокам. — В сумиэ, — говорил Кавара, — художник оставляет мгновенное движение своей души, и это есть высшая правда. Она отражает подлинную жизнь Дзэн, то есть жизнь человека, душа которого не замусорена всякой чепухой, как моя душа или ваша душа… Я не обиделся на Кавару за «мусор». В конце концов, ведь правда, что мусора во мне очень много. Я бы и сам был рад отделаться от разной чепухи внутри себя. Возможно, что Кавара хотел помочь мне в этом. Большое ему спасибо. Он помог мне что-то разобрать в неясных впечатлениях туриста.
СТРЕЛА И МЕЧ
Вот, наконец, и знаменитый Гинкаку-дзи — «Серебряный павильон». Предмет восторга искусствоведов, творение великого Соами, он стоит на опушке зелени над своим отражением в воде пруда. Он двухэтажный, с двумя крышами, одна над другой, как это бывает у пагод. В верхнем этаже — три арочных китайских окна по фасаду, нижний построен по японской системе раздвижных стенок, вертикальных стоек, горизонтальных балок и белой штукатурки, которая прямоугольно обрисована деревянными рамами. Обе крыши далеко вынесены от стен, — верхняя по углам загнута вверх, нижняя слегка провисает посредине. Заброшенность, скудость и тайну ушедшей жизни являет собой этот храмик. Когда-то он проектировался под серебряную облицовку, но так и не получил этого лунного панциря, остался беззащитным против непогоды и солнца, дряхлел и теперь стал таким старичком, что на второй этаж даже не пускают. От задуманной Соами лунности пейзажа осталась только куча белой гальки недалеко от входа. Она имеет форму широкого конуса и при японском умении воображать великое в малом может показаться горой Фудзи на берегу морском, когда она освещена луной. С романтическим волнением рассказывал мне Анри о временах Иосимасы Асикага, который, передав бразды правления своему сыну, удалился от дел и создал вокруг себя изысканный круг людей искусства, занимавшихся утончением культуры. Это был тот самый период, когда вследствие грабительского произвола властей и небывалой нищеты народа население Киото сократилось с миллиона человек до сорока тысяч, а пожары, междоусобия и эпидемии погубили город, так что оставшиеся жители ютились в наскоро сбитых сараях. Некогда рыцари самурайства обвиняли аристократов Хэйана в том, что императорский двор потерял мужественность и предался женской утонченности. Но едва рыцари захватили власть, они тотчас выделили из себя верхушку, состоявшую из снобов, перед которыми аристократы императорского двора оказывались мальчишками. Тут писались стихи, сложные, как секретный шифр, так что наивная Сэй Сёнагон ничего не поняла бы в них, тут устраивались конкурсы распознавания запахов, обсуждались значения и намеки в оттенках одной ноты на флейте, разрабатывались методы наилучшего любования цветущей вишней… — Дорогой Анри-сан, а вы не находите, что все это имело характер величайшего свинства, поскольку было возможно только благодаря дикому насилию властей над простыми людьми? — Ах, — сказал Анри с досадой, — разве это не всеобщий закон истории? Разве не то же было в Греции, в Риме, в эпоху средних веков? Учтите же, что именно тот стиль искусства и тот характер духовной жизни, которые мы зовем подлинно японскими, которые покорили западный мир и оказали на него такое громадное влияние, — возникли как раз в это голодное и кровавое время. В такие эпохи трагизм существования отцеживает все гениальное и поднимает его на высоту Истории, а страдания людей забываются и исчезают. Мать не помнит о родовых муках. Картины, которыми вы любовались у Кавары, — это порождение того же века! — А вы уверены, что без ваших Асикага японцы не создали бы этих картин, этих стихов, этой архитектуры? — Я не знаю, что могло бы или не могло бы быть! Этого никто не знает. Я знаю только то, что было. И я хожу по этим тропинкам с благодарностью к Иосимасе, который так любил прекрасное! — А я хожу по тутошним тропинкам с горечью и страхом, я помню о крови, тут пролитой… Чем я лучше всех тех, что были тут замучены? Эти стоны я слышу и сейчас. — Японцы не стонут. Они умеют переносить с улыбкой любое страдание. Японский патриотизм Анри меня всегда забавлял. Почему-то он был патриотом всегда только к искусству и никогда к народу. Это был чисто книжный патриотизм, и я не мог не улыбаться, слушая его рацеи… Старичок павильон темнел среди листвы и воды, как будто он только что вышел из чащи и в удивлении остановился. Он был красив даже в дряхлости своей. Но, кажется, я физически ощущал, что дни его сочтены. И не потому, что он может развалиться от старости — его можно восстановить, — а потому, что история все же движется и движение это можно искусственно задержать, но прекратить — никогда. Доблести прошлого становятся смешными новым поколениям. Они исчезают, превращаются из мифа в сказку, покрываются трещинами, как деревянные балки, долго мучимые дождями и солнцем… Тут и произошло мое знакомство с настоятелем храма Дзэн. Среди японцев мне часто случалось встречать людей, резко отличавшихся своей внешностью от большинства. Они были как бы особой расой — высокие, плечистые, с изящными, тонкими лицами, обычно не страдавшие близорукостью. Таким был и мой новый знакомый. Босой, одетый в черное кимоно, опоясанное шнуром, он играл со своей маленькой дочкой, подбрасывая ее на опасную высоту и легко ловя, как мяч. Он отнесся ко мне с веселой симпатией, и вскоре Анри и я были приглашены к нему на ужин. Анри знал, что настоятель любит покушать и выпить, так что мы притащили с собой много мяса, лука, грибов, травы и овощей, а также громадную бутылищу сакэ. К нашему удивлению, мы были проведены в одно из помещений храма. Оно было освещено несколькими бедными светильниками. Я невольно поддался странному чувству, что пришел не на дружеский ужин, а на богослужение. Мы расселись на подушках вокруг низенького стола… Воцарилось неловкое молчание, как принято писать в таких случаях. Однако хозяин был не из стеснительных. Он спросил меня (с тайным умыслом, как я понял через несколько минут), нравятся ли мне буддийские богослужения. Мне было неловко брякнуть ему, что никакие богослужения вообще мне не нравятся, и я нашел выход в том, что сказал: — Они напоминают мне православные. — А вы хорошо знакомы с православными богослужениями? — спросил настоятель. — Конечно, ведь я кончил гимназию в 1917 году. — Я никогда не бывал в христианских храмах, — сказал настоятель. — Очень прошу вас, окажите мне услугу, расскажите, что такое православная служба. Пожалуй, это мог быть хороший способ для начала дружеских отношений, и я стал вспоминать уроки закона божия, который преподавал у нас отец Василевский. Это был костлявый, с козлиной бородкой и в золотых очках великан, когда-то служивший на флоте. Уроки его приводили нас в восторг, ибо главной темой он избирал обычно нравы портовых городов мира, по коим потаскался немало, и описывал их смачно, с острыми подробностями. Что же касается предметов божественных, то мы никогда не подводили нашего «боцмана» и кое-как отбарабанивали ему скучную материю учебника. Пока жена нашего хозяина готовила сукияки, а сакэ подогревало возникавшее доверие, я разъяснил сущность литургии и популярно проанализировал реакцию превращения вина в кровь Христову. Мы все уже были в веселом настроении, когда хозяин сказал: — Большое спасибо за ваш рассказ, теперь я прошу вас выслушать буддийские мотивы, а потом мы послушаем мотивы православные, если вы не откажетесь их исполнить. Он встал и протрубил какой-то свой акафист, действительно напоминавший что-то из русских песнопений на так называемый «девятый глас», трудноватый для нормального слуха. Пришлось подняться и мне, — что поделаешь, нельзя же было ронять честь российской православный церкви! Вобрав в себя побольше воздуху, я возрычал как мог громче: — О благорастворении воздухов, об изобилии плодов земных и временах мирных господу помолимся!.. — И даже сделал жест в сторону изобилия на нашем столе. Я и не подозревал об акустических совершенствах помещения. Кипарисовые и кедровые стволы — колонны и стропила, черные от времени и от курений, приняли мое рычание, как застоявшиеся кони, и… понесли. Такой рокот, такой грохот обрушился на нас, что жена настоятеля зажала уши, а дочка бросилась к отцу спасаться. Зато взаимопонимание и полное доверие были установлены. Теперь слово принадлежало настоятелю. Он вышел и тотчас вернулся с луком в руке. Это был лук метра в два длиною, обшитый черной кожей и украшенный бронзовыми, а может быть, и золотыми нашлепками. Хозяин оттянул его тетиву и спустил ее с басовым звоном. — Вы, конечно, хотите знать, что такое Дзэн. Это действительно самое крупное явление в духовной жизни Японии, — сказал он, усаживаясь рядом со мной. — «Дзэн» переводят словами «прямо сидеть» и производят от индийского слова «дхиана» — сосредоточение… Но это все неинтересно. Что касается меня, я не люблю сидеть, как индусский йог, неподвижно и сосредоточивать свое мышление в глубине живота; я достигаю вершин духовной жизни, стреляя из лука, — сказал он. — Утром, еще в тумане, я иду по росе разноцветных мхов, которые окружают мой храм, к тому камню, где прибит треугольник мишени. Я беру с собой только одну стрелу. Я не был бы философом Дзэн, если бы я взял с собой две. Я беру одну, потому что должен в одной сосредоточить весь свой опыт стрелка из лука, всю глубину своей мысли и всю свою силу мужчины. Моя воля переходит на кончик стрелы. Я знаю, что у меня только одна стрела, и, значит, она обязана попасть в цель. Я сосредоточиваю все на кончике стрелы и пускаю ее в цель. Когда стрела, дрожа, впивается в треугольник, я думаю, что я встал еще на одну ступень выше по пути усовершенствования, ближе к просветлению[7]. — Стрельба из лука — это ваш личный путь, — спросил я настоятеля, — или по нему следовали и другие адепты Дзэн? — Это путь многих, ибо это путь действия, это главный путь! — сказал он. — На этом пути мы преодолеваем главного врага в нас — усин. — Это дух или бог? — спросил я. Он привстал на коленях и стал разливать сакэ. — Это не бог и не дух. Это — наш мозг. — Но как же без мозга? — спросил я, обращаясь к французу и думая, что произошла ошибка в переводе. Настоятель понял мое недоумение. Он снова встал. — Идемте сюда. Я объясню вам очень важную вещь. Он взял светильник, и мы пошли во мрак храма. Какие-то птицы шарахнулись от нас в вышину, — может быть, это были летучие мыши. Чуть слышный запах лака смешивался с пропитавшим все в этом храме ароматом благовоний. Мы обошли алтарь справа, углубились в него, и наконец настоятель остановился. Он поднял светильник, и мы увидели мерцающую желтой бронзой статую божества. У него был круглый живот, с которого мягко спадали складки бронзовой одежды. Лицо идола, освещенное снизу, было яростно, как будто застывшее в пароксизме гнева. Из тела — из-за спины, из плеч и из ребер — во все стороны исходили изогнутые щупальца, как бы лишенные костей, но с кистями рук на концах. Что-то напоминающее индийскую богиню Кали. Чуть посмеиваясь, — может быть, над нами, а может быть, и над чудовищем, — настоятель сказал: — Это Бодисатва, имеющий тысячу рук. В одной из них у него лук. Что случилось бы, если бы Бодисатва задумался над тем, как ему действовать луком? Все остальные девятьсот девяносто девять рук остались бы без применения или начали бы действовать вразброд. Поэтому он не размышляет. Он не позволяет своему мозгу остановиться ни на минуту на чем-нибудь. Он поборол в себе интеллект, он рассеял свое мышление по всему своему телу. Он победил усин и добился безмыслия, того, что мы называем мусин. Горе тому воину, который не одержал победы над своим интеллектом! Искусство владения шпагой — это есть прежде всего искусство освобождения от интеллекта. Философия Дзэн есть тоже освобождение от интеллекта. Это одно и то же! Тигр перед прыжком не раздумывает о том, как ему выгнуть хвост и какую силу придать задним лапам. Он прыгает. И прыжок его есть само совершенство! Было видно, что настоятель говорит от всего сердца и самое сокровенное, во что он верит абсолютно. У него был вдохновенный вид, хотя он все время чуть заметно улыбался. — Прийти к сознанию тигра! Прийти к сознанию цветка! Прийти к сознанию птицы! Воин, художник и поэт не рассуждают. Они дерутся, рисуют и слагают стихи. Таков был великий мастер шпаги Миямото, таким должен быть самурай! — Но ведь мозг мыслит! Он не может не мыслить… Он хочет знать! — защищал я наш бедный мозг, а вместе с ним и всю нашу европейскую культуру, которой угрожала явная опасность со стороны этого тысячерукого идола и его жреца. Как бы угадав мои мысли, тот продолжал: — В этом и есть ваша слабость и ваш грех. Вы накапливаете знания, как деньги, и поклоняетесь им, как скряга золоту. Но скряга умирает от голода на своем сундуке! Если шпага уже пронзила шелк вашей одежды, будете ли вы выбирать из всех знаний, которые лежат в вашем интеллекте, такое, чтобы остановить шпагу? Нет! Вы отпрянете назад и только этим спасете свою жизнь. Это и будет Дзэн! Внезапно он распахнул кимоно, сорвал его с себя и бросил на одну из рук своего Бодисатвы, как на вешалку. К моему удивлению, он оказался в трусах. Его жилистая бронзовая фигура приняла позу фехтовальщика. Он вытянул вперед руку и коснулся невидимой, но вполне реальной шпагой моей груди. Теперь лицо его не улыбалось. Оно стало металлическим, как лицо божества. — Я нападаю на вас! — крикнул он. Он сделал выпад и сказал что-то по-японски. Француз стоял молча. Я не понимал ни слов, ни поведения монаха. Он сделал второй выпад и отскочил в сторону. И опять сказал что-то по-японски. Он прыгал вокруг меня и говорил. Он был похож на актера театра Кабуки в воинственном танце. Мне чертовски захотелось в автомобиль и потом в ванну. Я вытащил портсигар, но француз вырвал у меня папиросу. Тогда монах угомонился. Он надел снова свое кимоно, и мы совершили обратное путешествие к сакэ и мясу. Потом Анри перевел мне слова монаха во время его воинственного танца. Вот они: — Я нападаю на вас! Вы — европеец. Вы размышляете. Вы направляете свою мысль на мое движение, и ваша мысль застывает на моем движении, и вы беспомощны. Вы останавливаете ваше внимание на конце моей шпаги, и ваша мысль останавливается на ней, и вы неподвижны. Вы останавливаете вашу мысль на том, что должны победить меня, и в этот момент я поражаю вас в сердце! …Когда мы вернулись к столу, я не сразу понял, какое изменение тут произошло в наше отсутствие. Оказалось, что вместо светильников горела электрическая лампа под зеленым абажуром, поставленная на перевернутый ящик из-под консервов. Раньше я не заметил, что по темной колонне шел свеженький, белый шнур! Рядом была устроена постелька, на ней, бережно укрытая, спала дочурка хозяина. Мать ее готовила чай. Я попросил Анри перевести мою благодарность за разъяснения возле статуи Бодисатвы. Настоятель рассмеялся, бросил несколько кусочков мяса на сковороду и стал разливать сакэ. Ужин продолжался, настоятель объяснял мне насчет буддизма, что это не церковь в обычном смысле, что у них нет единого главы церкви и даже единого символа веры, что тут достигается небывалая для религии свобода мысли и поведения… но я уже плохо слушал. Я чувствовал адскую усталость и не чаял добраться до постели. Наконец наступило время расставания, хозяин проводил нас до входа и стоял возле ворот, пока мы не повернули за угол. Он возвышался неподвижно и таинственно — высокий, стройный, черный силуэт, как в кино. Анри казался озабоченным. Он молчал, собираясь с мыслями. Наконец, уже прощаясь, он сказал: — Не правда ли, прекрасный человек этот настоятель? Пожалуй, он выпил сегодня лишнее. Он — актер в душе, как все японцы. Это очень артистический народ. — Не извиняйтесь, дорогой мсье Анри! — ответил я. — Может быть, он и актер, но ведь не вы были режиссером этой сцены возле Бодисатвы! Между прочим, я склонен думать, что спектакль был очень правдив. Анри с огорчением положил ладонь мне на грудь: — О нет! Умоляю вас не думать так. Откажитесь от вашей ужасной политической презумпции. Уверяю вас, все это милейшие, добрые люди. Они только философы и поэты — не больше! — Скажите, Анри, а не могли бы вы мне помочь достать те материалы, о которых наш прекрасный философ и поэт обмолвился, что они существуют как секретные сочинения об овладении искусством меча? — Я вижу, вы очень внимательны во время застольных бесед! — сказал Анри с грустной интонацией. — Но, к сожалению, я сам хотел достать эти инструкции. Мне удалось только узнать, что они известны под кодовым названием «Луна в воде». Получить их для меня оказалось невозможным. И, как бы желая разом освободить себя от всех затруднений, которые обступали его в течение всего знакомства со мной и которыми он, вероятно, как человек туристический, начал уже тяготиться, он сказал: — Знаете что? Я думаю, что есть один человек, способный ответить вам на любой ваш вопрос. Хорошо было бы вам встретиться с ним. Это высший, всемирный авторитет в области Дзэн. — Кто же это? — Профессор Дайсэцу Судзуки в Камакура.«Я ПРОСНУСЬ!»
— Хохлы! Налетай на сало! И, хотя из нас «хохлом» был только он сам, Борис Горбатов, мы налетели на сало с энтузиазмом. Мы правильно поступили, что для завтрака расположились не возле бронзового гиганта четырехэтажного роста, всемирно известного, как Будда Дайбуцу: он был такой толстый, с такими складками живота, с таким утомленным лицом бюрократа, с такими неприятными окошками, прорезанными в громадной округлой спине, что завтракать рядом было невкусно… Пусть уж туристы читают свежеэмалевые американские надписи: «Длина лица — 2,1 метра, длина ушей — 1,8 метра, серебряные шишки на голове — 13,5 килограмма» — и прочее. Был ли принц Гаутама таким? Он, покинувший дворец и ставший странником ради горя человеческого? Да никогда! Это они, позднейшие властители, приказали изобразить его подобием самих себя для пущего к ним уважения. Я знаю другого Будду. Всего в метр высотой и не из бронзы, а из дерева. У него веселое лицо, он слушает, что вы ему рассказываете, и улыбается, понимая вас глубже, чем можете вы сами. И когда вы кончите, он кивнет головой и скажет самое важное для вашей дальнейшей жизни: так задумал и вырубил из полена великий Энку своего Будду Якуси в Нагое. И, пожалуй, Якуси вовсе и не принц, а сам из крестьян, причем наимудрейший!.. Мы правильно поступили, уйдя к берегу. Тут сиял Великий океан, пуская на нас ветерок устричной свежести, тут алели, поднимаясь из воды, тории — ворота из мощных бревен, загнутых вверх, как лыжи, тут ксилофонно стучали деревянными подошвами самые обыкновенные люди, которые не громоздили перед нами никаких бронз — ни для устрашения нас, ни для собственного возвышения, и, несомненно, так же любили своих осьминогов и пумпури в масле, как мы наше украинское сало. Японские корреспонденты, приехавшие с нами из Токио, пытались объяснить нам тайны иероглифики, тихо, но яростно спорили друг с другом о том, как наиболее полно и точно изобразить наши фамилии. (Симонов отвлек их от общих проблем письменности и направил к тому, чтобы составить именную табличку для двери в наш особнячок.) Относительно меня они пришли к соглашению, что лучше всего употребить иероглифы, смысл которых составляет выражение: «Человек, несущий красное», поскольку я приехал из страны революции. По их мнению, избранные иероглифы должны совершенно точно передать звучание слова «А к а п о ф у», то есть «Агапов». Они сказали также, что название городка, в котором мы находились, Камакура, записывается иероглифами, обозначающими «Склад колоколов». Действительно, колоколов тут хватает: Камакура — бывшая столица феодализма, и в ней около пятидесяти буддистских и двадцати синтоистских храмов. Нынче городок — небольшое и прелестное прибежище художников, писателей и ученых. Наконец один из японских коллег поднялся и сказал, что наступает время моей встречи с профессором Судзуки. Я уже научился угадывать беспокойство сквозь бесстрастность японских лиц и увидел, что он волновался. Мы отправились. Мы вошли в парк очень древних криптомерий. Некоторые из них на большой высоте были опоясаны железными обручами, чтобы не расщепились от старости. Аллея вела вверх. Мы перешли через линию электрички возле маленькой дачной станции и стали подниматься по широкой лестнице, между двумя рядами каменных маячков, с отверстиями вверху для светильников, как для светоносных скворцов, миновали ворота храма, пересекли поляну, вошли в калитку и оказались перед бархатистым газоном, посреди которого стоял деревянно-стеклянный домик. Он был как увеличенный сервант на высоких ножках. Мы сняли обувь, поднялись на полированный пол перед стеклом, стеклянная стенка раздвинулась, и, кланяясь, мы вошли. Спутник мой трепетал. «Советский писатель, взявший в свои руки перо, оружие мира, в некий день марта, когда еще стоял холод ранней весны, стукнул в стену одинокого келья Сэйденан в храме Энкакудзи в Камакура и попросил старого учителя Дайсэцу Судзуки провести его в ворота тайны, называемой Дзэн…» — так переводил он мне впоследствии начало своей статьи. В вольтеровском кресле в складках черного шелка, с очками на лбу сидел совершенно мумифицированный профессор Судзуки. Гладкое, как бы в загаре, лицо, тонкий и большой рот, узкие глаза, прикрытые нижними веками. Ему было под восемьдесят. Жене его, тоже преподавателю университета, немногим меньше, и она стояла возле его кресла и смотрела на него тревожно. Молча она говорила ему: — Дайсэцу, мы с тобой на грани, помни — еще один только шаг! Оставь его для меня, для нас! Веки его раздвигаются, и я вижу глаза, как два черных, осветленных фиолетом объектива, — блестящие и пристальные. Они оглядели меня с головы до ног. Мой спутник писал, потеряв власть над своим лицом! «Спокойно, но приятно старый учитель принял искреннего изучителя из другой страны в тишине своего кабинета, наполненного книгами. Отсюда видны деревья, еще не показывающие зелени. Начались диалоги». Судзуки хорошо знал Европу. Он бывал и в Англии, и в Америке, читал там лекции на английском языке, встречался со многими философами и учеными. Книги его переведены на английский и немецкий, и недавно, в начале сороковых годов, вышли три тома его капитального труда «Essais sur le bouddhisme Zen» на французском языке, в издательстве «Albin Michel». Этой работы у него еще не было, но вот две книги на английском он с радостью готов подарить мне. Жена подала ему томики «Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру» и «Тренировка монаха-дзэниста». Он написал на одном из них по-английски: «Дзэн без догматизма». Улыбнулся своим не по возрасту молодым ртом и подал мне. — Скажите, профессор, правда ли, что в Европе и в Америке существуют самые противоречивые толкования философии Дзэн и о ней издается немало дилетантских книг? — Именно так, — сказал Судзуки. — Дзэн входит в моду на Западе. Десятки пониманий, десятки объяснений… Однако известно поучение Сампеи: «Не бормочите сутр. Ищите внутри себя глаз, которым вы увидите причину вашего существования». Говорят, что Ено, один из китайских патриархов Дзэн, был неграмотен. Истину нельзя передать понятиями, ее можно только пережить. — Тем самым Дзэн отрицает современную науку? — Нет. Она нужна для современной эры машин. Но она не имеет отношения к истине. — Значит, чтобы познать истину, надо уйти в горы, надеть одежду из травы и в одиночестве созерцать себя? — Если это вам нравится, пожалуйста, — сказал Судзуки и посмотрел на моего спутника. Тот, прижав карандаш к губам, слушал завороженно. Как видно, он позабыл о своем блокноте. Судзуки продолжал, обращаясь к японцу: — Только вы должны будете созерцать себя в природе и природу в себе. Ибо важно понять, что и то и другое — одно и то же. Он постонал немножко — тихонько и примиренно. — Однако, — продолжал он, — это вовсе не обязательно. Можно быть последователем Дзэн и заниматься мытьем посуды в ресторане или делать зубные протезы… «Старый учитель Судзуки объяснял господину Агапову, что почти все люди несознательно проходят опыт Дзэн, хотя сами они и не замечают этого. В Дзэн каждый выбирает себе свой путь. Однако это всегда — путь действия». — Я не понимаю, — сказал я. Его длиннопалая, сухая рука с острым суставом большого пальца протянулась к столику, жена подала ему чашку из грубой глины. — Вот тяван, — сказал он, оглаживая посудину. — Некто может сказать о нем, что он круглый, другой — что его удельный вес равен двум, третий — что он был сделан в пятнадцатом веке. И еще сколько угодно научных истин. Может быть, они даже будут спорить друг с другом. — А Дзэн? — А Дзэн выпьет из него воду. Это было сказано шепотом, в состоянии полной непогрешимости. «…Господин Агапов, очевидно, что-то понял существенное в объяснениях учителя. В противовес тому, что наука пытается предугадать будущее или разгадать прошлое, Дзэн есть сам по себе факт настоящего момента. Это, видимо, дало писателю понимание, на лице его появилась улыбка…» А я и вправду вспомнил вдруг… о профсоюзной дискуссии в начале двадцатых годов. Там фигурировал не глиняный тяван, а стеклянный стакан. Если одни утверждали, что сей стакан только цилиндр из стекла, другие клялись, что он не более как инструмент для питья воды. Эклектики издевались над теми и другими за их нетерпимость. И вот Ленин, выступавший с речью о самом в те дни «настоящем моменте», то есть о вещах, важных для жизни, как глоток воды, вдруг — удивительный человек! — сделал неожиданный рейд в область… теории познания. Ядовито, с парламентской вежливостью он разъяснил эклектикам, что настоящая паука должна любой предмет изучать с множества точек зрения и применять те из полученных данных, которые будут полезны для поставленных целей. Фраза: «А Дзэн выпьет из него воду» — столь же театральна, сколь и тривиальна. Ибо хотя тут и требуется некоторое изучение посуды, но только самое простое — не течет ли, не грязна ли, — нопитье из нее воды — самое легкое, самое близко лежащее из всего, что можно сделать. Пожалуй, если бы величественный профессор запустил тяван в голову настырного москвича, это был бы куда более дзэнский акт! А вот произвести анализ глины и обнаружить в ней алюминий или доказать, что тявану не шестьсот, а тысяча шестьсот лет, — это и было бы настоящей наукой, настоящим движением вперед человеческого познания. Все эти мысли промелькнули передо мной, пока мой японский коллега писал о том, что я «что-то понял существенное в объяснениях учителя». — А как относится Дзэн к добру и злу? — продолжал я беседу. — Уберите из вашего вопроса слово «и», и вы получите ответ. — Я должен заменить «и» дефисом? — Именно так. Для Дзэн нет добра И зла, нет жизни И смерти, нет темного И светлого… Никаких пар, никаких противопоставлений нет. Есть жизнь, а она — едина. Дзэн — это единственный в истории подлинный монизм. Тут я совершил ошибку. Я сказал: — До сих пор я полагал, что подлинным и непротиворечивым монизмом в философии является диалектический материализм. Его глаза были закрыты, но при этих словах веки вдруг раздвинулись и в узких щелках глаз я увидел гнев. Он сердился. Тут раздался звон колокольчика. Серебряный, тихий… Это звонила жена. Глаза закрылись. Улыбка пробежала по губам. Гнев исчез… — Но если добро и зло — одно и то же, значит, каждый может делать все, что ему придет в голову? — Мы не судьи, — ответил он еле слышно. — На этот вопрос пусть отвечают юристы. Я могу только категорически заявить, что мне лично не известны никакие акции Дзэн против устоев общества. Я не хотел больше подавать повод к тихим звоночкам жены, спасающей мужа от вредных ему волнений, и потому не сказал ничего в ответ на эти слова. Вся история Дзэн связана с утверждением «устоев общества», — во всяком случае, тех устоев, которые поддерживают войну и агрессию. Поэтому я задал ему очередной вопрос и одновременно намекнул, что наша беседа подходит к концу. — В заключение я хотел бы просить вас, — сказал я, — привести мне пример какого-нибудь из тех «мондо», которые предлагаются ученикам Дзэн для обдумывания с целью освободить свой мозг от привычки логически мыслить. Лукавая усмешка промелькнула на лице профессора. Брови его поднялись, он задумался на минуту и потом начал, как бы читая невидимый текст: — Закройте глаза. Сядьте свободно. Думайте только о моих словах. Ваши руки связаны. Ваши ноги связаны. Вы висите на большой высоте, сжав зубами ветку дерева. Стоит вам разжать челюсти, и вы упадете и разобьетесь насмерть. Полный жадного любопытства, я выполнил все эти требования, как мог, точно. Не надо обладать особенно ярким воображением, чтобы представить себя в таком жалком положении. Я сжал челюсти, внизу была бездна, гнусное предчувствие падения возникло где-то у копчика и пошло вверх по позвонкам… — Ваш учитель задает вам некий вопрос, от которого зависит все ваше будущее. Как вы поступите? Что-то грозное и злое послышалось в его голосе. Тут я взглянул на него со своей ветки, разжал челюсти и сказал: — Я… проснусь! Профессор хлопнул в ладоши, крикнул: «Хай!» — и расхохотался. Я увидел, что он отнюдь не так стар, каким показался мне сначала. Он снял очки со лба, быстрым движением распрямился в кресле… Только теперь, в конце встречи, произошел какой-то перелом в его отношении ко мне. Было видно, что наконец он уже сам хочет мне сказать нечто. — Существует много комментариев к мондо, которое я вам предложил, однако ваш — самый короткий, Он отрицает полностью всё мондо, сводя его к галлюцинации. И вместе с тем это абсолютно дзэнский ответ. Мой японский коллега журналист весь обратился в слух. По-видимому, внезапный поворот в разговоре его поразил, и он не знал, что писать. Профессор потер руки и, наклонившись ко мне, заговорил: — Если сказать правду, мы все, современники этой эпохи, утратили очень много из того, чем обладали предки. И прежде всего мы лишились неспешности. В наших сердцах нет места для подлинной радости жизни. Вы знаете, как я рассматриваю настоящий Дзэн? Я вижу в нем целомудренное сладострастие жизни, наслаждение единством с природой, почти безумное любование красотой мира… Мы, современные люди, все отданы только суете. Мечемся от возбуждения к возбуждению, вплоть до того, что задыхаемся от этого… А между тем, в чем состоит главная проблема жизни каждого человека? Каждый должен решить прежде всего один вопрос: что именно надо понимать под жизнью? Будет ли это погоня за наслаждениями и непрестанное возбуждение от сенсаций или главное в ней — радости от восприятия культуры и от собственного творчества? Если поставить вопрос именно таким образом, то для человека Дзэн не может быть никаких колебаний. Дзэн — радикальное мировоззрение, так что при необходимости каждый из нас готов отвергнуть всю эту всеобщую машинерию и начать жизнь заново, без так называемой «современной цивилизации», — совершенно заново! Он взглянул на жену. Что-то озорное вдруг мелькнуло в его лице, она вся подалась к нему, как бы защищая его от посторонних… — Я надеюсь, — сказал он заключительным тоном, — я верю, что наше назначение не состоит в том, чтобы стать рабами самих себя, своих физических желаний и комфорта……Мой японский коллега перевел мне последние строки своей статьи следующим образом: «Когда же ослабело солнечное освещение и на ветках старых сосен начал стоять туман, старый учитель, как будто передавая секрет своему любимому ученику, вглядываясь в лицо писателя, сказал: — После военного поражения страны нелегким делом является говорить о роли Дзэн в сегодняшней Японии. Через Дзэн две души соприкоснулись, и в торжественной тишине смешались мирная, дружеская и юмористическая атмосферы. Руки обоих исследователей истины крепко пожались. Сумерки наступили, когда писатель покинул келий энтузиаста медитации, держа под своими руками подаренные старцем книги».
ЭТО КАСАЕТСЯ МНОГИХ!
Ушли в прошлое почти три десятка лет. Никогда мир не менялся так быстро и так кардинально — от политических карт до научных понятий. Но пророчество Нитобе о том, что дух Бусидо будет неизменно руководить Японией, как и уверенность Судзуки в том, что мировоззрение Дзэн есть главный стержень японизма, не уничтожены вихрем стремительных изменений. Стойкость идеологических координат, в которые после «революции Мейдзи» был вписан капитализм, а после военного разгрома Японии в 1945 году — так называемая «демократизация», поразительна. В эти координаты всажены сейчас и небывалое развитие индустрии, и немалые успехи науки и техники, и рост экономической мощи страны… Но координаты стоят. Пусть молодежь вихляется в дансингах, пусть звенят в барах и в кафе игральные машины, пусть даже боевые выступления рабочего класса становятся все более заметными на фоне «промышленного чуда» — какие-то силы поддерживают «особость» японского мира, как некое гравитационное поле, где любой предмет всегда будет готов соскользнуть к тому центру тяжести, который создавался в течение веков и который пестовался дьявольски хитрыми властителями в их интересах. Я помню, как в начале 1946 года мы пытались выяснить, каковы политические симпатии населения. Там существовало более ста различных партий и еще больше политических позиций (как мне говорили, была даже «партия Татарского пролива»!), и каждая пыталась отмежеваться от других, изобретая свои особые требования и прожекты. Но все они — за исключением коммунистов — были железно едины в двух постулатах: во-первых, император должен быть сохранен; во-вторых, должна быть сохранена иероглифическая письменность. Император — это значит политическая основа страны, иероглифика — традиция и направление культуры, то есть идеологии. Не знаю, есть ли на свете страна, где государственная идеология была бы столь прочно сплетена с обычаями, верованиями, традициями народа, как в Японии, так глубоко проникала бы во все слои населения. Если в Германии фашизм был приметан к культуре на скорую руку и его идеология была бесконечно глупее великих традиций одной из самых образованных и талантливых наций мира, то в Японии дело обстояло иначе. Мировоззрение, сплавившее в себе буддизм, даосизм, конфуцианство, синтоистское язычество, было построено так, что годилось и для малограмотного человека и для высших интеллигентов и таким образом обладало свойством всеобщности. Может быть, это объясняется тем, что ни в какой другой из современных стран религия и философия не были так связаны с искусством, как здесь. Вернее сказать, вся идеология Японии, от официальной до самых тонких вариантов философии, была прежде всего эстетикой. В ее высших проявлениях это была гигантски развернутая метафора, очень красивая, очень романтическая, к тому же проникнутая одним из самых неодолимых наваждений искусства — духом трагедии, то есть духом прекрасности и неизбежности смерти. Метафора, выраженная в превосходных стихах, в замечательной архитектуре, в тканях, лаках, керамике, в тончайшей и разработанной театральной культуре и уходящая в мир далеких предков как к последнему своему основанию. Прошло почти три десятка лет с того времени, как я встретился с Дзэн и с его корифеем — Судзуки. В те времена слово Дзэн у нас было известно лишь специалистам, а корифей был только что приглашен в Америку прочитать лекции о Дзэн в Колумбийском университете. Сейчас другое дело. Знатоки Запада утверждают, что даже столь многолюдное бурление молодежи, какое уже несколько лет перекатывается по Америке, связано с идеями Дзэн и даже что Сэллинджер и многие другие известные писатели суть откровенные дзэнисты. Впрочем, некоторые наши специалисты по Дзэн иногда не лишены своеобразного «сектантства» и готовы искать предмет своих исследований там, где его уж никак невозможно предположить. Так, Е. В. Завадская в своей весьма трудоемкой работе «Восток на Западе» утверждает, что «Пушкин отрицал романтическую исключительность и ходульную значительность роли поэта — и это отрицание сродни дзэнскому уравниванию всякой человеческой деятельности». И в доказательство сего приводит известный эпизод из пушкинских записей — о том, что Дельвиг был шокирован, когда Державин, приехавший в Лицей, справился у швейцара, где тут уборная. Дельвиг, огорченный, убежал из вестибюля, а Пушкин отнесся к вопросу великого старика с «доброй улыбкой»; это, мол, и есть пушкинский Дзэн. Таких «явлений «Дзэн» можно найти в интересном труде Е. В. Завадской немало, и это наводит на мысль, что даже в академических работах авторы склонны создавать собственную картину дзэнской философии, может быть и весьма приятную для либерального сознания, однако недостаточно объективную; для этого они готовы выискивать симпатичные им черты в жизни, в творчестве и в мировоззрении людей, никакого отношения к Дзэн не имеющих. Впрочем, это может происходить еще и потому, что картина дзэнской философии вообще очень пестра и неопределенна. Аллан Уоттс, которого некоторые наши специалисты считают крупнейшим современным исследователем и популяризатором учения Дзэн, пишет:«Каждый, кто пытается написать о Дзэн, встречается с трудностями исключительными: он ничего не может объяснить, он может только показывать: единственно, что он может сделать, — это передать читателю своего рода внушения, которые помогли бы ему ориентироваться возможно более близко в Истине. Однако в тот самый момент, когда автор попытается закрепить ее в определениях, она исчезает…» «В науке и в философии нужны слова, а в Дзэн они — препятствие, — утверждает Судзуки. — Наука безлична, Дзэн — только субъективность».Так ставится стена между нашими научными методами познания и этой философией. Наши методы признаются «непрямым путем к истине» и оспариваются. Интеллект подвергается опорочению. Нгуйен Тзан Хуан разъясняет:
«…Мондо есть серия вопросов и ответов между мастером и учеником, и цель его — ввести интеллект в состояние полной смятенности и остановить его функционирование. Отсюда и начинается Дзэн…»Нам с моим переводчиком удалось раздобыть книгу таких мондо, даже снабженных комментариями, и мы просидели над ней несколько вечеров: он переводил мне с японского, я отбирал и записывал. Вот один кусок:
«Когда монахи спорили между собой о свойствах кошки, Нансеносё, держа кошку в руке, сказал: — Если кто-нибудь из вас скажет еще что-нибудь, я оставлю кошку живой, иначе я зарежу ее. Никто не сумел ответить на это, и в конце концов Нансеносё зарезал кошку. Вечером Тёсю вернулся с улицы, и Нансеносё рассказал ему о происшествии. Тогда Тёсю снял свои сандалии, положил их себе на голову и ушел, а Нансеносё сказал ему вслед: — Если бы ты был на месте, то кошка осталась бы живой».К этой «задаче», помеченной номером четырнадцать, имеются комментарии профессора Кихира, который пытается раскрыть якобы логику, заключенную в приведенном куске. Он привлекает цитату из Гегеля и даже использует гегелевское понятие «снятия» (Aufhebung), столь плодотворное при анализе явлений природы и общества, но забирается в непроходимые дебри абстракции и договаривается до того, что, оказывается, кошки в действительности вовсе и не было, так что «Нансеносё зарезал кошку, как некий символ отвлеченного знания». Профессор и не заметил, что кошечка осталась жива, ибо что же иное, как не сугубо отвлеченное знание, его гегелевидные комментарии?! Комментарии самого Мумона, составителя книги, более соответствуют внелогическому стилю Дзэн.
«Скажи, — пишет Мумон, — почему Тёсю положил сандалии себе на голову и ушел? Если ты сумеешь сказать, в чем дело, значит, ты знаешь, что Нансеносё не напрасно зарезал кошку. Если ты не понимаешь смысла его поступка, тебе тоже грозит опасность» (быть зарезанным? — Б. А.).Далее Мумон начинает изъясняться стихами:
Сатори… «это — момент, когда все познается в истинных пропорциях, когда мир со всем его содержанием предстает перед нами, омытый сверкающим светом. Сатори позволяет нам видеть свою собственную природу, и это ви́дение устанавливает наше отношение, нашу связь с состоянием космического сознания, с моментом Абсолютного…»И тут уважаемый доктор дает некое определение от противного, делает некое предупреждение, весьма знаменательное. Читатель, не испытавший сатори, естественно, интересуется, можно ли объективно проверить, насколько истинна та истина, которую должен испытать саторианец. Оказывается, никакой проверки, кроме собственного ощущения, быть не может. И потому доктор Нгуйен Тзан Хуан весьма обоснованно предупреждает, что надо добиваться такого сатори, которое должно «отличаться от состояния транса или экстаза больных шизофренией». Как известно, среди западной и прежде всего среди американской молодежи весьма распространены дзэнские настроения. Они входят и удобно укладываются в понятие «контркультуры». А «контркультура» выдвигается как противоположность современной цивилизации буржуазного общества. Молодежь, не желающая мириться с укладом и с психологией старшего поколения, тоже ищет «озарения», и немалую роль тут призван сыграть именно тот самый «транс», против коего предупреждает доктор Нгуйен Тзан Хуан. «Транс» достигается без особенных трудностей — без монастырских бдений, без медитации и даже без чайной церемонии, а посредством курения марихуаны или приемов ЛДС и прочих наркотиков. Как видно, доктор Нгуйен знал кое-что о химических методах западных людей для достижения «транса», когда писал свои сочинения. Недаром профессор Йельского университета Чарлз Рейх выхваляет марихуану, как «сыворотку правды». Тем более что сыворотка впрыскивается обычно против той беды, имя которой входит в ее название, — например, сыворотка против дифтерии. Так и тут: сыворотка против правды. В Европе и в Америке существует уже довольно дряхлая традиция приспосабливать так называемую «мудрость Востока» к потребностям и вкусам некоторых кругов обеспеченных людей. Я помню, например, внезапную популярность двух дам. Одна из них — Елена Блаватская, ставшая знаменитой в России, а потом и во всех западных странах. Она путешествовала по Индии и опубликовала книги, из которых две пользовались успехом во всем мире — «Тайная доктрина» и «Из пещер и дебрей Индостана». В последней действовал прекрасный и столь же таинственный йог-чудотворец, который делал все, что ему вздумается, с любыми людьми, в том числе и русскими путешественницами. «Тайная доктрина» получила забавную судьбу. Бернард Шоу должен был выступать в так называемом «Диалектическом обществе» о социализме. Это было весной 1885 года. Его предупредили, что некая мисс — Анни Безант — оставит от него мокрое место. «Эта дама, — рассказывал впоследствии Шоу, — в такой степени владела публикой, что если бы она выдвинула положение «лиловое не есть обязательно розовое» и взволнованным контральто призвала мир что-нибудь возразить на эту глубокую мысль, — все ее слушатели благодарно решили бы, что им наконец открыли истину…» По окончании доклада кто-то выступил с возражениями. И тут же был сражен наповал. Пламенная мисс, обладавшая поистине блестящим ораторским даром, оставила от него мокрое место. После этого начались встречи, и, как пишет биограф Шоу Хескет Пирсон, «они разыгрывали дуэты на рояле… Она играла всегда верно, холодно и в умеренном темпе. Он же отчаянно перевирал и играл с пылом, который она неизменно осуждала». Паузы между дуэтами были пусты. Невозможно представить себе пару, в которой партнеры были бы столь противоположны друг другу. Дело кончилось разрывом. Анни Безант поседела от горя. Потом ее финансы пошатнулись, и она попросила Шоу рекомендовать ее как рецензентку в один из журналов. Он это сделал и тут же передал Анни книгу для отзыва. Это и была «Тайная доктрина» Блаватской. Анни изучила книгу и стала главной жрицей новой религии. Она поехала в Индию. Она создала «Индийскую лигу самоуправления» — одно из тех хитрейших учреждений, которые не хуже пушек держали в повиновении британские колонии. Но Безант прославилась своими книгами. Эти сочинения были искусны потому, что соединяли в себе науковидность с романтикой для одиноких душ, у которых в качестве хобби были поиски истины. В них объяснялось, что мудрость Востока идет навстречу мудрости Запада и что древние знали о роли водорода во Вселенной даже больше, чем современные астрофизики. Безант сделалась адептом теософии первого ранга, ловцом скучающих неофитов, встала в ряд с Рудольфом Штейнером, которому удалось уловить, хоть и ненадолго, Андрея Белого. Не так давно во Франции вышла книга Роберта Линссена под названием «Эссе о буддизме вообще и о буддизме Дзэн в частности» (изд. Ла Коломб, 1960, Париж). Это попытка, одна из многих, препарировать Дзэн на потребу европейских интеллигентов, с авторитетным обещанием привести читателя к озарению и постижению всех тайн Вселенной. Когда я просматривал сие благовестие, я вспомнил вдруг один вопрос, который задал мне профессор Судзуки в начале беседы. Он спросил меня, не знаю ли я профессора Успенского, которого ему приходилось встречать в Лондоне. И тут я вдруг обнаружил в своей памяти тонкую брошюру: «П. Д. Успенский. Четвертое измерение», вышедшую еще до революции. Как помнится, я в этой брошюре тоже нашел науковидное рассуждение о том, как путем своеобразной экстраполяции построить фигуры, существующие в «ином мире», а именно — в четвертом измерении. Круг перечисленных имен можно было бы расширить, тем более что, пользуясь некоторыми уже отмеченными здесь методами, во власти любого читателя и автора остается возможность привлекать к участию в «тайных доктринах» каких угодно людей, вплоть до Пушкина (конечно, без их ведома), начиная от записных мистиков и кончая учеными-ядерниками. Но та взлохмаченная молодежь, которая до сих пор совершает в США так называемую «революцию рюкзаков» и колесит по стране не находя себе ни дела, ни покоя, — действительно ли она готова читать и почитать Анни Безант, Успенского, Штейнера и искать откровений в сатори? Не уверен. Не знаю. Может быть, есть и такие. Но вот какая мысль невольно возникает, когда вчитываешься в труды Судзуки, в рассказы Ясунари Кавабаты, в произведения Сэллинджера. Юноша, окончивший университет или еще слушающий лекции высоких специалистов, ничего не знающий о практике жизни, кроме необходимости бороться за свою шкуру, чувствует отвращение к тому, что его окружает. Он не хочет жить так, как живут старшие, — в лицемерии и в поклонении вещам. И он у х о д и т. Он п р я ч е т с я! Я подчеркиваю эти слова, ибо они как раз те самые, которые повторяются дзэнистами Японии поверх любых попыток объяснить Вселенную. Он хочет уйти и спрятаться в домике для чайной церемонии, на вершине покрытой лесом горы, в уединении рыбацкой хижины, в кратких, грустных и красивых стихах… Уйти и спрятаться от мира. Возможно, что именно те же чувства владеют его западными ровесниками и товарищами по несчастью. Б е ж а т ь!!! И тогда все ламентации Судзуки, все стихи Басе, всё одиночество, вся грусть — оказываются особенно необходимы. Появляется и укрепляется Дзэн — не как мистическая доктрина, не как путь к нирване, не как приобщение к космическому сознанию, а как личное спасение от мирской докуки. — Что такое ад? — спросили Сартра. — Ад — это другие, — ответствовал Сартр. И вот с Востока приходит весть, что есть доктрина именно для тех, кто хочет избавиться от этих страшных и убивающих д р у г и х! И это — Дзэн. Красиво. Романтично. Сотни веков смотрят на нас с этих вершин! Но — увы! — рано или поздно каждый говорит себе: — Я проснусь! И после пробуждения понадобятся совсем иные идеи и совсем иные способы, чтобы избавиться от «ада».
СТО ДНЕЙ НА ИСХОДЕ
ЯПОНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МИФ
Я не знаю, что было правдой и что неправдой в свидетельствах, какие мы получали и какие нам переводили наши переводчики в Японии. Только к концу поездки я понял с полной ясностью, что мы попали в разгромленную страну. Она была разгромлена не только материально, но и духовно. Могут сказать, что Германия тоже была разгромлена духовно. Однако вера в Гитлера и в его фашизм была приметана к Германии на живую нитку. Конечно, она как-то держалась за «немецкую почву», то есть за великогерманский шовинизм прусского происхождения, за «арийскую кровь», за идеи реванша и так далее, однако сами фармацевты этой идеологии понимали, что она не слишком убедительна. Поэтому они и требовали от людей возвращения к донаучному способу мышления: надо было пресечь самую возможность логической критики. Философская система фашизма была неизмеримо глупее среднекультурного немца, а ведь она претендовала главенствовать в стране, справедливо гордившейся своей ролью в создании науки и философии девятнадцатого и начала двадцатого века. Ее принимали или только от молодости, либо терпели от страха, либо связывали с жаждой завоеваний. И она погибла вместе с гибелью рейхсканцелярии, в залах которой советские солдаты ходили по щиколотку в железных крестах, украшенных эмблемой свастики. В Японии все было совсем не так. Как именно это было, мы пытались разобраться во все время нашего пребывания в стране. Но это было очень трудно сделать. Сравнительно просто удавалось выделить и отметить те мероприятия, которые еще задолго до последней войны были продиктованы военщиной и направлены на полную военизацию государства. Антирабочие законы, свирепая цензура, разорительные повинности, резкое снижение жизненного уровня простых людей, рост изоляционизма и кретинического шовинизма — не очень сложный набор тривиальностей, который применяется в этих обстоятельствах, изобретения, не требующие ни ума, ни знаний. Особое и очень важное место тут занимали, как и полагается, зверские меры по отношению к рабочим лидерам и особенно к коммунистам. Политические деятели, писатели, ученые рассказывали мне об ужасах, которые приходилось переживать людям, заключенным в тюрьмах Японии, вероятно самых страшных тюрьмах мира[8]. Однако самоотверженность народа, его готовность к подвигу, его долготерпение были не только результатом страха перед репрессиями. Они вырастали из идеологии, присущей японцам на протяжении многих столетий, были связаны с их искусством, их религией (в данном случае — особенно с синтоизмом), с их традиционными представлениями, в первую голову — с культом императора. Тэнно, император, — праправнук богов. — Ваше величество, сделайте так, чтобы сын мой не погиб на войне!.. Ваше величество, пусть меня не выбросят с завода!.. О таких молитвах рассказывали мне многие простые люди. С детских лет всем японцам известна история божественного рождения первого императора Японии от богини Аматерасу. Тэнно — глава государства, он самодержавен и безответствен, он — единственный начальник армии и флота. Но главное состоит в том, что тэнно — отец. В этом — его сущность. Он отец, а каждый японец — его сын, а каждая японка — его дочь. Перед ним одинаковы все — и генералы, и крестьяне, и капиталисты, и рабочие. Все одинаково простираются ниц перед ним. И ему одинаково дороги жизни бедных и богатых. Иностранец якобы не может понять сути этих отношений, ибо нигде и никогда в мире не было государственного строя, подобного японскому. К этому строю неприменимы аргументы по поводу разницы состояний, противоположности интересов отдельных групп общества, классовой борьбы. Распри между детьми, конечно, возможны, однако противодействие отцу — нелепость и даже преступление. Единая семья и полная гармония — такова сущность Империи Восходящего Солнца. Бисмаркова конституция, которая была взята в образец для основного закона Японии после реставрации Мейдзи, обеспечивала императору самовластье. Однако не только законом и страхом было оно защищено. Немалое значение для его авторитета имело еще нечто, а именно то, что всегда было чуждо неуклюжему и прямолинейному пруссачеству и что очень многим из западных людей непонятно и сейчас. Это — роль мифологии и искусства в обыденной жизни народа. Государственный миф Японии не был сказкой для подавляющего большинства народа, не был метафорой, не был красивой эмблемой. Он входил в понимание истории. Он был именно мифом в архаическом смысле этого слова, как в Древней Греции, в Древнем Египте. Он исчерпывающе объяснял прошлое и неопровержимо обосновывал притязания на будущее. Дух Ямато — вечный дух Японии. Вершина человечества находится не на Западе, а здесь, на островах. Недаром они так прекрасны, их природа так одухотворена. Грубая западная цивилизация с ее примитивным пониманием роли человека как покорителя природы, то есть ее врага, и роли вещей как средства для счастья вторглась в пространства, искони занятые азиатами — людьми наивными, мужественными и цельными. От Индии и до Гавайских островов варвары распространили свое царство вещей и денег и силой своей техники покорили несчастных туземцев. Они превратили в колонии величайшие и древнейшие страны планеты — Индию, Китай, Индокитай, Бирму… Они остановили их развитие и обрекли их народы на нищету и голод. Только Япония противостала им. Она сумела взять их же оружие в свои руки и при помощи чужой техники стала освобождать Азию от длинноногих, с провалившимися глазами. Под божественным водительством Японии, под руководством отца отцов — тэнно — она свергнет ненавистное иго, сохранив при этом священный дух предков, свою культуру тысячелетий. Так выглядел главный сюжет государственного мифа Японии. Это не был состряпанный на скорую руку плакат на случай очередной военной авантюры, вроде тех брошюр, которые вместе с «покетбуком» какого-нибудь детектива и гигиеническим пакетом против сифилиса таскали с собой американские солдаты: «За что мы боремся». Государственный миф Японии был полон гордой заносчивости, коренился в рыцарском кодексе Бусидо, составленном еще для кровавых бездельников феодализма, вытекал из презрения к смерти, возвещенного философией Дзэн, обращался к прошлому страны, которую действительно никто и никогда не завоевывал. В отличие от Германии, позитивная наука не пользовалась здесь всеобщими симпатиями, в то время как созерцательный мистицизм составлял основание этики и даже входил в домашний обиход самых рядовых людей. О доблести довольствоваться малым написаны здесь многие труды, и в них есть подлинно вдохновенные страницы. Пренебрежение к вещам, даже к удобствам, умение переносить холод, ограничиваться самой скудной пищей — все это входит в мировоззрение Дзэн под общей категорией «ваби-саби», которой нельзя отказать в величии. Спартанская суровость была свойственна всегда японской идеологии, она соответствовала условиям жизни самых широких масс народа, а это, конечно, очень удобно для военности. Если немецкому обывателю надо было взбеситься, чтобы стать гитлеровским воякой, то с обыкновенным японцем дело обстояло иначе. Государственный миф Германии включал в себя пресловутое «Дранг нах Остен» — натиск на Восток, то есть захват русских земель. (Интересно, между прочим, что слово «дранг» означает не только «натиск», «влечение», но еще и «бедствие», «горе», как бы напоминая, что агрессия всегда связана с несчастьями, что это, в сущности, две стороны одного и того же явления.) Не знаю, как в японском языке, но в госмифе Японии «Дранг нах Вестен» — натиск на Запад — занимал, пожалуй, даже большее место, нежели восточные вожделения у пруссаков. Каждый русский, советский человек хорошо знает, какова была нацеленность самурайского меча. Я почту за благо говорить по этому поводу словами представителя англо-американского обвинения на процессе главных японских военных преступников в Токио — Уильямса. Он указал на следующие основные агрессивные действия Японии против Советского Союза:«1. Захват Маньчжурии и превращение ее в военный плацдарм для нападения на Советский Союз… 2. Создание военной базы в Корее для нападения на Советский Союз… 3. Подготовка населения Маньчжурии к войне против Советского Союза… Использование белоэмигрантов против Советского Союза… 4. Японская подрывная деятельность на Китайской Восточной железной дороге. 5. Систематическое нарушение государственных границ Советского Союза. 6. Необъявленная агрессивная война против Советского Союза в районе озера Хасан. 7. Необъявленная агрессивная война против Советского Союза и Монгольской Народной Республики в районе Халхин-Гола…»Кроме того, Уильямс приводит еще три пункта враждебных против нашей страны действий Японии в области дипломатических и правительственных акций. Естественно, что представитель англо-американского обвинения воздержался от упоминаний о поведении японских оккупантов во времена гражданской войны на Дальнем Востоке. Такой всем понятный пробел можно пополнить. Для этого стоит предоставить слово тоже иностранцу, — например, г-ну Уорду, который был тогда командующим английскими оккупационными войсками в Сибири. Вот отрывок из его книги «Твердолобые в Сибири»:
«Этих несчастных людей (то есть русских. — Б. А.) они сбрасывали с железнодорожных платформ, пуская в ход приклады своих винтовок как против женщин, так и мужчин, обращаясь с ними точь-в-точь как с племенем покоренных готтентотов. Я не понимал такого поведения со стороны нашего восточного союзника и думал, что это могло быть только безответственным буянством и озорством некоторых солдат и офицеров. Позже оказалось, что это было общей политикой японской армии…»Я нарочно не привожу здесь наших, русских материалов о невероятной жестокости и ненависти к нам со стороны японской военщины от времен еще очень далеких (вспомним о зверском убийстве Сергея Лазо в 1920 году), не упоминаю о разработанных планах военного и экономического захвата наших восточных территорий, о поистине грандиозных военных приготовлениях, направленных только против нас, когда, например, численность так называемой Квантунской армии Японии в 1943 году доведена была до миллиона ста тысяч человек и эта армия стояла на нашей границе в то как раз время, когда мы вели ожесточенную борьбу почти один на один с европейским фашизмом. Всего этого нельзя забывать. Да и невозможно забыть. Госпожа Фудзи — потухший вулкан. Она радует глаз и вдохновляет художников и поэтов. Но дух Ямато готов к извержению в любой момент, лишь бы для его жрецов наступило время, удобное к нападению. …Тогда, в те последние наши японские дни, мы все были полны — и даже чрезмерно! — впечатлений от странного и незнакомого нам мира, в котором провели четверть года. И наибольшей заботой своей почитали сохранить как можно больше в памяти, в записях из того, что видели и слышали. Обдумывать все это было не с руки — ни времени, ни сил не хватало. Но помню, что и тогда, в горячке бесед, встреч, поездок, мне все время приходили в голову те два английских слова, которые повторял Ленин, будучи в Лондоне, и, как пишет Крупская, повторял часто. Два эти слова были: «Two nations!» — две нации! «Two nations!» Как это было ощутимо здесь, в стране, где история на какое-то время даже уравнила внешний облик всех людей, приведя их к серости ватника, замызганности порток и заляпанности каскетки, — всех, даже девушек! Господа и чернь — две нации. Отрывок из «Фрегата «Паллады» о Японии середины прошлого века, приведенный в начале моих воспоминаний, уже дает представление об этом разделении на властителей и подъяремных, и мы в 1946 году наблюдали нечто подобное. Хотя в тот 1946 год властители были побиты в войне. И теперь я вижу, как яростно принимались они за восстановление пошатнувшегося своего господства. Американцы помогли им тогда, и они снова всплыли, и снова завели свою проверенную веками волынку. Доверчивые работяги-простолюдины пошли снова на испытанные приманки: мне приходилось читать, что нынче на предприятиях Японии рабочие должны знать и уметь петь «гимны», состряпанные в прославление владельцев заводов. Кажется, действительно, таких кунштюков не откалывал еще ни один капитализм в истории! Поистине Япония опять идет своим «оригинальным» путем! Ох, уж этот «оригинальный путь»!
ВРАЧ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Возле двери — два сложных иероглифа… Что они обозначают, переводчик не может объяснить. Нас приглашают в кабинет. Там посередине комнаты кресло, на нем — совершенно голенькая японка и рядом рослый человек в белом халате, со стетоскопом в руке. Пациентка окидывает нас быстрым взглядом, встает и, отойдя к дивану, начинает одеваться. Она ведет себя спокойно и деловито, как натурщица. Врач приглашает сесть, начинается лекция. Это китайская натурфилософия — о двух началах, о твердом и мягком, мужском и женском, горячем и холодном, внутреннем и внешнем и так далее. Главный источник медицинского знания — книга, написанная в Китае более тысячи лет тому назад. Китайская медицина, по-видимому, не хочет знать ничего о медицине Запада. Зато врач, по его словам, окончил не только медицинский факультет японского университета, но и получил диплом университета Берлинского. Цепкими пальцами он хватает мою больную руку, сгибает в локте, разгибает, жмет, прислушивается, вглядывается в мое лицо… — У вас это называется артритизм, а у нас — «рука старого человека», — таков его диагноз. Он подходит к высокому буфету, в верхнем отделении которого девяносто шесть ящиков, выдвигает шесть или семь из них и начинает накладывать на квадратики бумаги, положенные вдоль буфетного выступа, какие-то кусочки, стебельки, угольки, корешки. Делает это быстро, ловко, очень точно. Потом звонит, являются две девушки и принимаются заворачивать лекарство. — Каждый пакетик заваривайте стаканом кипятка и пейте в течение дня. И тут он сообщает нам о результатах своих многолетних занятий по бактериологии. Оказывается, его микроскопические исследования привели его к бесспорному, с его точки зрения, выводу, что туберкулез в Японии совершенно иной, нежели на Западе. Палочка японского ТБЦ толще, чем палочка европейского или американского. Степень сопротивляемости у японцев гораздо ниже. Здесь болезнь не локализуется в определенном месте, а охватывает весь организм в целом, так что такие методы, как пневмоторакс, не только бесполезны, но даже вредны. — Я пишу работу, в которой доказываю положение, важное как для медицины, так и для политики: японцы — один из самых молодых народов мира, а значит, им принадлежит будущее! — Народ-мессия? Особый путь? Он пожимает плечами, улыбается загадочно. В Москве я показал один пакетик лекарства работникам очень высокой поликлиники. Через какое-то время они мне сказали, что лучше этого не употреблять: — Мы же с ними воевали… Мало ли чего он намешал в свое снадобье! Я послушался. Не заваривал и не пил. Однако рука у меня прошла. Полностью. Так что, несомненно, тибетская медицина действует не хуже любой другой. А главное, она подтверждает, что у Японии — особый путь! …У каждого народа неминуемо существует свой особый исторический путь, да и как может быть иначе? Однако эта «особость» сразу становится опасным для соседей мифом, как только руководители народа пытаются обратить ее в аргумент гегемонии. Начинается провозглашение всяческого вздора, вроде того, что, мол, именно этот народ «избран», что он «предназначен», а следовательно, имеет какие-то права сверх тех, которыми обладают другие. Что и говорить, это религиозное обоснование агрессивности в предыстории человечества дело довольно обычное, однако для нашего времени подобную аргументацию можно сохранять, только опираясь на невежество подданных или силу власти. И это значит, прежде всего, сохранять столь же религиозное преклонение перед всем старинным, начиная от алфавита и кончая мировоззрением. Но это совсем не значит, что человек, который защищает древний алфавит, пропагандирует оккупацию Хабаровска. Людей много. Высказывания каждого могут и не совпадать со всеми чертами государственного мифа. Но жрецы мифа могут выбирать из каждого то, что им годится. Им будет даже лучше, если, например, идея о физиологической особости японцев поддерживается человеком, ничего не понимающим в политике: «Это утверждают ученые!»УЕЗЖАЕМ…
Срок отъезда приближался. Весна рвалась на Японские острова. Вместе с буйными ветрами прилетали жаркие денечки, предвестники того, что лето в Токио невыносимо. Мы кончали наши дела — передали общее имущество советским организациям, расплатились с персоналом, устроили расставальный банкет, нанесли прощальные визиты, упаковали вещи, книги, материалы, сувениры… Все было готово, и наконец — завтра едем! И назавтра — ураган. Дождь. Холод. Сведения о погоде самые погребальные. И все-таки надо ехать. Оставаться уже нет сил, тем более что напитываться еще новыми впечатлениями и сведениями — это как после сытного обеда опять приниматься за борщ. Мы едем в порт. С нами — наш адмирал. Теперь он принял командование. Мы превратились в морскую пехоту, а он стал замкнут и молчалив. Не слышно даже его любимого междометия «тю-ю-ю-ю!», которое он произносит всегда в моменты неожиданных событий. Наши шоферы в белых воротничках, как если бы мы были послы всех главных держав, они захлопывают за нами дверки машин; наши амы робко поднимают вверх свои ручонки. Прощай, Япония! …Как бы не так! Все это совсем не просто. В порту нам под ноги бросает ветер горох дождя, в мутной серости еле разобрать небольшие военные фрегаты, которые даже под защитой мола кланяются буре, а уж что там будет, в открытом море, известно одному господу да императору… Муза бледна, ее губы шепчут по привычке какие-то японские слова… Что же, пойдем? Или не пойдем? — Поехали обедать? — предлагает Симонов, посмотрев на часы. Адмирал пожимает плечами. Он стоит, глядя в небо. Потом опускает голову и молча лезет в машину. Кортеж направляется в «Империал-отель» — обедать. Это лучший вариант в такую погоду. В ацтекском зале серо-бежевого туфа, под хрусталями, в хрусталях, на крахмальности и фарфорности, под мелодию и тихий говор элиты мы оттягиваем процедуру качки и океанской беспризорности, нам предстоящие. В три мы были опять на пирсе. Адмирал опять смотрел в небо, потом дал какие-то приказания, и мы увидели, что один из фрегатов разворачивается возле стенки при помощи хлопотливого и чернодымного буксира. Шторм по-прежнему бушевал в море, но на берегу начал бушевать Стеценко. Ему доложили, что какое-то японское судно вышло в море. Это привело его в ярость. — Японский торгаш ушел, а мы, военные моряки, должны бултыхаться у пирса?! Немедленно принимайте пассажиров! Было ясно: наш час пробил. Наскоро пожав чьи-то руки, мы кое-как вскарабкались на палубу. Буксир, покрутившись возле, — теперь он был где-то внизу, —быстро исчез. Лица пробегавших по палубе моряков сосредоточенны и злы. Взяв носовую чалку, мы разворачиваемся у стенки, даем гудок и шпарим прямо к выходу в море. Наши автомобили, наши провожатые почти тотчас исчезают из глаз за пеленой не то дождя, не то тумана… Шустрый фрегатик проносится мимо конца мола и сразу становится на дыбы. Море хватает нас, как погремушку. Чаек уже нет, они не прилипают больше к волне на секунду, они не кричат больше в своей драке с ветром… А ветер срывает стружку с огромных волн и дробью сбрасывает ее на палубу с подветренной стороны, — и счастье, что есть за что схватиться! …В ушах у меня катается свинец, я лечу вниз, я взмываю вверх, — ни зги впереди… Может, уползти в каюту? Лечь, раскинув циркулем ноги, чтобы не скатиться с койки?.. Нет, уж лучше тут — всем ветрам назло. «Прости, прощай, подружка дорогая!..» Так пели мы на крутой черноморской волне, когда мне было двадцать пять, и наш катерок стучал вдоль берега Крыма, покрывая всю санаторную компанию солнечной теплой водой, к восторгу грека за штурвалом… Мы были голые, черные и с девчонками, и — черт нам не брат, хотя в сухопутности нашей в случае чего «об выплыть» не могло быть и речи! А тут — военный фрегат, и главное — пушка. Зачехленная брезентом, она торчала на носу, и я держался за ее штурвальчики и рычаги, укрываясь от ветра. Я вспоминал, что адмирал, прощаясь, сказал мне: — Через восемь часов штиль. И я решил держаться пушки. Артиллерия — она дело серьезное. Я бодрил себя, как мог. То я пел «подружку дорогую», благо за воем бури никто не мог бы услышать моего воя, то воображал, что расстреливаю ураган из моего покрытого мокрой брезе́нтиной орудия. Не раз меня подмывало улизнуть в каюту, не раз я встряхивал в ненависти свое пожилое тело, приказывая ему сохранять мужественное достоинство, потом делал очистительное дыхание индийских йогов, потом читал во весь голос «Медного всадника»… Все-таки я достоял до одиннадцати часов вечера. Борьба и самодеятельность изнурили меня до того, что когда я ввалился в каюту, где при синем свете ползал по полу мой портфель, я, едва свалившись на койку, уснул, хотя до пророчества адмирала оставалось не более двух часов. Помню только, как лязгало что-то над головой, железно грохотала дверь в соседней каюте, ревел вентилятор, и я был горд своим сухопутным мужеством. Утром я не сразу понял, что качки нет. Умывшись, я поднялся на палубу. Мы шли как в перламутре, где-то розоватом, где-то лиловатом. Ни берегов, ни облаков. Матрос сидел на самом рожне фрегата и вдруг кричал: «Бочка по правому борту!» И снова тихо, только шелест воды. Впереди, как сгущение атмосферы, далеко обозначался флагман. Какие-то темные птицы кругами ходили вокруг корабля, касаясь воды лезвиями крыльев, иногда, как бы врезаясь в зеленый мармелад волны, когда гребень скрывал их за собой. Все повеселели, и только Муза с трудом возвращалась к норме бытия… Я пошел в капитанскую рубку. Командир фрегата в поношенном кителе, молодой парень, принял меня очень дружески. В темноте радарного отделения светились, как два громадных зеленых глаза, круглые экраны, покрытые сетчаткой радиальных делений, и световые стрелочки крутились по ним, оставляя за собой фосфорический след. В этом туманце, как белое рисовое зернышко, вычерчивался впереди идущий флагман, а вокруг на сорок миль — ничего. Движущийся радиус вибрировал, будто он и впрямь скользит по поверхности воли и зацепляется за их гребни. В другом зеленом глазу поле обзора было больше, и возле границ окружности можно было видеть как бы след лунного дыхания — слабые пятна света: они отражали далекие берега. Мне показали, как (и очень легко!) надо отсчитывать расстояния от корабля до обнаруженных целей. (Тут все предметы, кроме своего корабля, называются «целями», — вероятно, именно так должен понимать мир зверь, идущий на охоту.) При помощи несложного прибора, вроде целлулоидных ножниц, можно быстро определить скорость любой «цели», если она движется. Тут же стоял прибор прослушивания подводных лодок и эхолот для определения глубины. Вопреки ночной темноте и расстояниям, корабль видит и слышит все на сотни миль вокруг, на сотни и тысячи метров вниз и вверх. Бедные, скромные чайки и альбатросы с их кустарным оборудованием древнейших конструкций! Вечером Симонов пригласил нас на сукияки собственного приготовления. К этому времени он получил признание всего экипажа, и я не удивился бы, если бы по его команде аквалангисты отправились бы под воду за морской капустой для приправы к его кулинарным творениям… В тесной кают-компании собрался экипаж, и был устроен литературный вечер. Симонов читал свои стихи. Среди них были очень хорошие, а некоторые ужасно плохие. Но милые лица передо мной как уставились на него своими мальчишечьими глазами, так и глядели до конца, и это было лучше любых похвал! И я готов был признать, что все читанные стихи преотличны. Перед сном я вышел на нос. Стоя на острие корабля, я чувствовал как будто бесконечное падение в пространство, лишенное света и звука: то ли я, то ли вся жизнь моя падали куда-то, освобождаясь от напрасного, открываясь чему-то огромному, ласково ожидающему меня. Навстречу с еле слышным шипением неслись тускло-зеленоватые бесформенности, да впереди — или внизу? — в бездне миров тоже падал и не удалялся светлячок флагмана.Переделкино 28/VI 1973
ПЛАНЕТА В ВИТРИНАХ Поездка в Брюссель
I
Теплоход «Грузия». Едва мы спустились в его подводный город, нас обдало рокотание сжатого воздуха, продуваемого сквозь все коридоры, сквозь все каюты, душевые, трапы, канцелярии, кухни, электростанции, прачечные, гладильные, дизельные, кубрики, парикмахерские… Он весь из железных балок и стальных листов, покрытых белой глянцевитой краской, в которой круглятся мутные отражения ярких ламп. Всюду, куда ни глянешь, пуговки заклепок, грани швеллеров, замотанные в эмалевые бинты толстые трубы и кабели. Дрожь и гул машин исходят от пола, от стенок, от дверей, от коек; кажется, пятнадцать тысяч лошадиных сил пульсируют во всем, к чему ты ни прикоснешься. Я бросил чемодан на койку и поднялся на палубу. Громада судна высилась над слабо освещенной мостовой порта. Мачты казались короткими и толстыми по сравнению с длиной корпуса, труба непомерно широкой, все напоминало гигантский отель с увеселительными верандами, нагроможденными одна над другой. Сотни людей толпились на них, перебивая лучи света из окон… На носу было безлюдно. Тут стояли машины с громадными барабанами и цепями толщиной в бревно. Бунты толстых канатов источали запах дегтя и влажного брезента. Ветерок приноравливался задуть навстречу, — тут было что-то от корабля. Вдруг залп страшного рева рванул воздух. Две медные воронки у трубы возвестили отплытие. Вскоре мы незаметно двинулись по темно-синему стеклу Даугавы, которое как будто светилось изнутри. Впереди была темнота с бледным следом заката. Из далекой фабричной трубы, обозначенной красными огнями для самолетов, выходил конус дыма под самый Юпитер.От Риги до Антверпена трое суток пути. Мчится море от носа к корме, мчится, мчится, как бурная река. И справа и слева — ничего, кроме неба и моря. Громадный лемех носа разламывает воду и отбрасывает ее от бортов сине-зелеными ломтями, покрытыми пеной. Ветер срывает хлопья пены, бросает их в воздух, и они оборачиваются чайками, летящими за кормой. Вот, косо взмыв от воды, они догоняют корабль, летят с ним рядом — неподвижные крылья, веретенообразное тело, такое обтекаемое, такое серебристое, что только окошечек не хватает на нем. Чайка, когда она птица, а не символ, злющее существо: клюет на лету собратьев по профессии, вырывает у них добычу. Впрочем, откуда же быть доброте? Изволь-ка от восхода до ночи носиться над морем и ловить рыбу, а попробуй устрой себе выходной — заголодаешь, ослабнешь, и тогда конец. Вот с одной как будто и случилась беда: быстро машет крыльями и еле поспевает за судном. Ни смелых виражей, ни внезапных пике к волне: шарахается и вот-вот упадет… Долго летела бедняжка за судном, наконец изнемогла совершенно и села на стрелу деррика. Я подошел. Нахохлившись, втянув голову в плечи и дрожа, передо мной сидел… голубь. Я взял его на руки. Сердчишко колотилось, глаза были полузакрыты, он не сопротивлялся. Когда он немного пришел в себя, мы дали ему хлеба. Он жадно стал клевать крошки, громко стуча клювом по доскам палубы. — Смотрите, — сказал кто-то, — у него на лапе кольцо! — Серебряное или алюминиевое… Чьи-то руки протянулись к голубю, чтобы взять его. Но птица увернулась. С голубиным скрипом быстро захлопали крылья, и только крошки хлеба были перед нами. — Пошел в Швецию, — сказал матрос. Кончилась безлюдность водных просторов, мы вышли на главную трассу Балтийского моря. Первые, кого мы обогнали, были рыболовецкие сейнеры «Герр Герман Штаде» и «Патриций». Они шли друг за другом, громко, как заводные игрушки, стуча моторами, совершенно обтекаемые и ослепительно белые. Эх, красители! Как нам быть с красителями? Почему у нас нет таких красителей? Ведь делаем вещи не хуже любых заграничных, строим дома, корабли, автомобили отличного качества, а кроем их чем-то, что через полгода становится мутным, бурым, в потеках и портит внешний облик нашего нового мира. Если вы хотите знать, что именно бросается в глаза в Германии, Голландии, Бельгии прежде всего, я отвечу тотчас: прежде всего — свежая и яркая поверхность предметов, будь это кузов грузовика, капот трактора, ткань тента над столиками кафе, рамы окон, стены домов, упаковка товаров, станки, женские платья — что угодно. Серость и щербатость поверхности вы встретите только в местах или старины, или нищеты. Конечно, первого и особенно второго в Европе немало, но уже это зависит не от качества краски, а от иных причин. А мимо идут и идут суда, как машины на автостраде. Низкие плоские танкеры, лесовозы, похожие на громадную пригоршню, полную гигантских спичек, сейнеры, у которых капитанские мостики откинулись назад, как будто от встречного ветра, широкобедрые, полногрудые, белотелые пассажирские лайнеры, универсальные грузовозы, оснащенные целым лесом погрузочных устройств.
Справа — Дания, остров Лолланд. Слева — Мекленбург, остров Фемарн. Позади слева, далеко, — Росток. Медленно тянутся часы. Морское путешествие — тренировка на терпение. Проходит полдня, и наконец мы входим в Кильскую бухту. Все население нашего плавучего отеля, вооружившись всей наличной оптикой, вытолпилось на палубы, к борту не подступиться: скоро канал — одно из замечательнейших сооружений на свете. Это уже Западная Германия. Шум наших машин прекращается. К борту подкатывается ярко-желтый катер, в катере сидят три лоцмана — три белые фуражки, три больших носа, три больших трубки, три пары громадных рук, положенных на острые колени. Один из них встает и с детской улыбкой поднимается на теплоход. Наш капитан Элизбар Шамарович Гогитидзе приветствует его на немецком языке. Мы медленно начинаем вдвигаться в гигантское полукружие бухты. Дамы в купальных костюмах и господа в трусах идут к нам по колено в воде: здесь мелко, как на Рижском взморье. Все теснее, все сухопутнее кругом. Мы уже становимся неестественно громадными в этом озере. Где же канал? Вот он, перед самым носом! Еле заметно мы вползаем в шлюз. Наконец-то лоцман проявляет себя. — Форзихтих! — кричит он на девчонок, которые топчутся на дебаркадере шлюза. — Осторожно! Всем заправляет капитан. Приятно смотреть на хорошую работу! В правой руке свисток, левая дирижирует. Быстрые, тихие команды: — Держать носовые, держать! — Травите корму! (Свист.) — Только не рвать. Тихо. — Травите корму — и конец. — Стоп! (Свист.) Теперь можно оглядеться. Там, далеко, за тюлевой дымкой, как кулисы на сцене, кругло вырезаны кроны деревьев. Какие-то аркады и гроты, напоминающие старинные иллюстрации к Гёте, замок с острой крышей и шпилем на башне… Ближе — колокольня с часами между двумя заводскими трубами, над которыми внезапно взрывается красное пламя. Литейка?.. А ближе — мачты, палубы, капитанские мостики, тросы, канаты — суда. На старом «Сэндли», черном от копоти, опершись на брашпильные барабаны, стоят трое в ужасной рванине. С головы до ног они покрыты слоем угольной пыли. Эх, красители! Тут угля хватило бы на целый стакан лучшего анилина! Парни смотрят на нас внимательно, — как видно, разглядывают нас в подробностях, изредка обмениваются соображениями, должно быть бесспорными для всех троих. Это кочегары, вышедшие подышать во время шлюзования. Внизу, прямо под нами, на асфальте дебаркадера, довольно много народу. Все стоят, смотрят, подняв головы, на наше судно. Часто то там, то тут поднимается рука, машет в нашу сторону. Подросток в заслуженных тирольских штанишках и с токующим тетеревом на груди, другой в черном джемпере с какой-то эмблемой на плече, третий с резиновым крокодилом под мышкой, девушка с кузнечиками на юбке, другая в громадных очках, молодая женщина с мальчиком, который держится за ее руку, два скаута в широкополых шляпах, с желто-красными значками на рукавах — все они заняты ловлей сувениров, которые летят к ним с палуб теплохода. Тут коробки спичек, значки туриста, открытки с видами Москвы, даже папиросы «Казбек»… Игра привлекает все новых участников. Мальчик, который держится за руку матери, очень взволнован: он не может почему-то бегать за подарками. И вдруг скаут, поймав что-то, подходит и протягивает ему вещицу. Все смеются, мать благодарит, мальчуган счастлив… Наконец ворота впереди раздвигаются. Мы входим в Кильский канал. Люди внизу машут нам прощально. Мальчик делает несколько шагов вперед, ножки его не сгибаются в коленях…
Путешествие по Кильскому каналу странно. Океанский лайнер занимает почти половину всей его ширины. Мы идем тихо-тихо, выдавливая пятнадцать тысяч кубометров воды, которая по какому-то гидродинамическому закону не набегает на откосы берегов, а, наоборот, отходит от них, обнажая камни отмостки. Мы движемся как бы в водяной яме; вероятно, перед нами и за нами два холма воды. Мы едем сквозь ФРГ! Именно едем, как будто мы не на океанском лайнере, а на трамвае. И берега, до которых, кажется, можно достать рукой, говорят нам: перестаньте шуметь машиной, бросьте торчать на палубах, идите сюда, смотрите, как тут хорошо! Берега посылают к нам бабочку, ласточку, крик петушиный и, чтобы подразнить сухопутных людей, милый запах летних равнин — запах сена. Копны стоят ровными рядами, возле них жужжат и быстро ползают маленькие верткие тракторишки, сияя синим, красным, желтым… Эх, красители! Странно: сидим в лонгшезах, слушаем радио о Пятом съезде Социалистической Единой партии Германии, а кругом, как в синераме, проходит Западная Германия в разрезе, та самая, в которой правят Аденауэр и Штраус. Впрочем, это нам не только известно, но вскоре становится и видно. Вот перед третьим мостом на левом берегу прикрепленная к двум шестам доска с какой-то надписью. В бинокль четко видны буквы:
И больше ничего нигде не написано. А буквы-то русские. Слова-то русские. Для кого же они? Для английской миссии? Для американской миссии? На первом мосту, прямо над нашей мачтой, стоял полицейский и напряженно вглядывался в теплоход. На втором мосту стояли полицейские. На третьем не было никого. И в тот момент, когда наша мачта подошла под его середину, там появились какие-то люди, и мы увидели, как от перил отделились два тюка и стали падать. Один из них развязался в воздухе, другой грузно ударился о доски палубы, — хорошо, что никого не ушиб. Это были тюки листовок на русском языке. Минута — и гнусные бумажонки оказались за бортом. Мост был пуст — бросавшие исчезли. Генезис и дурацкой надписи у моста и листовок ясен: раз есть ассигнования, найдутся и люди, которые будут выполнять любые поручения за эти деньги. Другое, гораздо более важное явление взволновало нас, когда мы шли по Кильскому каналу. Вначале мы думали, что имеем дело с воспитанностью, с любопытством, просто с случайностью. Но очень скоро все стало ясно. Вот мы нагоняем вереницу велосипедистов. Задние оборачиваются, потом что-то кричат передним. Все останавливаются, соскакивают с машин, вглядываются и вдруг начинают махать нам. — Хорошо, хорошо! — кричат по-русски. Вот старый человек крутит катушку спиннинга и замечает нас. Он кладет свой спиннинг, поднимается и прикладывает руку к козырьку черного немецкого картуза. Он стоит, длинный, в широких синих холщовых штанах, отдавая честь советскому теплоходу и улыбаясь. Вот на берегу, в тени кустов, ярко-зеленый обтекаемый «опель-олимпия» и перед ним в столь же ярких брюках и джемперах семья за обедом, — вероятно, отпуск. Мы проходим совсем близко. И тут фатер делает из ладоней рупор и что есть силы кричит в нашу сторону: — Хорошо! Спутник! Хорошо! И теплоход отвечает ему аплодисментами. Так движемся мы километр за километром и всюду слышим: — Москва! — Хорошо! — До свидания!«ВХОД ЗАПРЕЩЕН
ИНОСТРАННЫМ МИССИЯМ»
Снова море, теперь уже Северное. Сияет солнце, сияет синее-синее небо. На корме загорают товарищи туристы. В розовом аквариуме бассейна сопят и фыркают толстяки, худея. В салоне играют в шахматы, которые кто-то прозвал штормовыми: доска — метр на метр и фигуры размером с кегли. В другом салоне сгрудились возле карты маршрута. — Подходим к Голландии! И вдруг стало темно. Набежал ветер. Сразу оказалось, что кругом низкие тучи на подкладке из тумана. Дождь, какой-то особенно мокрый, брызжущий в разные стороны, обрушился на нас. Черным стало море. И тут появилась Голландия. Она появилась в разрывах тумана, там, где пять минут тому назад было только море, только море и ничего больше. Она поднялась со дна морского, я думал, что она поднимется еще немножко, но нет, она остановилась. Удивительный вид! Море, а на море лежат черепичные крыши. И встают из моря колокольни с луковками наверху, как русские, и стоят над морем на ажурных подставках гигантские ажурные утюги портовых кранов. А между крышами и морем низкий, покатый вал, как бы бруствер, — по нему, сбегают вниз и уходят под воду ряды вбитых в песок бревен. Идем час, идем два, идем полдня — все тянутся эти бесконечные укрепления: внизу, у воды, — камни, выше — гравий, потом бревна торчком, потом каменная кладка узором, потом колья в песке, потом кусты без листьев. За всем этим — красные, все в трубах, крыши, колокольни, заводские башни… Краны плывут, обгоняя друг друга, как бы погруженные в воду… Один бесконечный город. Китеж полуподнявшийся. Куда ни глянь, тут нет ничего, что не было бы сделано человеческими руками. «Природа создала море, голландцы — землю», — говорит пословица. В течение последних семи столетий голландцы отвоевали у моря около трех миллионов гектаров земли. Это был тяжелый труд многих поколений, великая битва, в которой победа иногда доставалась и морю. Тогда оно врывалось в города и деревни и с тупостью агрессора уничтожало жителей. И все-таки труд победил! В одном месте мы видели берега, какими они были до человека. Черно-серые отмели, и по ним переливается серо-черная вода. Есть ли на свете место, где суша и море так переходили бы друг в друга, где граница между ними была бы так размыта? Есть ли более тоскливый пейзаж? Любителям всяких теорий о тепловой смерти Вселенной, о том, что постепенно энергия обесценивается, что все уровни выравниваются, что когда-то наступит пора неподвижности и равновесия, надо именно тут сидеть, киснуть и воображать. Вот, мол, через какой-нибудь десяток миллионов лет реки разрушат все горы на свете, вынесут их песком в океан, выгладят материки, и станет вся земная суша этакой илистой жижей — то ли вода, то ли земля. Процесс этот, мол, уже начался, вот он. Начался, да и кончился. Во всяком случае, в отношении выравнивания берегов. И кончили его мы, человечество. И весьма вероятно, что так будет не только с берегами. Уже сейчас мощь человечества растет быстрее, чем мощь тех процессов, в которых проявляет себя энтропия. Эти процессы протекают так, как они протекали миллионы лет тому назад, а зато процессы обратные, проводимые человечеством, становятся сильнее с каждым часом. Второй закон термодинамики (как его понимал Клаузиус), этот герб и гороскоп космического пессимизма, был составлен на основании эмпирических данных о крошечном кусочке Вселенной, но, кроме этого недостатка, он обладает еще и тем, что его авторы и защитники, уважая природу, отнеслись с неуважением к самим себе, к познающему и творящему человеческому мозгу. А между тем именно этот мозг способен о б р а т и т ь энтропические процессы, направить их в противоположную сторону. Сегодня в большем масштабе, чем вчера, через месяц в гораздо большем масштабе, чем сегодня. Но ведь и у энтропии и у человеческой мысли практически безграничное время для сражения! Значит, решающее значение для исхода этой войны приобретает та скорость, с какой растут силы соперников. Кто-то говорил, что жизнь есть болезнь материи. Кто-то доказывал, что мозг есть вместилище иллюзий. Ну что ж, поживем — увидим. Посмотрим на себя с Луны, приглядимся внимательнее к себе на Марсе, зажжем какое-нибудь новое Солнце, чтобы светлее было рассматривать… Может быть, тогда и разберемся, кто мы такие. Только… Люди, давайте не воевать! Сколько труда вложено в эту планету, сколько силы накоплено в этих головах!.. Можно ли пускать в пыль воздвигнутое десятками поколений? И разбивать черепа, в которых вызревает прекрасное, ослепительное будущее?! …Дождь прошел так же внезапно, как начался. Но розовый туман остался. В нем лежало солнце, тоже розовое, прохладное после купания. Внизу черная дамба, прочерченная по голубой кальке моря, уходила вдаль.
Кончается наше путешествие. Вечер. Идем устьем Шельды, громадным, как морской залив. Слева — химические заводы. Телескопические башни, изогнутые трубы, цилиндры цистерн — все это подсвечено на многих уровнях оранжевыми огнями; говорят, что в тумане их видно лучше. Необыкновенная архитектура, как будто висящая в воздухе, состоящая из темных полос, устремленных вверх, и круглых сияний. Входим в Антверпен. Все ближе готическая колокольня знаменитого собора и рядом почти такого же роста башня с газосветной надписью: «Кредитбанк». Два буксира, курчавых от черного дыма, справа и слева ведут нашу теплоходину, как два черных пуделя, которых держит на поводках зоркий и спокойный капитан. — Вира на баке! (Свист.) И мы вплываем прямо в улицу — под флаги с драконами, под сановные лица двух пожилых львов, положивших лапы на щиты с гербами девяти бельгийских провинций.
II
Четыре дня на выставке, на которой представлены две трети земного шара! Согласитесь, что это небольшой срок. Даже если вам повезет и вы не будете тратить время на второстепенное, даже и тогда из самого главного вы увидите далеко не все. Здесь только Бельгия имеет пятьдесят павильонов! Значит, надо успеть повидать прежде всего то, что я знаю хуже всего… Нет, то, что я совсем не знаю. Лучше всего я знаю мой Советский Союз, наш Советский павильон. Этот павильон я изучал еще тогда, когда он был в проекте и я вместе с другими писателями принимал участие в его обсуждении. И все-таки я не могу не забежать «к себе домой» — повидать своих, а главное — увидеть павильон уже не в проекте, а в действии. Уже издали я узнал его. Величественный, громадный, весь из металла и стекла, он возвышался на левой стороне площади, на которую выходили павильоны арабских стран, США, Ватикана и Канады. Слева от него — здание советской синерамы и вход в советскую угольную шахту. Да, все как было запроектировано. И вместе с тем все по-другому. По широкой пологой лестнице шли люди. Это и составляло главное отличие от проекта и макетов. Они шли почти сплошным потоком. Во всяком случае, двигаться быстрее, чем они, значило толкаться. Еще более тесно оказалось внутри. Мне сказали, что цифры посетителей выставки и посетителей нашего павильона почти совпадают, то есть что почти каждый, кто побывал на выставке, посетил и Советский павильон. Бульварная газетка «Ля лантерн» («Фонарь») напечатала, что некто Клементино Гомес и его подруга Вера были приговорены к двум годам тюрьмы за то, что опустошали карманы и дамские сумочки возле макетов советских искусственных спутников Земли. Если это правда, то Гомес знал, где на выставке наиболее тесно, чтобы таскать бумажники. Если это вранье, то «Фонарь» знал, где на выставке наиболее тесно, чтобы читатели поверили сенсации о Гомесе. Все огромное пространство, перекрытое прозрачной крышей без видимых опор, как бы подвешенной к воздуху, все боковые антресоли — все было заполнено народом. Впоследствии ни в одном из павильонов Брюссельской выставки я не встречал такого многолюдства. Наибольшая теснота была в центре главного зала, там, где находились модели спутников. На этот раз спутники были неподвижны, а люди всех широт земного шара вращались вокруг них — этнографическая карусель! — и все с жадным интересом тянулись к космическим кораблям, творениям гения нашего народа. Я стоял возле и смотрел на людей. Такие же, как мы. Так же можно прочесть на их лицах удивление, восхищение, радость, — люди, объединенные общим чувством величия человечества, мыслью о невероятных перспективах, которые раскрываются за этими сложными сплетениями кабелей, трубок, полированными цилиндрами и металлическими усиками антенн… Когда-то, на заре столетия, именно так толпились мы перед «блерио» и «фарманами», так же хватали за руку соседа, искали, кто мог бы ответить на сотню вопросов… Это чувство необыкновенности на всю жизнь осталось у тех, кто взрослел вместе с авиацией. До сих пор и я, и многие мои ровесники, заслышав шум самолета, останавливаемся, задираем голову и смотрим на летящую машину, как будто мы ее видим чуть ли не впервые (наши дети, выросшие под моторный рев, этого и не замечают). А тут не самолет, тут зачаток космического корабля, который когда-нибудь — и, может быть, очень скоро — уйдет с нашей обжитой планеты в безжизненное пространство Вселенной. И это сделали «красные»! Как же так? Что все это значит? Я наблюдал многих посетителей нашего павильона. Они очень разные. Вот парочка монахинь. Они удивительно похожи, кажется, это сестры не только по названию, но и по происхождению. На головах их капюшоны с белой оторочкой, на груди, от подбородка почти до пупа, полукруглые крахмальные пластроны, из-под которых спускается на живот цепочка с крестом. Рук не видно: они скрыты в широченных рукавах черных шелковых ряс, и только петля четок виднеется, прикрепленная к запястью. Капюшон, ограничивая лицо, делает его четырехугольным. Лица у монахинь гладкие, белые, без оттенков, рты тонкогубые, глаза скрыты большими стеклами очков. Что-то начальническое, повелительное есть в их быстрой, деловой походке, в строго-непререкаемом выражении их губ. Вероятно, это католические педагоги. Одна из них, по-видимому, знает русский язык, она объясняет другой витрину с детскими книгами. Та достает из большой черной кожаной сумки, похожей на саквояж, клеенчатую тетрадь и быстро записывает что-то. Вот горбоносый брюнет в черной рясе и с тонзурой на темени. Он интересуется прежде всего тем, на что остальная публика обращает меньше всего внимания, — текстами на стенах, на пилонах, текстами под фресками. Он переписывает в маленький изящный карне:Зачем бы ему это? Вот толпа вокруг «Чайки»: юноши приседают и заглядывают под передний буфер, потом, прикрыв ладонью боковое стекло, рассматривают органы управления… Вот перед автоматическим станком отлично одетые люди ведут тихий и оживленный разговор с нашим стендистом, инженером, как, вероятно, и они. Наш вкладывает заготовку, пускает станок… Потом такую же операцию проделывает один из иностранцев. Они углублены в любимое дело, все трое — двое в узких брюках и один в более широких, один говорит по-английски с русским акцентом, двое — с немецким или голландским, но все трое сейчас друзья, товарищи… Неужто нет средств оставить их такими и завтра и послезавтра?! Я не хочу утомлять читателя перечислением всех видов посетителей Советского павильона. Мне хочется вспомнить еще только об одной как будто бы мелочи, касающейся наших гостей. Внутри павильона, над входом, есть антресоли. Оттуда очень хорошо виден весь простор главного зала. Там нет ни удобных кресел, ни ресторана, ни даже буфета. Там нет и экспонатов. Но там всегда люди. Сидят на скамейках, на которых расставлены цветы, стоят, облокотившись на перила. И смотрят. Отсюда не видать никаких подробностей экспозиции, никаких отдельных экспонатов. Значит, смотрят вообще на кусочек того нового мира, о котором так мало и так неверно знают. Подолгу смотрят. Размышляют? Давай бог! Я решил носиться по выставке, как быстрый нейтрон, рассчитывая только на длину ног и выносливость рецепторов. Десять кассет «Зоркого» должны были помочь мне впоследствии рассмотреть и вспомнить то, что не успел увидеть или забыл. Что делать! Первый Петя или первый Боря, которые полетят вокруг Луны, будут еще больше торопиться. Куда мчаться? Я жил в Англии, жил в Японии, бывал в Чехословакии, в Германии, в Венгрии… Значит, это потом. Начнем с Ватикана.«СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ЕСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН»
Беспросветная стена отделяет павильон от всего окружающего.
«Се — град божий, пребывающий в мире среди треволнений современной жизни. Вся слава и красота его внутри».Так написано в путеводителе. Перед входом дети. Их выстраивают парами женщины в монашеских одеяниях. Сейчас их поведут в «град божий» — смотреть «славу и красоту его», которые «внутри». Прямо против входа я вижу нечто очень знакомое. Э, да ведь это «Мыслитель» Родена! Почему он сидит тут, о чем размышляет? — Вас интересует, почему здесь помещена эта скульптура? Горбоносый, длиннолицый священник произносит французские слова грубовато, — может быть, это латынь звучит в его речи или он испанец? Голова неподвижна, как будто ей мешает поворачиваться стоячий крахмальный воротник, но губы чуть улыбаются. Он смотрит на меня ласково, с какой-то профессиональной заботливостью, как психиатр. Мне кажется, что он весь обращен ко мне, как звукоулавливатель, и следит за невидимым излучением моего лица специальными приборами, которые, может быть, у него в носу. Я пишу так подробно о нем потому, что это вслушивающееся выражение я видел у всех католических священников и монахов, которых тут прорва. Он ждет, пока я мысленно составляю более или менее грамотный ответ. — Я не понимаю, какое отношение имеет это произведение к католической церкви? — наконец произношу я как можно более по-французски. — Мсье, вероятно, русский? — спрашивает он, и радость, весьма похожая на естественную, озаряет его лицо. — На ваш вопрос легко ответить. Человек мыслит, он задумывается над миром: каков этот мир? Откуда он? Кто создал его? Хорош он или плох? Какова его цель? — А почему тут эти бабочки, и цветы, и вообще целый отдел естествознания? — Если мы оглянемся вокруг себя, мы увидим, как много прекрасного в мире, как совершенно устроена природа… Объяснять все это случайностью так же нелепо, как объяснять происхождение архитектуры землетрясением… Детерминизм… — Простите, а почему тут эта белорусская крестьянка? — О, это не в смысле белорусской женщины, это обобщение, это нищета вообще… — А почему эти русские детишки у разбомбленной избы? — Мы показываем тут бедность, лишения, которые терпит человечество… Это не русские дети, это дети вообще. Мы показываем, как страдает человек на земле, и Мыслитель задает себе вопрос: почему эти страдают, а вот эти… Горбоносый повернул меня от старых советских фото, которые, вероятно, предназначались не для русских и комментировались гидами обычно иначе, и передо мной оказались кутящие богачи и даже декольтированные дамы с бокалами в руках. — …а вот эти погрязли в разврате… — Да, действительно, почему? — Потому, что они забыли бога, отвернулись от заповеди Христа… — Понятно. А что означает эта картина? — Мсье так торопится… Тут много важного… Вот, например, величайшие достижения техники, атомная энергия… — На этой картине изображены последствия атомного взрыва? — О, что вы! Наоборот. В результате размышления наш Мыслитель приходит к неизбежному выводу, что кто-то должен был сотворить весь этот прекрасный мир, столь мудро устроенный. — И эту атомную бомбу, и этих кутил? Горбоносый разводит руками. На лице его сожаление, он как бы говорит: о заблудшее чадо, не торопись, я все тебе объясню… Но в это время к нам подлетает крепенькая и небрежно одетая женщина и, брыкая руками, накидывается на меня, крича по-русски: — Это вы хотите посмотреть град божий? Через пять минут я освобожусь. Ждите меня здесь! И она убежала, брыкая руками и ногами. — Так что же означает эта картина? — Это панно работы профессора Ван Сана имеет площадь в двести квадратных метров и изображает… Панно это изображало следующее. Среди треугольников разных цветов в темном гамаке пытается приподняться существо, сделанное из полукружий. На конце его длиннейшей шеи — нечто головообразное, без глаз и рта. Общий вид вполне насекомый и геометрический. — Это панно изображает сотворение человека богом. Из вежливости я молчу, но он понимает отлично, что я ищу способа не расхохотаться. — Обратите внимание на эту скульптуру модерн. Мы получили ее из Англии. Автор — Флейшман. Это — воскресение Иисуса Христа. Привешенная к стене, надо мной была скульптура. Она представляла собой латы из светлого металла, пустота которых ощущалась даже на расстоянии. Латы имитировали голого человека с поднятыми вверх руками. Самым ужасным было его лицо. Металлический цилиндр с прорезанными овалами, обозначающими глаза, вверху был полукругло обрезан, и это изображало лоб, а внизу расклепан, чтобы получилось подобие бороды; нос был заменен скобой, рот — поперечным вырезом. Вся эта конструкция была пустой, жестяной, отвратительно немощной, — казалось, от нее исходили запах консервной банки и жестяное позванивание. Мой гид опять прекрасно понял мои мысли. Он сказал: — Публика привыкла к искусству модерн, она требует нового… Сейчас, рассматривая снимок этого «Воскресения», я вспоминаю картинные галереи Брюсселя и Антверпена, которые мне удалось мельком посмотреть, великую нидерландскую живопись. Какую титаническую работу взвалили на свои плечи Рембрандт, его предшественники и последователи, чтобы утвердить легенду о Христе, то есть облечь ее в плоть, в телесность! Они стремились приблизить христианского бога к простым людям, гениально изображая в нем человеческое, прежде всего человеческое. Страдания истязуемого. Умирание прекрасного, полного молодости тела. Ужас и отчаяние матери, теряющей сына. Безысходную печаль ее, когда он уже мертв… Даже воскресение — как торжество мечты о том, что человек победит смерть… Сколько правды из окружающей их жизни показали художники, воплощая в образы выдумку, созданную за полторы тысячи лет до них! И вот теперь передо мной консервная банка с дырками вместо глаз! Невероятный, трагический упадок… Там, где когда-то люди пытались найти живое значение символа, где искренняя вера восполняла все недомолвки разума и творческий гений очеловечивал сказку о боге, ныне осталась одна жестяная условность. «Публика любит модерн»! — Что еще можете вы мне показать? — спросил я горбоносого. Но тут к нам подкатилась опять крепенькая женщина: — К сожалению, у меня массовая экскурсия, а вам ведь нужны специально серьезные объяснения. Вот пэр Пьер будет вашим чичероне. Она брыкнула руками и исчезла, и я остался на попечении пэра Пьера. Он говорил по-русски, как коренной москвич. Только некоторые слова произносил не по-нашему, — например, вместо телевидения он говорил «телевизия», вместо позитрона — «позитон», вместо кино — «синема». Это был высокий, стройный человек лет тридцати пяти, с розовым лицом, обрамленным рыжей бородкой, с глазами синими и, вероятно, близорукими. От него пахло сигарами и коньяком. Сперва выяснилось, что его мать русская, через некоторое время оказалось, что его отец «тоже, собственно говоря, русский». Пэр Пьер повел меня наверх. Там, в небольшой комнатке, сидел человек, сделанный из самоварных труб. Верх верхней трубы, изображавшей голову, был искромсан, так что получилась жестяная бахрома, торчавшая к потолку, — это означало: волосы встали дыбом. Трубо-руки были подняты к трубо-голове. Все в целом должно было выражать крайнюю степень растерянности. — Современный человек, — начал пэр Пьер, — находится под различными, самыми противоречивыми влияниями. Синема, телевизия, театр, литература, политическая пропаганда тянут его в разные стороны, и он не знает, что ему выбрать. Действительно, вокруг трубо-человека было развешано множество всяких афиш и увеличенных кадров из кинофильмов. — Бедняга, — сказал я, думая о самоварном скульпторе, — действительно, как же ему быть? — Он должен руководствоваться велениями своей христианской совести и оберегать себя от соблазнов. — А если соблазны сильнее, чем совесть? Или если она не знает, как оценить соблазнительный фильм о гангстерах? Пэр Пьер улыбнулся. — Издаются специальные бюллетени, в которых сообщается, какие фильмы, радиопрограммы, книги следует смотреть или читать и какие нет. Для детей существуют специальные указатели… Это и был тот самый средневековый «индекс либрорум прохибиторум» — список запрещенных книг, о котором мы учили еще в школе, только теперь к запрещенным книгам прибавились запрещенные радио- и телевизионные программы, кинофильмы и спектакли, а самый «индекс» стал печататься в католических журнальчиках вроде «Семэн» («Неделя») и других.
Полюбовавшись футуристической живописью, самоварной скульптурой, кадрами из фильмов, фотографиями бабочек и цветов и стремясь уже выскочить из этой мешанины, я невольно останавливаюсь перед фото, на котором изображен телескоп и рядом — портреты Нильса Бора, Гейзенберга и других известных ученых. Оказывается, это гвоздь Ватиканского павильона — раздел «Религия и наука». И оказывается, что расцветом науки человечество обязано именно католической церкви и папам лично. Религия не только совместима с наукой, но наука подтверждает религию. Папа лично, персонально увлекается астрономией. Нильс Бор и Гейзенберг состоят членами папской «академии наук»… — Это Коперник? Это Галилей? Но тогда почему же здесь нет Джордано Бруно? Пэр Пьер набрасывается на меня с объяснениями: — Бруно действительно здесь нет. Галилей, конечно, подвергался преследованиям, но Коперник… Теория Коперника не была враждебна учению католической церкви. Книга Коперника была принята папой благосклонно… Во всем виноваты протестанты… В книге не было ничего противоречащего христианскому учению… Враги церкви распространяют эти слухи… Вот в этом проспекте вы найдете… Приехав домой, я полюбопытствовал перелистать некоторые книжки о Галилее и Копернике и сравнить их с проспектом. В проспекте было написано, что церковь приняла Коперниково учение как не противоречащее ее доктринам. Но в книгах о Копернике я нашел следующее. В декрете Конгрегации индекса запрещенных книг от 5 марта 1616 года было осуждено новое учение. «Поскольку до сведения этой Конгрегации дошло, — говорится в декрете, — что ложная пифагорейская доктрина, совершенно противоречащая св. писанию, которую Николай Коперник изложил в книге «Об обращениях», уже получила распространение…» И далее идет решение о запрещении. В книгах о Галилее я прочел, как требовали от Галилея, чтобы он отрекся от Коперникова учения, как допрашивали его в инквизиции, как заставили больного ученого стать на колени и, положив руку на Евангелие, прочесть перед членами инквизиции заранее заготовленную формулу, в которой он признавал ошибочными все основные свои открытия и убеждения и обязывался не распространять их ни устно, ни письменно. Небось этой отвратительной сцены не показали устроители павильона в своем разделе «Религия и наука»! Знаменитое сочинение Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», снискавшее ему бессмертную славу, было запрещено. …Футбол и телескоп, хирургия и коллекционирование марок, морские купания и теория расширяющейся Вселенной, экономические кризисы и насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек — все привлечено сюда. Зачем? Для уловления душ. Надо, чтобы каждый нашел тут то, что его интересует, и связал это с католицизмом. Вслушивающиеся, вглядывающиеся люди в черном, люди-звукоуловители, люди, нюхающие ваше дыхание, имеют в запасе штучки на разные вкусы. Они подсчитали те добрые дела, которые были сделаны святыми сверх плановых заданий, и из этого резервного фонда могут отпустить вам ваши грехи, если вы в этом нуждаетесь. Они подсунут вам свой «христианский социализм», если вы рабочий. Они не будут вторгаться в ваши исследования, если вы ученый, а только препарируют их на свой лад. Они закажут вам написать икону из треугольников и трапеций, если вы «левый» художник. А если, например, вы православный? Все выглядит так, словно забыты анафемы, которые патриарх Фотий посылал папе Николаю Первому, и папские буллы, которые послы Льва Девятого возлагали на алтарь собора святой Софии в Константинополе, с отлучением патриарха Михаила. Папа «молится за бедных верующих в странах социализма», будь они православные, протестанты или католики — все равно. Ватиканская типография издает православные, на русском языке, Евангелия, деликатно вынося в комментарий расхождения в текстес синодальными дореволюционными изданиями. Бельгийские католики издают русские молитвенники, да и сам пэр Пьер — не гибрид ли он католичества и кафоличества? Может быть, он участвует в православных богослужениях, которые производятся в павильоне Ватикана? Так что не только астроном или футурист может найти идейное покровительство в Ватикане, но и представитель враждебной церкви. Единственно, кто не будет там принят, — это коммунист. Вот тут-то уж сразу воскреснут все анафемы, интердикты, инквизиции, индексы… Тут-то и проходит линия фронта. Кроме Евангелия и молитвенника вы можете получить в «граде божием» всякие-разные брошюрки и буклеты, в которых найдете черт знает что о нас, о нашей стране, о коммунизме, о советской власти, хотя такого рода «пропаганда» и противоречит статуту выставки. Вопли оголтелых черносотенцев мешаются в них с шипением «филозофов», угрозы — с проклятиями. Все это мирно лежит рядом со «священными» книжками и научно-божественными альбомами. И дамы с вострыми носами продают и раздают это, благостно улыбаясь. Укротить свои народы и напустить их на нас — вот политическая соль беспросветного павильона, огражденного глухой стеной, вот та его «красота, которая внутри». Как хорошо, что можно, наконец, оказаться снаружи! Но при расставании пэр Пьер говорит мне: — Может быть, вы хотели бы закусить? Наш ресторан «Град божий» самый дешевый и самый доброкачественный на выставке. И он показывает мне на трехэтажный стеклянный ящик рядом с павильоном. — Ах, это тоже ваше? Нет, благодарю, я сыт. Прощайте.
Американский павильон превосходно построен. Он свидетельствует о том, что в США есть очень хорошие архитекторы и инженеры. Очертите круг диаметром в сто три метра, поставьте по окружности стальные иглы в двадцать пять метров высотой и положите на них гигантское велосипедное колесо, в котором тридцать шесть стальных тросов высшего натяжения играют роль стальных спиц, стягивающих обод с втулкой; только эта втулка — очень большое кольцо, барабан, висящий над серединой круга. Теперь подвесьте к ободу колеса стальную сеть до полу, ячеи которой забраны прозрачной пластмассой, а спицы крыши покройте тоже листами полупрозрачного пластика — и павильон готов. Это гигантский шатер из стали и пластмасс, прозрачный, покрывающий высокие ивы, что выросли тут, на приволье парка. Барабан в центре крыши открыт. В него видно небо. Под ним — бассейн, куда, если дождь, стекает вода. Все просторно, легко, светло. Проект принадлежит нью-йоркскому архитектору Эдварду Д. Стоуну. Крыша и стены были сделаны в Англии. Это, несомненно, новая архитектура, она возможна только вследствие того, что существуют такие материалы, как особо прочная конструкционная сталь, особо легкие, прозрачные материалы — пластмассы. Как и архитектура Ле Корбюзье, она не приспособлена для холодного климата. Но многое в ней достойно использования и в наших условиях. При Американском павильоне существует театр. Он тоже очень хорош. Тот же архитектор применил здесь тот же прием, что и в павильоне, — сетчатые стены и потолок. Но только в театре за этой сеткой расположены сотни лампочек. Их не видно, однако их свет, растекаясь по пластмассовой кольчуге, создает превосходный эффект сияющей парчи, которая складками собрана на потолке и ровным ковром покрывает стены. Когда при наступлении антракта постепенно включается освещение зрительного зала, кажется, что само пространство, в которое вы возвращаетесь от спектакля, начинает лучиться светом… И в павильоне, и в театре нет никаких украшений, никаких колонн, пилястр, архитравов, арок и т. д. Только мягкие изгибы чистых линий, последовательность плоскостей, просторы для свободного движения взгляда. И полное соответствие цели: в павильоне — удобство экспозиции, в театре — при небольшом объеме — более тысячи ста удобных, широких кресел, и сцена видна отовсюду одинаково хорошо. Можно поаплодировать мистеру Стоуну и его сотрудникам.
Вы входите в павильон и слышите — аплодируют. Вы спешите увидеть — кто, кому? На берегу центрального бассейна небольшая толпа. Преобладают мужчины. Они хлопают и свистят. Потом наступает тишина. Все смотрят вверх. Со второго яруса по наклонному мостику спускается молодое существо. Покачивая почти отсутствующими бедрами, оно вступает на белый, как бы накрахмаленный плот в центре бассейна. Короткая юбка кринолином, жакет-размахай и туфли на игольчатых каблуках. Уперев левую руку в бок, существо сгибает правую в локте, раскрывает ладонь на уровне плеча и задирает голову налево. Вот жест, который можно истолковать только однозначно: «Беру!» Кажется, кто-то должен подойти сзади и вложить в ладонь кредитку. Сколько? Сейчас мы узнаем. Посредине плота стоит на тонкой ножке диск-циферблат. В центре — знак доллара, а кругом — цифры. И стрелка. Мадемуазель поворачивает стрелку: цена видна всем. Потом она сбрасывает размахай и оказывается в купальном бюстгальтере. Тут и раздается взрыв мужских аплодисментов. Это и есть центр павильона, его гвоздь. Над этим и сияет небо гигантского барабана, вокруг этого и излучают свет пластмассовые стены, сюда и сходятся лучи свободного пространства… Вы этого хотели, мистер Стоун? Или вам было безразлично, что там будет внутри, и вас интересовала только архитектура? Я надеюсь, что последнее. Потому что все остальное вызывает недоумение, и не только недоумение. Я пошел бродить по павильону. В нем почти не было людей. Экспозиция начиналась внизу, у входов, разделом, который назывался «Лицо Америки, ее прошлое, настоящее и будущее». Там стоял срез громадного калифорнийского дерева, что должно было подчеркивать древность американской земли. Рядом лежали сухие, коричневые початки кукурузы пятнадцатого столетия: Америка — родина этого злака. Рядом стоял автомобиль Форда 1903 года, что «символизировало начало конвейерного производства автомобилей, каковое сделало Америку нацией на колесах», как сказано в путеводителе. Тут же под стеклом находился стеклянный цилиндр на ножке, о котором было сообщено, что это первая электрическая лампа в мире, изобретенная Эдисоном, — сообщение сомнительное, если не ошибочное. Так было изображено прошлое Америки. Представьте себе, если бы наше прошлое было изображено мамонтом, колосом пшеницы «украинки», лампой Ладыгина и машиной Ползунова? Маловато. И однобоко. А настоящее? В длинном ящике, как в гробу, лежит человек. Собственно, человека нет, но это вы замечаете не с первого взгляда. Присмотревшись, вы убеждаетесь, что перед вами пустота, одетая в бандажи. Кожаные, пластмассовые, мягкие, жесткие, ножные, коленные, грудные, набрюшные, локтевые… А наверху — шлем, а внизу — чудовищные ботинки, а посередке — перчатки вроде боксерских. Оказывается, это одежда современного американского регбиста. Средневековые латы были не более громоздки. Далее вы входите в полукруглый коридор, весь оклеенный газетами. Оказывается, нынешний день США характеризуется не тем, что именно пишется в газетах, а тем, что одна газета выходит на четырехстах с чем-то страницах и весит два кило. И все в этом роде. Вы проходите по прекрасному павильону, вы видите много хороших предметов — чемоданов, кастрюль, стульев, автоматических машин… То есть вещей. Но это вещи, которые можно встретить в любом другом павильоне, в витринах магазинов любого большого города. У вас создается впечатление, что устроителей, которым была поручена «начинка» павильона, меньше всего интересовал народ, создающий все эти вещи. Кто работает в Америке, если верить павильону? На этот вопрос четко отвечает плакат, вывешенный на видном месте:
Работают доллары и автоматы. А народ? Американского народа нет в Американском павильоне. Есть пустота в бандажах. Впрочем, есть еще тот ложный и фальшивый облик американца, который возникает в представлении посетителя, когда он осматривает павильон. Облик, живущий в воображении «идеологов», создававших «начинку» павильона. Как эти люди представляли себе американца? Это самодовольный, очень ограниченный лентяй, который любит только праздность, которому кажется, что все вещи рождаются сами, автоматически, и что они интересны только с одной стороны — насколько они гармонируют с ничегонеделанием. Прошлое родины его абсолютно не интересует, что же касается будущего, то оно интересно в той мере, в какой можно будет приобрести вот этот холодильник новой марки или вот эту юбку или поваляться на пляже вот в таких невероятных трусах… Если строители павильона США проявили высокий художественный вкус, то строители идеологической надстройки, действовавшие внутри павильона, показали себя и в этом отношении с худшей стороны. Заботы о пропаганде мещанства, вероятно, вытравили из них понимание прекрасного и отвращение к пошлости. Я не бывал в Америке. Но я уверен, что тот манекен, который создали пропагандисты, организаторы павильона, никак не похож на подлинного американца, на простых людей Соединенных Штатов.ВЛОЖЕННЫЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЛЛАРЫ —
РАБОТАЮЩИЕ ДОЛЛАРЫ
На одном из самых видных мест павильона красуется длинное, высотой в два человеческих роста, панно, на котором в ультралевой манере изображены люди на фоне улиц разной архитектуры, вплоть до старорусской. Несмотря на то, что их головы меньше их кулаков, что их тела чудовищно искажены, а некоторые из них даже вовсе не имеют ног, или шеи, или живота, это не карикатуры. Это «серьезная живопись». И она, вероятно, должна изображать не голландцев и не китайцев, а именно американцев. И эта живопись, как мне кажется, выбалтывает то ложное и скверное, что думают об американском народе организаторы павильона. Люди на панно — прежде всего лодыри. С зонтиками или фотоаппаратами, в шортиках или пиджаках, они имеют скучающий и крайне индифферентный вид. Они украшены какими-то вызывающими прическами, буффами, воланами, раскосыми очками и прогуливаются по городам мира, как завоеватели по колониям. На их лицах с тонкими, презрительно искривленными губами, с глазами, глядящими сверху вниз, нет ничего — ни мысли, ни любопытства, ни ожидания, ни радости, ни удивления. Только высокомерие. А ведь это все вранье! Я помню тех американцев, которые приезжали к нам в тридцатых годах как специалисты и как рабочие для консультации и для передачи технического опыта. Были среди них и отдельные типы, подобные персонажам панно, но они являлись исключением. Большинство же представляло собой простых, общительных, дружески настроенных к нам людей, и именно эти-то люди и создавали в Америке все те вещи, которые так бездушно и ярмарочно выложены в павильоне США на выставке в Брюсселе. Вот почему характер, общая направленность экспозиции Американского павильона возбуждают недоумение и еще одно чувство, а именно — стыд. Стыдно, что талантливый, творческий и очень много работающий народ показан как народ сибаритов и бездумных фанфаронов.
III
Павильон фирмы «Филипс» ни на что не похож. Может быть, это парус? Или это нос какого-то судна? Нет, пожалуй, он напоминает шатры, бетонные полотнища которых еще не все натянуты должным образом. И вместе с тем в сочетании прямых линий с округлыми и плавно выгнутыми поверхностями есть что-то от музыкального инструмента — раструба, деки, резонатора… Словом, ничего подобного архитектура никогда не создавала. На первый взгляд кажется, что форма этого здания — плод произвола, случайности, каприза архитектора. Но чем больше вглядываешься, тем яснее становится, что это не только задумано, но и продумано, что все углы, наклоны, изгибы возникли от мысли, а не от каприза. К сожалению, знаменитого Ле Корбюзье, автора проекта, не было в Брюсселе, и мне не удалось услышать от него самого объяснений его замысла. Я видел только его наброски и получил некоторые сведения от работников павильона. В 1956 году радиофирма «Филипс» обратилась к архитектору Ле Корбюзье с предложением сделать проект павильона, в котором можно было бы демонстрировать успехи фирмы в области звука и света. Ле Корбюзье ответил:«Я хочу создать не павильон, а поэму. Это будет электронная поэма. Она должна быть конденсатором следующих поэтических элементов: света, цвета, изображения, ритма, звука и архитектуры. Все эти элементы должны составить некий органический синтез, доступный самой широкой публике».— Конечно, — добавил Ле Корбюзье, — в то же самое время эта поэма будет демонстрировать технические достижения вашей фирмы. …Ле Корбюзье — один из крупнейших и самых известных архитекторов современности. Многие его жестоко критикуют, многие превозносят, но никто не отрицает его большой роли в развитии архитектуры двадцатого столетия. Здесь не место разбирать его философские ошибки, его утопические мечты, его архитектурное творчество, в последний период очень отдалившееся от реальности. Но мне хотелось бы напомнить читателю некоторые положения архитектурной теории Ле Корбюзье, провозглашенные им уже давно и в те времена бывшие новостью. Жилище должно быть связано с природой не только вне города, но и в городе. Транспорт должен быть изолирован от жилья. Деловая часть города должна быть отделена от жилой. Дом должен работать, как «машина для жилья», то есть полностью отвечать всем здоровым потребностям человека — в отдыхе, в приготовлении и приеме пищи, в гигиене, в воспитании детей, в спорте, в сосредоточенности при умственной работе. Ле Корбюзье не делает различия между архитектором и инженером-конструктором, он рассматривает связь между ними как условие создания новой архитектуры. Назначение здания, инженерная конструкция здания и внешний облик здания составляют, по его мнению, единство, где одно зависит от другого, одно обусловливает другое. Строительные принципы, провозглашенные Ле Корбюзье, уже давно применяются многими инженерами во всех странах мира. Это прежде всего «свободный план» здания. Дом строится, как этажерка: на его перекрытиях можно планировать комнаты и ставить переборки как угодно, независимо от несущих стен. Затем это «свободный фасад»: этажерочная конструкция позволяет как угодно распределять окна, входы и т. д. Свободная крыша. Она должна быть плоской, и ее следует использовать для гигиенических целей — соляриев, плавательных бассейнов, детских площадок. Свободный нижний этаж. Дом начинается со второго этажа, устанавливается на столбиках. Нижний этаж предоставлен для стоянки автомашин, велосипедов, детских колясок, для прохода пешеходов, для циркуляции воздуха. Горизонтальные окна, дающие более широкий обзор и лучше освещающие помещение. Ле Корбюзье придает особое значение в архитектуре умелому использованию самых различных строительных материалов — пластмасс, металлов, а особенно железобетона, позволяющего создавать любые пространственные формы. На выставке я видел много примеров чудесных возможностей железобетона, который способен как бы нарушать законы тяжести и общепринятые представления о сопротивлении материалов. Представьте себе большой зал, длиной более двадцати пяти метров, который висит над землей, будучи укреплен только с одного конца. В этом конце он опирается на мощные устои. Чтобы тяжесть зала не вывернула устои из земли, зал уравновешен длинной бетонной стрелой в семьдесят восемь метров. Таким образом, конструкция из искусственного камня общей длиной более ста метров имеет только одну очень маленькую зону опоры, подставленную под центр тяжести всей системы. Как на весах, тут справа и слева примерно равный вес, а небольшие его изменения в ту или иную сторону не имеют значения. Так построен бельгийский павильон «Инженерное дело». Конечно, это выставочный трюк, он не имеет в данном случае функционального оправдания: незачем залу висеть, не к чему стреле простираться в воздухе. Однако он демонстрирует силу железобетона с напряженной арматурой. Мы знаем и другие замечательные качества этого материала, которые широко используются сейчас строителями в СССР. Предлагая архитекторам взять на вооружение новые строительные материалы, Ле Корбюзье, как мне кажется, не делал никакой ошибки, наоборот, он расширял арсенал технических и эстетических возможностей архитектуры. Мне говорили, что Ле Корбюзье плакал, рассказывая, как ему не дают строить то, что он считает необходимым для блага людей. С ужасом и негодованием этот старый человек описывал невыносимые условия, в которых живет большинство горожан Европы, в особенности с тех пор, как автотранспорт сделался хозяином узеньких старинных улиц, а теснота в домах, и без того возросшая из-за малого строительства жилых помещений, еще усугубилась вследствие шума, который производят всевозможные звуковые приборы — радио, патефоны и т. д. Начав с виллы в Гарше, построенной на потребу богачей, Ле Корбюзье пришел к широким мыслям о городах света, воздуха и зелени. Но мысли эти остались мечтами. Лишенный площадки для массового строительства, оторванный от тех людей, для которых он хотел строить, наконец, видя, как его идеи, упрощенные и вульгаризованные, используются архитекторами, умеющими устраивать свои дела, Ле Корбюзье, человек нетерпимый и авторитарный, все больше стал отходить от практической деятельности, все глубже стал погружаться в сложные теоретические построения… Павильон для «Филипса» не первая его работа, в которой задачи оптики и акустики решаются ради этих задач, а не ради людей. Часовня в Роншане, в долине реки Соны (1953), — творение того же порядка. «Приятно, — сказал он, — хоть раз посвятить себя проблеме, которая перестала быть вообще интересной, — создать вместилище интимной сосредоточенности и размышления». И уже тут, в проекте этого здания, «безжалостные математика и физика должны были стать душою тех форм, которые будут предложены зрению…». Когда фирма «Филипс» предложила Ле Корбюзье построить для нее павильон на Всемирной выставке, он не мог не считаться с желанием фирмы рекламировать свое производство. Однако он увидел возможность если не построить «город солнца», о котором он мечтает, то хотя бы сказать миру о том, как он понимает этот мир. И здесь, мне кажется, он потерпел поражение.
На этот раз заказчик не интересовался тем, что именно будет говорить художник. Фирме было важно, на сколько голосов будет он говорить. Свет, и звук, и цвет, и изображение, да еще сложнейшее распределение всех этих элементов в пространстве и времени — все это создавало «большой стенд» для фирмы. Ее конструкторы, ее лаборатории и ее производство могли устроить фестиваль всех своих технических достижений. А поскольку Ле Корбюзье человек с выдумкой и большой оригинал, то он, вероятно, выдумает что-нибудь такое, что привлечет любопытство публики. Ле Корбюзье принялся за работу. К семидесяти годам горячему, умному и талантливому человеку есть что сказать миру, — во всяком случае, ему хочется это сделать. Тем более что аудитория на этот раз была громадной — десятки миллионов людей из всех стран. Технические условия были поставлены жесткие. Во-первых, павильон должен был вмещать пятьсот посетителей при минимальном объеме. Во-вторых, он должен был очень быстро освобождаться от одной партии посетителей и столь же быстро принимать следующую. Значит, его надо сделать в виде коридора? Нет, потому что коридор не даст возможности сгруппировать зрителей в компактную массу, не позволит им всем одновременно видеть все, следить за перемещением цвета, звука и изображения. Значит, куб? Но тут вступали в действие требования акустики. Никаких параллельных плоскостей, чтобы избежать эха, поскольку звук будет исходить из всех точек поверхности всех стен. Звук возможен гигантской силы, и вместе с тем он должен быть отчетлив, — значит, поверхности стен, которые одновременно и источники и отражатели звука, должны быть наклонены и повернуты по отношению друг к другу или, вернее, по отношению ко всем своим участкам определенным, наилучшим образом… Значит, шар? Но тут вступали в силу требования оптики. Стены должны иметь такой наклон и такой изгиб, чтобы изображение, которое будет на них возникать, было минимально искажено… Словом, геометры, акустики, математики, оптики и электротехники после длительных проб и вычислений пришли к заключению, что демонстрационный зал должен иметь форму усеченно-коническую, гиперболико-параболоидную. О торжество рационализма, поэтическая мечта о том, что мощь математики достаточна, чтобы создавать поэзию! Откуда эта мечта возникает? Я думаю, из отчужденности от людей. Математика позволяет такую отчужденность, но поэзия, но искусство — никогда. Поэт бежит в математику не потому, что он хочет сделать математическое открытие, а потому, что ищет в ней оправдания и объяснения своим творениям. Тогда как единственный судья для него — люди, а не математика. Но если он их ненавидит? Или боится? Или не знает? Или просто не умеет быть с ними? Помните, Эдгар По написал статью о том, как сделана его поэма «Ворон»?
«Мое намерение, — писал он в начале статьи, — сделать очевидным, что ни один пункт в этом замысле не является результатом случая или интуиции, что произведение создавалось шаг за шагом, достигая своей законченности с точностью и строгой последовательностью математической проблемы».И далее «шаг за шагом» Эдгар По разворачивает «историю» создания «Ворона». Он поставил себе технические условия очень жесткие. Во-первых, надо, чтобы ее объем не превышал ста строк. Во-вторых, надо, чтобы она была печальна, потому что лишь печаль производит наибольшее впечатление на человеческую душу. В-третьих, в ней должен быть припев, потому что «среди всех «метких приемов» я не преминул немедленно увидеть, что никакой прием не имел такого всеобщего применения, как припев…» И так далее. По этой статье выходит, что и сюжет поэмы, и форма ее, и даже слово «никогда», которое, как припев, повторяет ворон, — все это было выведено Эдгаром По с математической неизбежностью из абстрактных положений о склонностях и страстях человека и с такой же математической неизбежностью должно было произвести наибольший из всех возможных психологический эффект в душе читателя. Был создан алгоритм поэмы. Потом началось его выполнение. Нет ничего легче, как опровергнуть эту фантасмагорию, однако и сама статья о создании поэмы есть тоже поэма. Она тоже полна внутренней печали, потому что математикой замещена в ней любовь к людям и забота о них подменена использованием их особенностей для того, чтобы с наибольшим эффектом потрясать их души. Пафос рационализма в искусстве есть пафос оторванности от людей, от народа. Отчужденность от людей не означает всегда ненависть к ним, презрение к ним. Так было у По, но не так может быть у других художников. В капиталистическом обществе творить для народа и о народе нелегко, продраться сквозь экономические препоны к душам людей и служить им бывает иногда просто физически невозможно. И художник уходит в мечту, в абстракцию, в математику, в построения, которые исходят из пользы людей, но уходят от них слишком далеко. Так случилось и с Ле Корбюзье. …Итак, параболоидные гиперболоиды конического сечения были воздвигнуты между альгамброй Марокко и образцовым коровником Голландии. Физики, техники и художники, создавшие этот небывалый храм, авторы этого странного творения, принимали как должное взаимные поздравления. Они торжествовали, однако делали вид, что нет ничего удивительного в их успехе. — Это же вполне логично, — говорили и даже писали они, — что структура, состоящая из комбинации усеченных конусов и гиперболико-параболоидиых форм, оказалась не только правильным практическим решением, но в то же время явилась убедительным архитектурным образом! Математика породила художество. Им думается: они нашли алгоритм прекрасного! Я не могу, разумеется, согласиться с ними, но не могу и смеяться над ними. Все мечты о силе разума, о грядущей власти его над миром мне дороги. Может быть, и художник будущего не будет смеяться над теми, кто в стремлении получить небывалый урожай пытался наложить два поля одно на другое: поле искусства и поле науки. А пока проверим алгебру гармонией, войдем в павильон Ле Корбюзье. …Слабо освещенный, уходящий вверх бетонный шатер. Ничего, кроме этих наклоненных и неподвижно поворачивающихся поверхностей грубой фактуры. На них вразброс — созвездия ромбических нашлепок: громкоговорители. Их четыреста! Вдоль стен, следуя за их поворотами, — щит немного выше человеческого роста, за ним — световая аппаратура. Все это мрачновато, неприютно и неприятно. Кажется, что ты попал не туда, куда тебя звали. Тут будут делать что-то, что важно для техников, для производственников, и ты будешь только мешать им. Сейчас включат механизмы и начнут какие-то эксперименты. Над кем? Уж не над тобой ли? Гаснет свет. Только за щитом — слабое сияние. Тишина. Мы ждем. И вот где-то сзади, у меня за спиной, возникает звук. Сперва очень слабый. Он движется вокруг меня, вот им звенит уже та стена, к которой я обращен лицом. Да, это звон. Может быть, это звенят кольца гремучих змей? Или это идет дождь тонких, сверкающих фольговых лент? Так вступает в электронную поэму еще один ее автор — композитор Эдгар Варез. Его называют «семидесятилетним юношей», имея в виду его жажду нового и смелость исканий. Он ровесник Ле Корбюзье. Они были молоды полвека тому назад, но мальчишеский задор новаторов не погас в них… Итак, дальше! Над нами начинаются вспышки. — Что это? — спрашиваю я своего гида, француза. Кажется, он шокирован моим вопросом. Он отвечает быстрым шепотом, как в церкви: — Не все ли равно! Никогда не доискивайтесь смысла в новом искусстве. Смотрите, слушайте и вглядывайтесь в себя. Ваше ощущение ответит вам лучше, чем ваш разум. Звон достигает такой силы, как будто он хочет остаться в ушах навсегда. Вдруг он переходит в свист. Снаряд? Бомба? Я не спрашиваю, что это. Я боюсь показаться вульгарным моему французу-знатоку. За щитом разгорается густо-лиловый свет. Он заливает стены снизу вверх. Густой звук, тяжелый, тягучий, как деготь, сотрясает воздух. Вверху возникает изображение. Чего? Нечто вроде орнаментальных фресок Озанфана. Нечто геометрическое, чертежеобразное, с элементами фабричных деталей. В звуке щелчок. Ударили по бамбуку? Да, это джунгли. Бамбук… Музыка Африки? Обезьяны. Бизон. Матадор. Шпага. Плащ. Бой быков? (Все это неподвижно. Фото, а не кино.) Что означает матадор? Смелость человека? Борьбу его воли с «джунглями дикости»? Но ведь дело не в матадоре, дело в человеческой мысли? А, вот! Череп. Череп человека, вместилище мозга. Слава создателю, кажется, я угадал. Лунный свет заливает стены. Тяжкие, глухие удары. «Бумм!.. Бумм!» — как написал Ле Корбюзье в своем сценарии. Череп. Мозг. Полушария мозга. Все громче, все напряженнее: «Бумм!.. Бумм!..» Голубой свет… Более густой синий. Ультрамариновый свет. Лица ученых. Глухие удары сменяются короткими, отрывочными, острыми стуко-звонами. «Пиццикато: ти-тик-тик!» — так обозначил этот «музыкальный момент» Ле Корбюзье в своем сценарии. Пульсирует мысль? Прокалывает мысль тайны природы! Или «пиццикато: тик-тик!» обозначает что-то другое? Но спрашивать нельзя… Я не спрашиваю. Наверху — головы ученых, глаза ученых, руки ученых… Монтаж глаз, пальцев, лбов… «Целый балет ученых носов», — записал Ле Корбюзье. Внизу ультрамариновый свет становится темным. Выше он переходит в красный. Еще выше — в ярко-желтый. В этом красно-желтом свете возникает голова негра из Конго. Потом появляется голова маори. За нею следуют: скелеты динозавров, обезьяны, рамзесы, страшные маски, глаз петуха, глаз человека, глаз мухи, разные статуи древних, скелет человеческой руки… Убитые на поле, Освенцим, плачущая мать, богоматерь, Будда, ученый, рабочий, Чарли Чаплин… Ракета уходит в небо, люди в ужасе, атомный взрыв, зловещие филины, детали машин, галактические туманности, солнце, поцелуй влюбленных, дети, Нью-Йорк и — под вой предельной силы и ужасного тембра, под грохот, который еле может выдержать слух, — изображения бедствий атомной войны.
Я не привожу всей моей записи «Электронной поэмы»: это ничего не прибавило бы к тому, что тут изложено. Изображения, которые появляются на стенах, вполне конкретны. Это фотографии. Череп есть череп, негритянка есть негритянка, и матадор есть матадор. Но почему после фотографии четырех ученых появляется фотография негра из Конго, зритель понять не может. Он видит, что фотография ученых уже не портрет, а символ чего-то, и фотография негра тоже что-то обозначает, и он не в состоянии найти это значение, осмыслить эту связь. Когда Дзига Вертов почти сорок лет тому назад создавал свою кинопублицистику, он уже в то время опередил Ле Корбюзье в отношении средств выразительности. Прежде всего элементами работ Вертова были не диапозитивы, а живые, движущиеся кадры кинематографа. Они были полны динамической выразительности и силы. Правда, зачастую они были лишены адреса, то есть теряли значение документа о конкретном событии, однако они полностью сохраняли колорит времени, национальности, местности и служили для выражения локальных, весьма конкретных мыслей. Затем Вертов пользовался словом. Он доводил его в своих немых фильмах до предельного лаконизма, он подчеркивал его смысл графически и динамически, заставляя буквы набрасываться на зрителя, взрываться, убегать, выстраиваться в ряды, уходящие вдаль, и т. д. Слово поддерживало весь смысловой ряд фильма и само было наделено эмоциональной силой. Наконец, как ни неожиданны бывали сочетания кадров в фильмах Вертова, они никогда не производили впечатления произвольных. Строгое, логическое оправдание всегда было налицо. Зритель п о н и м а л движение идеи, понимал не только вообще, а и в каждом отдельном куске картины, в каждом монтажном переходе. После первых публицистических выступлений Вертова появились его более сложные, скорее поэтические, чем журналистские работы, такие, как «Энтузиазм» («Симфония Донбасса») и «Три песни о Ленине», в которых отбор и последовательность кадров были подчинены не только логической, но и музыкальной задаче. Они достигали необыкновенной эмоциональной силы. Они потрясали далее людей, которые не знали нашей страны и нашего языка: настолько выразителен был язык документальных кадров, мастерски снятых, талантливо объединенных мыслью и чувством. «Я считаю этот фильм одной из самых волнующих симфоний», — писал Чаплин об «Энтузиазме». «Великий фильм, один из самых прекрасных фильмов, которые я когда-либо видел», — писал Герберт Уэллс о «Трех песнях». Можно ли сказать что-нибудь подобное об «Электронной поэме» Ле Корбюзье? К сожалению, нет. К сожалению потому, что Ле Корбюзье талантливый художник и было бы приятно поблагодарить его за новое хорошее произведение. «Электронная поэма» плоха. Она плоха не только потому, что ее средства выразительности устарели: смешновато выглядят картинки волшебного фонаря в годы расцвета цветного, звукового, панорамного кино. Поэма плоха не только потому, что ее автор не сумел сделать последовательность выбранных им фотографий последовательностью мыслей зрителя, что между зрителем и поэмой — стена неясности, болото многозначности. Главная беда поэмы в том, что ее концепция ошибочна, наивна, ненаучна. Вот ведь какая странность: в математически построенном павильоне средствами новейшей электронной автоматики демонстрируется дилетантское, антинаучное произведение. Когда я прочел о задачах, которые ставил перед собой Ле Корбюзье, я был поражен. Оказывается, первый эпизод посвящен… образованию Земли. Второй эпизод — «Материя и дух»; уж не этот ли «балет ученых носов» — материя и дух? Далее: «Человек творит богов в самом себе» — богоматерь и Будда в лиловом свете, вероятно, относятся к этому эпизоду. «Люди строят свой мир» — я этого не увидел нигде. «Гармония» — где она в мире и где она в «Поэме»? И апофеоз: «Миссия человечества в том, чтобы сохранять достигнутые успехи и передавать их потомству». Вот почему в конце я видел на стене руку, которая делает жест, словно она принимает что-то. Судя по этим темам, автор хотел охватить самое главное в жизни не только сегодня, но и на протяжении тысяч, миллионов и даже миллиардов лет существования нашей планеты. Конечно, переход от обезьяны к человеку относится к этому главному. Но после? Что было после? Была какая-то путаница микроскопов, масок, глаз мухи, галактик и атомных взрывов. Но главного, что определяло всю историю человечества, не было. Одни группы людей пытались угнетать и угнетали другие, а те, другие, стремились освободиться от этого гнета. Эта борьба и была причиной конфликтов в истории человечества. Разве Ле Корбюзье ничего не знает об этом? Было в веках и то, что гений человека создавал новую технику и добивался все большей и большей продуктивности своего труда. Так росло производство, усложнялась экономика. Разве об этом не знал Ле Корбюзье? Наконец, было и то, что неугомонный, жадный, вдохновенный мозг человека, сознательно отражающий все, что происходит вокруг, искал объяснения этому происходящему и допытывался законов природы. Так росла наука человечества. Было еще и то, что человек стремился передать человеку свои чувства, выразить для всех, как живет скрытая для посторонних глаз душа людей. Так рождалось и расцветало искусство, лучшие творения которого звали человечество к доброму и благородному. Не может быть, чтобы над этим не задумывался художник, создавший «Поэму»! Ничего этого нет или почти нет в «Электронной поэме» Ле Корбюзье, хотя, как я уже сказал, он поставил перед собой задачу рассказать о развитии человечества в тысячелетиях и о целях, к которым идем. И получилось путано и бедно. Получилось много ужасов и мало смысла. И я невольно вспомнил человека из самоварных труб в павильоне Ватикана: схватившись трубо-руками за трубо-голову, не знает, бедный, как разобраться во всей путанице обступающего его мира. Вот почему, вероятно, не случайно в каком-то месте «Поэмы» появляется на стене фотография головы Христа из Шартрского собора, как материализованная надежда человечества на лучшее будущее! Только надеяться — не больше! Только грезить! И бояться, бояться, бояться будущего. …Я пишу все это как бы в упрек Ле Корбюзье. Однако, во-первых, я не знаю, насколько сохранила бы фирма «Филипс» свое безразличие к содержанию «Поэмы», если бы в ней была показана движущая сила исторического процесса — классовая борьба. Во-вторых, я не знаю, насколько был знаком Ле Корбюзье с наукой об обществе, и, может быть, он, как в свое время Герберт Уэллс, будучи честным и прогрессивным человеком, вместе с тем относился с пренебрежением невежды к марксизму. Но такое уж у советских людей обыкновение: говорить об ошибках столь же прямо, как и об успехах.
Теперь немного об Эдгаре Варезе и его музыке. Мне сказали, что Варез большой музыкант, что он один из деятелей Филадельфийского симфонического оркестра. Следуя схемам, которые предложил Ле Корбюзье, Эдгар Варез создал музыку к «Поэме», хотя музыкой ее можно назвать с тем же правом, с каким абстрактную живопись можно назвать живописью. Пожалуй, лучше называть ее звукописью, поскольку в слове «звук» не обязательно присутствует понятие тона, без которого музыка в общепринятом смысле невозможна. В чудесном холле Голландского павильона мы с одним из работников павильона «Филипс» рассматривали наброски Ле Корбюзье и Вареза. Холл этот ничем не был облицован внутри: темно-красный кирпич, низкая деревянная панель, деревянные балки, поддерживающие потолок, и громадное, в половину стены, от пола до потолка, окно зеркального стекла. Разносили чай, крепкий, ароматный, в маленьких чашках грубого фарфора, коричневых снаружи и белых внутри, ставили на стеклянные столики, низкие, под стать низким креслам, на которых мы сидели. Вокруг было так изящно, так изолированно от мира: и цветок в керамической вазе, одинокий, по японскому обычаю, и тихо беседующие, прекрасно одетые интеллигентные люди возле окна, и тема нашего разговора — новая «электронная музыка», наброски Эдгара Вареза. А что, если все это вздор, выдуманный рафинированными интеллигентами, которым нравятся уединенные размышления в холлах со стенами из голого кирпича — материала грубого, а следовательно, и наиболее изысканного? Но ведь замечательные произведения мысли и художества нередко создавались в сосредоточенном уединении и в обстановке, не чуждой изящества, уюта, комфорта?.. Все это так. Пожалуй, не было ничего плохого в кирпичном холле. Плохо было за его пределами — в Голландской Гвиане, в Голландской Вест-Индии… Там было плохо. А тут очень даже хорошо. Итак, наброски Вареза. Внизу листа проведена одна черта вместо пяти привычных нотных линеек. Над ней отмечены равные отрезки. Может быть, это такты? Возможно, тем более что возле них цифры ударов метронома, указывающие темп. На нотной линейке, выше ее и ниже, отмечены «ноты» в виде стрелок. Некоторые из них объединены в триоли, некоторые стоят отдельно, с указанием длительности. Тут же значки пауз. Таким образом, ритмический рисунок читается довольно точно: его можно настучать. Поскольку стрелочки стоят выше, ниже и на уровне линейки, можно выстукивать их разной высотой звука, — скажем, тонким карандашом и книгой по доске стола. На верхней половине листа начерчены кривые, восходящие и падающие, пересекающие одна другую. Судя по значкам «меццо форте», «форте» и «фортиссимо», это — кривые силы звука для отдельных его источников. И все? В том-то и дело, что все. Можно ли что-нибудь «исполнить» по этим нотам? Конечно, нет. Ибо тут нет никаких указаний на тембр звука. На точную разницу в высоте. Зачем же эта запись? — Я полагаю, — сказал мой собеседник, — что этот листок только для памяти. Он нужен и понятен композитору, а для исполнителя он ничто. — Значит, исполнить эту звукопись может только композитор? — Да. Причем только один раз. — А потом? — А потом ее будет исполнять, или, вернее, воспроизводить, звукопроецирующий аппарат. — Следовательно, исполнительское искусство исключается? — В такой же мере, в какой оно исключается при демонстрации кинофильма. Во время сеанса механик только следит за исправной работой аппаратуры. Какая-либо интерпретация кадров или звука физически невозможна. — Но как же создаются звуки? — Фирма предоставила Варезу специально оборудованную лабораторию, в которой с ним работали акустический эксперт фирмы и ассистент по звуку. В распоряжении композитора — обычная запись любых звуков и шумов, вполне безграничное разнообразие: шум дождя и пение, выстрелы и звуки рояля, жужжание мухи и рев реактивного самолета… — Но я не слышал ничего похожего на эти звуки во время демонстрации «Поэмы»! — Конечно. Потому что эти звуки — только сырье, исходный материал для композитора. Он может их изменять и добиваться того звучания, какое кажется ему нужным. — Каким образом? — Пуская их воспроизведение быстрее или медленнее, накладывая на них другие звуки, даже заставляя их начинаться с конца, то есть перезаписывая их при обратном движении ленты. Техника предлагает художнику множество способов изменять звуковой материал. — Значит, творец звукописи должен мысленно представлять себе не только тот звук, который он хочет использовать, но и способ, каким можно его получить? — Несомненно. Он должен обладать громадным звуковым воображением. Представьте себе, что развитие темы его произведения требует в каком-то месте звуков настолько особенных, таких неслыханных, что даже своему ассистенту он не может объяснить, как они будут «выглядеть». Только приблизительно он может себе наметить то звуковое сырье, из которого можно получить желаемое. И тогда он начинает пробовать, экспериментировать с разными записями, причем возможно, что в этих поисках он находит новые звучания и новые звуковые образы… Так он совершенствует свой слух и свое умение, тренирует воображение… — Значит, всякая мелодия исключается из этого искусства? Воспроизвести голосом тот или иной опус человек не может. — О, конечно! Но ведь навряд ли кто-нибудь может пропеть увертюру к «Лоэнгрину»! Однако запомнить для внутреннего вашего слуха электронную музыку вы можете. — Скажите, — решился я спросить напоследок, — а вам лично нравится звуковая сторона «Электронной поэмы»? Тонкое и умное лицо моего собеседника озарилось улыбкой (уж не совершил ли я бестактность, задавая этот «интимный» вопрос?). Потом оно стало серьезным и как будто менее официальным. — Когда я слушал это впервые, — сказал он, вспоминая, — я был испуган. Больше того — мне казалось, что мой слух опустошен, использован до предела его возможностей. Еще минута — и я уже не мог бы вообще выдержать это напряжение. Тембры и ритмы все время меняются, едва успеваешь освоить одно звучание, как вдруг будто из-под земли вырастает другое, его уже нагоняет третье, и еще, и все новые и новые. Я был оглушен не тем сатанинским грохотом, который вы слышали в момент атомного взрыва, когда вы кожей лица чувствуете сотрясение воздуха, а именно непривычностью звуков и внутренней работой по их восприятию. Однако эта музыка меня заинтересовала. Я думаю, что она не может не вызвать любопытства. Я стал слушать еще и еще. Впервые я начал понимать что-то с того места, когда, помните, звук, похожий на женский голос, все повышается и вращается вокруг вас. Я почувствовал в нем грусть, и заботу, и любовь… Потом я примирился с другим эпизодом: далекие удары колокола, и им отвечает как бы отзвук труб. В этом есть ощущение надежды и вера в счастье. Он умолк в раздумье. Дымок его сигары тонким стебельком поднимался вверх и закручивался там, образуя серый условныйэлектронный цветочек. Нам принесли чай с чем-то, напоминающим отрезки матового шнура. Напротив за стеклянный столик села девушка, сделанная из шуршания нейлоновых складок и черноты искусственных ресниц. Мой собеседник спросил меня: — А вы? Как понравилось это вам? — О, я в худшем положении, чем вы: я слушал это только два раза и еще не привык. На следующий день в павильоне Франции, возле экспонатов из Сахары, меня остановили странные звуки, напоминавшие творение Эдгара Вареза. Я попросил моего гида, очень милую девушку Сильвию, провести меня в кабину механика. Там сидел молодой и тучный негр, и возле аппарата стоял высокий, крепкий парень с буйными светлыми волосами и синими глазами. Он сделал нам знак садиться, как будто мы были его сменщики. Когда фильм закончился, он подсел к нам и стал с любопытством вглядываться в меня. Вероятно, советский человек интересовал его не меньше, чем меня интересовала «музыка» к фильму о Сахаре. Я спросил его, кто автор этой «музыки». Он пожал плечом: — Я не знаю. А вы хотите послушать? — Спасибо, я уже послушал. Я хотел знать… Негр встал и подошел к полке, на которой стояли коробки с пленкой. Он вытащил граммофонную пластинку и молча подал мне. Я прочел:
«КОНКРЕТНАЯ МУЗЫКА. СОЧИНЕНИЕ ПЬЕРА ШЕФФЕРА И ПЬЕРА АНРИ. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФИЛЬМА «САХАРА СЕГОДНЯ».— Значит, эта музыка называется «конкретной», а соответствующая живопись называется «абстрактной»? — спросил я. Негр, смотревший на меня с таким выражением, словно только и ждал, когда советский человек скажет что-нибудь веселое, хлопнул ладонями о стол и захохотал. — А вам как нравится сочинение Шеффера? — спросил я. Синеглазый парень опять дернул плечом. — Это меня не интересует. Мое дело — крутить пленку. Я не музыкант. — Но вы можете мне объяснить, что обозначают эти звуки? Вы знаете, что хотел сказать автор? Негр наклонился ко мне и, страшно округлив глаза, оглушительно прошептал: — Шеффер знает, по никому не сказал об этом. Мы поднялись. Синеглазый парень и негр кивнули нам так, как будто мы через час встретимся с ними за обедом. Я спросил Сильвию, что думает она по поводу «мюзик конкрет». — Я думаю, что к этому можно привыкнуть. В живописи и в музыке много значит мода. Новое хорошо не потому, что хорошо, а потому, что ново. Старое кажется архаичным. Если завтра начнут красить губы зеленым, красные губы покажутся вульгарностью и наивностью. И она посмотрела на меня с тем милым величием, которое так идет к ее округлому лицу Будды, воплотившегося в парижанку двадцати лет. Однако здравый смысл был в ее словах. Мода в искусстве много значит. Это плохо. Но ведь и застывший канон в искусстве тоже плохо. Искусство должно двигаться вперед, а не стоять на месте, не копировать прошлые, пусть и прекрасные, образцы. — А как вы сами относитесь к «мюзик конкрет»? — спросила меня Сильвия. И я ответил ей так, как думал и думаю сейчас: — Я многого в ней не понимаю. Я знаю, что это не музыка в нашем обычном смысле. Безумием было бы заменять ею нашу музыку. Но я не хочу отмахиваться от нее. Надо изучать и надо пробовать. Новое всегда кажется странным и не часто бывает сразу приятным. Кроме того, иногда оно обманывает, это тоже надо иметь в виду. — Очень благоразумно и очень осторожно, — сказала Сильвия с высоты своих буддийских небес. — А как вам понравились картины советских художников? — Они очень старомодны. Но перед ними всегда толпа. Все согласны с тем, что они обладают какой-то потрясающей силой. Некоторые говорят, что это сила не искусства, а вашей жизни. — Но раз искусство передает силу жизни, значит, оно хорошее искусство? — Вот, посмотрите, это «флоке», — сказала Сильвия, показывая на коричневое сукно, которым была обита стена. Я провел пальцами по сукну, и на нем остались полосы против ворса. — Это не сукно, — продолжала она голосом диктора. — Пульверизатор наносит на стену жидкую пластмассу, в которой настриженные волоски искусственной шерсти. Тут она большой розовой рукой провела по ворсу и стерла темные полосы, оставленные мной. — По-видимому, это быстро и дешево? — подтвердил я переход на новую, менее щекотливую, чем проблемы искусства, тему. Мы бегло обошли павильон. Несомненно, мне не удалось повидать в нем очень многого. Французы — это вкус. Иногда чересчур изысканный, иногда не в меру «модерный» (словцо пэра Пьера), но всегда чуждый вульгарности и грубости, какие можно увидеть в павильоне США по вине его пропагандистов. Я видел здесь громадные красно-бело-черные гобелены, сделанные в очень «левом» стиле, однако их супрематистский орнамент был очень красив. Я видел рисунки обоев, напоминающие структуру стали под микроскопом, и это было тоже красиво. Я разглядывал здесь книги по искусству, изданные ослепительно. Я уверен, что никто в мире не создает таких шедевров книжного дела, не достигает таких высот репродуцирования, как мастера и рабочие полиграфической промышленности Франции. К сожалению, все это настолько дорого, что малодоступно рядовым французам. Впрочем, французов не удивишь дороговизной. Сильвия показала мне флакон духов, который стоит… 450 долларов! Я был также в отделе, посвященном литературному творчеству. Здесь с тщательностью и любовью собраны рукописи, книги, личные вещи больших писателей Франции, умерших за последние двадцать лет (со времени выставки 1937 года в Париже). Самое замечательное в этом отделе — звучащие документы. Вы можете услышать голос Колетт, Поля Элюара, Ромена Роллана и прекрасного писателя, погибшего недавно, — Антуана де Сент-Экзюпери. Как жаль, что мы до сих пор так безразлично относимся к сохранению для будущих поколений живого голоса наших писателей, слово которых еще долго будет любимо потомками! В первой четверти века эту работу вел профессор Бернштейн в Ленинграде кустарными средствами, при помощи старинного эдисоновского фонографа с восковыми валиками. У него в лаборатории удалось мне услышать голос Александра Блока — напевное, как будто безразличное чтение стихов, полное не то печали, не то обреченности… Не знаю, как передать волнение, которое осталось во мне и возникает всякий раз, когда я вспоминаю этот голос. Я уверен, что для того, чтобы верно почувствовать поэта или писателя, звучание голоса его еще более необходимо, чем внешний облик! Сохранилась ли эта запись? Переписана ли она с бедного воска? …Я простился с Сильвией возле гигантской бетонной пяты, на которой, по замыслу архитектора Жилле, утвержден в «подвешенном» равновесии весь громадный Французский павильон. Тут тоже, как и в творениях Ле Корбюзье для фирмы «Филипс», математическое обоснование играет главную роль. «Основная конструкция павильона, — говорит Жилле, — имеет форму двузубца, на двух остриях которого покоится крыша, представляющая собой сеть, сплетенную из стальных тросов, и в форме двух ромбов с одной общей стороной, изогнутых в виде гиперболических параболоидов». Жилле утверждает, что теория напряженной сетки, разработанная ученым Рене Саржером и практически доказанная на примере Французского павильона, позволяет применять этот принцип в строительстве больших сооружений. Подобного рода способ строительства, говорит Жилле, «возможно, станет таким же этапом в развитии архитектуры, каким явилась смена тяжелого романского стиля легким готическим или каким была замена каменной кладки металлоконструкциями». Я не спорю с Жилле о будущем. Несомненно, новые строительные технологические принципы раскрывают большие перспективы, особенно для стран с теплым климатом и не слишком буйной атмосферой. Но почему Американский павильон, использующий тоже новейшие материалы и новейшие методы строительной технологии, красив, а Французский — нет? (Я умышленно не хочу вводить в эту полемику наш, Советский павильон: тут я являюсь, так сказать, «стороной», и меня могут заподозрить в пристрастности.) Ленин говорил об опасности чрезмерного увлечения физиков математическим аппаратом, в результате чего «материя исчезает», остаются одни уравнения». О произведениях архитектуры, подобных работе Жилле, можно сказать, что «красота исчезает, остаются одни уравнения». Из бетонной пирамиды высотой с двухэтажный дом в разные стороны торчат четыре трубы огромной длины, диаметром почти в метр, и шесть столь же могучих балок. Они упираются в двутавровые балки потолка-крыши. К этому потолку примыкают наклонные прозрачные стены с такой путаницей рам, стоек, стяжек, разной толщины и разных сечений, посаженных и поставленных под разными углами, что за конструкцией не видать общей формы. Кажется, что стена еще только строится и вот уберут все эти подсобные металлические леса — тогда мы и увидим архитектуру. В общем это несколько напоминает металлические клетки, которые водружают наши ремонтные организации, когда приводят в порядок фасады больших домов, или антенны гигантских радиотелескопов. Вероятно, будущее архитектуры не только в математике, хотя оно и невозможно без математики. Впрочем, даже в математике бывают способы решения, о которых специалисты говорят, что они красивы, и бывают такие, которые хотя и приводят к цели, однако долго, трудно и «некрасиво».
Я поднялся еще раз наверх, чтобы сфотографировать конверт, в котором лежала пластинка Шеффера: там были объяснения по поводу «мюзик конкрет». Но кабина синеглазого парня была заперта. Возле одного из стендов Сахары стояла группа экскурсантов, и молодой человек давал пояснения, любуясь тембром своего голоса. — Сахара сегодня — это противопоставление двух миров, — говорил он. — Один мир весь в традициях тысячелетий, мир медлительных движений, привыкший к условиям жизни труднейшим… О, эта жизнь, полная молчания, столь же загадочного, сколь и опасного!.. Пауза и смущенная улыбка артиста, знающего, что он сыграл хорошо. И дальше: — А мир другой, который вторгся в эту вечность? О, это полный контраст! Это мир молодой, динамичный, шумливый, не зависящий от расстояний… Мир техников, мир машин… В течение одного столетия солдаты Франции, ее миссионеры, ее врачи и ее ученые умиротворили и познали безграничную пустыню… Это болтовня воинственного и самовлюбленного юноши стендиста? Увы! Юноша декламирует с чужого голоса. Все это напечатано в каталогах и путеводителях. «Загадочное молчание Сахары…», «мир медлительных движений…» И — солдаты, миссионеры… Странно, но именно тут, в этом шикарном павильоне, наполненном вещами модерн и первоклассными машинами, я с удивительной ясностью увидел, что попал к отсталым людям! «Солдаты Франции, сорок веков смотрят на вас с этих пирамид…» «C’est magnifique!» — «Это величественно!» Боже мой, какая архаика! Неужели же кто-то всерьез верит этим басням о неподвижности Востока и о величии солдат и попов, которые «умиротворяют» пустыню?!
Я был в павильоне Бельгийского Конго. Это очень богатый павильон, как все павильоны Бельгии. Там много интересного. Прекрасно показан растительный и животный мир этой гигантской территории, которая больше, чем Бельгия, в семьдесят пять раз и с населением большим, чем в метрополии, на 3 миллиона человек. Я как бы побывал в темнейших лесах Африки, видел громадные трубы бамбука, по которым прыгали веселые мартышки, видел бабочек с размахом крыльев чуть ли не в треть метра, любовался ярчайшими панно с птицами, цветами и плодами удивительных форм и с масками, очень страшными и очень живыми… Потом я пошел смотреть «Конгораму» — так называлось комбинированное зрелище в зале, потолок которого был выложен кусками всех горных богатств Конго. После того, как на экране были показаны людоеды, а на раздвижных ширмах — многочисленные генералы, полковники, адмиралы и солдаты («сорок столетий» смотрели на них с высоты пальм, и это было, конечно, очень «гран»), диктор, захлебываясь от восторга, начал возглашать главное. — Медь! — кричал он, и на потолке светилась медь, а на экране черные люди копали землю. — Сурьма! — рычал диктор, и перед экраном спускался стенд с сурьмой. — Золото! — шептал диктор, и тут уже все начинало сверкать, распахиваться, вертеться… И снова черные голые люди тащили что-то на головах. Все эти вспышки, стук распахивающихся ширм, шум передвигаемых стендов, крики и шепот четырех дикторов и двух дикторш посвящены одному: сказочным богатствам Конго. Кто добывает их? Кто живет там? Там живут и там трудятся… этнографические объекты! В павильоне вы можете получить о них подробные сведения: об их лицевом угле сравнительно с лицевым углом белых рас; об их телосложении сравнительно с телосложением белых; о том, что раньше в Конго было людоедство и охота, а теперь — христианство и промышленность. Вам покажут живую негритянку под стеклом. Она обратилась в христианство и обращает других. Вы можете посмотреть на детей Конго — они тоже живые и тоже под стеклом, что-то плетут, сидя в креслицах. Единственный вопрос, на который вам не ответят в павильоне, — это почему за почти восемьдесят лет бельгийского владычества большинство населения этой громадной страны неграмотно, ходит голым и живет в соломенных шалашах. Или, может быть, в ответ начнется болтовня о негритянской неполноценности? Сказать по совести, тесно душе в просторных павильонах Конго! Скрыть правду нельзя. Этнографией замазать социальные проблемы невозможно. Миссионерскими интернатами не удается замаскировать дикость и бедность народа. Возле павильона — скульптура: юноша и девушка из Конго стоят, расставив ноги, подняв над головой сложенные руки. Юноша и девушка очень красивы, полны силы, прочно стоят на крепких ногах на земле родной своей Африки. Их лица, их поза полны решимости, — кажется, сейчас они двинутся и движение их будет неодолимо. Но в скульптуре этой есть знаменательное противоречие. Ладони и пальцы рук художник сделал плоскими, бессильными, безвольными. Кажется, что юноша и девушка приготовились для физкультурной зарядки, что они вполне ручные, безопасные. Смотришь на прекрасную скульптуру работы Дюрана, и кажется, что черные руки, гимнастически поднятые над головой, медленно-медленно сжимаются в кулак.
Советский павильон на выставке — один из самых больших. Он заполнен множеством интереснейших предметов, он представляет нашу Родину на собрании стран в парке Хейссель в Брюсселе. Но я, осматривая выставку, был все время «сам себе Советским павильоном». Куда бы я ни пошел, что бы я ни увидел, все приноравливал к нам или сравнивал с нами, и, оказывается, внутренняя моя работа была направлена столь же к иноземному, сколь и к своему собственному… Особенно хорошо понимаешь и особенно сильно любишь родную страну, видя другие. В павильонах и отделах колониальных стран чувствуешь это с исключительной силой. На первый взгляд как будто все интересно, содержательно, разнообразно. Но тотчас возникает какая-то щемящая тревога. Вы понимаете, что перед вами не Конго, не Сахара, не Уганда, а белые в Конго, белые в Сахаре. Вы видите пески, леса, озера и вершины как член «экспедиции вглубь», как изучатель дикарей, как обратитель в христианство «людоедов», как смельчак, взявший на себя тягостное бремя достать сокровища, которые таятся в глубине «таинственных территорий», полных опасностей, полных ненависти туземцев. И я, воображая себя «негром преклонных годов», кипел злобой, глядя на то, как приволокли на эту выставку кастрюльки их деревень без ведома жителей, как измерили черепа матери, деда, сестры, как выставили под стеклом детишек… и как презрели, что это же люди, а не обезьяны. Вот тут и подумаешь невольно о бывших царских колониях и о том, как выступают они на н а ш е й выставке — сами, от себя, по планам своих ученых, по рисункам собственных художников, со своей литературой, музыкой, танцами, возрожденными через сотни лет и ставшими вровень с искусством Европы. Тут и вспоминаешь о гордости и самобытности народов, выбросивших к чертям вот этих длинноносых миссионеров и презревших вот этих золоченых адмиралов и генералов. Тут и раскрывается правда времени. Но правда перемешана с ложью на Брюссельской выставке. Всюду ее хотят затемнить, и всюду ее чувствуешь, причем особенно остро, если сравниваешь выставленное с нашей страной. Помню, когда возвратился один старый писатель после долгой эмигрантской жизни в Москву, шла Декада узбекского искусства. Он спросил, что это такое — узбекское. Ему объяснили, что столица Узбекистана — Ташкент, что в республику входят Самарканд, Бухара, Ферганская долина… Он напряг память и потом сказал: — Ах, сарты! Да, да… дикий народ… А в этот именно час в пяти минутах ходьбы, в громадном зале Большого театра, звенел, замирал и все наполнял своей сверкающей колоратурой бесподобный голос Халимы Насыровой и, как золотое веретено, летела над сценой божественная Мукаррам Тургунбаева, это чудо хореографии Востока, и гремел симфонический оркестр, исполняя произведения узбекских композиторов, и в фойе продавались книги Гафура Гуляма, Айбека, Алишера Навои, переведенные лучшими писателями и поэтами России… Вот тебе и «мир медлительных движений», вот тебе и «загадочное молчание пустыни»! Вот тебе и «дикий народ»!
IV
Дворец искусств был почти пуст. Редкие посетители бродили по его залам, проходя мимо десятка картин, чтобы остановиться перед одной, сосредоточенно разглядывать ее, отходить, приближаться, изучать какую-то деталь… Они были одеты небрежно, большинство пожилые, иногда вдвоем или втроем, и тогда короткие замечания полушепотом, приподнимание бровей, подавляемая улыбка или утвердительный кивок… Знатоки. Я очень боялся показаться знатоком. Боюсь и сейчас. Какой я знаток? Я один из тех двух с половиной миллиардов, для которых, следовало бы думать, и пишутся все картины, создаются все скульптуры… А чтобы быть знатоком, надо всю жизнь посвятить изучению. В данном случае надо прежде всего изучить все главные и подглавные направления живописи за последние пятьдесят лет. Их, как известно, было множество. Хотя некоторые из них были представлены всего одним или двумя художниками, но все равно каждое имело особое кредо и особую терминологию. Вы, конечно, подробнейшим образом изучили фовизм, наивизм, дадаизм, супрематизм, экспрессионизм и кубизм. Но ведь надо разбираться в тонкостях и неопластицизма, и ташизма, и районизма, каковой был изобретен в России, где прозывался лучизмом, и еще множества иных. Чтобы быть знатоком, надо знать не только все декларации, все манифесты, но и все переходы одного течения в другое, все столкновения, все измены, все альянсы, все эволюции, все взаимоотношения всех группировок Франции, Англии, Америки, Германии, Италии… Только относительно живописи СССР «знатоку» достаточно знать, что социалистический реализм представляет собой «пережиток реализма, существовавшего до первой мировой войны, с некоторыми влияниями люминизма», как сказано в руководящей статье г-на Эм. Лангви, помещенной в Генеральном каталоге Дворца искусств. Кроме того, знаток должен совершенно свободно и творчески владеть особым словесным аппаратом, при помощи которого только и возможно разговаривать об искусстве.«Произведения Ганса Гартунга свидетельствуют о большой силе воображения, не имеющей ничего общего с пефигуративным искусством, которое их окружает. Его линии, его формы изысканны и восходят к высшему пределу абстрактности, никогда не доходя до отождествления с каким-либо конкретным предметом или темой. Романтические в начальный период деятельности художника, они становятся с течением времени более дисциплинированными. Они никогда не бывают статичными, они все — в движении, все — в ритме…»А на полотне — пучки темно-коричневых и тонких прутьев, намазанные поверх пучков светло-коричневых и толстых прутьев.
«Утонченные произведения Волса содержат элементы экспрессионизма и сюрреализма, перенесенные, однако, в эмоциональную абстрактность. Выполненные в тщательной и кропотливой манере, они выражают подсознательный символизм, который передается на волне энергической и всегда обновляемой точками, чертами, линиями и цветом…»А на полотне — нечто, что может получиться, если попытаться затереть или смыть с материи пролитые чернила. Таковы «элементы сюрреализма, перенесенные в эмоциональную абстрактность». Нет, я не знаток, куда уж тут! Но я, как и каждый из вас, хочу разобраться в том, что мне и миллионам таких, как я, хотят сказать новые художники Запада…
Прежде всего отбросим мысль, что все художники, которых называют «левыми», — или шарлатаны, или спекулянты. Вот я стою перед сооружением метра в два высотой, сделанным из железа и напоминающим вопросительный знак, воткнутый в вертикально стоящую рыбу. Из вопросительного знака торчат там и тут гвозди. Все это называется «Женщина перед зеркалом». Шарлатанство? Спекуляция? Скульптура эта принадлежит Хулио Гонсалесу. Он испанец. Он родился в 1876 году, он создал «Женщину перед зеркалом», уже будучи пятидесятилетним человеком. Жизнь свою Гонсалес провел в безвестности. Он перенес жестокие лишения и унижения нищего. Он умер бедняком в начале последней войны. Как видно, он не хотел работать на рынок, он был убежден в правоте своего метода, готов был на страдания ради него. Но если он не принадлежал к числу шарлатанов и спекулянтов, быть может, он был просто бездарностью или неучем, который маниакально занимается искусством? Недалеко стоит скульптура тоже из железа, сделанная лапидарно, с едва намеченными чертами лица. Это, как видно, крестьянка. Она сильна, даже могуча, она чего-то ждет, ее голова поднята вверх, и, вероятно, глаза ее устремлены в даль. Какая пропорциональность в линиях тела, как прочно стоят на земле стройные, крепкие ноги! Сколько гордости и сколько горечи в этой фигуре! Ее выковал тот же Хулио Гонсалес. Это талантливо и это очень умело! Подобных примеров можно было бы привести множество, и прежде всего следовало бы упомянуть всемирно знаменитого Пабло Пикассо, который зачастую создавал вещи непонятные и неприятные. Но ведь он же человек громадного дарования и замечательного умения! Тут же, на выставке, в павильоне Франции, стоит его «Коза». Она стоит, расставив ноги, изнеможенная ежегодным деторождением и ежедневным выдаиванием, готовая еще родить и еще доиться, только бы ей ухватить вон тот кленовый листочек, который мы не видим, но который, вероятно, видит она, — так вытянута вперед ее жилистая шея и вся ее бедная голова очень добросовестной, очень работящей козы… Это высокое искусство — столь человечно изобразить животное. Все, кто ни проходит мимо, останавливаются, сперва вглядываются, потом лица добреют, и коза стоит всегда в кругу улыбок благодарных людей. Нет, я уверен, что среди художников «левого» искусства есть талантливые, преданные своему делу, вполне искренние работники, ищущие нового. Это во-первых. Во-вторых, современная живопись, скульптура и архитектура Запада — явление сложное, многообразное, противоречивое, и, как мне кажется, не следует все валить в одну кучу. Мне показались интересными попытки некоторых художников живописно постичь и выразить «вторую природу», создаваемую человеком. К сожалению, часто это имеет наивный и смешной вид. Вот перед вами белая гладкая поверхность размером 113×176 сантиметров. В ней вырезаны строго прямоугольные площади, одна в другой, одна ниже другой. Называется это «Белый рельеф». Художник — Бен Никольсон. Вот разветвление тонких черных линий с кружочками на них. Это схема какого-то транспортного узла. Картина называется «Сеть остановок». Линии эти прочерчены на фоне, напоминающем человеческие тела, но и фон тоже прочерчен координатными линиями. Неизвестно, что именно хотел сказать художник и этим фоном и этим чертежом, но стремление ввести в живопись тему техники как части жизненного обихода уже показательно. В так называемой «абстрактной» и вообще в «левой» живописи мотивы «второй природы» встречаются особенно часто. Андре Массон, Виктор Вазарели, Джузеппе Капогросси, Карлос Ботело, Мохоли Надь, Виктор Серванкс и многие другие художники стремятся или вынуждены отражать отношение человека к новой, индустриальной обстановке, его окружающей. На полотнах абстракционистов мы видим формы, близкие к деталям машин, динамическим схемам и так далее, в скульптуре мы встречаемся с разработкой геометрических, пространственных задач, с экспериментом в области сочетания разных материалов и фактур. Прозрачный металл, пластмассы, металлические нити, фарфор, дерево входят в причудливые сочетания форм, и хотя они ничего не изображают, но иногда радуют глаз, как красивый барельеф или орнамент. В некоторых из них просвечивают технические идеи — равновесия, сопряженности, устойчивости, аэродинамичности и так далее. Может быть, эти произведения имеют некоторый оттенок прикладного, декоративного искусства, хотя они и не несут никаких утилитарных функций, однако от этого они не становятся менее изящными и сохраняют свой характер искусства, которое как-то отражает наш технически развитой век. Однако искания в области формы в живописи и скульптуре для неспециалиста, незнатока — всегда только техника искусства, которую он не хотел бы замечать.
Каков нынешний мир? Каков человек в этом нынешнем мире? С этими вопросами обращается современник к художнику и скульптору. Некоторые ответы мне непонятны. Я не берусь судить живописные заявления абстракционистов. Кое-какие их полотна мне показались интересными, мне хотелось их разглядывать, обдумывать, но они невнятны. Должно быть, они настолько субъективны, так тесно отнесены к личным ощущениям, мыслям или переживаниям, что в подавляющем большинстве случаев они не могут выполнить основной функции искусства — функции общения между людьми. Что же касается тех произведений, которые как-то привязаны к реальности, то в их многообразии все-таки можно найти известное единство. Конечно, его приходится искать совсем не там, куда устремлено внимание специалистов и знатоков; знатоков интересует прежде всего решение формальных задач, почти технология живописи и скульптуры. Когда же речь заходит о существе — о содержании, то есть о мирочувствовании художника, об идейной направленности произведения, — эти знатоки ограничиваются рацеями, подобными приведенным выше. Итак, каков же нынешний человек в представлении художников — участников Всемирной выставки? Это прежде всего человек, лишенный духовной силы. Иногда он очень сильно проявляет себя, — например, в скульптуре Осипа Цадкина «Разрушенный город», где «человек» в животном ужасе проклинает убийц, налетевших с воздуха, или в скульптуре Эрнста Барлаха «Мститель», изображающей озверелого убийцу с кривым мечом в руках… Однако ни в одной картине, ни в одной скульптуре во Дворце искусств я не нашел человеческого образа, который вызвал бы во мне чувство гордости и радости, зависть, что я не такой, желание, чтобы таких было много. Да, права была Сильвия, сказавшая о потрясающей силе, которая исходит из произведений советского искусства! Голова Горького, сделанная Шадром, и Маяковский Кибальникова возникают на этом фоне, как люди с другой планеты, вернее, как представители иного времени. Они красивы внутренней красотой устремленности, честности, самоотверженности. Но в них есть еще одно качество, которого нет в творениях западных скульпторов и живописцев. Групповой портрет голландской художницы Чарли Туроп, названный «Отдых друзей» и написанный в реалистической манере, изображает очень хороших обыкновенных людей, не изломанных, не рафинированных, несомненно работающих и работящих, живущих не очень легко, но и не отчаивающихся — пожилых, молодых и совсем юных. Я хотел бы посидеть с ними, послушать их рассказы, посмеяться их шуткам… Впрочем, шутят ли они? Я не уверен. Но главной и странной чертой этого полотна является то, что все участники смотрят «в аппарат», то есть на зрителя, и внимательные глаза их так напряжены, в лицах их столько серьезного ожидания, что можно подумать, будто это не отдыхают друзья, а выслушивают приговор подсудимые. Они отрешены друг от друга. Они как бы спрашивают о чем-то живописца и зрителя. Они обращены не к миру, не к обществу, а к своей судьбе: что с ними будет?! Я еще вернусь к этой теме, — как мне кажется, главной теме нынешнего западного искусства, — когда буду рассказывать об американском балете. Сейчас я говорю о ней в связи с работами Шадра и Кибальникова. Особенностью этих образов является именно их обращенность к миру, к человечеству. Кажется, что перед ними множество народу, что вокруг них люди, и ты сам ждешь от них слова и хочешь сказать им что-то. Можно возразить: ведь это поэты, писатели! Во-первых, посмотрите на статую, выставленную тут же, — «Бальзак» работы Родена. Закинув голову, он стоит, одержимый своими видениями, запахнулся в пальто, как будто его пронизывает дрожь, всматривается во что-то видное только ему одному… Какая отрешенность от слушающих и читающих! А во-вторых, сравните с групповым портретом Туроп «Киргизскую девушку» Чуйкова, которая выставлена тут же, недалеко. Сколько устремленности, надежды, воли в ее лице, как все это полотно дышит будущим, как обращена эта девушка к миру, к людям: она стремится к ним. Им служить идет она! А ведь она не поэт, не писатель, а рядовая девушка из киргизского села. …Я сравнил с Шадром и Кибальниковым голландскую художницу потому, что люди на ее полотне изображены наименее искаженно, что они не уроды, а просто люди. Но сколько уродливых и страшных людей видел я во Дворце искусств! Вот художник Леви ле Броки изобразил «Семью». Где-то под лестницей, в каморке, — полуобнаженные фигуры. Одна, сидящая на чем-то вроде нар в позе изнеможения или отчаяния, другая, вытянув длинную, напряженную шею, обращена к зрителю с тем же вопросом и тем же ожиданием, что и на многих портретах и картинах выставки. Существо — судя по размерам, дитя — стоит тут же, узкогрудое, жалкое, тонкошеее… Беспросветность. Бессилие. Бедность… Марсель Громэр — «Война». Одна из самых сильных работ на выставке. Каменные люди в каменных шинелях сидят в тесноте рядом, надвинув на лбы каменные шлемы и подняв бетонные воротники. Полная безжалостность и… полная покорность. Ждут. Смерти или убийства? А может быть, супа? Чудовищно и унизительно. Вот это и есть человек нашего времени? Фриц ван ден Берге — «Генеалогия». Голые хлипкие мужчины с черными дырами вместо глаз, вытянув головы вперед, наклонившись, как для драки, то ли наступают, то ли ждут нападения. А на их плечах сидят тоже голые бабы-раскоряки разных размеров и торжествующие ублюдки-отпрыски. Вероятно, все это должно передать ужас борьбы за существование и за продолжение рода. Значит, вот он какой — человек нашего времени? Муж и жена дома безразлично глядят перед собой. Человек без лица сидит в небрежной позе в комнате. Цирк. На одной картине человек жонглирует своей головой. На другой толстые акробатки с безжизненными лицами стоят одна на ногах, другая на голове, как на игральной карте. На третьей картине неживые человечки, похожие на иероглифы, совершают условные движения циркачей… Утопленники. Художник Хежедузик. Над утопленником стоят люди без всякого выражения на лицах. Еще Хежедузик. Серые, уже начинающие пухнуть трупы плывут по воде. Художник Нолан. Разложившаяся корова висит в сучьях дерева над убывающей водой. Пьер Полю. Вытащили утопленника из канала. Над ним силуэты четырех женщин. О, как печален нынешний мир! Как страшно жить на этом свете, господа!
— Неужели же нет ничего, что может потрясти зрителя? — спросят читатели. Есть что может потрясти. Вот картина. На фоне превосходно написанного облачного неба у верхней рамки — голова. Она закинута назад. Связки и жилы на шее так напряжены, что кажется, будто с них сняли кожу. Патлы войлочных волос обрамляют лицо, или то, что было лицом. Глаза закрыты. Зубы оскалены. Страшные желваки написаны сильной кистью. Кому принадлежит эта морда? Никому. Шея переходит в тело. Налево от зрителя это зеленоватая, с алым соском женская грудь. Ее сдавливает чья-то, в узлах мертвых мускулов, громадная рука-лапа. Вправо от зрителя шея переходит в подобие ноги. Она согнута в колене. Уродливая икра продолжается ступней, уже истлевшей, сквозь нее видна кость. Ступня эта попирает нечто телообразное, чему и принадлежит рука, сдавившая сосок. Это нечто розовато-зеленоватое лежит, подпертое какой-то тумбочкой и скелетом еще одной ступни, похожей на пень. Тут же валяются красные кишки и какие-то личинки или бобы. Внизу, совсем уже у нижней рамки, — пейзаж пустынной местности, на которой намечена маленькая фигурка человека. Нелепое сочетание полной неправдоподобности с фотографической точностью письма делает картину сенсационной, но от этого, конечно, она не становится искусством. Люди останавливаются перед ней, сдвигают брови, пытаясь узнать, что это такое, отходят, подходят, вглядываются, переглядываются, ищут в каталоге объяснений… В каталоге значится: Сальвадор Дали. «Предостережение о гражданской войне». Вот оно что! Пугает революцией. Знаменательно, что именно ужасу перед революцией посвящена на выставке наиболее сенсационная картина! Именно эту тему и выбрал для себя наиболее аттракционный из современных сюрреалистов — испанец Сальвадор Дали. «Знатоки», конечно, не интересуются темой и целью художника. Они улыбнутся на мои слова о революции. Когда я громко высказал мое предположение, один из критиков, случившихся возле, сказал: — Это было бы слишком серьезно для Сальвадора. Испанец только ищет сенсаций. Он не размышляет. Он параноически галлюцинирует, и тем интереснее, чем нелепее. Это адепт абсурда! Эффектно сказано. Адепт абсурда, то есть человек, с которого взятки гладки. Безответственный параноик. Поэтому не трогайте его. А параноик-то — самая законченная контра! Сюрреализм считается модным течением в Европе. Вот картина художника Дельво. В алькове, на фоне синего неба, под хрустальной люстрой, до бедер прикрытая белой простыней (тут надо сказать — «тканью» или «покровом»!), спит молодая розовотелая женщина писаной красоты. Три совершенно обнаженные женщины, тоже писаной красоты, сидят возле, приопустив глаза, как бы в молитве или в мечтах. Называется «Люстра». Название явно дано для того, чтобы выразить полное пренебрежение художника к каким-нибудь попыткам осмыслить изображенное. Такова же картина «Руки» — тоже с полностью раздетыми женщинами, сомнамбулически шествующими рядом с полностью одетыми мужчинами. Я далек от мысли обидеть старого бельгийского мастера Поля Дельво, хорошего рисовальщика, художника, не лишенного фантазии. Его женщины нарисованы отлично, раскрашены старательно. Я хочу только сказать, что на вопрос, который я задаю художнику, — каков нынешний человек, мой современник, — Дельво отказывается отвечать. Ибо сны, им изображаемые, говорят скорее о том, каким н е б ы в а е т современный человек. Эта «писаная красота» далека от жизни. Может быть, к ней ближе то безобразие фигур и лиц, которое главенствует в картинах Дворца искусств? Люди-животные, люди-палачи, люди-планктон и, наконец, люди, растоптанные жизнью, — бедняки, сумасшедшие, погибшие, утопшие? Этого не может быть. Несомненно, жизнь большинства людей Европы и Америки очень трудна: изнуряющий труд у работающих, изнуряющая нищета у безработных, тревога за будущее у тех и у других. Несомненно, внешний облик этой жизни непригляден, а отношения между людьми, живущими в условиях яростной борьбы за существование, калечат человека, и это сказывается на его облике. Однако действительно ли современные простые люди Запада ощущают трудные условия своей жизни так, как это изображают художники, картины которых особенно понравились жюри Дворца искусств? Делают ли они вывод о том, что жизнь отвратительная, что люди — звери, подобные тем, которых изобразил на своем полотне «Генеалогия» Фриц ван ден Берге? Что единственный путь человека — это путь к смерти, или самоубийству, или, в лучшем случае, к забвению? Я думаю, что нет. Я подозреваю, что именно те, кому трудно живется в капиталистических странах, меньше всего думают о самоубийстве и о гибели, меньше всего склонны видеть мир разбитым на отрезки, перевернутым, залитым грязью. Уж кому живется хуже, чем героям неореалистических фильмов современного итальянского кинематографа! Такие бедняки, что даже в день свадьбы невесте нечем прикрыть наготу, такие нищие, что соглашаются на роль лошадиных помощников на крутых участках дороги… А как божественно прекрасны эти женщины, как красивы и сильны мужчины и, главное, как полны жизни и веселья, полны надежд и огненных страстей!.. Вероятно, многое зависит от того, кто именно берется изображать современного человека Запада. Тот ли, кто любит и верит в него? Или тот, кто его знает мало и видит только его заботы и его горе? Тот, кто видит только заботы и горе, может испугаться. Прийти в отчаяние. Вообразить, что все гибнет, утопает, разваливается и нет сил, способных преодолеть беду. Паника художника тем отличается от паники обыкновенного человека, что она видна всем и может заразить многих. Она опасна еще и тем, что может произвести впечатление, будто ею больны массы народа. Между тем это не так. Трудовой человек, которому плохо живется, зачастую смотрит на свои лишения спокойнее и переживает их мужественнее, чем тот, кто их наблюдает и их изображает. Трудовой человек разбирается в сложности и запутанности противоречивой жизни лучше и более трезво, чем рафинированный созерцатель пусть и самых лучших намерений, самого гуманного направления. В начале этой главы я написал, что человек в изображении художников, представленных во Дворце искусств, лишен духовной силы. А что, если этой духовной силы лишены художники, его изображающие? Что, если они изображают свою интеллигентскую растерянность перед путаницей множества противоречий, обступающих их в наши дни? Что, если художники эти похожи на трубо-человека в Ватиканском павильоне: схватился за голову, бедный, и не понимает, что вокруг него происходит? Ходишь по бесконечным залам Дворца искусств, глядишь на живопись «свободного мира» и спрашиваешь себя: чему порадоваться? На кого полюбоваться? Кого выбрать своим героем, своей любовью, своей мечтой? Такого нет. Заумные измышления, математические эксперименты, подсознательное фрейдистское визионерство… Иногда реминисценции из примитивного искусства негров или древних индейцев… Но, может быть, колорит? Яркость красок? Смелость композиции? Да, несомненно. Только это относится к тем художникам, которых принято объединять под названием «импрессионистов», хотя они все вовсе разные. На их произведениях отдыхает глаз. Это праздник цвета, веселье, любовь к жизни… Сезанн, Матисс, Ван Донген, Гоген… Однако все это уже в прошлом. Их уже нет. Они не пишут. Это не современная живопись. …Я не знаю, насколько произведения, выставленные во Дворце искусств на Всемирной выставке 1958 года, соответствовали общему состоянию живописи и скульптуры нашего времени в странах Запада. У меня есть подозрение, что отбор их был пристрастен. Однако в какой-то степени он отвечает вкусам и стилю, господствующим в изобразительных искусствах капиталистических стран. Я признаю за художником право избирать ту манеру, те способы выразительности, которые он считает наиболее подходящими для своей темы и для своего гения. Пусть пишет, как хочет. В конце концов, если картина непонятна, это плохо не для зрителя, который пройдет и забудет, а для художника, мимо которого пройдут и которого забудут. Я уверен, что нашу живопись подчас объединяют недостаточные поиски новых форм, узость в понимании традиций. Однако, когда пересмотришь тысячи картин современного Запада, убеждаешься, что человечно в высоком смысле слова только наше искусство, что только в нем есть радость и гордость человека, только оно зовет к большим делам, к прекрасным целям.
V
Все на свете не так просто, как может показаться приехавшему на короткий срок журналисту. Начать раскапывать историю, забираться в тайники, прослеживать все связи — и можно в каждом, даже самом малом, факте найти материал на книгу. Я виноват перед художниками, что грубовато подошел к их искусству и даже поиздевался над теми, кто столь тонко и эрудированно пытается представить их публике. Я и не претендую на то, чтобы критиковать искусство. Я думаю о человеке нынешнего времени, а ведь искусство своим предметом имеет именно человека. Как профессионал, которому приходилось достаточно близко наблюдать труд литератора, режиссера, сценариста, я знаю, что труд этот труден безмерно, что сидя за письменным столом люди потеют, как если бы они рубили уголь, и задыхаются не меньше, чем задыхаются бегуны на последних метрах дистанции, что отравление отвергаемыми вариантами действует так же, как отравление метаном или хлороформом, что периоды творческой неподвижности не менее мучительны, чем физический паралич… И поэтому я уважаю художников, преданных своему делу, даже если я не понимаю их произведений или не согласен с ними. Но, сетуя на жестокость критиков к себе, каждый из нас оказывается жестоким к другим, как только речь заходит о том общем, что, как крыша над головой человечества, возводится всеми художниками, всеми писателями, всеми режиссерами — то есть об искусстве. Тут личное отступает перед существенным, а ведь существенным в искусстве, в конце концов, остается именно человек — его чувствование мира и общества. Я огорчен не качеством картин, что мне довелось увидеть на Всемирной выставке, а тем обликом, состоянием человека Запада, которые просвечивают сквозь полотно и краски. Я спрашиваю себя: неужели так ощущают жизнь все художники Франции, Бельгии, Америки, Англии? Как отдельную жизнь каждого только внутри себя и только для себя, как поток печальных воспоминаний и тревожных предчувствий, как последнееразоблачение всего, вплоть до телесной красоты, вплоть до яркости солнечного света и красок природы?! Я думаю, что не все люди искусства так чувствуют мир и жизнь там, на Западе. Я уверен, во всяком случае, что очень многие ждут другого понимания, другого ви́дения. Но вместе с тем я знаю, что все это далеко не просто.И не только не просто, но еще и нарочито осложнено наслоениями множества всяких «теорий», «философий» и «доктрин», среди которых наиболее сложны те, которые стремятся доказать незаконность вообще каких-либо теорий и доктрин. Как часто, глядя на какую-нибудь странную картину или слушая что-то очень удивительное, мы и не подозреваем, что поводом к созданию была какая-то фрейдистская идея, или теософическая теорема, или реминисценция из примитивов глубинной Африки… Мы не вполне представляем себе, до какой степени обращены в глубь себя многие художники Запада. Кажется, они разглядывают и изучают в себе не то, что роднит их с людьми, не то, что является общим, близким и важным всем людям, а как раз наоборот — только то, что является их субъективной, приватной особенностью, а еще лучше — странностью. Это затмевает для них весь громадный, богатый и глубокий внутренний мир человечества, то есть истинный объект искусства. Как заняты они собой!
«…Я часто ставлю неподвижную, чего-то ищущую фигуру в центре сцены… Почему же эта олицетворяющая ожидание фигура представляется мне такой эмоционально насыщенной? Женщина, одиноко стоящая посреди сцены, и люди, проходящие мимо, пока сзади нее, в глубине, не появится мужчина? Почему в глубине сцены, и почему всегда за женщиной, и после длительного ожидания? Я не совсем уверена в ответе, но вспоминаю, что подолгу я оставалась, словно заключенная, в материнском саду. Бо́льшую часть времени отца не было дома, и я мечтала о том, как он придет и снимет с меня заклятие. Возможно, это и есть ответ».Так пытается разгадать тайну своих творческих замыслов известная американская танцовщица и режиссер балета Агнесс де Милль. Но я обратился к ней не только для того, чтобы привести собственные слова западного художника о самом себе, а и потому, что мне хотелось процитировать ее высказывания о другом очень популярном и ценимом в США хореографе — Джероме Роббинсе, о котором я хочу сказать несколько слов в заключение этого чрезмерно затянувшегося очерка.
«Характерной чертой стиля Роббинса, — пишет Агнесс де Милль, — является прежде всего полное использование сильного, свободного во всех движениях тела, отдающего, как в спорте, всю свою энергию и достигающего наивысшего напряжения. Изображает ли движение радость или печаль, в него вкладывается вся сила, весь натиск, характерные для атлета… Роббинс усиливает это качество чисто акробатическими приемами и трюками… …Но наиболее заметной чертой творчества Роббинса является, к счастью, его юмор. Он шутит над ритмом, над пространством, над светом, тишиной, звуком — все это элементы его стиля…»Агнесс де Милль пишет интересные вещи о творческих особенностях Роббинса как режиссера балета, но это относится уже к области, в которой должны разбираться знатоки. Черты, отмеченные в приведенной цитате, верны, однако они относятся к внешности искусства Роббинса. Более глубокое его содержание раскрывается в других особенностях.
Нас встретил мистер Грегори, тонкий, стройный, молодой. Он сказал, что рад видеть нас в американском театре, что истоком современного искусства является импрессионизм, что современная живопись утратила совершенство техники, что современные художники слишком технизированы и потому холодны, что его мама уехала из СССР в 1932 году и его папа, как и его мама, — чистейший русский. Мистер Грегори провел нас в партер и, раскланявшись с изысканной вежливостью, выразил надежду, что мы приятно и с интересом проведем вечер. Златочешуйчатый театр, уютный и красивый, был полон ровесников мистера Грегори, то есть только что оперившихся птенцов, которые являлись представителями мировой прессы. Они галдели, пересаживались, рассматривали фотографии, махали друг другу и время от времени начинали хлопать — юноши в усах и девушки в очках, может быть, будущие Драйзеры и Ромены Ролланы. Наконец над оркестром появился дирижер, столь же молодой, как и публика. Генеральная репетиция началась. Русскому человеку так же трудно смотреть классический балет, как итальянцу слушать оперу. Тут за нами приоритет и бессменное первенство. Первое отделение было слабо, шаблонно, манекенно: классика, как видно, далека от сердца и режиссера и исполнителей. Последнее отделение вполне оправдало слова Агнесс де Милль, что наиболее заметной чертой Роббинса является его юмор, — это был тоже классический балет, только наоборот: пародия на классику. Своего рода балетный капустник, часто очень остроумный. Мы смеялись, мы, согласно пожеланиям мистера Грегори, чувствовали себя приятно. Но главное было во втором отделении, относительно которого нетрудно было понять, что это и есть балет Джерома Роббинса, подлинный его балет, без реверансов в сторону классических традиций и без реверансов в сторону публики, которая пришла повеселиться. Второе отделение было посвящено большому, сильному, настоящему искусству. Это было видно не только по тому, что происходило на сцене, но и по тому, что было в зале. Зал замер. Молодежь притихла, все глаза были устремлены на танцующих: зрители смотрели самих себя. Они видели самих себя в тех юношах и девушках, которые были на сцене. Страшно взревел и захохотал джаз. И смолк. И на сцену вышли люди. Очень молодые. В джемперах, в обычной обуви, в узких брюках… Они остановились группой. Нет, стайкой. Нет, они остановились каждый в отдельности, но рядом друге другом. Как будто их вытолкнула сюда какая-то сила. Подняты плечи, немного вытянуты вперед головы. Глаза… Глаза у них были широко открыты, почти вытаращены. Они смотрели в зал. Как будто искали кого-то. Или спрашивали о чем-то. Или ждали… Опасности? Но это были крепкие парни. Не подонки, не богема даже. Их лица серьезны, даже строги. Настороженное внимание и озабоченность. И вместе с тем каждый не даст себя в обиду. Нет. Он не хочет погибнуть. Он не знает, кто рядом с ним. В конце концов, ему до этого нет дела. Каждый за себя. Такова, как видно, жизнь! Что же будет? Что будет со мной? Что вы сделаете с нами?! Удар джаза. Грохот джаза. Развернуты руки. Растопырены пальцы. Подняты головы вверх. Что там? Невыносимо это ожидание. Душа не может выдержать неподвижности. Она томится. Она мечется, не находя покоя, не находя ответа. Она припадает к земному, приникает к обычному… Нет покоя. Она устремляется вперед, как будто завидев что-то, подобное обещанию. Протянуты вперед руки, надломлены брови… Нет. Ничего нет. Плетется человек обратно к своей тоске. А человек молод. Вот потянулся так, что хрустнули кости, скрипнули могучие мускулы. Как хорошо почувствовать силу в теле — пружинистом, знающем ракетку, весло, мяч, турник… Какое счастье вдохнуть целую цистерну воздуха, подставить лицо пропеллерам ветра! Ведь это же двадцать лет, ведь это же лучшие годы! И зал затихает. Как будто тоже потягивается. Расправляются плечи. Поднимаются головы… Нет! Нет! Удар джаза. Страшный рев джаза. Как загнанный зверь, глядит юноша. Застыл, оцепенел. Прыжок, еще прыжок. Танец страха. Поиски спасения. Они вместе обречены, но они не видят друг друга. Они перескакивают один через другого, но не замечают никого. Они движутся стремительно, синкопическими вздрагиваниями… Зеленые, розовые, желтые джемперы сверкают яркими пятнами на сцене, они как будто гонятся за чем-то и вместе убегают от чего-то. Нет. Н е т!! Убежать нельзя. Выхода нет. Конец. Последний, полный страшного вопроса взгляд: что же вы сделали с нами?! И они падают, пораженные смертью, падают в разные стороны, падают, не глядя друг на друга, не видя никого рядом. И зал молчит, как будто все это совершилось и с теми, кто сидит в креслах. Потом грохот аплодисментов вспыхивает и несется к сцене. …Во втором отделении было еще несколько танцев. Некоторые из них были посвящены любви. В них я увидел большую страсть, изобретательность в проявлении этого чувства, большую мимическую изощренность. Они отличались тонкостью и вместе с тем силой. Это были эпизоды первой, очень молодой любви. Но и тут тщетно ждал я общения. Его не было. Люди, рвущиеся друг к другу, жаждущие один другого, не встречаются взорами. Их лица остаются напряженно отсутствующими. Но не оттого, что мимика чужда искусству Роббинса, а как раз потому, что таково мимическое решение темы. Люди жаждут один другого, и вместе с тем они чужды друг другу. Каждый из них сам по себе. Каждый из них только свою судьбу исполняет, когда ласкает другого. Это не они идут навстречу друг другу — человек нашел человека, — это что-то вне их толкает их друг к другу, обрекает их на совместность…
Мы повидались с Роббинсом наскоро: он спешил, у него было назначено свидание с артистами, я же уезжал на следующий день. Мы беседовали стоя, возле кулис на сцене. Участники труппы нас окружили. Здесь, близко, я увидел те же юные лица. Они все с любопытством глядели на нас, советских литераторов, и жадно прислушивались к беседе. Когда я отозвался с большой похвалой о некоторых танцовщиках и балеринах, они были совсем по-ребячьи счастливы. Я сказал Роббинсу о моем впечатлении. Он выслушал меня и сперва стал объяснять, что взгляд танцоров в зал — накладка, что это надо исправить. Но после нескольких минут разговора он признал, что такова тема, что таков его замысел. — А замысел, — сказал он, покачивая головой сокрушенно, — замысел таков потому, что таково время и такова молодежь. Она всегда спрашивает: что будет дальше? Что будет с нами? На этом мы расстались. Я думаю, что рассказ мой о танце полностью соответствовал мыслям режиссера. И все-таки, может быть, я ошибаюсь? Теперь я продолжу цитату из статьи Агнесс де Милль.
«…В каждом романтическом эпизоде (балетов Роббинса. — Б. А.) кроется обреченность и гибель, все повторяется снова и снова. Выхода нет».Так определяет общий характер творчества Роббинса его соотечественница и его коллега по искусству. Но, быть может, такое понимание мира свойственно пусть и «первому хореографу США» (как рекомендуют Роббинса информационные материалы павильона США и что можно легко себе представить, ибо он действительно замечательный мастер), но только ему, и это есть его субъективное представление о молодежи Америки сегодня? Продолжим цитату из Агнесс де Милль.
«Жизнь, — пишет она, — является своего рода формой неуверенности, искания ответов: «А что же дальше?» и «Как?» Художник еще меньше, чем все остальные, знает эти ответы… Приходится прыгать в темноту…»И еще:
«Что касается меня, то я одержима какой-то неспособностью — почти в духе Генри Джеймса — привести героя и героиню к счастливой развязке».Пожалуй, это не противоречит тому, что я написал о творчестве Джерома Роббинса. О творчестве большом и серьезном, но, как мне кажется, полном печали, тревоги и даже страха.
Промелькнули мои четыре дня в Брюсселе. Пора было пускаться в обратное плавание к родным берегам. Я видел мало и все-таки много. Я видел труд и творчество людей почти всего мира, пусть они были преподаны тенденциозно и многое важное было нарочно скрыто от моих глаз. Несмотря на это, я ощутил силу человечества двадцатого столетия, силу, несравнимую с той, что была сто лет тому назад. Я радовался мудрости ученых, восхищался смелостью инженеров, сочувствовал исканиям художников, торжествовал, видя успехи социалистических стран. Неотступная мысль сверлила мне мозг, когда под водяной звон колоколов, в реве геликоптеров я спешил из павильона в павильон, чтобы выбрать то, чему следует посвятить отпущенное мне время. Я думал о том, что вот в этой точке планеты произошло очень важное и показательное явление. Здесь не только совместно вели разговоры, но и совместно плодотворно строили и созидали страны разных экономических и политических систем. Работники этих стран — торговые специалисты, инженеры, художники — нашли способ создать общими усилиями стройное целое, очень содержательное, очень интересное для всех людей мира. Прогресс человечества достиг такой высоты, которая позволяет добиваться эффекта всемирных масштабов. Неужели же нет способа преодолеть те взрывные силы, которые стремятся возбудить одни государства против других? Неужели нельзя мероприятия, столь же широкие, как эта выставка, превратить из эпизодов в метод? Расширить этот опыт? Распространить его на другие созидательные дела, столь же широко охватывающие страны или хотя бы группы стран? Почему не рассматривать эту выставку, как подготовительный семинар по сосуществованию? Вслед за этим семинаром могут быть проведены еще и еще другие, иных направлений, разной обширности, разного характера, чтобы таким образом вступить на путь, единственно благоразумный в наш атомный век, — путь экономического соревнования, путь совместных усилий для использования сил природы, для освоения неудобных территорий, для свободного и широкого обмена благами труда и культуры.
Сентябрь 1958 года
ПРОГУЛКИ ПО ПАРИЖУ
УТРО
В стеклянную дверь, выходящую на узкий балкончик, вернее — на карниз, огороженный решеткой, ломится грохот моторов. Всю ночь он не прекращался, и весь день накануне тоже: такова уж фонограмма Парижа — в городе более миллиона автомобилей. Вероятно, можно было бы научиться не замечать этот шум, если бы он был равномерным, однако в нем участвуют также слабосильные двигатели, а их форсируют. Внезапно они взвывают, как сирены воздушной тревоги, трещат, открывают пальбу по нервам… Надо думать, что и нам — в Москве и в других больших городах — предстоит то же самое. Поскольку наши градостроители не хотят понимать, что магистраль в современном городе превратилась из места гуляния, поездок и обозрения красот в клоаку транспорта, наполненную невыносимым шумом, вредными газами и опасностью для жизни, — мы, вероятно, хотя бы должны просить наших инженеров строить моторы для велосипедов, мотороллеров и мотоциклов так, чтобы не дать никакой возможности их всадникам плевать на окружающих своим вонючим воем и треском.День начинается с газет: чем живет Париж? Впрочем, действительно ли он живет тем, о чем пишут его газеты? Во всяком случае, он этим бывает взволнован. Андрейя Пебейр приговорена к смертной казни. Вот фото: полицейские высаживают ее из грузовика, она закрыла лицо рукой. От фотографов? От отчаяния? Полгода она убивала свою трехлетнюю дочь Франсуазу. И убила. На тельце девочки нашли двадцать семь ранений. Ее били кочергой, в нее вгоняли иголки, ее сажали на горячую плиту, ей мозжили пальцы на ногах молотком… Все это делала мать — мама, мамочка… Кто же такие Пебейры? Он — каменщик, он называет себя безвольной тряпкой. Она — дочь проститутки, именно этим и объясняет газета ее преступление. Она родила восемь детей. Семья живет в двух трущобных комнатушках — без водопровода, без газа и даже без электричества: десять человек. — Почему меня, именно меня? — кричит Андрейя. — Ведь и другие тоже убивают своих детей, однако их не приговаривают к смерти?! Еще одна заметка из зала суда, она начинается так:
«Господин Мишель Дюранель де Валуа маркиз де Бреси скрестил пальцы на груди, с величайшей вежливостью выслушал председателя суда и пренебрежительно обронил: — Ах, эта история 1960 года…»История же состояла в том, что сей маркиз приготовил несколько пилюль со стрихнином для своего папаши, на средства которого он жил весьма комфортабельно, но без которого рассчитывал жить еще шикарнее. Какая-то случайность уберегла старика от смерти. — Папа, — сказал сын на суде, — я прошу простить меня. Я думаю, будет лучше, если мы оба забудем эту скучную историю. Но суд не согласился с маркизом и упек его на десять лет в тюрьму. Много подобных историй можно прочесть в парижских газетах рядом с сообщениями о биржевых курсах, о маневрах НАТО, о краже бриллиантов, картин и детей, о забастовках рабочих и демонстрациях крестьян, о стычке в Алжире (убитых столько-то, раненых столько-то), об автомобильных катастрофах (убитых столько-то, раненых столько-то)… А вот и материалы, которые необходимы каждому человеку:
«Если вы родились 29 сентября. Неожиданное соперничество грозит вашим планам, но не оставляйте их. Успех придет благодаря вашей отваге и упорству. В области чувств: следите за намерениями молодых, ваша бдительность им полезна. В области здоровья: могут болеть зубы».Теперь — спасибо «Франс-суар»! — вы вооружены. Вы тщательно полощете рот и, призвав на помощь рекомендованные «отвагу и упорство», на случай «неожиданного соперничества», выходите на улицу. Вы огибаете желтое с черным кафе, оставляете направо голубое с красным кафе и под пружинный звон их игральных машин ныряете в метро.
В МЕТРО
Тут вас охватывают буквы. Сотни букв сыплются со стен и потолка, выпархивают из-под ног, кидаются в лицо… Вы с трудом пробиваетесь сквозь этот базар, хлещущий по глазам. Даже опустив взгляд, вы видите: по плинтусу коридора бегут буквы:Огромная женщина, разъятая на части, суется к вам то руками в ажурных перчатках, то ногами в ажурных чулках, то ушами в серьгах… Она выжимает на вас зубную пасту, льет машинное масло, дует сигаретным дымом. Какие у нее белые зубы, какие черные брови, какой красный педикюр! По горло в буквах и частях женского тела, вы ищете нужное вам слово «Конкорд» — туда вам ехать. Вот оно, наконец! Скромное — белое на синем фоне. И рядом, за стеклом кассы, обыкновенная, не разъятая женщина, вполне одетая в обыкновенную форму. Она думает о чем-то своем, принимая деньги за билет, смотрит мимо вас и опять подпирает подбородок рукой с облупившимся маникюром… — Спасибо, — говорю я ей от всего сердца, — мерси, мадам!.. Все бегут. Стучат каблуки по асфальту коридоров, щелкают железные палки, на которые нажимает каждый, пробегая через турникеты (но каждый, пробегая, оглядывается и придерживает палку на долю секунды, чтобы она не ударила бегущего сзади…). …Подходит поезд. Железный, грохочущий, с прямоугольными, узкими вагонами, крашенными темной зеленью. Он приближается медленно, во всем грозном величии техники конца прошлого столетия: после конных и паровых железных дорог — чудо электричества! Искры сыплются у него из-под колес, он свистит тонким голосом и шипит сжатым воздухом, тормозя. Все бросаются к его дверям, отбрасывают медные задвижки, раздвигают деревянные дверцы. Зато задвигает их он сам — чугунная мускулатура для этого приклепана к вагонам снаружи: обмасленные штоки высовываются из черных цилиндров и с шипением сталкивают дверные створки… Свисток, мы трогаемся, и нас начинает кидать из стороны в сторону. Против меня спит старик. На его голове, когда-то, вероятно, буйной, а теперь бесконечно усталой, нестриженой, пегой от седины, натянут берет, и его черешок смешно выгнулся над ним, как знак вопроса. Стариковство, горькая пора! Кто-то сказал, что молодость — это знак восклицательный, а приходит старость и выгибает его в знак вопросительный. Кто этот человек с авоськой на коленях? Недавно я разговаривал с таким же. Он вез меня с аэродрома — шофер, сорок лет за баранкой. Хозяин платит ему шестьсот новых франков в месяц. Двести стоит квартира, триста уходит на еду, если, конечно, не позволять себе баловаться в кафе… (Я вспомнил: вчера в черно-красном кафе я заплатил за две маленькие сосиски, вместо равных нашей одной, три франка! Это даже не завтрак, это только на заглотку после пива…) — Месье семейный? — спросил я. — Нет, месье. Я похоронил жену два года тому назад. — А дети? — Моя дочь живет в деревне. Она замужем за механиком сельхозмашин. Они живут с его родителями. — А кто родители? — У них была ферма, но ее пришлось продать, теперь они ходят на работу по приглашению. Это означало — они стали батраками. — Но ведь они уже старые люди? — спросил я. — А я разве молод, месье? — сказал он с сердцем. — Так что жалованья вам хватает? — Да, на одного хватает. Ведь теперь я один, совсем один. На развлечения уже не трачу: приходишь домой без сил, как спустивший баллон. Но я должен откладывать на черный день — ведь может случиться, что я умру не за рулем… Горько были сказаны эти слова! Тут он нажал газ и обошел грузовик почти впритирку, в стиле французского автомобилизма («убитых столько-то, раненых столько-то»). Дремлет старик с авоськой, качается. В руке у него — тонкий батон длиной сантиметров в семьдесят («батон» по-французски значит «палка»), из авоськи светятся анилиновые этикетки консервов… Везет еду семье папаша Пьер или Жан, вымотался за ночную смену, едет домой отдыхать «спустивший баллон». Рядом со стариком сидит женщина, тоже немолодая, с непреклонным, надменным лицом. Оно неподвижно, это лицо, и только глаза с синевой и морщинами вокруг приоткрывают, что она перенесла много горя… Но теперь-то она знает, в чем дело, теперь-то ее не надуешь, она хорошо поняла, каковы люди! Попробуй сунься!.. Над ней возвышается громадина, погруженный в газету. Его руки выдают его — лапищи-лопатищи с вечной чернотой в складках кожи и под ногтями. В лице его есть что-то напоминающее Габена в молодости — какое-то достоинство и еще нечто, чему не подобрать названия: знание жизни? снисходительность к тем, кто не знает? Нет, пожалуй, точнее всего, надо бы сказать: право судить. Кажется, именно у этого человека можно узнать, правильно ты поступил или нет. Мне становится как-то уютнее в этом грохочущем вагоне, в чужом гигантском городе, где я никого не знаю. А вот три девушки в колокольных юбках, в высоких прическах, они говорят очень быстро, очень напористо, у них портфельчики в руках, — может быть, это учительницы или студентки? Можно подумать, что они только что из Москвы, так они похожи на наших девчат. И еще лица, лица, лица — в большинстве усталые, не очень здоровые, совсем невеселые… Старый метрополитен везет народ с работы и на работу, он — их друг, он — транспорт простого люда. Его рельсы разветвились под всем огромном городом, и всюду можно на нем проехать. А то, что он грязноват, что в нем душно, несветло, некрасиво… Что ж я за барин такой сюда явился — брюзжать и высокомерничать?! На этом метро и ездит хозяин Парижа, и метро ему честно служит, и спасибо тебе, камрад метро, что возишь ты и меня — безотказно и аккуратно, куда пожелаю. Что же касается настырных реклам, то к ним можно привыкнуть, и — как все — я могу не обращать на них никакого внимания — шут с тобой, «Николай — Николай — лучшие напитки!».НИКОЛАЙ — НИКОЛАЙ — ЛУЧШИЕ НАПИТКИ — НИКОЛАЙ… — НИКОЛАЙ…
КОНКОРД
Вот и Конкорд, площадь Согласия. Я помню, как несколько лет тому назад, когда я впервые попал сюда и смотрел эту красоту, я вытащил по привычке блокнот, чтобы все записать. И вместо «всего» записал только два слова, которые очень-очень редко произносил в своей жизни: «Я счастлив!» Это было ночью в субботу. Громадные фонтаны шуршали, вздымая складки своей прозрачности… Атлетические лошади скульптур, напружив женственные крупы, стояли с поднятыми копытами, пропуская внизу поток машин, мчавшихся к развлечениям… Мертвенный, зеленоватый свет лился от бесчисленных светильников, установленных на вычурных чугунных столбах, тех самых, которые возвышались еще над толпой бальзаковских героев, тоже спешивших по этой площади к своим деньгам, к своим любовницам, к своим преступлениям… Огромное пространство завершалось справа и слева колоннадами Палаты депутатов, зданий министерств и прелестной церкви Мадлен, этого Парфенона нового времени… Две линии огней, прогибаясь, уходили вперед и вверх вдоль Елисейских полей, к светящемуся карнизу Триумфальной арки, и казалось, что она, как мощный устой цепного моста, держала на золотых цепях всю площадь Согласия. А посередине площади, освещенной снизу оранжевыми прожекторами, стоял обелиск из розового гранита, подлинный египетский, водруженный в необозримой дали времен Рамзесом Вторым, перед храмом в Луксоре. На его четырех гранях — люди с птичьими головами, змеи, посохи, пояса — каменная почта о культе личности, посланная нам тридцать веков тому назад. Оттуда, с гранита, миндалевидные египетские глаза глядели вниз, на зеркальную чешую мчащихся авто, как глядели когда-то на белые опахала фараонских процессий, на черный лак Растиньячих карет… Оранжевый обелиск, очиненный наверху в виде пирамиды, упирался в низкое небо ночного Парижа, а под самой пирамидой можно было разглядеть изображение: один человечек поменьше перед другим человечком побольше стоял на коленях. Стоял четвертую тысячу лет. Почему же я был счастлив в столь идеологически невыдержанной обстановке? Научно я не могу этого объяснить. Может быть, просто красота накатила на меня, и я как бы замер. Я перестал двигаться вместе с потоком времени. А ведь когда перестаешь двигаться вместе с потоком, сразу ощущаешь его движение. Это чувство необыкновенно. Я заметил, что оно бывает от музыки. Наступает в концерте такая секунда, когда вдруг кончаются усилия восприятия и ты становишься как бы центром, куда стремится музыка. Ты чувствуешь счастье. Этот переход знаменуется тем, что все вокруг приобретает нечто, чего не имело раньше, — пилястры и лепка потолка, портреты композиторов в золотых медальонах, матовые трубы органа — все становится иным… Сперва я думал, что они как бы трогаются с места, как бы вдруг начинают лететь вместе с музыкой. А потом мне показалось более верным, что они, наоборот, — останавливаются во времени, и тогда время становится ощутимым. Овеществленное в музыке, оно течет, мчится, плывет на них, на вещах материального мира, сквозь них, вокруг них, как тучи набегают на утесы высоко в горах… Так случилось со мной и тут, в Париже, в субботний вечер, в красоте площади Конкорд. Я замер, и время стало мчаться на меня. Пошла на меня океан-река истории волнами столетий, и я как бы ощутил все ее бесконечное течение. Я стоял между Луксором и Тюильри, и где-то вправо от меня, далеко-далеко, за тысячи верст, возвышались башни и стены над площадью, тоже ярко освещенной, но спокойной в этот ночной час и обращенной в будущее. Поэтому, вероятно, я и был счастлив. Чувство истории — обычно головное, умственное чувство. Но до него поднимаются ходом размышления, трудом изучения. Оно холодно, как география, изучаемая по карте. А вот если вас поднимут на четыреста километров и вы из космоса увидите не карту, не глобус, а сквозь клецки облаков увидите очертания Европы на шаре Земли, — вот тут в вас и возникает чувство планеты, тут вас и охватит счастье. Об этом рассказывают наши космонавты. Нечто подобное произошло и со мной, но не в пространстве космоса, а во времени. Тогда, в красоте Парижа, сквозь шум прекрасной площади я почувствовал бег времени — сразу, от древних Фив до Кремля! Я почувствовал, как удачно угодил я именно в этот двадцатый век, когда повернула река истории и пошла по новому руслу. Не часто случается человеку физически ощутить этот поворот! …Тот субботний вечер миновал давно, а сейчас, когда я вышел из метро, был день, фонтаны не работали, громадные межконтинентальные снаряды автобусов из Осло и Лондона выбрасывали из себя разноцветных туристов, и такелажники воздвигали над площадью алюминиевые мачты, перед которыми Луксорский обелиск должен выглядеть, как старичок среди баскетболистов.НАД РЕКОЙ
Я пошел к Сене. С моста Конкорд открывается огромная панорама на реку и город. Как описать ее? «Сена лежит в рыжих мехах осенних каштанов — полнотелая, залитая солнцем возлюбленная Парижа, коронуемая куполами, задаренная ожерельями мостов…» Это шикарно, но продолжать дальше в том же духе так же утомительно, как играть соло на литаврах. Вероятно, надо рассказать возможно более точно то, что являлось глазу. Сена казалась нетекущей. Она плескалась от движения судов, и по всей ее поверхности выскакивали пирамидки мутно-зеленой воды, о грани которых дробилось солнце. Солнечные зайчики играли на нижних уступах набережных, а выше струились две реки автомобилей, и от их эмалевых спин тоже отсвечивало солнце, его блики бежали по каменным экранам вторых уступов. Над ними мчались еще потоки авто и тоже вспыхивали там и тут то стеклом, то эмалью… В общем, Сена не была главной рекой этого города, и вода ее играла с солнцем не так ярко, как реки машинные… Но и сама Сена тонула в машинах. По ней в моторном вое носились красные, желтые, зеленые глиссеры, задрав кверху носы и производя оглушительное шмяканье от ударов днища о воду… По ней проплывали, пристойно шурша, комфортабельные баржи, отделанные с тем коммерческим шиком туристских концернов, который всегда вызывает мысль не о богатстве, а о скупости на грани скудости. В их никель, стекло и пластмассы было усажено максимальное количество турединиц, державших бинокли и «лейки» у глаз. Во всем этом громадном полотне не хватало только воздушного шара, подвешенного к синеве небес, и самого художника, который с манекенным достоинством возвышался бы на набережной — в бороде, в берете, с палитрой в одной руке и кистью в другой, великого таможенника Анри Руссо, изображавшего мир с изысканной наивностью, как Заболоцкий в ранних стихах. «А уж не штамп ли все это? — спросил я себя, отписав предшествующие абзацы. — Есть ведь такая, очень старая, очень заезженная традиция — изображать все заграничное с пренебрежительностью и ироническим осуждением, хотя, по совести, поездка на такой барже сквозь весь Париж и удобна, и приятна, и поучительна. Разве мы с вами не любим прокатиться по Москве-реке на речном трамвайчике?!» О, как легко и как привычно осуждать чохом все не наше! Между тем банальность — западня для мысли. Как-то я шел ночью по улице Риволи, ее галереи как бы созданы для вечерних прогулок. В маленькой витрине я увидел пестрый галстук, на котором было выткано:«Охота за женщинами — волнующий спорт».Вот находка для литератора! Какой цинизм! Какая пошлость проповедуется здесь в отношениях между полами! Записав это, я потопал дальше. Я дошел до любимого Пале-Рояля, где было, как всегда в этот час, малолюдно, несветло… Странный город Париж! В нем не чувствуешь себя иностранцем. Конечно, тут могут за вами следить шпики, говорят, тут могут устроить вам провокацию… Но это не Париж, это совсем другое, пошлость, о которой противно писать, как противно читать о шпионах. Настоящий Париж принадлежит вам столь же незыблемо и законно, что и Роден, Марке́, Экзюпери… Он не принадлежит провокаторам и шпикам, как он не принадлежал гитлеровцам. Его хозяин — хороший человек, и вы это чувствуете, даже когда в одиночку бродите по ночным улицам. В Пале-Рояле было тихо, изредка проходили люди, я ловил то насвистыванье, то песенку, то французскую быструю речь… Потом кто-то сказал по-русски: — Когда Валю ампутировали… Бедный, жалкий эмигрантско-парижский язык! И я под стук моих одиноких шагов унесся мыслью в Россию, домой, в Москву, к друзьям, и вспомнил почему-то Володю Р. Смешной Володя. Он и на седьмом десятке продолжал бить копытом при виде хорошеньких женщин! «Вот кому бы этот галстук! — вдруг пришла мне в голову отличная мысль. — Старик вдоволь нахохотался бы, получив такой подарок к шестидесятилетию: не в бровь, а в глаз!» Да, легко осуждать чужое, особенно следуя банальности. Но ведь это не только бесплодно, не только лишено чувства юмора, это еще и очень дурно, ибо плодит враждебность там, где она могла и не возникнуть! Галстук-то ведь был выткан просто как шутка, а я уж изготовился проткнуть его своим обличительным штыком! В другой раз случилось следующее. Я напечатал очерк об Англии, и очень хотел узнать мнение о нем гостившего в Москве английского коммуниста, моего знакомого по Лондону. Но тот ничего не сказал мне. А его жена мне сказала, что я там пренебрежительно отозвался о лицах солдат. — Ведь это — наши сыновья, — сказала она. В своей привычке к банальности я упустил из виду, что лица солдат — это не лицо армии, и, сам того не понимая, быть может, сыграл на руку тем, кто солдатами командует.
БЛУДОПРОДАВЦЫ
Потом я пошел на площадь Пигаль. Это — странная площадь. Она вся как будто придумана против Парижа. Хитрость состоит в том, что тут множество черт настоящего Парижа — и кафе, столики которых выставлены на тротуар, и высокие дома, обступившие маленький сквер, и теснота от автомобилей, пешеходов и узких тротуаров… Но едва я вступил на эту территорию, как некто притерся сбоку и сзади и к моему плечу, и на уровне моего пупа я увидел перед собой пачку открыток, которая развернулась веером и показала взвод голых баб. — Очень близко, вы не потратите время напрасно, — сказал мне в ухо притершийся. Едва я увернулся от одного, ко мне прилип другой, и та же игра повторилась. Потом приклеился третий, поднырнул четвертый… Их тут было как оводов на лугу в летний день! Лица этих господ имели черты безошибочного сходства, как лица шпиков. Когда я бывал за границей, я всегда удивлялся наивности полицейских, по-видимому серьезно уверенных, что их штатский костюм скрывает их специальность, хотя не надо быть ни писателем, ни художником, чтобы с первого взгляда по физиономии сразу определить, кто перед вами. Оводы площади Пигаль имели гнусную внешность. Все они были благообразны, молоды, чернявы, упитанны и даже полноваты. В них была любезность, которая мгновенно выключалась, как только они выходили из пике. Вот тогда-то и надо было их наблюдать. Лицо человека, высматривающего из-за угла. Странная, почти маниакальная непреклонность в радарных глазах. Избалованность едой и постелью в синеватой округлости подбородка, в пухлости плотно сжатых охотницких губ… Паразиты. Овод меньше отличается от пчелы, чем эти от людей: спермососущие жуки. На площадь Пигаль выходят «театры». На одном из них надпись: «Наиболее рискованные ню!» «Ню» — значит «голая». Говорят, что это неточный перевод, и надо «обнаженная». Я видел этих «ню» в знаменитом на весь мир «Фоли-бержер». Мне кажется, что это все же «голые», ибо как ни крути, но когда по сцене запросто ходит, приседая на пятки из-за отсутствия каблуков, неуклюжая и долговязая бабища в чем мать родила, то вид это имеет только банный. Потом уж мне сказали, что и «Фоли-бержер» и Пигаль — преимущественно для иностранцев, недаром их программы ведутся и рекламируются не только на французском, но и на английском языке.ГРАД ГОСПОДЕНЬ
Теперь из вместилища блуда, из ада соблазнов вполне своевременно спутешествовать в рай добродетели. Белоснежный, осиянный благодатью солнца, как бы летит над Парижем Сакре-Кёр — храм Святого сердца. Он напоминает индийские или бирманские дворцы, хотя его стиль романо-византийского происхождения. Когда маленький и архаический фуникулер поднял меня к подножию храма, первое, что я увидел, было словоАфиша извещала:АПОКАЛИПСИС
«Книга, задуманная и реализованная Жозефом Форе… Текст св. Иоанна. Вес 110 килограммов. Стоимость 1 миллион новых франков. Цена билета 3 новых франка».Я уже и раньше слышал об этом чуде и потому без колебаний последовал указующей стреле и вступил в храм. Там был разбит большой базар религиозных вещиц, начиная от посыпаемых блестками открыток с изображением Голгофы и кончая статуями святых. Тут же продавали билеты на Апокалипсис. Я предъявил три франка. — Билет стоит четыре франка, месье, — сказала святая кассирша со святой улыбкой. — Но, мадам, там написано… — Да, месье, однако, чтобы туда пройти, следует миновать выставку по истории храма, а ее посещение стоит один франк. Спиральный каменный колодец уходил в землю, и я стал ввинчиваться по его ступеням, ощущая головокружение и тоску от темноты. Наконец, закрученный до обалдения, я оказался в крипте. Это — подземная церковь. Она кажется выбитой в камне — ничего, кроме камня. Своды, колонны, ниши, гулкость, полумрак… Макеты монастырских келий были театрально освещены, в них — манекены хорошеньких монашек стояли возле девственных постелей, в них шли заседания клира, и манекены кардиналов с вдохновенными лицами простирали перед собой руки с крестами и четками… Тут же висели лозунги:
«Построим 150 церквей!» «Каждый должен принести свой камень!»Это была часть того огромного каменного мира, который строился столетия по всей Европе и перед которым останавливаешься в изумлении, прежде чем отвращение охватит тебя… Как он возник, этот мир, где музыка была арматурой готики, живопись соединяла быт людей с ангелами и богами и где столь же странная, сколь бесплодная логика пронизывала гигантскую эрудицию, содержавшую в себе только тексты, толкования текстов, толкование толкований?.. Какое количество камня было опущено в землю и какое было вздыблено к небесам, какие витражи разрисованы, какие полотна написаны, сколько вещей сожжено, сколько молитв и анафем исторгнуто и обрушено за две тысячи лет!.. Миллионы людей трудились и сокрушали, чтобы возвести католицизм, гигантское «государство божие», большая часть которого была в фантазии людей, но и меньшая, видимая всем, поражала размерами и фундаментальностью. Верили они в то, что воздвигали? Вероятно, так же, как блаженный Августин верил в свой «град господень», как Аввакум в свое двуперстие… Однако и крипта сия, в которую я ввергся по пути к Апокалипсису, и все храмы, монастыри, часовни, в великом числе возведенные по всей Европе, сооружались в расчете не на князей церкви, а на толпы народные. И толпы валили в каменную, органную полутьму церквей, к лампадам, лучившимся над могильными плитами, к повисшему на кресте юноше. Гениальное изобретение: взять в боги обыкновенного человека, который перестрадал всякого, самого среди всех бедного, самого измученного! Уж он-то имеет право судить всех — и живых и мертвых, его же царствию не будет конца!.. Да, народ верил. Ведь народ состоит не из муравьев, а из людей, как бы темны, неграмотны, бесправны они ни были. Они не могли жить, не имея мечты, не видя общей картины мира, не представляя себе его возникновения, его цели, его будущего. Вот тут и был тот незримый материк, на котором строил католицизм свой «град господень». Размеры обмана были огромны. С отвращением брожу я по каменной крипте, чувствуя себя в могиле, — однако о чем говорит этот обман? О духовной жажде человечества. О неизмеримой силе его воображения. О страстном стремлении преодолеть все несовершенства жизни, победить зло, победить даже самую смерть… Музыка, как известно, самое зашифрованное из всех искусств. Поди докажи, что данный издевательский марш относится не к данному властителю, а ко всем властителям вообще?! Или что данный хорал посвящен не богу, а человеку? Я слышал гимны и хоралы средневековья. Они были написаны во имя «вящей славы божьей». Но это была музыка, высвобождающаяся из-под чудовищных глыб земных страданий, перекличка человеческих душ, ищущих поддержки друг у друга во мраке жалкого бытия, это была яростная мечта о том, чтобы выдраться из каменных колодцев, взойти по спиральным их ступеням к ослепительному солнцу и лететь все выше, все выше, в экстазе освобождения, к пронзительному, детскими голосами звенящему счастью. Какова же была мощь воображения и жажда света у простых людей, если даже вся гнусность церковных властителей, их лицемерие, их блуд, их палачество, их стяжательство — как бы отходили в тень, оставались в подвалах каменных крипт и фантастически прекрасные образы владели «овцами стада Христова»! Я помню, когда-то мне показали бесценную коллекцию миниатюр — портретов римских пап. Хотя художники и стремились польстить властителям, а я еще плохо разбирался в человеческих лицах, но до сих пор мне видятся их физиономии как символ преступности. Особенно запомнился мне папа Сикст Четвертый, с воловьей шеей, с горбатым, свисающим носом, с отечными, злыми, безжалостными глазенками и ртом, до того цинически злобным и плотоядным, что непонятно, как видевшие эту морду сразу не звонили в угрозыск, чтобы его забрали. Потом уж я читал про него, что он был авантюрист, торгаш-спекулянт, убийца, гомосексуалист, взяточник, первейший бандит пятнадцатого столетия — наместник бога на земле. Народная молва не пожалела негодяя — эпиграммы и проклятия, ему адресованные, стали широко известны в Италии, да и тут, в Париже.
«Убийца Сикст! Тебя надо было задушить еще во чреве матери!» «Сикст, наконец ты труп. Пусть все распутники, развратники, сводники, притоны и кабаки оденутся в траур!»Так писали на стенах, на цоколях храмов и памятников люди из народа, когда властитель подох. Эти надписи назывались «пасквинадами» по имени портного Пасквино, о котором говорили, что его язык острее его иглы[9]. Вот в нише — картина из рукописной книги средневековья: идет на костер женщина, одетая в саван, в руках свеча, на лице блаженство: она покаялась, ей отпущены грехи, и глаза ее уже видят рай, куда ей открыты врата после «огненной купели». Ужасно, нелепо, как все, что видишь тут… Однако как силен человеческий дух, преодолевающий страх смерти, пусть под картиной и следует написать: «Жертва мракобесия». Необыкновенное явление во Вселенной — человек. Главы его предыстории страшны и даже отвратительны, но уже и в эти ребяческие годы можно различить черты будущего победителя мира. Придет время, и научный анализ по строгим алгоритмам разложитвесь этот гигантский обман, называемый церковью; математика и кибернетика с неопровержимостью покажут, как и почему образовалась, действовала и даже в тех условиях оказывалась неизбежной эта всенародная, хитрейшая и часто гениальная мистификация, когда «церковная догма была исходным моментом и основой всякого мышления», как характеризовал культуру раннего средневековья Энгельс. А сейчас? Во времена атомной энергии, искусственных спутников Земли, кибернетики, математизации гуманитарных наук?..
АПОКАЛИПСИС
В прозрачном шаровидном пузыре лежит нечто вроде сундука, лежит, поблескивает мутным золотом. Тут же все сведения о нем:«Три года поисков и работы». «11 мастерских». «14 знаменитостей из мира искусств и литературы». «150 больших листов пергамента». «550 золотых заглавных букв». «700 часов работы ювелиров». «2000 часов усидчивой каллиграфической работы». «4000 часов работы позолотчиков». «93 000 каллиграфических букв». «140 000 километров путешествий издателя по Европе». «300 000 баранов забито, чтобы выбрать 200 шкур редчайшего качества для пергамента…» «Цена — 1 миллион новых франков».Допустим даже, что, как и во всякой рекламе, половина — преувеличение. Но и половины довольно, чтобы развести руками в изумлении. Начнем с переплета. В нем восемьдесят килограммов — вес солидного человека высокого роста. Он из бронзы и металла. В центре раскинул руки человечек, погруженный в нечто вроде пчелиных сотов. Несколько обеденных вилок и ножиков направлены к человечку и, как мне объяснили, должны изображать ту обыденность, которая, «подобно тюремной решетке, держит в плену человеческое существо». Кругом вделаны жемчуга и драгоценные камни четырнадцати сортов, каковые должны изображать ворота Иерусалима, чистоту души и еще что-то. В рекламе указывается, что некий «электронный мозг» может открывать обложку. Мне этого не показали — мозг не работал, и о том, что внутри, я мог судить только по листам пергамента, развешанным возле пузыря, — образцам страниц. Прежде всего — вся книга написана от руки. Какая-то молодая женщина, о которой зачем-то сообщается, что в возрасте пятнадцати лет она перенесла полиомиелит, шесть месяцев подбирала и изобретала стиль букв, а потом два года выписывала текст Апокалипсиса на пергаментных страницах. Два года! Для нашего времени книгопечатания и прочих новомодных выдумок это, конечно, рекорд. Однако куда двадцатому веку до средневековья! Например, у Козимо Медичи в пятнадцатом столетии работали 45 переписчиков и без всякого полиомиелита меньше чем за 2 года переписали 200 томов (двести), в том числе и Апокалипсис. Вот это был размах! Как видно, измельчали людишки за последние пятьсот лет! Не те нынче масштабы! В сотворении книги принимали участие шесть художников, имеющих известность как представители крайних направлений в искусстве. Вот Бернар Бюффе. Его гигантское полотно («El paseo»), изображающее нечто вроде парада тореадоров, демонстрировалось на Парижской молодежной биеннале 1961 года и вызывало самые противоречивые толки. В книге Форе он сделал «Портрет Иоанна», автора Апокалипсиса. То же длинное лицо с прямым носом и заведенными к верхним векам зрачками — безрадостное лицо одержимого или обреченного, — что и тореадорские лица в «El paseo». Как и у многих художников современного Запада, в этом портрете человек на полотне отделен от людей, на него смотрящих, непроходимой прозрачной стеной, полной отчужденности, он «замкнут на себя самого», он мира вокруг не видит. Конечно, автор Апокалипсиса может быть толкуем как отрешенный от мира, но ведь художника Бюффе никто не принуждал изображать именно Иоанна, как тореадоров! Он мог взять своей темой людей иного склада. А кроме того, таким ли рисуется Иоанн из тех произведений, которые ему приписываются? Если самому не чувствовать себя отторгнутым или сверхчеловеком, то и Иоанна легко представить совсем иным, например, таким, как изобразил его Леонардо в «Тайной вечере», — поэтом, а не вещуном, другом людей, а не палачом их. Значит, уж время такое и люди такие, что книга ужаса стала предметом их творчества и герои смерти стали их героями! Реклама говорит о том, что «в двадцати иллюстрациях художники современности рассказали, как они представляют себе гибель мира». «Откровение», пожалуй, и было выбрано господином Форе, как книга, в которой, во-первых, все непонятно, и, во-вторых, все рассчитано на испуг. Всякие чудовища с многими головами, с хвостами из змей, с огненным дыханием, хорошо обеспеченные разного рода убойным инструментом, топчут, пронзают, сжигают и уничтожают род человеческий. Художник Фужита изобразил четырех всадников Апокалипсиса в виде самураев, попирающих множество детей. Художник Пьер Тремуа со смаком выписал подробности строения апокалипсической саранчи вида «аполлион». Она у него красная, кожистая, и из ее членистого брюха с кровью рождаются маленькие саранчонки. Смотришь на эту картину, и опять та же мысль мелькает в голове: да, измельчали людишки! Ведь как эта самая саранча была описана у Иоанна? Там действительно становилось не по себе.
«7. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее как лица человеческие». «8. И волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». «10. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была — вредить людям пять месяцев».Вот ведь какой ужас! И что за точность! Пять месяцев — не больше и не меньше! А тут — кузнечик живородящий! Не тот масштаб, господин Тремуа, отстали вы от первых веков христианства! Однако справедливость требует указать, что некоторые успехи и даже прогресс в книге имеются. Но это скорее относится к технологии иллюстрации, где был сделан шаг вперед по сравнению с временами Иоанна Богослова и Козимо Медичи. Шаг этот можно с полным правом назвать взрывом не только в фигуральном, но и в буквальном смысле слова. Инициатива принадлежит Сальвадору Дали. Представьте себе человека лет под шестьдесят, одетого в голубую шелковую робу, густо расшитую цветами и листьями из разноцветных шнуров, — не то наряд тореадора, не то риза священника, но с погонами. Под правый погон пропущена синяя муаровая лента, как бы орденская. Поредевшие волосы неестественно черны, и столь же черные усы круто скручены в два тонких острия, торчащие над верхней губой, как рога боевого быка. Лоб обтянут смуглой кожей, она в глубоких морщинах, — по-видимому, от частого вскидывания бровей; прямой нос и вычурно вырезанный рот придают черты красивости этому лицу, на котором лежит озабоченность тем, достаточно ли сильное впечатление оно производит на окружающих, и, вероятно, прежде всего на женщин. Что-то слабое, безвольное, испуганное есть в нем, несмотря на внешнюю, декоративную мужественность. Если правда, что люди всю жизнь живут в одном возрасте (есть юноши с душой стариков и есть старики, которые сохраняют духовную молодость), то Дали, пожалуй, пребывает в переходной стадии от отрочества к юности — стадии мучительной, обращенной в себя, с элементами нарциссизма, с болезненной жаждой потрясти собой мир и выскочить из себя ослепительным гигантом, на всеобщее преклонение. Как художник он начинал сюрреалистом. Жажда сенсационности отмечается его критиками. Сам он говорит о себе чересчур часто и чересчур громко. Он объясняет свое творчество теорией искусства как деятельности параноической. Абсурд и виртуозность — качества, ему действительно присущие. С большой ловкостью, с отталкивающим натурализмом изображает он нелепые вещи в нелепых обстоятельствах. Как раз в те дни, когда в крипте Сакре-Кёр была выставка «Апокалипсис», Париж облетело известие, что передача, объявленная в программах телевидения и посвященная Сальвадору Дали, отменена. В газетах были опубликованы причины этого запрещения. Они состояли не в том, что один из эпизодов передачи показывал крупным планом удар бритвой по глазу молодой женщины, и не в том, что другой эпизод содержал в себе заявление Сальвадора Дали, что он гений, а в прямом нарушении приличий.(Иоанна. Откр. Гл. 9, ст. 7, 8, 10.)
«Мы встречаемся здесь с предельным случаем, — писалось в газетах. — Другими словами, ясно, что границы перейдены и эротизм принимает вызывающий характер… Сеанс стриптиза в каком-то смысле, особенно в отношении пластического впечатления, был бы гораздо более ценным для телевидения, чем демонстрация господина Дали».Можно себе представить, что это была за передача, если даже публичное самораздевание дам за мзду донага казалось бы перед нею безгрешной классикой. Впрочем, как я слышал, текст передачи шел еще дальше, вплоть до прославляющих деклараций об онанизме. Вот тебе и муаровая лента под правый погон! Отрок себя показал в блеске. Теперь остается сказать только о взрыве. Сальвадору Дали принадлежит в книге не только обложка с вилками и ножиками, он нарисовал еще картину «Пьета» на традиционную тему оплакивания Христа, снятого с креста. В картине этой привлекает внимание не столько рисунок, как всегда у Дали, грамотный и экспрессивный, сколько фон, на котором он сделан. Он состоит из множества пятен, светлых и темных, произвольно и шустро разбросанных по пергаменту, так что они почти скрывают изображение. Однажды в Париже на бывшем Зимнем велодроме произошел взрыв. Это не была бомба ОАС. Это был заряд, на котором укрепили часы, горсть медалей и горсть гвоздей, залитых в гипс. Все это выстрелило в медную пластину, вонзилось в медь или поцарапало ее, и потом искалеченной таким способом пластиной был напечатай фон для «Пьеты». Конечно, можно сказать, что взорванные часы символизируют время, остановившееся в час Страшного суда, гвозди должны напоминать те, которыми были прибиты руки и ноги распятого, а медали… допустим, что медали, подвергнутые взрыву, означают тщету земных наград… Однако гораздо вероятнее, если принять во внимание характер господина Дали, что взрыв, как и телепередача, должны были вонзить в сознание публики мысль о гениальности скандалиста. К счастью, сознание публики не медная доска! Мне рассказывали, что вся эта история с созданием «самой дорогой книги в мире» была затеяна на пари. Издатель выиграл пари, да еще немало заработал на выставках и открытках, а также от продажи довольно дорогих каталогов-проспектов, не говоря уж о рекламе, которую он создал своему издательству столь апокалипсическим способом. Когда я покидал крипту, я остановился у прилавка с проспектами и открытками. Я выбрал шесть открыток, дьявольски дорогих, с репродукциями картин из книги. Продававшая дама сказала: — Если вы возьмете десять, вы получите одиннадцатую даром. Усталый и злой, я ответил: — Коммерция? Передо мной была женщина лет шестидесяти, седая, с очень добрым, мягким и интеллигентным лицом. Она смотрела на меня с грустью, она даже покраснела слегка. — Зачем вы так говорите? — спросила она тихо. — Ведь это иллюстрации к святому Иоанну. Я понял, что очень обидел ее. Мой глаз, точно видящий даже самую искусную, самую гордую штопку на отглаженных кружевах, сразу замечающий следы стирки на материнских руках и морщинки у рта, по которым сбежало немало слез, не успел мне просигналить, и злое слово выскочило из моего рта. Ведь она не Форе, державший пари на Новый завет, и не Дали, стрелявший медалями в Христа, она просто не знает, что такое ее шефы, и поздно ей переучиваться. Но обижать ее не надо. Ни сейчас, ни потом, никогда!
«НЕТ» ГОЛЛИВУДУ
По всему Парижу можно видеть бедро и разрисованные глаза Элизабет Тейлор в фараонском облачении.«Должно пройти 2 тысячи лет, чтобы вновь ожило величие царственной Клеопатры. Не потребовалось и двух суток, чтобы десятки тысяч парижан ринулись увидеть высшее сверхзрелище экрана «Клеопатру».Так гласит реклама, но все это вранье. Я был в театре на шестой день после премьеры. Половина зала была свободна. Если сопоставить то, что было истрачено на это сверхзрелище, с тем, какое впечатление оно производит, то можно сказать только одно слово: провал. Фильм идет четыре часа. Он широкоформатный, цветной, стереофонический, набитый аттракционами. Он стоил десятки миллионов долларов. Он снимался несколько лет, что для Голливуда вообще является катастрофой. Можно ли сказать, что мы никогда не видели ничего подобного? В том-то и дело, что нельзя. Конечно, в фильмах Гриффита, таких, как «Нетерпимость» (1916), количество статистов было меньше, цвета не было, звука не было, экран был маленький. Конечно, в «Кабирии» было понаделано больше ошибок против истории… Несомненно, в «Бен-Гуре» декорация была несколько скромнее и актеры подешевле… Однако, по существу, мы не увидели ничего нового. Давайте устроим небольшую беседу нескольких ценителей, чтобы они высказали основные мнения, которые мне пришлось услышать о «Клеопатре» в Париже. — Действительно, ничего принципиально нового мы не увидели. Однако уже сама величина того, что мы увидели, есть новость. Ведь это безмерно. Когда я увидел перед собой гигантскую площадь римского форума, вокруг которого возвышаются в натуральную величину дворцы и храмы, когда под аркой, высотой в семиэтажный дом, появляется гранитный сфинкс, высотой в пятиэтажный дом, влекомый тысячью полуобнаженных атлетов, и когда толпа в тысячи полуобнаженных граждан ревет, приветствуя египетскую царицу, едва видимую на лапе чудовища, я сказал себе — зачем я буду лишать себя удовольствия? Во мне кипит мальчишеское любопытство, мне двенадцать лет, я вскакиваю со своей скамейки на галерке и кричу от восторга. Морское сражение, в котором участвуют десятки гигантских кораблей, стреляющих друг в друга огненными снарядами. Дворцы, где все блестит золотом и драгоценными камнями. Бассейны. Роскошные телеса рабынь. Фимиамы. Ступени. Колонны. Ультрамариновые небеса. И столько крови, что «Фарбениндустри» смогла бы разбогатеть на ее поставке. Разве все это не сверхзрелище? — Сверх-ультра-экстра-мюзик-холл. — Право же, это забавно, на один билет вы получаете столько кубических километров аттракционов, что ваш расход окупается сполна. А костюмы? Прически? Все, что можно сделать из волос, золота и шелка, тут сделано. Мадам Тейлор получила столько костюмов, сколько не имела ни одна «звезда» за все время существования Голливуда. — Но, может быть, под пышностью и роскошью здесь скрывается глубокий смысл? Может быть, творцы картины хотели противопоставить Восток и Запад? Восток — женственный, вне рационализма, изысканный, полный наслаждений. Запад — мужественный, жестокий, непреклонный, с его сенатом, легионами, с его трубящей медью и окровавленными мечами… — Почему вы отказываете Востоку в мужественности, а Западу в изысканности? Что за противопоставление? Ведь в картине мы видим основную историческую ошибку и удивительно, как могли ее допустить люди, располагающие неограниченными средствами, чтобы привлечь консультацию любых историков, любых искусствоведов. Все вещи, все костюмы, все здания, которые мы видим в картине, представляют собой вариации археологических находок в гробнице Тутанхамона, то есть относятся к четырнадцатому столетию до нашей эры, между тем как действие происходит во второй половине первого века до рождества Христова. Представьте себе генерала де Голля в костюме Людовика XIV. — Но за двенадцать веков произошли гигантские изменения: Греция пришла в Египет. Клеопатра — чистокровная гречанка не только по происхождению, но и по культуре, по воспитанию. Александрия ее времен — эллинистический город, господствующий язык здесь греческий, египетский язык можно услышать реже, чем еврейский или сирийский. Все это неграмотно. — Можно подумать, что в Голливуде не читали Плутарха. Вспомните, например, сцену убийства Цезаря. Здесь она разыграна в стиле изящества и даже вежливости. Между тем как, согласно Плутарху: «Туллий схватил обеими руками тогу Цезаря и стал стаскивать ее с шеи, что было знаком к падению. Каска нанес мечом первый удар Цезарю в затылок, но не смертельный, легкий, — вероятно, он был смущен в начале своего ужасного замысла. Поэтому Цезарь обернулся, схватил меч и не выпускал его. Почти одновременно оба кричали. Раненый Цезарь по-латыни: «Негодяй Каска, что ты делаешь?», а Каска — по-гречески, обращаясь к брату: «Брат, помоги!..» Все заговорщики с обнаженными мечами окружили Цезаря: куда бы он ни обращал взор, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары мечей, направленные ему в лицо и глаза, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели указывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал… Цезарь, как сообщают, получил 23 раны. Многие заговорщики переранили друг друга, направляя столько ударов в одно тело…» — Однако у Светония эта сцена выглядит не такой уж бойней. — Не думаете ли вы, что предъявлять требования абсолютной точности к художественному произведению мы не имеем права? Бернард Шоу, например, начинает свою пьесу «Цезарь и Клеопатра» тем, что заставляет римского диктатора встретиться с египетской царицей ночью в пустыне, у подножия сфинкса. С точки зрения ученого это вздор. — Но кто же позволит себе сравнивать блестящее творение Шоу с этим балаганным «шоу»? — Я не против подобного рода отступлений от данных истории. Но я против Голливуда, который выпирает из каждого кадра картины. Вспомните, например, голливудский балет, предшествующий торжественному въезду Клеопатры в Рим. Все повадки «тысячи герлс» мы видим здесь, на форуме, перед сенатом и народом римским. Там выскакивают, например, полуголые дамы и машут крыльями, они одеты в перья и украшены знаками божественного достоинства, какие были присвоены Изиде, когда боги превратили ее в птицу — символ скорби. Заставлять скорбящую Изиду плясать на площади — так же нелепо, как устроить выступления жонглеров в гриме Христа, жонглирующих терновыми венцами. — А этот дождь конфетти и серпантина — не напоминает ли он вам предвыборную кампанию где-нибудь в Чикаго, когда люди хватают телефонные справочники из будок автоматов и, искромсав их, кидают в проезжающего кандидата? — Особенно забавно выглядят сцены на парапете крепости во время морского сражения. Там действуют маленькие макеты судов. Они расставлены на гладком, полированном столе, военачальники передвигают их соответственно действительному расположению на воде. Именно так делали англичане в своем подземном штабе во время воздушных нападений гитлеровской авиации на Лондон. Но тогда это было необходимо, поскольку на громадных воздушных пространствах нельзя было сразу охватить общей картины налета. А здесь? Стоило подойти к барьеру парапета, чтобы увидеть все корабли в натуре. — Вы обратили внимание на ликторские связки, так называемые «фасции», которые обычно носили перед консулом? В действительности они делались из натуральных ветвей, которые связывались обыкновенными ремнями, а сверху втыкался топор. Это был символ власти и насилия. Голливуд сделал их из золота. Он не мог допустить, чтобы на экране было что-то «бедное». Раз Голливуд, раз цари, значит, все должно быть из золота. — Я не могу понять, как культурные люди, имея такие гигантские возможности, отказались от самой заманчивой мысли, какая должна была возникнуть: восстановить при помощи кино историю, оживить умершую две тысячи лет тому назад цивилизацию. Для этого они должны были как можно прочнее забыть нашу современность, как можно более органично влиться в ту далекую эпоху. Они отказались от этой возможности. Они потратили гигантские деньги и огромные усилия на дешевку, которая производит впечатление грубого примитива. — Надо принять в соображение, что в этом отношении против режиссера стояли слишком большие силы, чтобы он мог их преодолеть. Во-первых, коммерция. Фильм «Клеопатра» можно считать самой обширной и самой гигантской операцией против телевидения. Надо было сделать такое, что нельзя воспроизвести на телевизионном экране. Во-вторых, против режиссера могли восстать «звезды». Их было по крайней мере трое: Элизабет Тейлор, Ричард Бартон и Рекс Харрисон (Клеопатра, Марк Антоний и Юлий Цезарь), — впрочем, достаточно и двух первых, тем более что Харрисон показал себя в картине лучше, чем все другие. Он все-таки сделал попытку создать образ, не лишенный исторической и человеческой правды. Судя по данным печати, Элизабет Тейлор вела себя фараоншей не только на экране, но и в жизни. Она капризничала, требовала невероятных денег, ставила почти невыполнимые условия и заставляла себе подчиняться, потому что ее отказ от участия в картине, уже наполовину снятой, обозначал бы финансовый крах компании. Я не думаю, что если бы режиссер Манкевич даже захотел придать Клеопатре хотя бы те черты, которыми ее наделяет Плутарх, госпожа Тейлор не устроила бы ему яростной сцены. Историк говорит о блестящем уме Клеопатры, о ее широкой образованности, о прекрасном знании нескольких языков, причем все это вполне вероятно, если принять во внимание общий уровень культуры высших классов в ту эпоху. А Тейлор играет недалекую норовистую барыньку, которая в момент гнева принимается рвать и резать платья — сотни роскошных платьев, висящих в ее гардеробных шкафах. Великосветскость американской элиты с ее высокомерием, бездушием, жаждой удовольствий, с ее душевной пустотой не удалось прикрыть никакими символами египетских времен. Иногда эти миллионеры и бизнесмены, облаченные в тоги, как в домашние халаты, и эти дамы из нью-йоркского общества, живущие в отелях египетского стиля, выглядят очень смешно, но всегда это только раздражает… В этом есть бесшабашность и нахальство преуспевающих дельцов, которые думают, что им все можно. …Тут я хотел бы персонифицировать одного из говорящих. Мы встретились с ним один на один, и я не был вполне уверен, не разыгрывает ли он передо мной какую-то несложную, им самим задуманную роль, настолько живописно выглядел он во время беседы. Представьте себе человека за семьдесят, с невероятно горбатым носом, с огромной нижней челюстью, почти без губ, с очень живыми маленькими глазками, с очень красивыми, хотя уже искривленными старостью руками. Он был весь в пепле трубки, который сыпался на драгоценный твид во время стремительных взмахов правой руки (левая, как мне думается, несколько парализована). Я не хочу называть его фамилии, в ней было во всяком случае не менее двух «де» и столько же названий общеизвестных районов Франции. Словом, это был аристократ «пюр санж». — Что сказать вам об этом фильме? Видите ли, когда господин Бартон взялся за «Клеопатру», спортивный журнал, издававшийся на его родине в Кардиффе (вы ведь знаете, конечно, что он сын горняка из Южного Уэльса в Англии), сообщил своим читателям, что на этот раз есть все основания опасаться, что Бартон окончательно потерян для регби, в котором он был большим мастером… Я полагаю, что если бы он сейчас стал чемпионом регби, то искусство потеряло бы меньше, чем спорт, когда он покинул его для искусства. Правда, все говорят, что у Бартона очень фотогеничные ляжки. Конечно, сейчас это имеет известное значение для карьеры актера… Впрочем, некоторые думают, что Бартон более талантлив, чем мадам Тейлор. Говорят, что в юности он превосходно читал стихи Шекспира на школьных вечерах. — Что касается Лиз, то тут надо иметь в виду одно обстоятельство, которое обычно забывают, обсуждая фильмы, спектакли… Сейчас дело уже не в том, какой образ она создала на экране, дело в том, что она чувствует себя богиней и царицей в жизни. Если говорить о божественном происхождении богатства, то, конечно, ни один миллиардер не зарабатывал денег с такой невероятной скоростью. Когда понадобилось доснять эпизод длиной в 30 секунд, ей было заплачено по восемь тысяч новых франков за секунду (более полутора тысяч новых рублей. — Б. А.). Если говорить о божественности красоты, то она отвечает требованиям каких-то слоев населения, которые видят в ней свой идеал. В мое время она подошла бы в горничные моей бабушке, которая любила смазливеньких служанок. Сейчас она Венера Америки, в этом вся суть. Мой собеседник поднял правую бровь и опустил левый угол рта, выразив таким способом полное пренебрежение к вкусу американцев. — Публику, — продолжал он, — интересуют, конечно, отнюдь не достоинства актрисы, а нечто совсем другое. Обсуждается, почему она прогнала Ника Хилтона (Отели), почему она оставила Майкла Вильдинга (Талант), искренне ли огорчилась она, когда ее третий муж, Майкл Тодд, которого многие считали гением, разбился где-то на самолете в пустыне, и почему ее вынужден был покинуть Эдди Фишер, ее четвертый муж. Особенно интересует всех ее пятое замужество. Что нашла она в Бартоне? Талант? Пожалуй, сейчас ее это интересует меньше всего. Мужчину? Большинство склоняется к этой мысли. Впрочем, есть люди, подозревающие, что после полного провала «Клеопатры» в англосаксонских странах господин Занук, сменивший на административном посту менее увертливого своего предшественника, решил нанести общественному мнению решительный удар и подогреть интерес к провалившемуся фильму. Вероятно, у него были возможности организовать это замужество. Так говорят злые языки. Впрочем, некоторые утверждают, что молодожены разругались с кинокомпанией и вели себя даже вызывающе по отношению к ней. Но ведь они актеры, они могут сыграть все, что угодно, в особенности столь примитивную роль, как роль кинозвезды. — Гораздо больше, чем писания Плутарха, публику интересует тайна Монтгомери Клифта, который, как утверждает печать, любит мадам в течение пятнадцати лет безнадежной, но преданной любовью. Подобный персонаж необходим, чтобы наложить какие-то трагические тени на чрезмерно раззолоченную жизнь. Можно было бы еще рассказать разные мелочи, подтверждающие фатальность этой драмы, но, в конце концов, я думаю, это не для нас с вами. Я хотел бы только, чтобы вы поняли существо дела, оно ближе к мифологии, чем к экрану. Люди создают себе кумиров, и безразлично, чем эти кумиры занимаются — футболом, регби, кинематографией или дипломатией. Сейчас, когда новая элита старается быть незаметной и тратить свои миллионы, не раздражая простых людей, она уже не может быть тем, чем были короли, герцоги и бароны еще во времена моей бабушки, и на пьедестал поднимаются вместо королевы Елизаветы и Ричарда Львиное Сердце Элизабет Тейлор и Ричард Бартон… В конце концов, разница не так уж велика. — А вы не думаете, — решился я задать вопрос, — что эти новые боги каким-то образом отражают общественное мнение или вкус определенных кругов? — Я подозреваю, что они не только отражают, но и организуют то и другое. Они несут нелегкое бремя. Если Людовики были обязаны публично просыпаться, одеваться и умываться, то эти вынуждены существовать публично не только днем, но и ночью. Трудность состоит не в том, чтобы сохранить себя в принятом образе, но чтобы придумать активные действия, соответствующие взятой на себя роли. Фамильные воспоминания говорят мне, что это очень тяжелая жизнь.
…Может быть, во всех приведенных выше спорах и высказываниях, многие из которых были опубликованы, есть доля правды. Главное же, мне думается, состоит в том, что «Клеопатра» — мещанская картина. Голливуд выпирает из нее именно потому, что он — знамя мещанства. Египетская царица оказывается дамой из богатой семьи, ее мужчины обладают достоинствами и недостатками обычных добытчиков денег. Ее неприятности возможны для любой дамы из общества. Зато ее комфортабельность, респектабельность, великосветскость — все это предмет мечтаний мещанства. Стилизованная под некий «древний мир» реклама роскошной жизни — богатых апартаментов, волшебных путешествий, невероятных пирушек и полного произвола желаний. Волшебное сновидение: сколько угодно денег и — делай что хочешь! Таков идеал мещанства, и он тут как тут! Париж сказал «нет» Голливуду. Здесь знают разницу между модным журналом, где принято снимать манекенщиц на фоне дворцов, и искусством. Голливуд, как говорится, «недоучел» уровня современной публики Европы. Люди знают кое-что о жизни, и нечего им втирать очки. Они глубже думают о мире, чем американские генералы, одетые в римские доспехи. Можно ли назвать «Клеопатру» упадком буржуазного искусства? Если это искусство, то это, конечно, упадок. Однако это не есть пропаганда упадничества. Тут нет философии беспомощности, душевных сумерек, эротизма и пессимизма, как, например, в большинстве произведений на Третьей Парижской биеннале молодежи с ее зашифрованными абстракционизмом непристойностями, с ее хулиганскими выходками, вроде ночного горшка на пьедестале… Отнюдь! «Клеопатра» Голливуда — офицерский фильм. Я думаю даже, что с точки зрения Пентагона это государственный фильм США. Он должен быть по нраву бешеным сенаторам. Как шикарно топают там бесчисленные легионы, как великолепна непререкаемость приказаний и команд, как завидна быстрая исполнительность подчиненных — все эти повороты кругом, отдания чести, преклонение перед авторитетом начальников… Наконец — эти доспехи с выдавленными по бронзе орлами, эти мечи, эти тоги, эти перья… Власть, власть, власть… Какая цель может сравниться с ней?! Одновременно показывается также вред женских чар, опасность чрезмерных возлияний для генералов… Однако я думаю, что завоевание мальчишечьих душ на сторону военщины все-таки удобнее производить при помощи таких фильмов, как «Великолепная семерка» и «Мы захватили Запад». Во-первых, они гораздо общедоступнее, проще, в них меньше актерской болтовни и меньше претензий на историческую глубину, а во-вторых, они неизмеримо дешевле! Наконец, они ближе к современности: нельзя же убийц Цезаря снабдить автоматами или маннлихеровскими винтовками с оптическим прицелом!
У ИСТОКОВ КИНО
Анри Ланглуа и Мери Мерсон — подлинные энтузиасты истории мирового кино. Они полностью погружены в свои заботы — раздобыть как можно больше фильмов, получить как можно больше редких экспонатов для своего киномузея, как можно более широко демонстрировать лучшие образцы киноискусства. Киномузей размещен во дворце Шайо, в одном из огромных и красивых ансамблей Парижа. Музею отведено очень мало места, нам удалось увидеть экспозицию только предыстории кинематографа. Тут можно видеть первые попытки воспроизвести движение, можно проследить порой странные пути человеческой мысли, ищущей новых способов фиксирования жизни и еще не подозревающей, к чему это приведет. Работы физиолога Жюля Этьена Марея (1830—1904) — исследователя, инженера и, вероятно, фантазера — начинаются с того, что он делает снимки последовательных движений человека на одной и той же пленке. На первый взгляд это выглядит как творение фотолюбителя, забывавшего менять кассеты, однако тут была уже заложена возможность уловить движение во всей его подлинности. Мы видим людей, шагающих в белом трико на черном фоне, которые кажутся многоногими длинными привидениями, протянувшимися от дома до дома. Или альбатрос летит, подобный ленте, из которой вытарчивают острия крыльев… Внешне все эти фотографии и рисунки очень напоминают живопись футуристов, которые в начале века пытались передать движение живописью и скульптурой. Марей, вероятно, особенно дорог сердцу месье Ланглуа. Слегка задыхаясь, своим хрипловатым и тихим голосом он рассказывает об этом человеке в той чисто французской манере, когда оратор стремится прежде всего внушить свое ощущение от предмета и мало заботится о научной или фактической аргументации. — …Как все одаренные люди, — говорит Ланглуа, — он многосторонен. Он ученый. Но вместе с тем художник. Он анализирует, он разлагает, он вскрывает с исключительной тщательностью и вместе с тем — с импульсивностью поэта… Его окружают люди исключительные, он умеет их выбирать, такие, как мадам Дьёлафуа, та, которая, как вы знаете, первой увидела развалины Ктезифона, неустрашимая исследовательница… (Боже мой! При чем тут Ктезифон?! Но слушайте, слушайте, что это был за человек!) — …Он чужд предвзятостей. И он умеет жить, не мешая другим. Он умеет так же все понять, как он умеет всем помочь. Он умеет быть руководителем, и он знает, что такое быть другом… Как Леонардо да Винчи… (Леонардо да Винчи! Ктезифон! Какой был человек! Чужд предвзятостей, умел всем помочь… Все прекрасные слова подходят к этому человеку, и чем их больше, тем лучше!) — …Он исследует небо. Он исследует крылья, он не перестает искать, анализировать тайну ударов крыльев, он хочет раскрыть секрет полета, секрет ходьбы, секрет механики человеческого тела и, чтобы этого достигнуть, он ставит и решает проблему воспроизведения движения. Он создает аппараты, которые впоследствии позволят родиться кинематографу… Месье Анри делает паузу. Он наклоняет свою большую голову к плечу, и его лицо, полное, чуть-чуть детское, выражает сожаление, грусть и снисходительность к несовершенству человеческого познания. — Мы знаем о Марее все: что он делал, где он жил, чего он хотел, где он бывал и чего он искал… И, однако… Вздох… Пауза… — И, однако, он для нас — тайна. Тайна?! Да. — Ибо ничто не могло быть большим противоречием этой жизни, жизни в самом сердце наиболее буржуазного общества, нежели исключительная красота того мира пластики, который носил в себе Марей! Нет, ничто не может быть более таинственным, ничто не может быть более лиричным, ничто не может быть более пламенным, чем молчание его тайны… (Нельзя не любоваться Ланглуа в такие минуты — как дорог ему Марей, как любимы им тайны искусства… Он — добрый бог своей синематеки — добрый и красноречивый.) — Да, — продолжает он, по-видимому подходя к самому главному, — если Марей-ученый нам известен, если Марей-человек кажется нам известным, то Марей-художник для нас — тайна. Он проявляется только в своих произведениях. Но он надевает на них маску научных изысканий, чтобы лучше скрыть от этого высшего общества подлинную силу своего искусства, искусства начала века… Искусства, которое предваряет тридцать лет футуризма… Месье Ланглуа умолкает не только потому, что его маленькое устное эссе завершено, но и потому, что его зовут сотрудники: он уже опаздывает, ему нужно одновременно быть в нескольких местах, и, несомненно, уж не спать четвертую или пятую ночь! Так вот оно что! Художник под маской ученого! Тайна Жюля Этьена Марея! Он считает его не только первым изобретателем кинематографа. (В конце концов, проблема приоритета достаточно тривиальна!) Он считает, что Марей был первым изобретателем всего искусства двадцатого века. Уж потом прошло оно через футуризм, кубизм, сюрреализм и т. д. Он подозревает, что в благополучной жизни весьма преуспевавшего медика и инженера, прославившего себя созданием замечательных аппаратов для физиологических исследований, была тайная область — область искусства будущего. Марей зашифровал ее потому, что не хотел подвергать себя и свою научную работу опасности. Ведь мещанское общество, в котором он вращался, могло счесть его не «комильфо», и его положение могло бы пошатнуться. Не знаю, прав ли Ланглуа, рисуя такой образ Марея. Но мне нравится в этой гипотезе не столько Марей, сколько Ланглуа. Никакой систематик, никакой книгодум, страж архивной пыли не мог бы до нее дойти. Тут нужен романтик, даже фантазер, нужен человек, для которого поиски тайн иногда интереснее их раскрытия. Тут нужен мечтатель. Судя по всему, месье Анри принадлежит именно к этой не очень многочисленной, но очень любимой мною расе. Что касается изобретения кинематографа, то, как всегда, «семь городов» претендуют быть его родиной, и разобраться в приоритете так же трудно, как отыскать тот кусок ветра, который первый надул парус. Между тем стоит только представить себе всех претендентов на первенство не как конкурентов, а как участников единого движения вперед техники или науки, то есть как друзей, пусть зачастую даже и не знакомых друг с другом, — и сразу драка превращается в созидание, на смену хаосу случайностей приходит история, и восстанавливается не только истина, но и достоинство творящего гения. К сожалению, мы еще находимся в той стадии развития, когда сознание требует персонификации в истории прогресса. Впрочем, этому помогает и экономика. При коммунизме исчезнут экономические предпосылки честолюбия, политические выгоды национальных успехов. Привычка привязывать явление к личности, какова бы ни была эта личность, будет казаться смешным, как кольцо в носу, и историк науки получит все возможности не только видеть, но и публиковать истину. А смысл истины в общем виде состоит в том, что лишь в исключительных случаях, которые всегда являются результатом случайности, возможны такие факты, как единоличное открытие или персональное изобретение. Кинематограф никак не принадлежит к подобным исключениям. Наоборот, он являет собой пример многоличного труда. Его изобретение — точка, расположенная примерно в девяностых годах девятнадцатого века, к которой двигались с разных сторон сразу весьма разные и очень многочисленные люди. Марей шел к нему, как исследователь, как биомеханик, которому нужен был новый совершенный инструмент для фиксации работающей мускулатуры. Что касается Эмиля Рейно, то он был прежде всего художник. Как большинство художников на нашей планете, Рейно был неудачником в практической жизни. Он окончил свои дни в госпитале для бедных в 1918 году. О его трагической жизни можно узнать из статьи его сына, господина Поля Рейно, того самого, сведения о котором вы найдете не только в словаре Ларусса, но и в нашей энциклопедии, чего не удостоен его отец. Рейно-сын был ни больше ни меньше как глава французского правительства в 1940 году, того самого правительства, которое получило название «кабинета поражения»: он передал власть маршалу Петэну. Буржуазные политики любят писать мемуары. Если первым двигателем их деятельности является жажда власти и роскошной жизни, то вторым — жажда славы и светлой памяти у потомков. И потому они изо всех сил стараются объяснить этим потомкам, какие они были замечательные, хотя обманывать становится все труднее и труднее: люди научились понимать, что представляют собою господа, пролезающие к власти, и почему они к ней стремятся. Однако статьи господина Поля Рейно о его отце производят странное впечатление даже на тех наивных людей, которые еще находятся в состоянии очарованности своим начальством: сыночек, будущий премьер, находился в расцвете сил, когда отец начал продавать свою мастерскую и свои аппараты на слом, потому что ему нечего было есть! Сыночек не поспел даже к дню похорон — был занят спасением родины от немцев и потому явился на день позже. Но сыночек стал «омм политик», политическим ма́хером, и потому о нем пишут и вспоминают, а кто был его отец? Всего только творец. Только художник. Только изобретатель кинематографа. Не маршал и не министр. И потому о нем не стоит ни писать, ни вспоминать. А если о нем вспомнил сын, то, вероятно, не ради правды, а ради тех нескольких строк, в которых он пытается придумать оправдание своему безразличию к жизни и судьбе отца. Страшно представить себе, как семидесятилетний, уже больной старик, потерявший надежду, продавший за гроши на вес свой последний «оптический театр», еще недавно приводивший в восторг парижан, как он ночью брел возле спящего Тюильри к Сене, выбирая безлюдные тротуары, оглядываясь, боясь, как бы кто не заметил его со свертком в руках. Вот он спускается к воде, разворачивает принесенное, прислушивается и бросает в реку свои творения, как если бы это были вещественные доказательства убийства или кражи. Темные воды принимают и поглощают рулоны широких лент, в которые вставлены прозрачные картинки «светящихся пантомим», как были названы они на прелестных афишах Жюля Шеве, очень напоминавших афиши Тулуз-Лотрека. Какой был шум, какие восторги! Маленький зал музея восковых фигур Гревен под названием «Фантастический кабинет», весь обшитый зеркалами для того, чтобы казался просторнее, и отделанный, вероятно для таинственности, в стиле якобы восточной и якобы роскоши, полумрак которого располагал к волшебным мечтаниям, — в течение почти семи лет был всегда переполнен. Эмиль и его единственный помощник трудились дни и ночи напролет. Во время сеансов они крутили вручную две горизонтальные катушки, пропуская перед лампой прозрачные рисунки. (В музее можно видеть гравюру того времени, изображающую Рейно за этим занятием: борода, шевелюра, вдохновенное лицо — он похож на Жюля Верна или на капитана Немо.) Они крутили до изнеможения, но «Фантастический кабинет» дрожал от рукоплесканий, и это была награда. Художники, артисты, поэты, знатоки искусства приходили смотреть «Светящиеся пантомимы», чтобы не только удивляться новому изобретению, но прежде всего любоваться искусством рисовальщика. Это были годы успеха, но и годы адского труда. Ибо все время, которое оставалось от кручения, Эмиль должен был рисовать. Каждый кадр делался от руки, а каждый фильм длился по пятнадцать минут! Каждый кадр надо было вставить в металлическую ленту и обклеить по краям черной материей, чтобы не отсвечивал, — мучительное испытание терпения! Не оставалось времени на отдых, но не оставалось и франков на жизнь! Музей Гревен давал Рейно только 10 процентов от сбора. Все расходы по производству фильмов и на необходимые усовершенствования в оборудовании ложились на изобретателя. А он был увлечен. О нем говорили, что он сам был светящимся. В голове его уже возникали схемы стереоскопического, объемного «Оптического театра». Сколько труда и сколько любви было отдано экрану, первому в мире! Сюжеты не отличались сложностью. Вот один из них, выполненный в 1889 году.ДОБРАЯ КРУЖКА
Загородный кабачок. Входит молодой человек, зовет служанку. Она не идет. Он стучит по столу. Служанка появляется. Она уходит за кружкой. Молодой человек остается один. Он дает понять публике, что служанка ему очень понравилась. Служанка возвращается, ставит кружку с пивом настол. Молодой человек бросается перед ней на колени и изъясняется ей в яростной страсти. Появляется поваренок, хохочет, хватает кружку, выпивает все пиво и исчезает. Служанка вырывается и убегает. Оцепенение молодого человека перед пустой кружкой. Он зовет служанку, показывает пустую кружку. Служанка убегает. Входит путешественник английского вида с большим чемоданом и нарушает мечтательное настроение молодого человека. Тот начинает издеваться над прибывшим, танцует и жестикулирует, чтобы его позлить. Англичанин сердится. Завязывается ссора. Пока посетители ругаются, появляется поваренок. Он выпивает вторую кружку пива. Выведенный из себя издевками молодого человека англичанин удаляется. Молодой человек остается один. Новое удивление: кружка опять пуста. Он зовет служанку. Он грозит ей и, возмущенный, в свою очередь убегает. Возвращается поваренок. Он объясняет служанке, что именно он-то и выпил обе кружки. Оба очень довольны. Посылая гримасы и насмешливо жестикулируя по адресу молодого человека, они исчезают. Вот и все. Но надо было нарисовать 700 картинок, 700 миниатюр, выполненных с величайшей тщательностью на желатиновой пленке, тоненькой кистью с очень мягкой растушевкой, с очень мелкими деталями… Последние фильмы имели уже более сложные сюжеты, в них было больше комических положений, и они шли под хохот зрительного зала. Они демонстрировались и имели успех даже тогда, когда обычный кинематограф уже занял место в театриках на бульварах. Но потом… Потом в «Фантастическом кабинете» стали оставаться свободные стулья и на место «Оптического театра» музей Гревен пригласил хор цыган. Это был конец. Конкурировать с кинокамерой было бессмысленно. Она производила целый фильм за то время, пока художник вырисовывал сотый кадр. И камер становилось все больше, театров становилось все больше… Рейно поступил секретарем в какую-то контору и однажды молотком расколотил свои аппараты, потом стал продавать, что уцелело, и вот, наконец, ночь, Сена, одиночество, уходят под воду последние фильмы, уходит смешной англичанин, втаскивая свой чемодан в кабачок… тонет хорошенькая служанка с пивом в руках, тонет клоун с тремя дрессированными собачками, движения которых так прелестно удавались Эмилю… Жорж Садуль говорит, что, судя по двум уцелевшим фильмам Рейно, его работы были чудом вкуса и изобретательности. Одна из них «Вокруг кабины, или Приключения парижанки на морских купаниях» с великим талантом и юмором передает атмосферу морского пляжа в девяностых годах прошлого века, а по комизму жестов и характеру происшествий как бы предваряет картины Чаплина. Деловой и неутомимый Эдисон, этот прообраз современной американской фирменной лаборатории, удачливые и богатые братья Люмьеры и множество дельцов, ищущих наживы на новом сенсационном виде зрелища, торжествовали успех, вероятно, даже и не заметив трагедии, которая разыгралась на подступах к их торжеству. А как изящно рисовал Рейно своих персонажей! Какой необыкновенный талант позволял ему с такой точностью разлагать движение без помощи каких-либо приборов, а единственно силой изумительной интуиции и наблюдательности. Конечно, история мультипликационного фильма начинается с Эмиля Рейно! Рассматривая витрины музея в Пале Шайо и на улице Курсель, с ясностью видишь, какой длинный, хоть и быстрый вояж должен был совершить человеческий гений, чтобы обогатиться новым видом искусства — кинематографом. Хотя мы знаем довольно хорошо, как оно возникло, хотя нам совершенно понятна его техника, есть один вопрос, который остается тайной. Тайной? Да! Первые приборы для воспроизведения движения появились задолго до аппарата Люмьеров и были вызваны просто поисками забав. Это были развлекательные игрушки, не более. Жюль Марей поставил перед собой цель противоположную: ему нужны были приборы для научных исследований. Эмиль Рейно был обуреваем иным желанием: оживить живопись. Затем, уже во всеоружии съемочной техники, кинематограф сумел ответить и той и другой задаче — он стал могучим орудием познания и небывалым орудием искусства. Все это просто и бесспорно. Но ведь есть у кинематографа и другая сторона. Когда Форд открыл принцип массового производства автомобилей, цель его непосредственно совпадала с потребностью. Общество дошло до того уровня экономики, когда лошадиный транспорт вошел в противоречие с потребностями промышленности и потребления и нужен был дешевый метод производства транспортных средств, причем с обязательным повышением скорости движения. С созданием кино дело обстояло не так. Оно появилось без требований со стороны общества. Над изобретателями не висела угроза остановки искусства, задержки культурного развития. Никто не колотил в ворота Люмьеров: «Дайте нам театр, который можно было бы перевозить в одном чемодане! Дайте нам зрелище, доступное сотням миллионов людей в любой точке земного шара! Дайте нам искусство высшей интенсивности, предельной легкости восприятия, максимальной дешевизны — наиболее демократичное из всех, доселе бывших!» Нет, дело обстояло отнюдь не так. Марей не сулил ничего, кроме научного рассмотрения биомеханики. Эмиль Рейно трудился над своими рисованными шедеврами не меньше, чем любой художник прошлого, и сеансы в «Фантастическом кабинете» были не более демократичны, чем сменивший их хор цыган… Но оказалось — и вот тут-то мы и становимся в тупик, — оказалось, что именно кинематограф ответил самым новым требованиям общества в отношении массовости искусства. Эта игрушка, эта забава для немногих подоспела превратиться в самую небывало массовую форму искусства именно тогда, когда вот-вот уже толпы готовы были требовать ее появления! Все сошлось для этого: изобретение сверхчувствительных фотоэмульсий, удобных электрических источников света, точных промышленных методов в производстве пленки и т. д. Бедный Эмиль Рейно стал жертвой этого генерального движения искусства — движения к огромным массам людей, движения в любые, самые далекие точки планеты. Его мастерство отвечало только одному требованию: требованию вкуса и совершенно не могло ответить главному требованию нового времени — массовости. И он погиб, его шедевры исчезли в волнах гигантского потока человеческих масс, властно заявивших о себе на заре двадцатого столетия. Вглядываясь в наивные машинки и игрушечные приборы, при помощи которых человек пытался овладеть временем и поймать движение, я сказал Анри Ланглуа: — Располагая этим парком аппаратуры за полтора столетия, вы могли бы создать совершенно необыкновенный фильм. Вы могли бы показать на большом современном экране то, что видел человеческий глаз сквозь все эти приборы, начиная от примитивного диска с двумя совмещавшимися рисунками и кончая волшебным очарованием «Светящихся пантомим». И в самом деле, предыстория кино глазами его зрителей — весьма любопытная и очень своевременная тема для научного фильма.Кинозал во дворце Шайо превосходен. Его архитектура получилась весьма своеобразной: мощные арки сочетались здесь с новейшей отделкой, и это создало приятный эффект. Особенно заинтересовала нас аппаратная. Она располагает четырьмя постами фирмы «Филипс», каждый из которых рассчитан на демонстрацию широкоэкранных, широкоформатных и обыкновенных фильмов, как на 16, так и на 24 кадра в секунду. Здесь же установлены два поста для узкой пленки. В тот же день нам удалось убедиться в прекрасном качестве изображения и звука на экране синематеки. Мы застали конец американского фильма о военном флоте. Тут было все, что полагается для военной пропагандистской картины, — тут был плохой командир фрегата, капризный, полагающийся на собственную интуицию, чудаковатый, полный предрассудков, и тут был хороший командир фрегата, умеющий обращаться с подчиненными, свободный от предрассудков, подлинный патриот и знаток своего дела. Как и всегда в подобных случаях, все было ясно с первых же кадров, все было чертовски скучно и никому не нужно, кроме военпедагогов. Однако цвет, звук, павильоны были превосходны. Казалось, что вы действительно находитесь на фрегате. Реализм торжествовал, об искусстве не могло быть и речи.
Вероятно, как и у вас, у меня ломит уши, пока «ТУ-104» пробивает первое, и второе, и третье перекрытия облаков и белая стрелка альтиметра перед нашими креслами крутится по черному циферблату гораздо быстрее секундной. Тысяча, две тысячи, три… девять тысяч двести пятьдесят метров. Чудовищные пульверизаторы двигателей чуть изменяют свой звук, и корабль идет горизонтально. В целлофановых конвертах, куда положены авторучки, растекалась чернильная лиловость, и такой же лиловостью залит зенит, мы висим, подвешенные к нему как бы неподвижно, и в круглый иллюминатор мы видим неизвестную планету, какой видели бы ее марсиане, если бы они существовали. Широкие долины, горные хребты, глубокие ущелья, иногда озера, покрытые туманом… Вдали, у горизонта, тонкие розовые нити висят над свинцовой темнотой безымянного моря. Скалы и горы не сглажены миллионами лет — они родились только что, они набросаны нервной кистью, взбаламучены, взбиты. Какая безжизненность! Только иногда посреди равнины стоит слон араратских размеров или белый рояль, раскрытый для гиганта. Безграничная горная страна, сложенная только одним минералом — водой. Мы мчимся над ней… Бережно и надежно несут нас чьи-то руки, сработавшие эти двигатели, монотонно бушующие под крыльями… Начинает крутиться стрелка высотомера в обратную сторону. Разносят конфеты. Просят пристегнуться к креслам… Внизу сквозь облака — то ли кустарник, то ли тайга… Дороги… бетонные площадки… Аэродром Внуково. Наконец-то!!




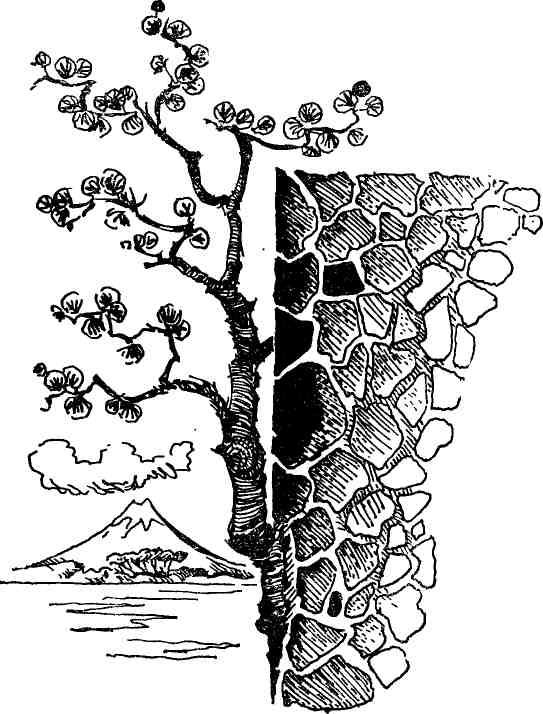
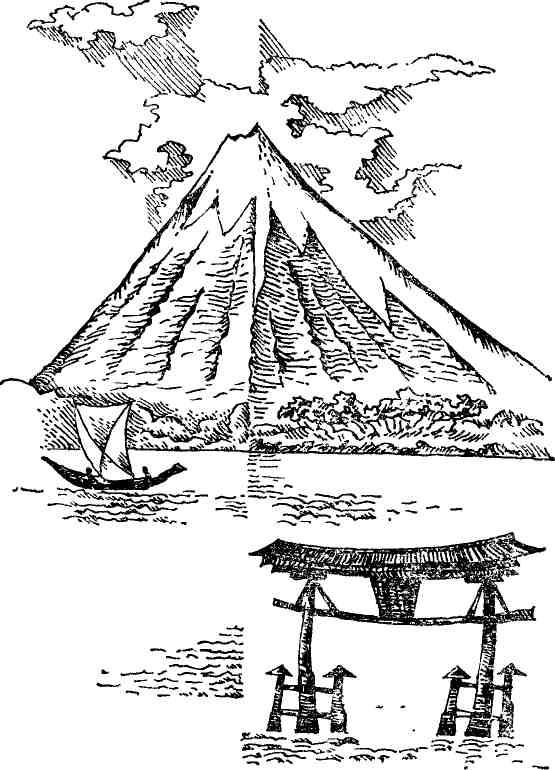


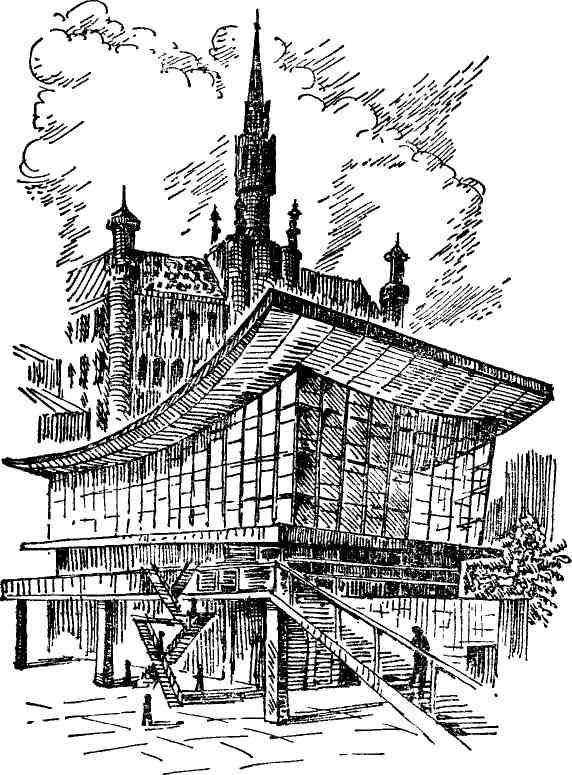

Последние комментарии
4 часов 11 минут назад
4 часов 17 минут назад
4 часов 20 минут назад
4 часов 21 минут назад
4 часов 26 минут назад
4 часов 43 минут назад